Текст альманаха «Новое слово» №5 2020 год
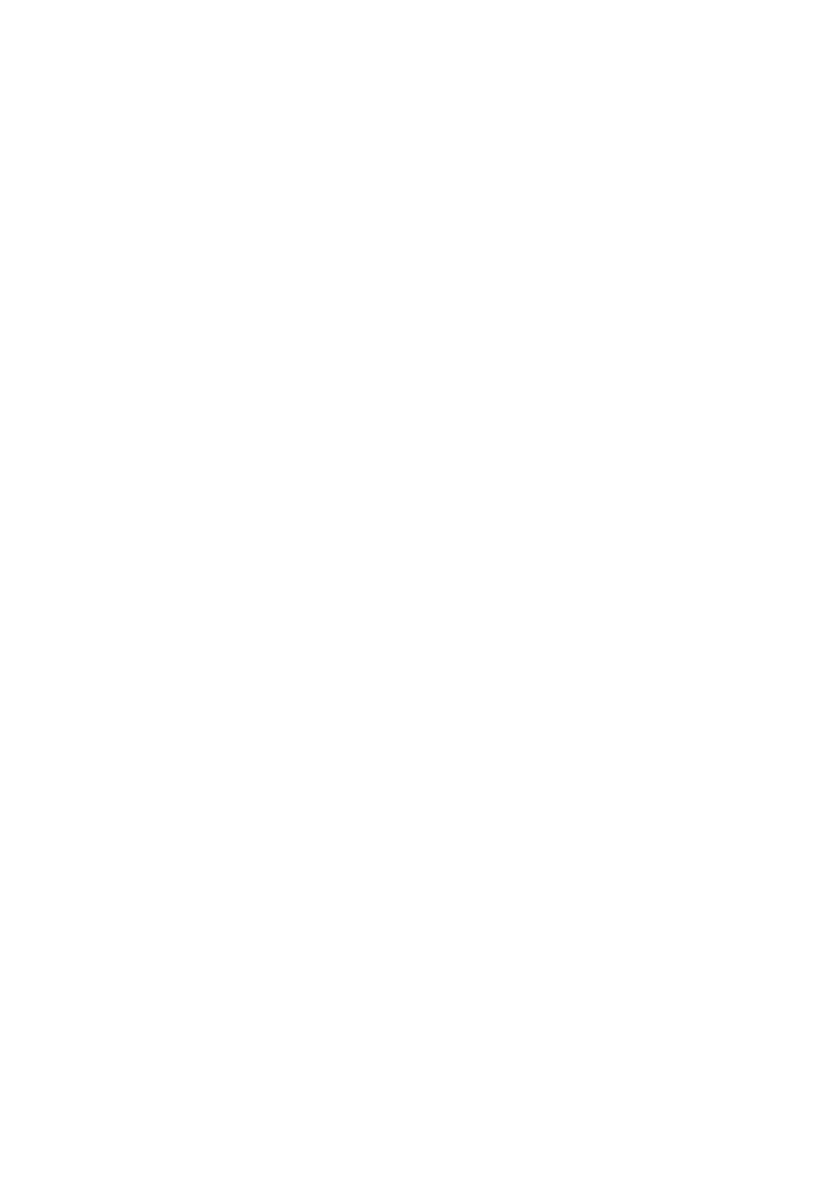
75-летию Победы в Великой отечественной войне посвящается
Содержание:
Наталия АРСКАЯ – «Храни тебя любовь»
Светлана ГРИНЬКО – «Старые фотографии»
Зоя ДОНГАК – «Легендарный танкист Чургуй-оол»
Тамара КОЛОМОЕЦ – «Про Соню», «Так надо», «Старухи»
Татьяна МАТЯГИНА – «Пловец Шохин»
Татьяна МАХОТКИНА – «Письма»
Антон ПАНФЕРОВ – «Знак Победы»
Антонина СПИРИДОНОВА – «Сладость жизни»
Валерий ФЕДОСОВ – «Медаль за оборону Кавказа»
Сергей ШЕЛАГИН – «Парнишка»
Николай ШОЛАСТЕР – «Признание»
Виктор СЛАВЯНИН – «Враги»
Евгений МОКРУШИН «Палыч» (отрывки из повести)
Содержание:
Наталия АРСКАЯ – «Храни тебя любовь»
Светлана ГРИНЬКО – «Старые фотографии»
Зоя ДОНГАК – «Легендарный танкист Чургуй-оол»
Тамара КОЛОМОЕЦ – «Про Соню», «Так надо», «Старухи»
Татьяна МАТЯГИНА – «Пловец Шохин»
Татьяна МАХОТКИНА – «Письма»
Антон ПАНФЕРОВ – «Знак Победы»
Антонина СПИРИДОНОВА – «Сладость жизни»
Валерий ФЕДОСОВ – «Медаль за оборону Кавказа»
Сергей ШЕЛАГИН – «Парнишка»
Николай ШОЛАСТЕР – «Признание»
Виктор СЛАВЯНИН – «Враги»
Евгений МОКРУШИН «Палыч» (отрывки из повести)
Пятый номер литературно-художественного альманаха посвящен 75-летию Великой Победы. В этом номере собраны и художественные произведения авторов и очерки-воспоминания о родных и близких – о всех и каждом Герое, воевавшем в годы Великой Отечественной войны и всех, кто помогал стране и фронту в тылу – всех, кто приближал такую нелегкую и желанную Победу. Сегодня, с высоты семидесяти пяти лет, наш взгляд на события XX века не меняется, – лишь становится тверже уверенность и надежда, что наши дети и внуки, читая эти строки, смогут достойно удержать знамя Победы в своих крепких руках.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Фотографии, к сожалению, долго не живут. Вот снимок 1975 года, отсканированный сегодня, – его уже не «вытянешь», не сделаешь лучше. Но несмотря на качество фотографии, эту сдержанную, но нескрываемую улыбку моего деда (Федосова Евгения Ивановича), когда улыбались не только его губы, но и глаза, и каждая морщинка на лбу, – не забудешь, не сотрешь из памяти. Он улыбался, когда смотрел на нас, когда брал нас на руки (ох и легкие мы были тогда!). Улыбался, потому что знал – ради нас, своих детей и внуков, ещё не родившихся в далеком 1943-м, а появившихся на свет гораздо позднее (мой старший брат родился в 1964-м, а я – в 1970-м), – он воевал; офицер, разведчик, – рисковал не только своей жизнью, но и жизнью солдат, которые шли за ним. И каждый раз его риск был делом его жизни. Он выполнял задачу, он притáскивал «языкá», он получал данные и эти данные были «плацдармом» для принятия решения командованием.
Шла война.
И в этих словах, кажется, – обыкновенная офицерская работа, обыкновенная служба, исполнение долга, риск и опасность. Но... как только мы закроем глаза и попробуем представить себе хотя бы одну минуту боя, – где, словно свинцовые нити, проносятся пули, снаряды, раздавая налево и направо боль и смерть, страдание и кровь, где перемешивается всё, – вчера, сегодня, завтра, где люди выживают на грани возможного, где уже нет сил терпеть, но все «терпели до конца...» – все «это» воспринимается совершенно по-другому. Нам, никогда не воевавшим в настоящем бою, этого никогда не понять и не представить. И не дай Бог!
Наверное, именно ради этого мой дед, как и многие родные наших авторов и читателей, шел в бой, претерпевая всё ЭТО до конца.
И благодаря миллионам таких офицеров и солдат, как наши деды и отцы, – война склонялась к своему успешному концу. Победа была одержана теми, кто воевал не за идею, не за конкретные фамилии военачальников и полководцев, а воевал за свои семьи, за свою страну, за будущее своих детей и внуков.
И теперь, в красно-алой Москве 1975 года он стоял перед Большим театром на проспекте Маркса (ныне – Театральная площадь), и, прижимая к себе своего внука, гордился своей страной. Наверное, мы не так гордимся... Потому что «мы» сегодня – каждый сам за себя. И ничего такого «важного», что объединяло бы всех нас, как страну, как государство, то, чем можно было бы гордиться, мы сами – сегодняшние, – наверное, ещё не сделали.
То ли задачи такой не поставлено, то ли – просто «силёнок маловато».
Вот только праздник в честь Дня Победы, который когда-то объединил страну и ее граждан, – объединяет до сих пор.
Этот праздник, день Великой Победы, также объединил и наших авторов, которые захотели выразить благодарность своим родным, отвоевавшим нам в 1945 году свободу и возможность строить государство и растить детей. Возможность отправиться в космос и расширять города. Когда у страны есть великие цели, – то и народ становится великим. Когда цели «крутятся» исключительно вокруг собственного кармана – то и народ по-большому счету «карманный». Но будем верить, что все будет хорошо, и – цели появятся и страна возродится.
Авторы нашего альманаха в этот раз преподнесли нам с вами, уважаемые читатели, не только очерки и воспоминания о своих героях, близких и родных, отцах и дедах, но и художественные рассказы, в которых, как в зеркале, отражены военные и послевоенные годы, становление Человека после страшной войны и переживание за Человека. Воспоминания о тех годах, когда вокруг были «враги» и о тех друзьях, которые готовы были умереть за близкого, за настоящего Человека.
Я благодарю наших авторов за предоставленные материалы, и надеюсь, что, несмотря на ситуацию весны 2020 года, когда карантин заставил нас всех отложить на пару-тройку месяцев все наши заботы, – наш альманах выйдет в этом юбилейном году и порадует не только авторов и членов их семей, но и многочисленных наших читателей.
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
Фотографии, к сожалению, долго не живут. Вот снимок 1975 года, отсканированный сегодня, – его уже не «вытянешь», не сделаешь лучше. Но несмотря на качество фотографии, эту сдержанную, но нескрываемую улыбку моего деда (Федосова Евгения Ивановича), когда улыбались не только его губы, но и глаза, и каждая морщинка на лбу, – не забудешь, не сотрешь из памяти. Он улыбался, когда смотрел на нас, когда брал нас на руки (ох и легкие мы были тогда!). Улыбался, потому что знал – ради нас, своих детей и внуков, ещё не родившихся в далеком 1943-м, а появившихся на свет гораздо позднее (мой старший брат родился в 1964-м, а я – в 1970-м), – он воевал; офицер, разведчик, – рисковал не только своей жизнью, но и жизнью солдат, которые шли за ним. И каждый раз его риск был делом его жизни. Он выполнял задачу, он притáскивал «языкá», он получал данные и эти данные были «плацдармом» для принятия решения командованием.
Шла война.
И в этих словах, кажется, – обыкновенная офицерская работа, обыкновенная служба, исполнение долга, риск и опасность. Но... как только мы закроем глаза и попробуем представить себе хотя бы одну минуту боя, – где, словно свинцовые нити, проносятся пули, снаряды, раздавая налево и направо боль и смерть, страдание и кровь, где перемешивается всё, – вчера, сегодня, завтра, где люди выживают на грани возможного, где уже нет сил терпеть, но все «терпели до конца...» – все «это» воспринимается совершенно по-другому. Нам, никогда не воевавшим в настоящем бою, этого никогда не понять и не представить. И не дай Бог!
Наверное, именно ради этого мой дед, как и многие родные наших авторов и читателей, шел в бой, претерпевая всё ЭТО до конца.
И благодаря миллионам таких офицеров и солдат, как наши деды и отцы, – война склонялась к своему успешному концу. Победа была одержана теми, кто воевал не за идею, не за конкретные фамилии военачальников и полководцев, а воевал за свои семьи, за свою страну, за будущее своих детей и внуков.
И теперь, в красно-алой Москве 1975 года он стоял перед Большим театром на проспекте Маркса (ныне – Театральная площадь), и, прижимая к себе своего внука, гордился своей страной. Наверное, мы не так гордимся... Потому что «мы» сегодня – каждый сам за себя. И ничего такого «важного», что объединяло бы всех нас, как страну, как государство, то, чем можно было бы гордиться, мы сами – сегодняшние, – наверное, ещё не сделали.
То ли задачи такой не поставлено, то ли – просто «силёнок маловато».
Вот только праздник в честь Дня Победы, который когда-то объединил страну и ее граждан, – объединяет до сих пор.
Этот праздник, день Великой Победы, также объединил и наших авторов, которые захотели выразить благодарность своим родным, отвоевавшим нам в 1945 году свободу и возможность строить государство и растить детей. Возможность отправиться в космос и расширять города. Когда у страны есть великие цели, – то и народ становится великим. Когда цели «крутятся» исключительно вокруг собственного кармана – то и народ по-большому счету «карманный». Но будем верить, что все будет хорошо, и – цели появятся и страна возродится.
Авторы нашего альманаха в этот раз преподнесли нам с вами, уважаемые читатели, не только очерки и воспоминания о своих героях, близких и родных, отцах и дедах, но и художественные рассказы, в которых, как в зеркале, отражены военные и послевоенные годы, становление Человека после страшной войны и переживание за Человека. Воспоминания о тех годах, когда вокруг были «враги» и о тех друзьях, которые готовы были умереть за близкого, за настоящего Человека.
Я благодарю наших авторов за предоставленные материалы, и надеюсь, что, несмотря на ситуацию весны 2020 года, когда карантин заставил нас всех отложить на пару-тройку месяцев все наши заботы, – наш альманах выйдет в этом юбилейном году и порадует не только авторов и членов их семей, но и многочисленных наших читателей.
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 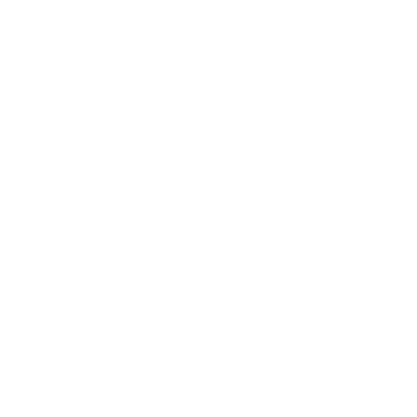
Наталия АРСКАЯ (1942-2021)
В 1968 году окончила факультет журналистики МГУ, работала в разных средствах массовой информации. Автор книг:
– «Родные лица» (изданы в 2007 и 2013 гг.) – воспоминания о писательском окружении, моей семье, поэте Павле Арском;
– трилогия об анархистах «И день сменился ночью».
Страница автора на сайте издательства: https://almanah.novslovo.ru/arskaya
Книги автора можно приобрести на сайте: https://bookshop.novslovo.ru/
В 1968 году окончила факультет журналистики МГУ, работала в разных средствах массовой информации. Автор книг:
– «Родные лица» (изданы в 2007 и 2013 гг.) – воспоминания о писательском окружении, моей семье, поэте Павле Арском;
– трилогия об анархистах «И день сменился ночью».
Страница автора на сайте издательства: https://almanah.novslovo.ru/arskaya
Книги автора можно приобрести на сайте: https://bookshop.novslovo.ru/
ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
Мой отец, Александр Павлович Арский, погиб на фронте 2 октября 1942 года. Через два года умерла моя мама Елена Николаевна. Воспитывала меня бабушка, мать отца, Анна Михайловна, которую я, двухлетний ребенок, сразу стала называть мамой. И более любящего и преданного мне человека трудно было найти. Когда мне было лет девять, кто-то из «доброжелателей» во дворе открыл тайну, что моя настоящая мама умерла, а я живу с бабушкой.
Эта новость меня так потрясла, что я перестала ходить в школу, сидела целыми днями в своей комнате и возненавидела бабушку, как будто она была в чем-то виновата. Три месяца я с ней не разговаривала. Уговоры учителей и родственников не помогали. Бабушка же оказалась более мудрой: она терпеливо ждала, когда я всё это переживу.
Действительно, прошло время, у нас восстановились прежние отношения, и я опять стала называть ее мамой (здесь, в тексте, чтобы не возникало путаницы, буду называть ее бабушкой – Н.А.). С тех пор на моем большом письменном столе, оставшемся от отца, а тому – от деда, появилась рамка с фотографией другой, настоящей мамы, казавшейся мне необыкновенно красивой. Рядом лежала толстая тетрадь в красной коленкоровой обложке: дневники, которые мама вела до войны и в эвакуации в Ашхабаде, когда я родилась.
Мои родители были знакомы со школьной скамьи, так как учились в одной школе №170 в самом центре Москвы. Мама тогда жила на улице Станкевича (ныне Вознесенский переулок), отец – в писательском доме на Проезде МХАТа (Камергерский переулок). Его отец, а мой дедушка, Арский Павел Александрович, был поэтом, автором популярного в советское время, да и сейчас танго «В парке Чаир распускаются розы». Широко известны и до сих пор часто цитируются строки из его стихотворения «Красное знамя»: «Царь испугался// Издал Манифест:// Мертвым – свободу!// Живых – под арест!».
В доме отец особенно дружил с Севой Багрицким, Юрием Малышкиным, Володей Иллешем и Эвальдом Ильенковым. Дети писателей и поэтов, они сами много писали и выпускали в доме и школе литературно-художественные альманахи. Мой отец перед войной начал писать повесть, где главную героиню звали Наташей. Он любил это имя и просил маму, если родится девочка, так ее назвать, что мама и сделала. Еще он любил рисовать, в нашем домашнем архиве сохранились его портретные рисунки и пейзажи Крыма.
Я не ошибалась, считая по фотографии маму очень красивой. Ее друзья и мои родные это подтверждали, говоря, что за высокий рост и стройность ее называли Елкой. Одна из близких ее подруг Люся Боннэр, в будущем известный правозащитник и политический деятель Елена Георгиевна Боннэр, в 1994 г. выпустила книгу «Дочки-матери», где много пишет о маме. «Она, – вспоминает Елена Георгиевна, – была высокая, физически развитая, полногрудая девушка… У Елки был красивый низкий голос, она пела украинские и всякие современные песни дома и в школе – на школьных утренниках. Дома у них был рояль. В младших классах ее учили музыке, но она это забросила. Я ее любила. За красоту, за голос, за взрослость, за таинственность, за веселость и доброту. Любила!»
Эти строки написаны пятьдесят с лишним лет после описываемых событий. Мама в своем дневнике тоже пишет о ней с любовью. «… Приезжала Люся Б. (из Ленинграда, куда она уехала после ареста родителей. – Н.А.). Хорошая девчурка, я ее очень люблю. Сколько в ней жизни, веселья, ума! После ее отъезда у меня всегда остается воспоминание о ней, как о какой-то благоухающей струе, которая оставляет после себя ароматный воздух – веселья и счастья» (17 января 1939 г.). Поженились родители 3 марта 1941 года. Им обоим тогда было чуть больше 18 лет. Перед этим ответственным шагом, чтобы содержать семью, отец устроился на работу и перешел учиться в школу вечерней молодежи, но не оставлял мечты поступить в Литературный институт им. Горького. Туда же собирался поступать и Сева Багрицкий, «сын поэта и сам поэт», как называл его писатель Юрий Нагибин. Незадолго перед войной Сева написал стихи на тему Испании, которые вскоре для него самого стали пророческими:
Он упал в начале боя,
(Показались облака…
Солнце темное, лесное
Опускалось на врага.)
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой…
Птицы песней провожали,
Клены никли головой.
Ему же принадлежат и строки, определившие нравственную основу того поколения:
Нам не жить, как рабам,
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.
О гуманитарных вузах мечтали Эвальд Ильенков и Володя Иллеш. Один только Юра Малышкин увлекался геологией и химией. Весь его стол был уставлен банками с таинственными растворами – он выращивал кристаллы и, возможно, стал бы великим ученым-химиком. Но всем этим планам помешала война.
Чуть ли не на следующий день после объявления о начале войны отцу принесли повестку «явиться для освидетельствования в Призывную комиссию Свердловского военкомата». По словам бабушки, он так обрадовался этой бумаге, что поднял почтальона – молодую девушку на руки, и закружил по комнате. Та удивилась: «Чему Вы радуетесь, ведь война?» Отец с гордостью ответил: «Иду защищать Родину!» Так воспитана была эта молодежь. Да никто и не думал тогда, что война затянется на долгих четыре года. Все верили, что Красная армия – самая сильная в мире, что она сможет быстро разгромить любого врага. Безоглядно верил в это и мой отец.
В справке, выданной ему в военкомате, говорилось, что он признан годным к строевой службе в кадрах РККА и зачислен в команду № 030/40. 15 августа он должен был явиться в 8 часов 30 минут на Кузнецкий мост, дом 6/3 «остриженным под машинку, одетым в теплую одежду и исправную кожаную обувь, иметь: кружку, ложку, две пары нижнего белья и мешок для собственных вещей».
Провожала его вся родня, с той и другой стороны, пришли друзья по школе и дому. Мама уже была беременна. Она и бабушка плакали, отец убеждал их, что расстаются они ненадолго и скоро опять будут вместе. Бабушка, соблюдая приметы, сохранила нестиранной его одежду и немытой посуду, из которой он ел перед самым уходом. Одежду я, спустя много лет, случайно выбросила, а посуда до сих пор лежит, переехав вместе с нами со старой квартиры из центра в Бирюлево.
Отец ушел на фронт одним из первых среди родных и друзей. Юра Малышкин, Володя Иллеш и Вальдек Ильенков еще учились в школе. Севу Багрицкого освободили от армии из-за сильной близорукости, и осенью 1941 г. он вместе с Союзом писателей уехал в эвакуацию в Чистополь. Туда же вскоре выехала и моя бабушка, работавшая в системе СП. Мама же решила отправиться к родному дяде Григорию Ильичу Доленко в Ашхабад, надеясь, что там, на юге, ей с ребенком будет намного лучше.
Как же она глубоко ошиблась! Из республик Средней Азии мясо, овощи, зерно и фрукты эшелонами шли на фронт. Население там голодало так же, как и в других районах страны, если не хуже. Продукты выдавались строго по карточкам. Особенно тяжело приходилось тем эвакуированным, кто не работал, – они не получали карточек даже на хлеб. Мама же не могла работать из-за грудного ребенка и жила на скудные деньги, которые ей присылали из Москвы родные. «Сама же я вечно голодная, – записывает она в дневнике. – Все время хочется кушать. Никогда не испытывала такого ощущения. Я бы ела и ела без конца».
Ей было очень плохо в чужом городе и чужой семье. Дядя, на поддержку которого она рассчитывала, постоянно находился в экспедициях. С его женой, Надеждой Васильевной, у мамы не складывались отношения. «Я так измучилась, – пишет она, – боже мой, ведь я совсем одна, никто мною не интересуется, никто не сочувствует и никому, буквально никому я не нужна. Как тяжело это сознавать, сколько слез пролито от этих мыслей. Москва, такая родная, где есть люди, которые любят и понимают меня, и так она далеко».
Я оказалась слабым ребенком, без конца болела, и мама, которой тогда было 19 лет, мужественно переносила все трудности. Сколько бессонных ночей провела она около моей постели, когда я буквально находилась на краю смерти. А еще надо было стирать белье и пеленки, брать в консультации молочко, выполнять обязанности по дому и ходить в столовую за обедом для всех. При этом соседи отмечали, что ее ребенок, не в пример другим детям, выглядит хорошо ухоженным. «Евгения Мироновна, – пишет она про свою знакомую, – хвалила меня за то, что я так чисто содержу доченьку. А ведь я все время одна, а их трое, и их Вовка все-таки не в такой чистоте, как моя Натуся. Они здесь все. Я же должна делать для доченьки все, как можно лучше, чтобы папка, бабка и дедка ни к чему не могли придраться».
Отец писал с фронта редко. К сожалению, в нашем домашнем архиве сохранились только его записки к бабушке в Чистополь и Москву. Они короткие, но сколько в этих скупых строках патриотических чувств и сыновней заботы!
«20.ХП - 41. Реутово.
Здравствуй, дорогая мама!
Вчера получил твое письмо. Сегодня получил другое. Я жив и здоров. От Лены писем не получаю. Николай Ильич мне пишет, но мало. Ты и отец должны писать мне чаще. Я с нетерпением жду того момента, когда мы все снова будем вместе в Москве. А для достижения этого надо разбить ненавистного врага. Я рад, что нахожусь в составе Действующей армии. И хотя приказ: выступить на защиту Родины, для завершения полного разгрома врага, нам еще не дан, но он может последовать в любую минуту.
Дорогая мамуля, если завтра мне придется, а придется обязательно быть участником разгрома немецких оккупантов, я клянусь тебе бить их беспощадно, не жалея своей крови и самой жизни, для наступления полной победы над врагами нашей Родины.
Ну, прощай, моя дорогая мамуся. Крепко целую тебя и отца. Не забывайте и пишите больше.
Я чувствую себя хорошо. Сегодня у нас был марш на 30 км, шли на лыжах.
Еще раз крепко целую. Пиши!
Твой Александр!»
«30.ХП-41. Реутово.
Здравствуй, дорогая мамуся!
Я жив и здоров!
Твои письма и открытки получаю, но очень редко. Поздравляю тебя с Новым 1942 годом.
Прости, что написал эту короткую записку, а не письмо. Крепко целую!
Александр.
Р.S. Я тебе написал несколько писем, но ответа не получил».
В начале 1942 года бабушке удалось вырваться в Москву в командировку на месяц, больше в Чистополь она не возвращалась. Отец еще оставался в подмосковном Реутове, где находился штаб его армии, и бабушка смогла его навестить несколько раз.
После гибели отца в его шинели нашли два письма и передали бабушке в штабе вместе с другими вещами. Одно письмо – из Чистополя от Павла Александровича (он тоже был в Чистополе с другой семьей), второе – из Ашхабада от мамы. Оба письма удивительно спокойные, домашние, любящие.
«25 апреля 42 года.
Дорогой сынок мой!
Я от тебя не получаю вестей больше двух месяцев. Очень беспокоюсь. Если ты еще в Реутове, срочно сообщи, как твое здоровье, как жизнь и работа бойца. Я очень по тебе скучаю.
Мама получила от Елочки письмо, у нее родилась дочь, имя дали ей Наташа, как ты хотел, она растет здоровой и крепкой, машет Елке ручками, словом, будет бой-девка!
Милый Шурик, я живу по-прежнему тихо, работаю, написал здесь, в Чистополе цикл военно-оборонных стихов, задумал писать большую пьесу «Генерал гвардии».
Есть успехи: я написал «Песню о командире», она одобрена, и я получил от командования 8-й Гвардейской дивизии сообщение о том, что песня моя «будет широко распространена в частях дивизии», как они пишут мне в письме, выражая мне «благодарность за проявленное внимание».
Я сегодня написал им письмо, хочу поехать в штаб, поработать в литературном плане, собрать материал для моей пьесы о нашей советской Гвардии.
Срочно пиши мне, жду твоей весточки.
Крепко целую.
Твой папа».
Мама тоже пишет о самых обыденных вещах:
«Дорогой Шурик!
Твоя мама уже в Москве. Может, она уже тебя видела! Как я ей завидую! Мне так хочется быть ближе к тебе, мой дорогой мальчик! Как твое здоровье? Мы буквально погибаем от жары.
Очень душно спать. Наташа так плохо спит, что мне все ночи приходится с ней сидеть. Я ей сшила платье, и она стала похожа на взрослого человека. У нас еще одна победа. Натуся научилась сидеть на горшке и поэтому перестала пачкать пеленки. Мне приходится меньше стирать, чему я очень довольна. Прости, что я пишу тебе такие вещи, но ведь ты отец и тебе все, что касается твоей дочурки, должно быть интересно.
Меня страшно искусали москиты. Просто вся опухла. Натусю же никто не покусал, так как я ей сделала навес из марли….
… Ну, всего хорошего, мой милый. Больше писать нет сил. Мозги плавятся.
Крепко тебя целуем.
Твои Наташа и Лена.
11 июня 1942 г.»
В письме она сдерживает свои чувства, зато в дневнике дает им полную волю.
«… Дорогой наш папочка! Пусть тебя хранит наша любовь, все наши мысли и думы о тебе. Только бы ты был здоров и поскорей вернулся к нам. Ждем не дождемся этого счастливого дня. Скорей бы, скорей наступил этот день, и ты бы смог увидеть нашу дорогую крошку, мою жизнь Наташу!»
«…Сейчас он опять в Реутове. Он очень беспокоится о моем материальном положении, пишет, что страдает оттого, что не может нам помочь. Любимый мой пусик! Я знаю, что ты бы отдал все, чтобы нам было легче жить. Учись, мой родной, а главное будь здоров, и тогда все поправится».
Ребенок и муж слились для нее в одно целое. Узнав от свекрови, что отца направили на передовую, она с горечью записывает: «Шуренок не пишет. Анна Мих. думает, что его послали на фронт. Неужели это так? Такого маленького, да не совсем еще обученного».
Мама застряла в Ашхабаде надолго. Здесь же оказались и знакомые ребята: Вальдек Ильенков и Александр Каменский (сын поэта Василия Васильевича Каменского, друга Маяковского и Асеева, футуриста и лефовца). Вальдек был младше отца и до мобилизации успел поступить на философский факультет ИФЛИ им. Чернышевского. Через три месяца институт эвакуировали в Ашхабад. Узнав о приезде Вальдека, мама сразу написала ему письмо, надеясь, что он поможет ей вырваться из Ашхабада. «Написала письмо Вальдеку, – записывает она в дневнике. – Интересно, что он ответит. Может, он летом поедет в Москву или Чистополь, и я с ним».
Но Вальдек ее огорчил: ИФЛИ уезжало в Свердловск. Мало того, ему скоро исполнялось 18 лет, и он думал не о Москве, а о том, чтобы скорее попасть на фронт.
От Каменского мама узнала и о гибели Севы Багрицкого. «12-го был Ш. Каменский, – записывает она. – Принес печальное известие: на Ленинградском фронте убит Сева Багрицкий. Мне как-то не верится. Но если это так, то очень, очень жаль. Все-таки с Севой у меня связано многих воспоминаний и хочешь или нет, а он был моя первая любовь…
Собственно говоря, мне непонятно, как он очутился на фронте. В армию его не взяли, а добровольцем… для этого он слишком... труслив. Наверно, поехал как корреспондент, и какая-нибудь шальная пуля… Нет, не верю!»
У мамы с Севой какое-то время был юношеский роман, о чем в своей книге «Дочки-матери» пишет и Елена Боннэр. Она сама была в него безумно влюблена, и для всех окружающих, по ее словам, считалась его женой. Но это далеко не так. Накануне войны Сева успел жениться на девушке Марине, но они быстро разошлись.
Мне почему-то очень жаль этого мальчика. Сева был одинок. Его отец умер в 1937 году, мать Лидия Густавовна Суок (это имя писатель Олеша, женатый на ее сестре Ольге, использовал в своем романе «Три толстяка») находилась в ГУЛАГе, Боннэр после ареста отчима жила в Ленинграде, и все друзья куда-то исчезли. В его записях того времени появляется много грустных размышлений. «4 августа 1937 года арестовали маму. 15 сентября умер брат (Игорь, сын Ольги Суок и пасынок Олеши, покончил самоубийством), – записывает он в 1940 г. – Мне скоро восемнадцать лет, но я уже видел столько горя, столько грусти, столько человеческих страданий, что мне иногда хочется сказать людям, да и самому себе: зачем мы живем, друзья? Ведь все равно «мы все сойдем под вечны своды».
Мне по-настоящему сейчас тяжело. Тяжело от одиночества, хотя я уже постепенно привыкаю к нему».
И дальше: «Я встречаюсь с Мариной, странной, черноглазой девушкой. Ей 19 лет, она старше меня на год. Марина – сирота, живет с тетей, которую страшно боится. Ей трудно ходить, у нее больное сердце. Я люблю М., люблю, потому что редко с ней вижусь, и потому, что мне больше некого любить. Без нее, без этой маленькой девушки, мне было бы много тяжелее».
В Чистополе Сева, как и другие писатели, освобожденные от армии, постоянно подавали заявления в местный военкомат, чтобы их отправили на фронт. В декабре туда приехал председатель Союза писателей Александр Александрович Фадеев и помог решить этот вопрос. 8 января 1942 г. Сева писал Лидии Густавовне: «Дороги из Чистополя в Казань занесены снегом, и мы идем 145 км пешком. В казанском Доме печати, усталый и измученный, я встречаю Новый год. Получил назначение в армейскую газету в должности писателя-поэта. Чин мой - техник-интендант».
Долгое время мама ничего не знала о Люсе Боннэр. Наконец, ей прислали ее адрес. Мама записывает в дневнике: «Надюша прислала письмо, в котором пишет, что нашлась Люсенька Б. Она работает в санпоезде, возит раненых. Ей можно писать в г. Киров. Написала. Теперь не дождусь ответа. Я так рада, что она жива. Ведь она моя лучшая подружка».
И когда умерла бабушка Боннэр Татьяна Матвеевна, которую родные и знакомые звали «батаней» (от баба Таня), мама записывает с грустью: «У Люси Б. умерла батаня. Очень тяжело. Какой хороший она была человек. Ведь для Люси это вторая мама. Очень, очень жаль».
Письма от родных и друзей были единственным ее утешением. «Получаю письма от Нади, Лени, Лиды Ж. и Вальд/ека/. … Хоть бы скорей промелькнула эта проклятая война. Может быть, соберемся опять вместе. Надеюсь на это. Верю, но с болью в сердце».
В Ашхабаде жили в эвакуации Олеши. Мама их случайно встретила в городе. Ольга Густавовна переболела тифом, еле выжила и с трудом держалась на ногах. От прежней красивой и модной женщины ничего не осталось. Ольга стала бывать у мамы. Они часами вспоминали Москву, ее сына Игоря и их друзей. Ольга была первой из писательских знакомых, увидевших меня. Об этом мама записывает в дневнике: «Оля – единственная москвичка, которая видела мою дочь. И она ей очень понравилась, моя крошка».
Юрий Карлович тоже вел дневник в Ашхабаде. Я не нашла в нем ничего интересного: как будто нет ни войны, ни тяжелых переживаний, ни людского горя, сплошные философские рассуждения. И есть только одна запись (28 сентября 1943 г.) – красивая метафора (он был большой мастер их придумывать), которая раскрывает его внутреннее состояние: одиночество и разочарование в людях, то, что уже давно мучило этого человека и, наконец, прорвалось наружу при самой неожиданной ассоциации.
«Я шел по аллее городского сада в Ашхабаде и вдруг увидел: недалеко от стены деревьев лежат выкатившиеся на аллею большие зеленые шары, похожие на шутовски выкрашенные теннисные шары. Я нагнулся и поднял один. Довольно тяжелая штука… Как будто похоже на плод каштана. Вскрыть. – Нет. Я не стал вскрывать.
Нет ничего – ни дружбы, ни любви…
Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни. Кто ты, зеленый шар?»
Начиная с осени 1942 года, письма от отца перестали приходить. Мама не находила себе места. 23 января 1943 г., когда его уже, действительно, не было в живых, но никто из родных об этом не знал, она записывает в дневнике: «От Шурика писем нет. 1 сент/ября/ получила последнее письмо. Что с ним? Эта мысль так и сверлит все время, не исчезая ни на минуту… Меня так страшит мысль, что я его больше не увижу, что хочется рвать на себе волосы и кричать, кричать, кричать!»
В Москве так же страдает Анна Михайловна. Получив из Реутова последнюю записку 19 сентября, она ждет весточку, чтобы приехать к сыну. А он в это время был далеко от Москвы и принимал участие в боях под Смоленском. Его молчание длилось почти полгода, потом пришла похоронка – узенький листок бумаги с коротким сухим текстом, напечатанным на машинке: «Арский Александр Павлович, рождения 1922 года, убит 2 октября 1942 года в 3 часа утра, осколком мины. Похоронен 2 километра Западнее дер. Красное, Темниковского района, Смоленской области».
Если посмотреть по карте, это место находится недалеко от деревни Королево, где родился Павел Александрович. Вот такие парадоксы иногда устраивает жизнь: отец родился в Смоленской области, а сын там погиб, защищая родную землю от иноземных захватчиков.
Бывают на свете и другие удивительные вещи. Почти 60 лет спустя после гибели отца я встретила его однополчанина Николая Кирилловича Батаева. Причем выяснилось это не сразу. Я тогда работала в многотиражной газете ЗАО «Москабельмет», а Николай Кириллович как ветеран войны часто писал в газету свои воспоминания. Это был милейший и добрейшей души человек. Когда-то он занимал на заводе пост зам. директора по кадрам, хорошо относился к людям, за что его любили и уважали в коллективе. Прошло лет пять. Однажды во время очередного банкета в заводской столовой в честь дня Победы мы оказались с ним за одним столом. Ветераны, как полагается, выпили фронтовые сто граммов, оживились и стали вспоминать боевое прошлое. Почему-то разговор зашел о моей фамилии, и я стала рассказывать о своем деде, поэте Павле Арском.
– Постойте, постойте, – вдруг произнес Батаев, – а ведь я знал сына поэта Арского – Сашу Арского.
И Николай Кириллович посмотрел на меня, как будто увидел в первый раз.
– Так, выходит, это ваш отец?
Я от волнения не могла ничего сказать, только утвердительно кивнула головой.
– Да-а-а, – протянул он задумчиво. – Хороший был паренек, добрый, отзывчивый. Пел нам песню своего отца «В парке Чаир распускаются розы». Мы еще его спрашивали, где находится этот Чаир, и он так красочно рассказывал про Крым, про море, читал стихи.
Ветеран задумчиво смотрел в одну точку, как будто видел картину из прошлого.
– Он погиб на моих глазах. Это произошло поздней осенью 42-го, под Юхновым. Мы с ним ночью находились в карауле. Было очень холодно, стояла странная, звенящая тишина, ни звука – ни с той, ни с другой стороны. И вдруг немцы начали массированный артобстрел. Саша сразу упал. Я к нему подскочил – он был мертв. Подбежали санитары и унесли его.
Николай Кириллович помолчал.
– Как же я раньше не догадался, что это ваш отец. Арская и Арская, а вот, как вы вспомнили про своего деда-поэта, так меня и осенило.
Такие встречи со свидетелями гибели близких людей на войне – редкий случай. Это просто подарок судьбы.
Мама еще оставалась в Ашхабаде и там получила известие о смерти отца – оно шло полгода. После этого она перестала вести свой дневник, последняя запись в нем сделана 1 марта 1943 г.
Дед Арский узнал о гибели сына, находясь еще в эвакуации. В 1919 г. он написал стихотворение «Сын», где речь идет о гибели сына. Это, конечно, художественный вымысел, но недаром говорят, что поэты предвидят многое в своих личных судьбах и судьбах близких. Двадцать три года спустя его стихотворение стало как бы реквием по собственному сыну:
Старуха мать
Вчера узнала:
Сын убит!
Она портрет
Поцеловала:
Сын мой спит.
Сказала дочь:
Мой брат любимый
Не придет!
Сказала мать:
За край родимый
В бой пойдет!
Сказал отец:
Пойми, старуха,
Сын убит!
– Не верю! – мать
Сказала глухо. -
Сын мой спит!
Бабушка продолжала хлопотать во всех инстанциях, чтобы вытащить внучку и невестку из Ашхабада. Только в конце марта 1943 г., спустя почти полгода после смерти отца, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки: в Наркоме внутренних дел ей выдали пропуск на наш приезд в Москву, и в апреле мы, наконец, приехали домой, в нашу квартиру писательского дома в проезде Художественного театра.
Мой отец, Александр Павлович Арский, погиб на фронте 2 октября 1942 года. Через два года умерла моя мама Елена Николаевна. Воспитывала меня бабушка, мать отца, Анна Михайловна, которую я, двухлетний ребенок, сразу стала называть мамой. И более любящего и преданного мне человека трудно было найти. Когда мне было лет девять, кто-то из «доброжелателей» во дворе открыл тайну, что моя настоящая мама умерла, а я живу с бабушкой.
Эта новость меня так потрясла, что я перестала ходить в школу, сидела целыми днями в своей комнате и возненавидела бабушку, как будто она была в чем-то виновата. Три месяца я с ней не разговаривала. Уговоры учителей и родственников не помогали. Бабушка же оказалась более мудрой: она терпеливо ждала, когда я всё это переживу.
Действительно, прошло время, у нас восстановились прежние отношения, и я опять стала называть ее мамой (здесь, в тексте, чтобы не возникало путаницы, буду называть ее бабушкой – Н.А.). С тех пор на моем большом письменном столе, оставшемся от отца, а тому – от деда, появилась рамка с фотографией другой, настоящей мамы, казавшейся мне необыкновенно красивой. Рядом лежала толстая тетрадь в красной коленкоровой обложке: дневники, которые мама вела до войны и в эвакуации в Ашхабаде, когда я родилась.
Мои родители были знакомы со школьной скамьи, так как учились в одной школе №170 в самом центре Москвы. Мама тогда жила на улице Станкевича (ныне Вознесенский переулок), отец – в писательском доме на Проезде МХАТа (Камергерский переулок). Его отец, а мой дедушка, Арский Павел Александрович, был поэтом, автором популярного в советское время, да и сейчас танго «В парке Чаир распускаются розы». Широко известны и до сих пор часто цитируются строки из его стихотворения «Красное знамя»: «Царь испугался// Издал Манифест:// Мертвым – свободу!// Живых – под арест!».
В доме отец особенно дружил с Севой Багрицким, Юрием Малышкиным, Володей Иллешем и Эвальдом Ильенковым. Дети писателей и поэтов, они сами много писали и выпускали в доме и школе литературно-художественные альманахи. Мой отец перед войной начал писать повесть, где главную героиню звали Наташей. Он любил это имя и просил маму, если родится девочка, так ее назвать, что мама и сделала. Еще он любил рисовать, в нашем домашнем архиве сохранились его портретные рисунки и пейзажи Крыма.
Я не ошибалась, считая по фотографии маму очень красивой. Ее друзья и мои родные это подтверждали, говоря, что за высокий рост и стройность ее называли Елкой. Одна из близких ее подруг Люся Боннэр, в будущем известный правозащитник и политический деятель Елена Георгиевна Боннэр, в 1994 г. выпустила книгу «Дочки-матери», где много пишет о маме. «Она, – вспоминает Елена Георгиевна, – была высокая, физически развитая, полногрудая девушка… У Елки был красивый низкий голос, она пела украинские и всякие современные песни дома и в школе – на школьных утренниках. Дома у них был рояль. В младших классах ее учили музыке, но она это забросила. Я ее любила. За красоту, за голос, за взрослость, за таинственность, за веселость и доброту. Любила!»
Эти строки написаны пятьдесят с лишним лет после описываемых событий. Мама в своем дневнике тоже пишет о ней с любовью. «… Приезжала Люся Б. (из Ленинграда, куда она уехала после ареста родителей. – Н.А.). Хорошая девчурка, я ее очень люблю. Сколько в ней жизни, веселья, ума! После ее отъезда у меня всегда остается воспоминание о ней, как о какой-то благоухающей струе, которая оставляет после себя ароматный воздух – веселья и счастья» (17 января 1939 г.). Поженились родители 3 марта 1941 года. Им обоим тогда было чуть больше 18 лет. Перед этим ответственным шагом, чтобы содержать семью, отец устроился на работу и перешел учиться в школу вечерней молодежи, но не оставлял мечты поступить в Литературный институт им. Горького. Туда же собирался поступать и Сева Багрицкий, «сын поэта и сам поэт», как называл его писатель Юрий Нагибин. Незадолго перед войной Сева написал стихи на тему Испании, которые вскоре для него самого стали пророческими:
Он упал в начале боя,
(Показались облака…
Солнце темное, лесное
Опускалось на врага.)
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой…
Птицы песней провожали,
Клены никли головой.
Ему же принадлежат и строки, определившие нравственную основу того поколения:
Нам не жить, как рабам,
Мы родились в России,
В этом наша судьба,
Непокорность и сила.
О гуманитарных вузах мечтали Эвальд Ильенков и Володя Иллеш. Один только Юра Малышкин увлекался геологией и химией. Весь его стол был уставлен банками с таинственными растворами – он выращивал кристаллы и, возможно, стал бы великим ученым-химиком. Но всем этим планам помешала война.
Чуть ли не на следующий день после объявления о начале войны отцу принесли повестку «явиться для освидетельствования в Призывную комиссию Свердловского военкомата». По словам бабушки, он так обрадовался этой бумаге, что поднял почтальона – молодую девушку на руки, и закружил по комнате. Та удивилась: «Чему Вы радуетесь, ведь война?» Отец с гордостью ответил: «Иду защищать Родину!» Так воспитана была эта молодежь. Да никто и не думал тогда, что война затянется на долгих четыре года. Все верили, что Красная армия – самая сильная в мире, что она сможет быстро разгромить любого врага. Безоглядно верил в это и мой отец.
В справке, выданной ему в военкомате, говорилось, что он признан годным к строевой службе в кадрах РККА и зачислен в команду № 030/40. 15 августа он должен был явиться в 8 часов 30 минут на Кузнецкий мост, дом 6/3 «остриженным под машинку, одетым в теплую одежду и исправную кожаную обувь, иметь: кружку, ложку, две пары нижнего белья и мешок для собственных вещей».
Провожала его вся родня, с той и другой стороны, пришли друзья по школе и дому. Мама уже была беременна. Она и бабушка плакали, отец убеждал их, что расстаются они ненадолго и скоро опять будут вместе. Бабушка, соблюдая приметы, сохранила нестиранной его одежду и немытой посуду, из которой он ел перед самым уходом. Одежду я, спустя много лет, случайно выбросила, а посуда до сих пор лежит, переехав вместе с нами со старой квартиры из центра в Бирюлево.
Отец ушел на фронт одним из первых среди родных и друзей. Юра Малышкин, Володя Иллеш и Вальдек Ильенков еще учились в школе. Севу Багрицкого освободили от армии из-за сильной близорукости, и осенью 1941 г. он вместе с Союзом писателей уехал в эвакуацию в Чистополь. Туда же вскоре выехала и моя бабушка, работавшая в системе СП. Мама же решила отправиться к родному дяде Григорию Ильичу Доленко в Ашхабад, надеясь, что там, на юге, ей с ребенком будет намного лучше.
Как же она глубоко ошиблась! Из республик Средней Азии мясо, овощи, зерно и фрукты эшелонами шли на фронт. Население там голодало так же, как и в других районах страны, если не хуже. Продукты выдавались строго по карточкам. Особенно тяжело приходилось тем эвакуированным, кто не работал, – они не получали карточек даже на хлеб. Мама же не могла работать из-за грудного ребенка и жила на скудные деньги, которые ей присылали из Москвы родные. «Сама же я вечно голодная, – записывает она в дневнике. – Все время хочется кушать. Никогда не испытывала такого ощущения. Я бы ела и ела без конца».
Ей было очень плохо в чужом городе и чужой семье. Дядя, на поддержку которого она рассчитывала, постоянно находился в экспедициях. С его женой, Надеждой Васильевной, у мамы не складывались отношения. «Я так измучилась, – пишет она, – боже мой, ведь я совсем одна, никто мною не интересуется, никто не сочувствует и никому, буквально никому я не нужна. Как тяжело это сознавать, сколько слез пролито от этих мыслей. Москва, такая родная, где есть люди, которые любят и понимают меня, и так она далеко».
Я оказалась слабым ребенком, без конца болела, и мама, которой тогда было 19 лет, мужественно переносила все трудности. Сколько бессонных ночей провела она около моей постели, когда я буквально находилась на краю смерти. А еще надо было стирать белье и пеленки, брать в консультации молочко, выполнять обязанности по дому и ходить в столовую за обедом для всех. При этом соседи отмечали, что ее ребенок, не в пример другим детям, выглядит хорошо ухоженным. «Евгения Мироновна, – пишет она про свою знакомую, – хвалила меня за то, что я так чисто содержу доченьку. А ведь я все время одна, а их трое, и их Вовка все-таки не в такой чистоте, как моя Натуся. Они здесь все. Я же должна делать для доченьки все, как можно лучше, чтобы папка, бабка и дедка ни к чему не могли придраться».
Отец писал с фронта редко. К сожалению, в нашем домашнем архиве сохранились только его записки к бабушке в Чистополь и Москву. Они короткие, но сколько в этих скупых строках патриотических чувств и сыновней заботы!
«20.ХП - 41. Реутово.
Здравствуй, дорогая мама!
Вчера получил твое письмо. Сегодня получил другое. Я жив и здоров. От Лены писем не получаю. Николай Ильич мне пишет, но мало. Ты и отец должны писать мне чаще. Я с нетерпением жду того момента, когда мы все снова будем вместе в Москве. А для достижения этого надо разбить ненавистного врага. Я рад, что нахожусь в составе Действующей армии. И хотя приказ: выступить на защиту Родины, для завершения полного разгрома врага, нам еще не дан, но он может последовать в любую минуту.
Дорогая мамуля, если завтра мне придется, а придется обязательно быть участником разгрома немецких оккупантов, я клянусь тебе бить их беспощадно, не жалея своей крови и самой жизни, для наступления полной победы над врагами нашей Родины.
Ну, прощай, моя дорогая мамуся. Крепко целую тебя и отца. Не забывайте и пишите больше.
Я чувствую себя хорошо. Сегодня у нас был марш на 30 км, шли на лыжах.
Еще раз крепко целую. Пиши!
Твой Александр!»
«30.ХП-41. Реутово.
Здравствуй, дорогая мамуся!
Я жив и здоров!
Твои письма и открытки получаю, но очень редко. Поздравляю тебя с Новым 1942 годом.
Прости, что написал эту короткую записку, а не письмо. Крепко целую!
Александр.
Р.S. Я тебе написал несколько писем, но ответа не получил».
В начале 1942 года бабушке удалось вырваться в Москву в командировку на месяц, больше в Чистополь она не возвращалась. Отец еще оставался в подмосковном Реутове, где находился штаб его армии, и бабушка смогла его навестить несколько раз.
После гибели отца в его шинели нашли два письма и передали бабушке в штабе вместе с другими вещами. Одно письмо – из Чистополя от Павла Александровича (он тоже был в Чистополе с другой семьей), второе – из Ашхабада от мамы. Оба письма удивительно спокойные, домашние, любящие.
«25 апреля 42 года.
Дорогой сынок мой!
Я от тебя не получаю вестей больше двух месяцев. Очень беспокоюсь. Если ты еще в Реутове, срочно сообщи, как твое здоровье, как жизнь и работа бойца. Я очень по тебе скучаю.
Мама получила от Елочки письмо, у нее родилась дочь, имя дали ей Наташа, как ты хотел, она растет здоровой и крепкой, машет Елке ручками, словом, будет бой-девка!
Милый Шурик, я живу по-прежнему тихо, работаю, написал здесь, в Чистополе цикл военно-оборонных стихов, задумал писать большую пьесу «Генерал гвардии».
Есть успехи: я написал «Песню о командире», она одобрена, и я получил от командования 8-й Гвардейской дивизии сообщение о том, что песня моя «будет широко распространена в частях дивизии», как они пишут мне в письме, выражая мне «благодарность за проявленное внимание».
Я сегодня написал им письмо, хочу поехать в штаб, поработать в литературном плане, собрать материал для моей пьесы о нашей советской Гвардии.
Срочно пиши мне, жду твоей весточки.
Крепко целую.
Твой папа».
Мама тоже пишет о самых обыденных вещах:
«Дорогой Шурик!
Твоя мама уже в Москве. Может, она уже тебя видела! Как я ей завидую! Мне так хочется быть ближе к тебе, мой дорогой мальчик! Как твое здоровье? Мы буквально погибаем от жары.
Очень душно спать. Наташа так плохо спит, что мне все ночи приходится с ней сидеть. Я ей сшила платье, и она стала похожа на взрослого человека. У нас еще одна победа. Натуся научилась сидеть на горшке и поэтому перестала пачкать пеленки. Мне приходится меньше стирать, чему я очень довольна. Прости, что я пишу тебе такие вещи, но ведь ты отец и тебе все, что касается твоей дочурки, должно быть интересно.
Меня страшно искусали москиты. Просто вся опухла. Натусю же никто не покусал, так как я ей сделала навес из марли….
… Ну, всего хорошего, мой милый. Больше писать нет сил. Мозги плавятся.
Крепко тебя целуем.
Твои Наташа и Лена.
11 июня 1942 г.»
В письме она сдерживает свои чувства, зато в дневнике дает им полную волю.
«… Дорогой наш папочка! Пусть тебя хранит наша любовь, все наши мысли и думы о тебе. Только бы ты был здоров и поскорей вернулся к нам. Ждем не дождемся этого счастливого дня. Скорей бы, скорей наступил этот день, и ты бы смог увидеть нашу дорогую крошку, мою жизнь Наташу!»
«…Сейчас он опять в Реутове. Он очень беспокоится о моем материальном положении, пишет, что страдает оттого, что не может нам помочь. Любимый мой пусик! Я знаю, что ты бы отдал все, чтобы нам было легче жить. Учись, мой родной, а главное будь здоров, и тогда все поправится».
Ребенок и муж слились для нее в одно целое. Узнав от свекрови, что отца направили на передовую, она с горечью записывает: «Шуренок не пишет. Анна Мих. думает, что его послали на фронт. Неужели это так? Такого маленького, да не совсем еще обученного».
Мама застряла в Ашхабаде надолго. Здесь же оказались и знакомые ребята: Вальдек Ильенков и Александр Каменский (сын поэта Василия Васильевича Каменского, друга Маяковского и Асеева, футуриста и лефовца). Вальдек был младше отца и до мобилизации успел поступить на философский факультет ИФЛИ им. Чернышевского. Через три месяца институт эвакуировали в Ашхабад. Узнав о приезде Вальдека, мама сразу написала ему письмо, надеясь, что он поможет ей вырваться из Ашхабада. «Написала письмо Вальдеку, – записывает она в дневнике. – Интересно, что он ответит. Может, он летом поедет в Москву или Чистополь, и я с ним».
Но Вальдек ее огорчил: ИФЛИ уезжало в Свердловск. Мало того, ему скоро исполнялось 18 лет, и он думал не о Москве, а о том, чтобы скорее попасть на фронт.
От Каменского мама узнала и о гибели Севы Багрицкого. «12-го был Ш. Каменский, – записывает она. – Принес печальное известие: на Ленинградском фронте убит Сева Багрицкий. Мне как-то не верится. Но если это так, то очень, очень жаль. Все-таки с Севой у меня связано многих воспоминаний и хочешь или нет, а он был моя первая любовь…
Собственно говоря, мне непонятно, как он очутился на фронте. В армию его не взяли, а добровольцем… для этого он слишком... труслив. Наверно, поехал как корреспондент, и какая-нибудь шальная пуля… Нет, не верю!»
У мамы с Севой какое-то время был юношеский роман, о чем в своей книге «Дочки-матери» пишет и Елена Боннэр. Она сама была в него безумно влюблена, и для всех окружающих, по ее словам, считалась его женой. Но это далеко не так. Накануне войны Сева успел жениться на девушке Марине, но они быстро разошлись.
Мне почему-то очень жаль этого мальчика. Сева был одинок. Его отец умер в 1937 году, мать Лидия Густавовна Суок (это имя писатель Олеша, женатый на ее сестре Ольге, использовал в своем романе «Три толстяка») находилась в ГУЛАГе, Боннэр после ареста отчима жила в Ленинграде, и все друзья куда-то исчезли. В его записях того времени появляется много грустных размышлений. «4 августа 1937 года арестовали маму. 15 сентября умер брат (Игорь, сын Ольги Суок и пасынок Олеши, покончил самоубийством), – записывает он в 1940 г. – Мне скоро восемнадцать лет, но я уже видел столько горя, столько грусти, столько человеческих страданий, что мне иногда хочется сказать людям, да и самому себе: зачем мы живем, друзья? Ведь все равно «мы все сойдем под вечны своды».
Мне по-настоящему сейчас тяжело. Тяжело от одиночества, хотя я уже постепенно привыкаю к нему».
И дальше: «Я встречаюсь с Мариной, странной, черноглазой девушкой. Ей 19 лет, она старше меня на год. Марина – сирота, живет с тетей, которую страшно боится. Ей трудно ходить, у нее больное сердце. Я люблю М., люблю, потому что редко с ней вижусь, и потому, что мне больше некого любить. Без нее, без этой маленькой девушки, мне было бы много тяжелее».
В Чистополе Сева, как и другие писатели, освобожденные от армии, постоянно подавали заявления в местный военкомат, чтобы их отправили на фронт. В декабре туда приехал председатель Союза писателей Александр Александрович Фадеев и помог решить этот вопрос. 8 января 1942 г. Сева писал Лидии Густавовне: «Дороги из Чистополя в Казань занесены снегом, и мы идем 145 км пешком. В казанском Доме печати, усталый и измученный, я встречаю Новый год. Получил назначение в армейскую газету в должности писателя-поэта. Чин мой - техник-интендант».
Долгое время мама ничего не знала о Люсе Боннэр. Наконец, ей прислали ее адрес. Мама записывает в дневнике: «Надюша прислала письмо, в котором пишет, что нашлась Люсенька Б. Она работает в санпоезде, возит раненых. Ей можно писать в г. Киров. Написала. Теперь не дождусь ответа. Я так рада, что она жива. Ведь она моя лучшая подружка».
И когда умерла бабушка Боннэр Татьяна Матвеевна, которую родные и знакомые звали «батаней» (от баба Таня), мама записывает с грустью: «У Люси Б. умерла батаня. Очень тяжело. Какой хороший она была человек. Ведь для Люси это вторая мама. Очень, очень жаль».
Письма от родных и друзей были единственным ее утешением. «Получаю письма от Нади, Лени, Лиды Ж. и Вальд/ека/. … Хоть бы скорей промелькнула эта проклятая война. Может быть, соберемся опять вместе. Надеюсь на это. Верю, но с болью в сердце».
В Ашхабаде жили в эвакуации Олеши. Мама их случайно встретила в городе. Ольга Густавовна переболела тифом, еле выжила и с трудом держалась на ногах. От прежней красивой и модной женщины ничего не осталось. Ольга стала бывать у мамы. Они часами вспоминали Москву, ее сына Игоря и их друзей. Ольга была первой из писательских знакомых, увидевших меня. Об этом мама записывает в дневнике: «Оля – единственная москвичка, которая видела мою дочь. И она ей очень понравилась, моя крошка».
Юрий Карлович тоже вел дневник в Ашхабаде. Я не нашла в нем ничего интересного: как будто нет ни войны, ни тяжелых переживаний, ни людского горя, сплошные философские рассуждения. И есть только одна запись (28 сентября 1943 г.) – красивая метафора (он был большой мастер их придумывать), которая раскрывает его внутреннее состояние: одиночество и разочарование в людях, то, что уже давно мучило этого человека и, наконец, прорвалось наружу при самой неожиданной ассоциации.
«Я шел по аллее городского сада в Ашхабаде и вдруг увидел: недалеко от стены деревьев лежат выкатившиеся на аллею большие зеленые шары, похожие на шутовски выкрашенные теннисные шары. Я нагнулся и поднял один. Довольно тяжелая штука… Как будто похоже на плод каштана. Вскрыть. – Нет. Я не стал вскрывать.
Нет ничего – ни дружбы, ни любви…
Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни. Кто ты, зеленый шар?»
Начиная с осени 1942 года, письма от отца перестали приходить. Мама не находила себе места. 23 января 1943 г., когда его уже, действительно, не было в живых, но никто из родных об этом не знал, она записывает в дневнике: «От Шурика писем нет. 1 сент/ября/ получила последнее письмо. Что с ним? Эта мысль так и сверлит все время, не исчезая ни на минуту… Меня так страшит мысль, что я его больше не увижу, что хочется рвать на себе волосы и кричать, кричать, кричать!»
В Москве так же страдает Анна Михайловна. Получив из Реутова последнюю записку 19 сентября, она ждет весточку, чтобы приехать к сыну. А он в это время был далеко от Москвы и принимал участие в боях под Смоленском. Его молчание длилось почти полгода, потом пришла похоронка – узенький листок бумаги с коротким сухим текстом, напечатанным на машинке: «Арский Александр Павлович, рождения 1922 года, убит 2 октября 1942 года в 3 часа утра, осколком мины. Похоронен 2 километра Западнее дер. Красное, Темниковского района, Смоленской области».
Если посмотреть по карте, это место находится недалеко от деревни Королево, где родился Павел Александрович. Вот такие парадоксы иногда устраивает жизнь: отец родился в Смоленской области, а сын там погиб, защищая родную землю от иноземных захватчиков.
Бывают на свете и другие удивительные вещи. Почти 60 лет спустя после гибели отца я встретила его однополчанина Николая Кирилловича Батаева. Причем выяснилось это не сразу. Я тогда работала в многотиражной газете ЗАО «Москабельмет», а Николай Кириллович как ветеран войны часто писал в газету свои воспоминания. Это был милейший и добрейшей души человек. Когда-то он занимал на заводе пост зам. директора по кадрам, хорошо относился к людям, за что его любили и уважали в коллективе. Прошло лет пять. Однажды во время очередного банкета в заводской столовой в честь дня Победы мы оказались с ним за одним столом. Ветераны, как полагается, выпили фронтовые сто граммов, оживились и стали вспоминать боевое прошлое. Почему-то разговор зашел о моей фамилии, и я стала рассказывать о своем деде, поэте Павле Арском.
– Постойте, постойте, – вдруг произнес Батаев, – а ведь я знал сына поэта Арского – Сашу Арского.
И Николай Кириллович посмотрел на меня, как будто увидел в первый раз.
– Так, выходит, это ваш отец?
Я от волнения не могла ничего сказать, только утвердительно кивнула головой.
– Да-а-а, – протянул он задумчиво. – Хороший был паренек, добрый, отзывчивый. Пел нам песню своего отца «В парке Чаир распускаются розы». Мы еще его спрашивали, где находится этот Чаир, и он так красочно рассказывал про Крым, про море, читал стихи.
Ветеран задумчиво смотрел в одну точку, как будто видел картину из прошлого.
– Он погиб на моих глазах. Это произошло поздней осенью 42-го, под Юхновым. Мы с ним ночью находились в карауле. Было очень холодно, стояла странная, звенящая тишина, ни звука – ни с той, ни с другой стороны. И вдруг немцы начали массированный артобстрел. Саша сразу упал. Я к нему подскочил – он был мертв. Подбежали санитары и унесли его.
Николай Кириллович помолчал.
– Как же я раньше не догадался, что это ваш отец. Арская и Арская, а вот, как вы вспомнили про своего деда-поэта, так меня и осенило.
Такие встречи со свидетелями гибели близких людей на войне – редкий случай. Это просто подарок судьбы.
Мама еще оставалась в Ашхабаде и там получила известие о смерти отца – оно шло полгода. После этого она перестала вести свой дневник, последняя запись в нем сделана 1 марта 1943 г.
Дед Арский узнал о гибели сына, находясь еще в эвакуации. В 1919 г. он написал стихотворение «Сын», где речь идет о гибели сына. Это, конечно, художественный вымысел, но недаром говорят, что поэты предвидят многое в своих личных судьбах и судьбах близких. Двадцать три года спустя его стихотворение стало как бы реквием по собственному сыну:
Старуха мать
Вчера узнала:
Сын убит!
Она портрет
Поцеловала:
Сын мой спит.
Сказала дочь:
Мой брат любимый
Не придет!
Сказала мать:
За край родимый
В бой пойдет!
Сказал отец:
Пойми, старуха,
Сын убит!
– Не верю! – мать
Сказала глухо. -
Сын мой спит!
Бабушка продолжала хлопотать во всех инстанциях, чтобы вытащить внучку и невестку из Ашхабада. Только в конце марта 1943 г., спустя почти полгода после смерти отца, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки: в Наркоме внутренних дел ей выдали пропуск на наш приезд в Москву, и в апреле мы, наконец, приехали домой, в нашу квартиру писательского дома в проезде Художественного театра.
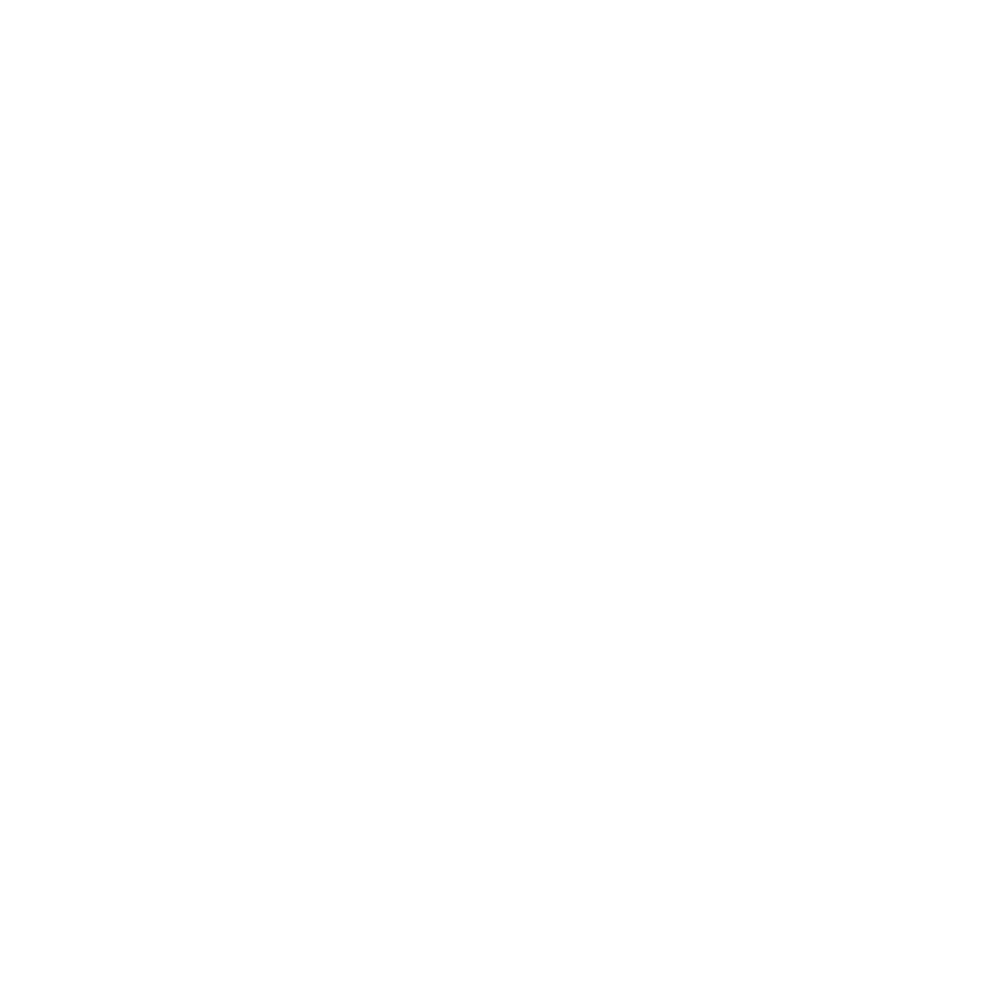
Светлана ГРИНЬКО
Родилась в Волгоградской области, в г. Ленинск. Обучалась в ДХШ г. Знаменск. С 1985-1989 гг. училась в Астраханском художественном училище им. П.А.Власова на
художественно-оформительском отделении. Защитила диплом по теме «Художественное оформление интерьера». Получив квалификацию художника-оформителя, работала в различных предприятиях и учреждениях.
В 2018-2019 гг. обучалась в Литературном институте им. А.М.Горького в Москве, на курсах литературного мастерства под руководством писателя А. Ю. Сегеня.
Родилась в Волгоградской области, в г. Ленинск. Обучалась в ДХШ г. Знаменск. С 1985-1989 гг. училась в Астраханском художественном училище им. П.А.Власова на
художественно-оформительском отделении. Защитила диплом по теме «Художественное оформление интерьера». Получив квалификацию художника-оформителя, работала в различных предприятиях и учреждениях.
В 2018-2019 гг. обучалась в Литературном институте им. А.М.Горького в Москве, на курсах литературного мастерства под руководством писателя А. Ю. Сегеня.
СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
Какой же жизнь тогда была?..
Нижнее Поволжье – удивительный мир! Там я выросла. Мысленно я только вернулась оттуда. По преданию – где человек родился – особая аура. Энергетическая среда, правящая природой, формирует личность неотделимо от родной земли.
На улице моего детства по-прежнему шумят серебристые тополя, поднимаясь могучими ветвями в синее небо. В прохладе их теней спасались мы когда-то от летнего зноя. Жаль что их количество поуменьшилось за несколько десятилетий. Но они, как и всегда, волнуют души неугомонных странников. Они дышат! И своим веянием проникают в самую бездну силы духа, зажигая огонь добра и любви ко всему окружающему. В этот миг чувствуешь себя маленькой птичкой, прячущейся в этих гигантских кронах, трепещущих множеством оттенков серебристо-зелёного цвета. Где никакие ветра не страшны!
Внизу, в земле, роются куры, не обращая внимания на причудливую мощь корней, держащих стволы этих великих деревьев. Незначительное кудахтанье доносится в высокой траве, шелестящей стрекотанием кузнечиков, жужжанием мух и незаметными комарами.
Вокруг тишина, которую прорывает, изредка, гул заводящегося автомобиля или грузовика, ковыляющего в клубах густой пыли, увозящего вдаль золотистую гору свежескошенной пшеницы. Душистый запах зерна ещё некоторое время благоухает в воздухе.
И снова тишь и палящее солнце.
Несколько километров дороги, и ощущение речной прохлады превращается в живой поток роскошной Ахтубы. Словно летящий рукав Волги из исчезнувших времён Золотой Орды, преподносит нам легенду о красавице-дочери и печали легендарного хана – «Ах, Туба – Ах, Туба».
Быстрым течением Ахтубы уносит всё, что попадает в её русло. Осмотрительные рыбаки крепко привязывают свои лодки. Смельчаки, пустившиеся вплавь, рискуют попасть в водоворот. Зелёные массивы прибрежных деревьев наблюдают течение времени…
В этой незабываемой стороне и проходила жизнь мамы и бабушки.
Катя прерывает запись и откладывает свой дневник, смотря в окно.
Звёздное небо переливается бесконечным множеством свечений в ночном просторе. Сквозь прозрачный тюль струится загадочный млечный свет, соединяющийся с горячим лучом настольной лампы у окна. Это таинственное сосуществование вечности с действительностью лучезарно освещает две старые фотографии на письменном столе в полумраке комнаты. Чёрно-белые когда-то, теперь они напоминают пожухлые старинные гризайли, представляющие интерес для коллекционеров.
Измятые временем и воспоминаниями фотографии, бережно, осторожными руками, берёт Катя. Это самые дорогие для неё вещи – след из прошлого. На обороте одной из них сохранилась красивая надпись снизу. Мелким каллиграфически изящным почерком звучит: «Любимая моя дочурка Людочка! Ты моя радость, счастье и вся жизнь моя. 1949 год. Июль 13 – три года от рождения. Твой папа. 13.07.1949. п. Джаныбек Западный Казахстан». И рядом решительная, размашистая роспись с витиеватым росчерком замысловатых букв.
Это фотография мамы, на которой дед нежно оставил след своей послефронтовой мысли для единственной дочери.
Мама, трёхлетней девочкой, пухленькой с тёмными волнистыми волосами и в простеньком цветастом платьице, серьёзно смотрит с тёмного фона фотографии. Коричневеющая бумажная рамка паспарту с набивными цветами, волшебно обрамляет лицо, скрывая атмосферу послевоенной обстановки. Недетская серьёзность проникновенно-светлых маминых глаз, твёрдая очерченность линий её плотных губ и подбородка, погружают Катю в радость воспоминаний о ней, уже взрослой.
– Интересно, как сложилась бы тогда судьба мамы, если бы дед остался в живых. – Иногда задумывается Катя.
Из редких маминых рассказов Катя знала, что никогда не забывала деда только она. И день его ухода из жизни пятилетняя мама запомнила навсегда. Она тогда сильно плакала у его кровати, а бабушка её успокаивала – «Тише, отец спит», а мама ей отвечала, вытирая слёзы – «Не спит, он умер». Бабушка её уговаривала – «Тем более, нужно молчать». И мама, снова плача, говорила уже, что он не умер, а спит. Всю свою жизнь мама с грустью вспоминала об этом печальном дне. Бабушка же о деде никогда не говорила, и до рождения Кати так и жила одна.
Став взрослой, мама так и не смогла съездить на могилу деда в Казахстане. Что тогда помешало ей, Кате неизвестно. А родную бабушку, мать отца, ей удалось найти.
В восемнадцатилетнем возрасте, после школы, мама, через военный архив бывшего Сталинграда, сама разыскала бабушку в далёком крае, наполненном тоскливым ожиданием сыновей с фронта. Катина прабабушка прожила длинную жизнь, глубоко в сердце храня память о сыновьях, подолгу стояла она у окна, всматриваясь в даль.
Фотография деда – самая главная в жизни мамы. Дед не оставил на ней надписи, наверное не посчитал важным привлекать внимание к себе.
Из овала старой бумажной рамки смотрит мужественное лицо фронтового офицера, в чертах которого угадываются и черты мамы. Его высокий лоб с пышными тёмными волосами растворяется в каком-то размытом фоне. Строгая военная форма придаёт суровую торжественность характеру деда на этой послевоенной фотографии. В его глазах решительность, горечь и боль, страдание от потерь выигранной войны. Нет улыбки, но мягкость дедовых плотно сжатых губ, наполняет лицо оптимизмом.
Дед предчувствовал, что ему немного лет оставалось жить после Победы.
Яркие отблески огней замелькали в чёрном небе, отдалённый гул самолёта, медленно поднимающегося в высь, отвлекают внимание Кати от дорогих её сердцу фотографий. Она последняя, кому так ценны эти две, трудно сказать, вещи. Скорее, это талисманы-воспоминания. Кому они нужны будут в дальнейшем, где останутся навсегда, уже со стёртой памятью?..
И Катя, подавляя слёзы, рифмует эти строки, посвящая их двум стареньким фотографиям, пахнущими ностальгией, в память о маме и деде.
Замок закрыт и ключ потерян,
В замочной скважине темно.
Вратам былого вход отмерян
В газетах, книгах и кино.
Седой налёт листа бумаги,
Фрагменты плёнки, времена,
Вещает память об отваге
В забытых фото – старина.
Войны далёкой отголосок
И прошлое – не без следа.
И мирный день – не без вопроса –
Какой же жизнь тогда была?..
Сберегая ту крупинку воспоминаний по старым фотографиям, Катя начинает повествование уже своей истории, будто беседуя с мамой, бабушкой и дедом.
Я ничего не знаю о фронтовых подвигах моего деда. А ведь он после тяжёлой контузии не смог вернуться на поля сражений. В результате, его направили служить штабным офицером в военкомат Джаныбека Западно-Казахстанской области. Там он и остался навеки. В чужой земле. – Катя пытается воспроизвести рассказы мамы и бабушки о войне. – Кто откомандировал его туда – тоже неизвестно.
Она трепетно заполняет свой дневник неожиданными эпизодами, воскресшими откуда-то, из глубины души. Придавая значение каждому слову, Катя корит себя за давнюю беспечность к беседам с бабушкой о прошлом. И только старенький голос, обращённый ко всем, погружает в ту жизнь: «Не приставайте, к старикам с расспросами про битву, нечего их волновать попусту». – И её слушались, всё понимая.
Советское время, стремительно, словно грохочущая река, бурлило каскадом событий и медлило беззаботностью детства (семидесятых) и юности (восьмидесятых). Катино поколение, в основном, росло без особого интереса к военной истории. Несмотря на то, что мальчишки увлечённо играли в войнушку, а девочки – в медсестёр.
Да, неправильно всё это. Тебе, дед, не понравилось бы, наверное. Ты воевал за Отчизну, ради нашей свободы. - Катя, переживая, торопливо записывает мысли. – Прости меня, дед. Стыдно смотреть в твои глаза на сохранившихся фотографиях.
Помню, как летними вечерами на своих скамейках собирались старожилы-соседи. Ворошили былое. Столетний дед, почему-то его прозвали – Кулеш, растягивая речь, не спеша сказывал о жизни при царе. Про войну, – нет, видимо, не участвовал. А может, не мог простить немцам наши утраты. И все старики, путая года, возмущённо спорили, припоминая когда и что происходило.
Давным-давно Кулеш незаметно покинул всех. Наверняка, дед, ты знал его. Неизвестно кем он работал в молодости, умалчивал. На закате лет своих, огромный такой, с клюкой, осторожно передвигался от высоченного забора, когда-то срубленного его руками, до массивной лавочки у палисадника с яркой мальвой и кусачими комарами. Тяжело присаживался и изношенными крупными пальцами потирал пышные седые усы и бороду. Ведал много про старину. Про Царицын, красивый город, разрушенный фашистами. Он не называл его Сталинградом. Просто, по-привычному, ласково, – Царинушка.
Мы слушали, немногочисленные дети, прибегавшие со всей улицы поглазеть на Кулеша. И просили его рассказывать ещё и ещё, без остановки. А он уже дремал, сидя. Вздрагивал от наших прикосновений к его рукаву, будто к ценной реликвии, чудом проникшей к нам из тайны бытия. Такие долгожители редкостны. На нашей улице – Кулеш один. А фронтовиков больше. В каждом почти, доме, – выжившие.
Помнится, как Кулеш, кряхтя, грузно поднимался с лавочки, опираясь на старенький бадик, так он называл свою трость. Смахивал назойливых комаров с огромной лысины, обещая нам: «В другой раз, ребятки, молвлю вам сказ», – и плавно, размеренно исчезал в деревянных воротах. А мы, нехотя, направлялись кто куда. – Катя вдохновенно представляет картину своего детства.
Хорошо помню и деда Василия, тысяча девятьсот второго года рождения. Он тоже проливал кровь на передовой. Но, никогда не рассказывал о войне: «Тяжко ворочать ту грешную пору. Не дай бог», – так и говорил всегда. И его жалели. Зато, смешил нас!
– Вот как, Ганя, – жаловался он, шутя, своей жене - старушке на её родню, – не заходишь к ним, они обижаются, а зайдёшь – не открывают. – Хе-хе-хе, – раскатисто хохотал дед Василий прикуривая папиросу «Беломор».
Баба Ганя, чернявая и статная когда-то, а теперь полностью седая, певуче смеясь, вторила ему: – Так ты, дед, пьяный же шёл к ним, весь перепачканный – и ты, и велсыпед твой. Вот и не пустили тебя.
– Так, дожжь же тогда хлестал, грязища кругом, а магáзин ещё не открылся, – хе-хе-хе, – добродушно посмеивался он, – куда же мне идти-то, как не к ним!
Из года в год трудился дед Василий в своём огороде. Сам вскапывал немало соток глинистой почвы. Удобрял, рыхлил, сеял, поливал, пропалывал и потом собирал урожай. Всегда мастерил что-нибудь. Рубанок, куча золотистой стружки, завораживающий запах свежей древесины и новенький табурет уже готов! Дед охотно делился своими секретами в плотницком деле. Внуки следовали его советам, пытались что-то соорудить, но потом забрасывали всё и возвращались к своим увлечениям. Не вникая в смысл упущенной пользы, ранили сердце старика своим невниманием.
Баба Ганя вкусно готовила. Аромат её блюд обволакивал, казалось, всю округу.
– Пирожков настряпала сегодня, всяких, приходите на чай. – Приглашала она часто нас – немногочисленных детей со всей улицы. И мы, вместо ужина у себя дома, отведывали вкуснейшие хрустяшки со всевозможными начинками – от картошки с зажаристым луком, до паслёна с сахаристой смородиной. И никакие другие не могли с ними сравниться, с самыми необыкновенными угощениями бабушки Гани!
Иногда дед Василий посвящал нас в истории о революции, захватывающе передавал атмосферу тех лет. Его слушали с изумлением. Однажды, масля искорёженными руками спицы на колесе, он неожиданно выпалил об Отечественной: – Эх, как мы угощали немцев! – Выстрелом на их выстрел! Задали им жáру! – хе-хе-хе, смешливо бередил он свою давнюю рану – беспокойную память.
– Расскажи, деда, про немцев, расскажи! – Наперебой просили мы, немногочисленные дети со всей улицы.
– Хоть, мальцов-то не тревожь, дед, вскипала баба Ганя.
– Да я и не хотел спугнуть никого. Чего рассказывать – и нечего вовсе. – Произносил он с грустью, умолкая.
Мы, аппетитно уплетая пирожки, дивились самобытности старинной обстановки в небольшой комнатке. Вокруг аккуратно выбеленной русской печи располагались начищенные чугуны разных форм и размеров. Сбоку притаились, сложенные друг в друга, плетёные корзины, а за ними – обгорелые временем ухваты. На лежанке спал большущий рыжий кот по имени Малыш. Рядом возвышался серебристый самовар. Напротив, у окна, стояла настоящая железная кровать, откованная ещё до революции. Её украшали – накрахмаленное покрывало с пирамидой подушек пёстрой вышивки. А на столе, накрытым белоснежной скатертью, источали аромат – огромная сковорода сладких, жареных семечек и чаша с пирожками! Так баба Ганя, скромная и приветливая, любившая уют, берегла традиции своей семьи. Красиво и с сожалением памятовала она эпизоды своей молодой поры. А мы слушали их и не запоминали, почему-то.
Если бы что-то шепнуло нам тогда: – «Записывайте каждое слово, ведь, никогда не услышите такого, нигде!» – Это уже не повторится.
Только фотографии, давно пожелтевшие, исправляют наши ошибки: – «Вот, смотрите и интересуйтесь!»
Забыла, ещё дед Иван. Танкист. Самый молодой из всех воевавших. Тоже весёлый! Трудился. Жил один. И о войне – ни слова.
Так мы и воспитывались. Я и мои ровесники. О боях читали в школе. О подвиге Мересьева. И про окопы Сталинграда. А про твой героизм, дед, ничего не знали. Не принято, тогда, вспоминать... Если бы ты знал, дед, что нет уже той страны, за которую ты воевал и гибли твои однополчане. Она другая теперь. Очень стыдно за всё, прости, дед! Сейчас я уже старше тебя. Ты остался навсегда молодым. – Катя заливается слезами.
Безвестность прошлого укрыли времена. И лишь фотографии возвращают нас в давнее. Спасибо всем, кто бережёт их и память о беспощадной войне.
В абсолютной тишине Катя закрывает дневник, оставляя в нём ещё много пустых страниц для дальнейших мемуаров.
Какой же жизнь тогда была?..
Нижнее Поволжье – удивительный мир! Там я выросла. Мысленно я только вернулась оттуда. По преданию – где человек родился – особая аура. Энергетическая среда, правящая природой, формирует личность неотделимо от родной земли.
На улице моего детства по-прежнему шумят серебристые тополя, поднимаясь могучими ветвями в синее небо. В прохладе их теней спасались мы когда-то от летнего зноя. Жаль что их количество поуменьшилось за несколько десятилетий. Но они, как и всегда, волнуют души неугомонных странников. Они дышат! И своим веянием проникают в самую бездну силы духа, зажигая огонь добра и любви ко всему окружающему. В этот миг чувствуешь себя маленькой птичкой, прячущейся в этих гигантских кронах, трепещущих множеством оттенков серебристо-зелёного цвета. Где никакие ветра не страшны!
Внизу, в земле, роются куры, не обращая внимания на причудливую мощь корней, держащих стволы этих великих деревьев. Незначительное кудахтанье доносится в высокой траве, шелестящей стрекотанием кузнечиков, жужжанием мух и незаметными комарами.
Вокруг тишина, которую прорывает, изредка, гул заводящегося автомобиля или грузовика, ковыляющего в клубах густой пыли, увозящего вдаль золотистую гору свежескошенной пшеницы. Душистый запах зерна ещё некоторое время благоухает в воздухе.
И снова тишь и палящее солнце.
Несколько километров дороги, и ощущение речной прохлады превращается в живой поток роскошной Ахтубы. Словно летящий рукав Волги из исчезнувших времён Золотой Орды, преподносит нам легенду о красавице-дочери и печали легендарного хана – «Ах, Туба – Ах, Туба».
Быстрым течением Ахтубы уносит всё, что попадает в её русло. Осмотрительные рыбаки крепко привязывают свои лодки. Смельчаки, пустившиеся вплавь, рискуют попасть в водоворот. Зелёные массивы прибрежных деревьев наблюдают течение времени…
В этой незабываемой стороне и проходила жизнь мамы и бабушки.
Катя прерывает запись и откладывает свой дневник, смотря в окно.
Звёздное небо переливается бесконечным множеством свечений в ночном просторе. Сквозь прозрачный тюль струится загадочный млечный свет, соединяющийся с горячим лучом настольной лампы у окна. Это таинственное сосуществование вечности с действительностью лучезарно освещает две старые фотографии на письменном столе в полумраке комнаты. Чёрно-белые когда-то, теперь они напоминают пожухлые старинные гризайли, представляющие интерес для коллекционеров.
Измятые временем и воспоминаниями фотографии, бережно, осторожными руками, берёт Катя. Это самые дорогие для неё вещи – след из прошлого. На обороте одной из них сохранилась красивая надпись снизу. Мелким каллиграфически изящным почерком звучит: «Любимая моя дочурка Людочка! Ты моя радость, счастье и вся жизнь моя. 1949 год. Июль 13 – три года от рождения. Твой папа. 13.07.1949. п. Джаныбек Западный Казахстан». И рядом решительная, размашистая роспись с витиеватым росчерком замысловатых букв.
Это фотография мамы, на которой дед нежно оставил след своей послефронтовой мысли для единственной дочери.
Мама, трёхлетней девочкой, пухленькой с тёмными волнистыми волосами и в простеньком цветастом платьице, серьёзно смотрит с тёмного фона фотографии. Коричневеющая бумажная рамка паспарту с набивными цветами, волшебно обрамляет лицо, скрывая атмосферу послевоенной обстановки. Недетская серьёзность проникновенно-светлых маминых глаз, твёрдая очерченность линий её плотных губ и подбородка, погружают Катю в радость воспоминаний о ней, уже взрослой.
– Интересно, как сложилась бы тогда судьба мамы, если бы дед остался в живых. – Иногда задумывается Катя.
Из редких маминых рассказов Катя знала, что никогда не забывала деда только она. И день его ухода из жизни пятилетняя мама запомнила навсегда. Она тогда сильно плакала у его кровати, а бабушка её успокаивала – «Тише, отец спит», а мама ей отвечала, вытирая слёзы – «Не спит, он умер». Бабушка её уговаривала – «Тем более, нужно молчать». И мама, снова плача, говорила уже, что он не умер, а спит. Всю свою жизнь мама с грустью вспоминала об этом печальном дне. Бабушка же о деде никогда не говорила, и до рождения Кати так и жила одна.
Став взрослой, мама так и не смогла съездить на могилу деда в Казахстане. Что тогда помешало ей, Кате неизвестно. А родную бабушку, мать отца, ей удалось найти.
В восемнадцатилетнем возрасте, после школы, мама, через военный архив бывшего Сталинграда, сама разыскала бабушку в далёком крае, наполненном тоскливым ожиданием сыновей с фронта. Катина прабабушка прожила длинную жизнь, глубоко в сердце храня память о сыновьях, подолгу стояла она у окна, всматриваясь в даль.
Фотография деда – самая главная в жизни мамы. Дед не оставил на ней надписи, наверное не посчитал важным привлекать внимание к себе.
Из овала старой бумажной рамки смотрит мужественное лицо фронтового офицера, в чертах которого угадываются и черты мамы. Его высокий лоб с пышными тёмными волосами растворяется в каком-то размытом фоне. Строгая военная форма придаёт суровую торжественность характеру деда на этой послевоенной фотографии. В его глазах решительность, горечь и боль, страдание от потерь выигранной войны. Нет улыбки, но мягкость дедовых плотно сжатых губ, наполняет лицо оптимизмом.
Дед предчувствовал, что ему немного лет оставалось жить после Победы.
Яркие отблески огней замелькали в чёрном небе, отдалённый гул самолёта, медленно поднимающегося в высь, отвлекают внимание Кати от дорогих её сердцу фотографий. Она последняя, кому так ценны эти две, трудно сказать, вещи. Скорее, это талисманы-воспоминания. Кому они нужны будут в дальнейшем, где останутся навсегда, уже со стёртой памятью?..
И Катя, подавляя слёзы, рифмует эти строки, посвящая их двум стареньким фотографиям, пахнущими ностальгией, в память о маме и деде.
Замок закрыт и ключ потерян,
В замочной скважине темно.
Вратам былого вход отмерян
В газетах, книгах и кино.
Седой налёт листа бумаги,
Фрагменты плёнки, времена,
Вещает память об отваге
В забытых фото – старина.
Войны далёкой отголосок
И прошлое – не без следа.
И мирный день – не без вопроса –
Какой же жизнь тогда была?..
Сберегая ту крупинку воспоминаний по старым фотографиям, Катя начинает повествование уже своей истории, будто беседуя с мамой, бабушкой и дедом.
Я ничего не знаю о фронтовых подвигах моего деда. А ведь он после тяжёлой контузии не смог вернуться на поля сражений. В результате, его направили служить штабным офицером в военкомат Джаныбека Западно-Казахстанской области. Там он и остался навеки. В чужой земле. – Катя пытается воспроизвести рассказы мамы и бабушки о войне. – Кто откомандировал его туда – тоже неизвестно.
Она трепетно заполняет свой дневник неожиданными эпизодами, воскресшими откуда-то, из глубины души. Придавая значение каждому слову, Катя корит себя за давнюю беспечность к беседам с бабушкой о прошлом. И только старенький голос, обращённый ко всем, погружает в ту жизнь: «Не приставайте, к старикам с расспросами про битву, нечего их волновать попусту». – И её слушались, всё понимая.
Советское время, стремительно, словно грохочущая река, бурлило каскадом событий и медлило беззаботностью детства (семидесятых) и юности (восьмидесятых). Катино поколение, в основном, росло без особого интереса к военной истории. Несмотря на то, что мальчишки увлечённо играли в войнушку, а девочки – в медсестёр.
Да, неправильно всё это. Тебе, дед, не понравилось бы, наверное. Ты воевал за Отчизну, ради нашей свободы. - Катя, переживая, торопливо записывает мысли. – Прости меня, дед. Стыдно смотреть в твои глаза на сохранившихся фотографиях.
Помню, как летними вечерами на своих скамейках собирались старожилы-соседи. Ворошили былое. Столетний дед, почему-то его прозвали – Кулеш, растягивая речь, не спеша сказывал о жизни при царе. Про войну, – нет, видимо, не участвовал. А может, не мог простить немцам наши утраты. И все старики, путая года, возмущённо спорили, припоминая когда и что происходило.
Давным-давно Кулеш незаметно покинул всех. Наверняка, дед, ты знал его. Неизвестно кем он работал в молодости, умалчивал. На закате лет своих, огромный такой, с клюкой, осторожно передвигался от высоченного забора, когда-то срубленного его руками, до массивной лавочки у палисадника с яркой мальвой и кусачими комарами. Тяжело присаживался и изношенными крупными пальцами потирал пышные седые усы и бороду. Ведал много про старину. Про Царицын, красивый город, разрушенный фашистами. Он не называл его Сталинградом. Просто, по-привычному, ласково, – Царинушка.
Мы слушали, немногочисленные дети, прибегавшие со всей улицы поглазеть на Кулеша. И просили его рассказывать ещё и ещё, без остановки. А он уже дремал, сидя. Вздрагивал от наших прикосновений к его рукаву, будто к ценной реликвии, чудом проникшей к нам из тайны бытия. Такие долгожители редкостны. На нашей улице – Кулеш один. А фронтовиков больше. В каждом почти, доме, – выжившие.
Помнится, как Кулеш, кряхтя, грузно поднимался с лавочки, опираясь на старенький бадик, так он называл свою трость. Смахивал назойливых комаров с огромной лысины, обещая нам: «В другой раз, ребятки, молвлю вам сказ», – и плавно, размеренно исчезал в деревянных воротах. А мы, нехотя, направлялись кто куда. – Катя вдохновенно представляет картину своего детства.
Хорошо помню и деда Василия, тысяча девятьсот второго года рождения. Он тоже проливал кровь на передовой. Но, никогда не рассказывал о войне: «Тяжко ворочать ту грешную пору. Не дай бог», – так и говорил всегда. И его жалели. Зато, смешил нас!
– Вот как, Ганя, – жаловался он, шутя, своей жене - старушке на её родню, – не заходишь к ним, они обижаются, а зайдёшь – не открывают. – Хе-хе-хе, – раскатисто хохотал дед Василий прикуривая папиросу «Беломор».
Баба Ганя, чернявая и статная когда-то, а теперь полностью седая, певуче смеясь, вторила ему: – Так ты, дед, пьяный же шёл к ним, весь перепачканный – и ты, и велсыпед твой. Вот и не пустили тебя.
– Так, дожжь же тогда хлестал, грязища кругом, а магáзин ещё не открылся, – хе-хе-хе, – добродушно посмеивался он, – куда же мне идти-то, как не к ним!
Из года в год трудился дед Василий в своём огороде. Сам вскапывал немало соток глинистой почвы. Удобрял, рыхлил, сеял, поливал, пропалывал и потом собирал урожай. Всегда мастерил что-нибудь. Рубанок, куча золотистой стружки, завораживающий запах свежей древесины и новенький табурет уже готов! Дед охотно делился своими секретами в плотницком деле. Внуки следовали его советам, пытались что-то соорудить, но потом забрасывали всё и возвращались к своим увлечениям. Не вникая в смысл упущенной пользы, ранили сердце старика своим невниманием.
Баба Ганя вкусно готовила. Аромат её блюд обволакивал, казалось, всю округу.
– Пирожков настряпала сегодня, всяких, приходите на чай. – Приглашала она часто нас – немногочисленных детей со всей улицы. И мы, вместо ужина у себя дома, отведывали вкуснейшие хрустяшки со всевозможными начинками – от картошки с зажаристым луком, до паслёна с сахаристой смородиной. И никакие другие не могли с ними сравниться, с самыми необыкновенными угощениями бабушки Гани!
Иногда дед Василий посвящал нас в истории о революции, захватывающе передавал атмосферу тех лет. Его слушали с изумлением. Однажды, масля искорёженными руками спицы на колесе, он неожиданно выпалил об Отечественной: – Эх, как мы угощали немцев! – Выстрелом на их выстрел! Задали им жáру! – хе-хе-хе, смешливо бередил он свою давнюю рану – беспокойную память.
– Расскажи, деда, про немцев, расскажи! – Наперебой просили мы, немногочисленные дети со всей улицы.
– Хоть, мальцов-то не тревожь, дед, вскипала баба Ганя.
– Да я и не хотел спугнуть никого. Чего рассказывать – и нечего вовсе. – Произносил он с грустью, умолкая.
Мы, аппетитно уплетая пирожки, дивились самобытности старинной обстановки в небольшой комнатке. Вокруг аккуратно выбеленной русской печи располагались начищенные чугуны разных форм и размеров. Сбоку притаились, сложенные друг в друга, плетёные корзины, а за ними – обгорелые временем ухваты. На лежанке спал большущий рыжий кот по имени Малыш. Рядом возвышался серебристый самовар. Напротив, у окна, стояла настоящая железная кровать, откованная ещё до революции. Её украшали – накрахмаленное покрывало с пирамидой подушек пёстрой вышивки. А на столе, накрытым белоснежной скатертью, источали аромат – огромная сковорода сладких, жареных семечек и чаша с пирожками! Так баба Ганя, скромная и приветливая, любившая уют, берегла традиции своей семьи. Красиво и с сожалением памятовала она эпизоды своей молодой поры. А мы слушали их и не запоминали, почему-то.
Если бы что-то шепнуло нам тогда: – «Записывайте каждое слово, ведь, никогда не услышите такого, нигде!» – Это уже не повторится.
Только фотографии, давно пожелтевшие, исправляют наши ошибки: – «Вот, смотрите и интересуйтесь!»
Забыла, ещё дед Иван. Танкист. Самый молодой из всех воевавших. Тоже весёлый! Трудился. Жил один. И о войне – ни слова.
Так мы и воспитывались. Я и мои ровесники. О боях читали в школе. О подвиге Мересьева. И про окопы Сталинграда. А про твой героизм, дед, ничего не знали. Не принято, тогда, вспоминать... Если бы ты знал, дед, что нет уже той страны, за которую ты воевал и гибли твои однополчане. Она другая теперь. Очень стыдно за всё, прости, дед! Сейчас я уже старше тебя. Ты остался навсегда молодым. – Катя заливается слезами.
Безвестность прошлого укрыли времена. И лишь фотографии возвращают нас в давнее. Спасибо всем, кто бережёт их и память о беспощадной войне.
В абсолютной тишине Катя закрывает дневник, оставляя в нём ещё много пустых страниц для дальнейших мемуаров.
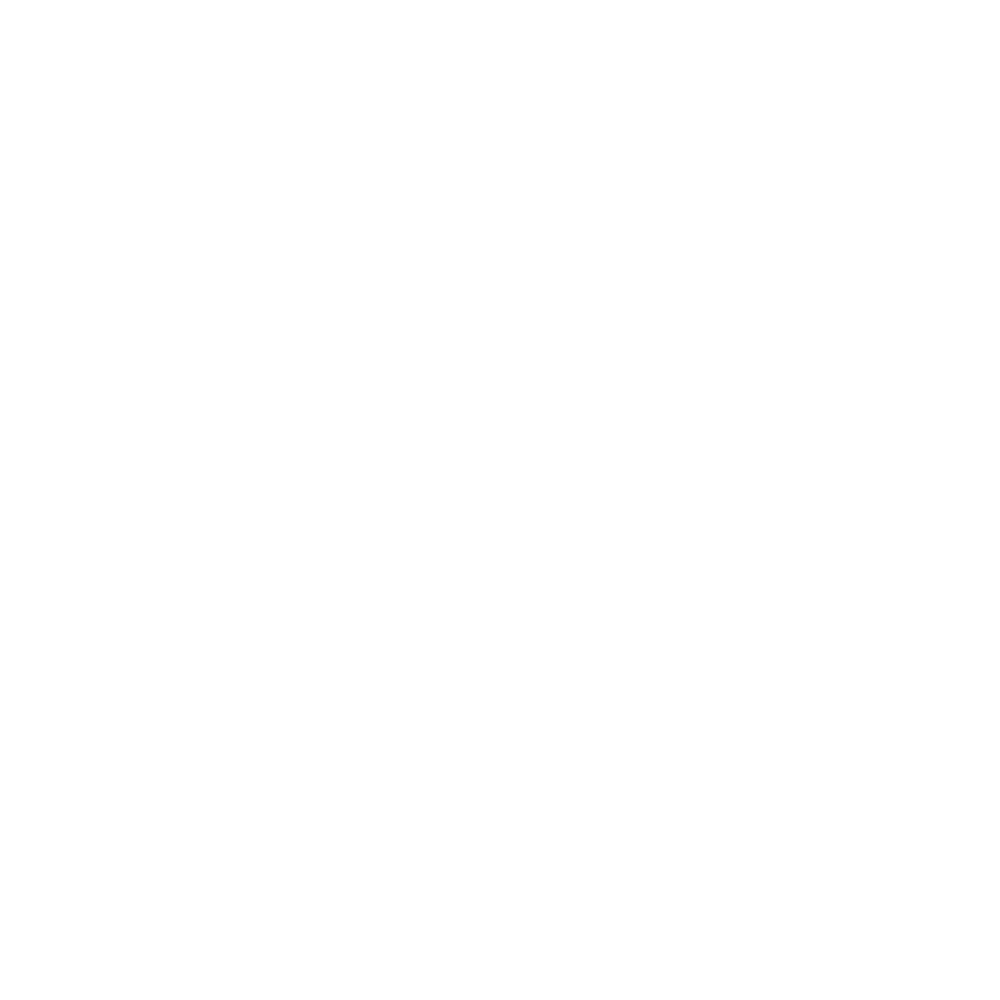
Зоя ДОНГАК
Родилась в Туве. Врач. Отличник здравоохранения РСФCР. Окончила Высшие литературные курсы Литературного института имени А.М. Горького (семинары прозы А.В. Воронцова, А.А. Ольшанского, А.Ю. Сегеня, семинар поэзии В.В. Сорокина). Аспирант на кафедре теории литературы и литературной критики.
Автор девяти книг поэзии и прозы. Член Союза журналистов России (2003), Член Союза Писателей России (2010). Профессиональный переводчик на тувинский язык. Член Российской академии «Русский слог» (2017). Лауреат, призёр и победитель федеральных конкурсов журналистского и литературного мастерства. Много публикуется в сборниках и альманахах современной прозы и поэзии, в том числе – в журнале «Юность».
Родилась в Туве. Врач. Отличник здравоохранения РСФCР. Окончила Высшие литературные курсы Литературного института имени А.М. Горького (семинары прозы А.В. Воронцова, А.А. Ольшанского, А.Ю. Сегеня, семинар поэзии В.В. Сорокина). Аспирант на кафедре теории литературы и литературной критики.
Автор девяти книг поэзии и прозы. Член Союза журналистов России (2003), Член Союза Писателей России (2010). Профессиональный переводчик на тувинский язык. Член Российской академии «Русский слог» (2017). Лауреат, призёр и победитель федеральных конкурсов журналистского и литературного мастерства. Много публикуется в сборниках и альманахах современной прозы и поэзии, в том числе – в журнале «Юность».
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНКИСТ ЧУРГУЙ-ООЛ
10 мая 2020 года – 102-летие со дня рождения первого в истории тувинца – Героя Советского Союза, легендарного танкиста Хомушку Намгаевича Чургуй-оола, удостоенного звезды Героя в годы Великой Отечественной войны.
«Совсем недавно мы приняли решение о присвоении имени Хомушку Намгаевича Чургуй-оола лицею № 16, нашей новой школе Кызыла, – сказала депутат Государственной Думы Дина Оюн. – Это былая инициатива тес-хемцев, которую дружно поддержал педагогический коллектив лицея. Очень важно, чтобы у наших школьников, когда у них все меньше возможностей прямого диалога с фронтовиками, был перед глазами конкретный пример. Пример любви к родине, пример самоотверженности, смекалки. Особо обращаюсь к лицеистам. Важно не просто носить имя героя, а знать как можно больше о нем. Деталей, интересных фактов биографии. Очень надеюсь, что 1 сентября при открытии мемориальной доски в честь тувинского танкиста уже вы расскажете нам много интересного о Хомушку Намгаевиче Чургуй-ооле».
За такое внимание к легендарному деду поблагодарили внуки героя Менги и Сылдыс Анатольевичи Чургуй-оолы.
В Москве 9 мая 2019 года выходцы из Тувы возложили цветы в Зале Славы Центрального музея Великой Оте-чественной войны, на стенах которого высечены имена более чем 10 тысяч Героев Советского Союза. Среди присутствовавших были потомки Героя Нелли Домбаанай и Байыр Домбаанай, председатель московского центра «Тыва» Урана Иванова, член Союзов журналистов и писателей Тувы и России Зоя Донгак.
Они рассказали о личности Хомушку Чургуй-оола Намгаевича, о его корнях, об интересных фактах из его биографии. Всем пришедшим они раздали буклеты, посвященные 100-летнему юбилею Хомушку Чургуй-оола.
В Барун-Хемчикском кожууне состоялась торжественная передача «Танка Победы» от жителей западного кожууна, где родился герой из рода Кужугет Тес-Хемскому кожууну, где он проживал в послевоенное время. Участниками этой красивой церемонии были глава Барун-Хемчикского кожууна Виктория Ондар и Глава Тес-Хемского кожууна Чодуура Донгак.
Хомушку (Кужугет) Чургуй-оол Намгаевич (Намчай оглу) родился в местечке Хонделен Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва 10 мая 1918 г. в семье простого арата. Его отца звали Кужугет Намгай Хунаевич, а мать – Кужугет Хокпеш Манды-Хооевна. Отца не стало, когда ему едва исполнилось 4 года в 1922 г.
Рос с родными братьями Сержи и Чуле и сестрой Бичии. Мать приучала их труду, воспитывала, чтобы не боялись никакой работы, Чургуй-оола она всегда брала собой.
Чургуй-оол рос любознательным мальчиком. Когда в Туве начали открываться первые ликбезы (пункты по ликвидации безграмотности) – «Красные юрты», мать Хокпеш вместе со своими детьми стала там учиться.
Чургуй-оол поступил в среднюю школу с. Хонделен, в то время она была шестилетней. Его интересовало все, на уроках он был очень активным. После окончания школы он решил учиться дальше.
В 1936 году до него дошли слухи о том, что те, кто был на службе в рядах Тувинской народно-революционной армии, возвращались образованными людьми и могли поступить на любую работу. Тогда ему было 17 лет, а ждать еще целый год ему не хотелось, поэтому матери ничего не сказав, Чургуй-оол уехал в пос. Кызыл-Мажалык. Как только мать узнала, что сын собирается в армию сразу же приехала в военный комиссариат поселка Кызыл-Мажалык, где его долго уговаривала. Но он уже принял свое решение. Только мать ненадолго отлучилась, он сел в машину вместе с будущими солдатами и уехал, даже не попрощавшись с ней. В армии он также учился с увлечением и вскоре стал отличником боевой и политической подготовки. Именно в армии он стал ревсомольцем, а затем членом ТНРП.
После армии, в течение шести месяцев он выучился в г. Кызыле на курсах шоферов. Затем стал работать по специальности в «Совтувтрансе», где вскоре показал себя настоящим профессионалом. Его наградили Почетной грамотой Малого Хурала республики.
О начале войны он узнал в выходной день. И сразу же твердо решил попасть на фронт и победить опасного врага. Чургуй-оол Хомушку в 1941 году подал заявление с просьбой отправить его на фронт для помощи братскому народу. Только в мае 1943 года он в составе первой группы добровольцев – воинов-танкистов Тувинской Народной Республики отправился на войну.
Они некоторое время проходили военную подготовку в Горьком, а в феврале 1944 года 25-й отдельный танковый полк вошел в состав 52-й армии 2-го Украинского фронта.
В марте того же года полк принял участие в крупнейшей Умано-Боштанской наступательной операции (5 марта — 17 апреля 1944 года).
Хроника того периода:
«2-му Украинскому фронту противостояла 8-ая немецкая армия (командующий генерал пехоты Отто Велер) и часть сил 6-ой немецкой армии (командующий генерал-полковник Карл-Адольф Холлидт, с 8 апреля — генерал артиллерии Максимилиан де Ангелис) группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, с 31 марта — генерал-фельдмаршал Вальтер Модель), в составе 22 дивизий, около 400 тыс. человек, 450 танков и штурмовых орудий, 3,5 тыс орудий и минометов. Их поддерживали силы 4-го воздушного флота генерал-полковника Отто Десслоха (500 самолётов).
К началу операции советские войска превосходили противника в людях и танках в 1,5 раза, в артиллерии – в 2,5 раза. Силы авиации были примерно равны. Немецкое командование не успело создать многоэшелонированной обороны, успев оборудовать только одну оборонительную полосу шириной до 8 километров.
Замыслом операции предусматривалось разгромить 8-ю немецкую армию, рассечь войска группы армий «Юг» и отрезать пути отхода её 1-й танковой армии на юг, содействовать 1-му Украинскому фронту в её разгроме. Главный удар наносился с рубежа Виноград, Звенигородка, Шпола в направлении на Умань силами 27, 52, 4-й гвардейской общевойсковых, 2-й, 5-й гвардейской и 6-й танковой армий.
Наступление началось 5 марта 1944 года после мощной артподготовки и развивалось успешно. Был достигнут фактор внезапности, прорван первый рубеж обороны и уже в первый день наступления на главном направлении в сражение были введены 2-я и 5-я гвардейская танковые армии. К концу 5 марта передовые части продвинулись уже до 30 километров. 7 и 8 марта войска фронта отразили ряд мощных контратак противника, уничтожив почти все его армейские резервы (три танковые дивизии, две бригады штурмовых орудий).
На третий день наступления они с ходу форсировали реку Горный Тикич, на которой был оборудован последний оборонительный рубеж немецких войск на пути к Южному Бугу, прорвали его и вышли на оперативный простор.
10 марта советские войска с ходу взяли город Умань, а передовые отряды, преодолев за четверо суток свыше 100 километров, вышли на реку Южный Буг и захватили ряд немецких переправ.
Форсирование реки осуществлялось одновременно в 100-километровой полосе, там, где не было переправ — войска переправлялись на лодках и подручных средствах. Поскольку немецкая авиация смогла разрушить несколько захваченных советскими войсками мостов, то танки переправлялись по разведанным бродам. Немецкому командованию не удалось задержать советское наступление по этой полноводной реке ни на один день. К 15 марта все армии фронта оставили реку в своем тылу».
За бесстрашное участие в Умано-Боштанской наступательной операции Чургуй-оолу Хомушку было присвоено звание Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года), также ему вручены Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»(Приложение 5). Из наградного листа на младшего лейтенанта, механика-водителя танка Т-34 Чургуй-оола Хомушку: «…13 марта 1944 года при форсировании р. Ю.Буг мл. л-т Хомушку Чургуй-оол быстро провел свою машину под водой на западный берег р. Ю.Буг и сразу же повел танк в бой по отражению контратаки противника, на протяжении 6 км преследовал пехоту врага, уничтожив гусеницами танка 25 солдат противника, 2 ручных пулемета, 1 миномет. Танк мл.л-та Хомушку Чургуй-оола с 05.03.44 г. по 18.03.44 г. непрерывно находился в боях, не имея ни единого случая вынужденных остановок…».
Под Уманью три танка, среди которых была и машина Хомушку Чургуй-оола, захватили 24 самолета, 80 автомашин, пленили до сотни гитлеровцев и открыли путь для дальнейшего наступления.
Во время Бугско-Днестровской наступательной операции при прорыве обороны противника у деревень Рыжановка, Кобыляки Киевской области Украины танк, в экипаже которого механиком-водителем был Чургуй-оол Хомушку, на предельной скорости ворвался в расположение противника. Огнём и гусеницами танкисты уничтожали огневые точки и живую силу.
В течение двух часов вместе со своим экипажем Хомушку Чургуй-оол уничтожил 75 гитлеровцев, три противотанковых орудия, семь пулеметов, два миномета. Когда командир танка был ранен, механик-водитель Хомушку принял командование боевой машиной на себя и обеспечил успешное продвижение вперед.
Последним украинским городом, ожидавшим освобождения, был город Ямполь, танк Хомушку Ч.Н. вошел в этот город самым первым. В составе 25-го танкового полка отважный танкист освобождал Молдавию, сражался в Румынии и Венгрии, а день Победы встретил в Чехословакии.
Хомушку Чургуй-оол стал первым тувинцем – Героем Советского Союза и единственным, удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны. Из родного села Хонделен Барун-Хемчикского района он вслед за своей женой переехал жить в село Берт-Даг Тес-Хемского района. С 1965 года до последних дней жизни работал инспектором отдела кадров и председателем профсоюза в совхозе «Тес-Хем», которому после его смерти было присвоено его имя. Умер 10 июля 1978 г., похоронен в с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна. Именем этого славного сына тувинского народа названа одна из красивых улиц в столице республики, его бюст установлен на Площади Победы. В селе Берт-Даг Тес-Хемского кожууна в 2010 году была установлена ограда на захоронении Героя Советского Союза Хомушку Намгаевича Чургуй-оола.
В селе Хонделен установлен его бюст. Первое открытие бюста было в 1995 году. Раньше этот бюст хранился в музее школы, но потом в 2005 году 9 мая по инициативе внучки Домбаанай Нелли Когеловны, руководителя музея школы №1 с.Кызыл-Мажалык, вновь поставлен бюст памяти Героя Советского Союза Х.Н.Чургуй-оола на территории школы. На открытии бюста Х.Н.Чургуй-оола участвовали родственники героя, жители с.Хонделен.
Автор бюста Ондар Б.Х., член Союза художников Республики Тыва, скульптор.
Именем героя названа главная улица села Хонделен.
10 мая 2020 года – 102-летие со дня рождения первого в истории тувинца – Героя Советского Союза, легендарного танкиста Хомушку Намгаевича Чургуй-оола, удостоенного звезды Героя в годы Великой Отечественной войны.
«Совсем недавно мы приняли решение о присвоении имени Хомушку Намгаевича Чургуй-оола лицею № 16, нашей новой школе Кызыла, – сказала депутат Государственной Думы Дина Оюн. – Это былая инициатива тес-хемцев, которую дружно поддержал педагогический коллектив лицея. Очень важно, чтобы у наших школьников, когда у них все меньше возможностей прямого диалога с фронтовиками, был перед глазами конкретный пример. Пример любви к родине, пример самоотверженности, смекалки. Особо обращаюсь к лицеистам. Важно не просто носить имя героя, а знать как можно больше о нем. Деталей, интересных фактов биографии. Очень надеюсь, что 1 сентября при открытии мемориальной доски в честь тувинского танкиста уже вы расскажете нам много интересного о Хомушку Намгаевиче Чургуй-ооле».
За такое внимание к легендарному деду поблагодарили внуки героя Менги и Сылдыс Анатольевичи Чургуй-оолы.
В Москве 9 мая 2019 года выходцы из Тувы возложили цветы в Зале Славы Центрального музея Великой Оте-чественной войны, на стенах которого высечены имена более чем 10 тысяч Героев Советского Союза. Среди присутствовавших были потомки Героя Нелли Домбаанай и Байыр Домбаанай, председатель московского центра «Тыва» Урана Иванова, член Союзов журналистов и писателей Тувы и России Зоя Донгак.
Они рассказали о личности Хомушку Чургуй-оола Намгаевича, о его корнях, об интересных фактах из его биографии. Всем пришедшим они раздали буклеты, посвященные 100-летнему юбилею Хомушку Чургуй-оола.
В Барун-Хемчикском кожууне состоялась торжественная передача «Танка Победы» от жителей западного кожууна, где родился герой из рода Кужугет Тес-Хемскому кожууну, где он проживал в послевоенное время. Участниками этой красивой церемонии были глава Барун-Хемчикского кожууна Виктория Ондар и Глава Тес-Хемского кожууна Чодуура Донгак.
Хомушку (Кужугет) Чургуй-оол Намгаевич (Намчай оглу) родился в местечке Хонделен Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва 10 мая 1918 г. в семье простого арата. Его отца звали Кужугет Намгай Хунаевич, а мать – Кужугет Хокпеш Манды-Хооевна. Отца не стало, когда ему едва исполнилось 4 года в 1922 г.
Рос с родными братьями Сержи и Чуле и сестрой Бичии. Мать приучала их труду, воспитывала, чтобы не боялись никакой работы, Чургуй-оола она всегда брала собой.
Чургуй-оол рос любознательным мальчиком. Когда в Туве начали открываться первые ликбезы (пункты по ликвидации безграмотности) – «Красные юрты», мать Хокпеш вместе со своими детьми стала там учиться.
Чургуй-оол поступил в среднюю школу с. Хонделен, в то время она была шестилетней. Его интересовало все, на уроках он был очень активным. После окончания школы он решил учиться дальше.
В 1936 году до него дошли слухи о том, что те, кто был на службе в рядах Тувинской народно-революционной армии, возвращались образованными людьми и могли поступить на любую работу. Тогда ему было 17 лет, а ждать еще целый год ему не хотелось, поэтому матери ничего не сказав, Чургуй-оол уехал в пос. Кызыл-Мажалык. Как только мать узнала, что сын собирается в армию сразу же приехала в военный комиссариат поселка Кызыл-Мажалык, где его долго уговаривала. Но он уже принял свое решение. Только мать ненадолго отлучилась, он сел в машину вместе с будущими солдатами и уехал, даже не попрощавшись с ней. В армии он также учился с увлечением и вскоре стал отличником боевой и политической подготовки. Именно в армии он стал ревсомольцем, а затем членом ТНРП.
После армии, в течение шести месяцев он выучился в г. Кызыле на курсах шоферов. Затем стал работать по специальности в «Совтувтрансе», где вскоре показал себя настоящим профессионалом. Его наградили Почетной грамотой Малого Хурала республики.
О начале войны он узнал в выходной день. И сразу же твердо решил попасть на фронт и победить опасного врага. Чургуй-оол Хомушку в 1941 году подал заявление с просьбой отправить его на фронт для помощи братскому народу. Только в мае 1943 года он в составе первой группы добровольцев – воинов-танкистов Тувинской Народной Республики отправился на войну.
Они некоторое время проходили военную подготовку в Горьком, а в феврале 1944 года 25-й отдельный танковый полк вошел в состав 52-й армии 2-го Украинского фронта.
В марте того же года полк принял участие в крупнейшей Умано-Боштанской наступательной операции (5 марта — 17 апреля 1944 года).
Хроника того периода:
«2-му Украинскому фронту противостояла 8-ая немецкая армия (командующий генерал пехоты Отто Велер) и часть сил 6-ой немецкой армии (командующий генерал-полковник Карл-Адольф Холлидт, с 8 апреля — генерал артиллерии Максимилиан де Ангелис) группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, с 31 марта — генерал-фельдмаршал Вальтер Модель), в составе 22 дивизий, около 400 тыс. человек, 450 танков и штурмовых орудий, 3,5 тыс орудий и минометов. Их поддерживали силы 4-го воздушного флота генерал-полковника Отто Десслоха (500 самолётов).
К началу операции советские войска превосходили противника в людях и танках в 1,5 раза, в артиллерии – в 2,5 раза. Силы авиации были примерно равны. Немецкое командование не успело создать многоэшелонированной обороны, успев оборудовать только одну оборонительную полосу шириной до 8 километров.
Замыслом операции предусматривалось разгромить 8-ю немецкую армию, рассечь войска группы армий «Юг» и отрезать пути отхода её 1-й танковой армии на юг, содействовать 1-му Украинскому фронту в её разгроме. Главный удар наносился с рубежа Виноград, Звенигородка, Шпола в направлении на Умань силами 27, 52, 4-й гвардейской общевойсковых, 2-й, 5-й гвардейской и 6-й танковой армий.
Наступление началось 5 марта 1944 года после мощной артподготовки и развивалось успешно. Был достигнут фактор внезапности, прорван первый рубеж обороны и уже в первый день наступления на главном направлении в сражение были введены 2-я и 5-я гвардейская танковые армии. К концу 5 марта передовые части продвинулись уже до 30 километров. 7 и 8 марта войска фронта отразили ряд мощных контратак противника, уничтожив почти все его армейские резервы (три танковые дивизии, две бригады штурмовых орудий).
На третий день наступления они с ходу форсировали реку Горный Тикич, на которой был оборудован последний оборонительный рубеж немецких войск на пути к Южному Бугу, прорвали его и вышли на оперативный простор.
10 марта советские войска с ходу взяли город Умань, а передовые отряды, преодолев за четверо суток свыше 100 километров, вышли на реку Южный Буг и захватили ряд немецких переправ.
Форсирование реки осуществлялось одновременно в 100-километровой полосе, там, где не было переправ — войска переправлялись на лодках и подручных средствах. Поскольку немецкая авиация смогла разрушить несколько захваченных советскими войсками мостов, то танки переправлялись по разведанным бродам. Немецкому командованию не удалось задержать советское наступление по этой полноводной реке ни на один день. К 15 марта все армии фронта оставили реку в своем тылу».
За бесстрашное участие в Умано-Боштанской наступательной операции Чургуй-оолу Хомушку было присвоено звание Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года), также ему вручены Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»(Приложение 5). Из наградного листа на младшего лейтенанта, механика-водителя танка Т-34 Чургуй-оола Хомушку: «…13 марта 1944 года при форсировании р. Ю.Буг мл. л-т Хомушку Чургуй-оол быстро провел свою машину под водой на западный берег р. Ю.Буг и сразу же повел танк в бой по отражению контратаки противника, на протяжении 6 км преследовал пехоту врага, уничтожив гусеницами танка 25 солдат противника, 2 ручных пулемета, 1 миномет. Танк мл.л-та Хомушку Чургуй-оола с 05.03.44 г. по 18.03.44 г. непрерывно находился в боях, не имея ни единого случая вынужденных остановок…».
Под Уманью три танка, среди которых была и машина Хомушку Чургуй-оола, захватили 24 самолета, 80 автомашин, пленили до сотни гитлеровцев и открыли путь для дальнейшего наступления.
Во время Бугско-Днестровской наступательной операции при прорыве обороны противника у деревень Рыжановка, Кобыляки Киевской области Украины танк, в экипаже которого механиком-водителем был Чургуй-оол Хомушку, на предельной скорости ворвался в расположение противника. Огнём и гусеницами танкисты уничтожали огневые точки и живую силу.
В течение двух часов вместе со своим экипажем Хомушку Чургуй-оол уничтожил 75 гитлеровцев, три противотанковых орудия, семь пулеметов, два миномета. Когда командир танка был ранен, механик-водитель Хомушку принял командование боевой машиной на себя и обеспечил успешное продвижение вперед.
Последним украинским городом, ожидавшим освобождения, был город Ямполь, танк Хомушку Ч.Н. вошел в этот город самым первым. В составе 25-го танкового полка отважный танкист освобождал Молдавию, сражался в Румынии и Венгрии, а день Победы встретил в Чехословакии.
Хомушку Чургуй-оол стал первым тувинцем – Героем Советского Союза и единственным, удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны. Из родного села Хонделен Барун-Хемчикского района он вслед за своей женой переехал жить в село Берт-Даг Тес-Хемского района. С 1965 года до последних дней жизни работал инспектором отдела кадров и председателем профсоюза в совхозе «Тес-Хем», которому после его смерти было присвоено его имя. Умер 10 июля 1978 г., похоронен в с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна. Именем этого славного сына тувинского народа названа одна из красивых улиц в столице республики, его бюст установлен на Площади Победы. В селе Берт-Даг Тес-Хемского кожууна в 2010 году была установлена ограда на захоронении Героя Советского Союза Хомушку Намгаевича Чургуй-оола.
В селе Хонделен установлен его бюст. Первое открытие бюста было в 1995 году. Раньше этот бюст хранился в музее школы, но потом в 2005 году 9 мая по инициативе внучки Домбаанай Нелли Когеловны, руководителя музея школы №1 с.Кызыл-Мажалык, вновь поставлен бюст памяти Героя Советского Союза Х.Н.Чургуй-оола на территории школы. На открытии бюста Х.Н.Чургуй-оола участвовали родственники героя, жители с.Хонделен.
Автор бюста Ондар Б.Х., член Союза художников Республики Тыва, скульптор.
Именем героя названа главная улица села Хонделен.
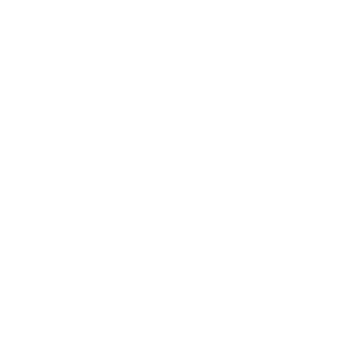
Тамара КОЛОМОЕЦ
Родилась в Томске. Детство и юность провела в Воронежском заповеднике. Закончила Воронежский Университет по специальности «зоолог». Многие годы работала в Донецком ботаническом саду Академии наук Украины. Защитила диссертацию – энтомология. Написала две монографии и много статей по специальности. Объездила большую часть бывшего Советского Союза. Писать начала под впечатлениями жизненных ситуаций. Поддерживаю тесные связи с друзьями и коллегами со всех концов света. С 2001 года живу в Израиле в Центре страны. Номинирована на премию «Писатель года-2014», «Писатель года 2016».
Родилась в Томске. Детство и юность провела в Воронежском заповеднике. Закончила Воронежский Университет по специальности «зоолог». Многие годы работала в Донецком ботаническом саду Академии наук Украины. Защитила диссертацию – энтомология. Написала две монографии и много статей по специальности. Объездила большую часть бывшего Советского Союза. Писать начала под впечатлениями жизненных ситуаций. Поддерживаю тесные связи с друзьями и коллегами со всех концов света. С 2001 года живу в Израиле в Центре страны. Номинирована на премию «Писатель года-2014», «Писатель года 2016».
ПРО СОНЮ
Сонечка, Соня! На самом деле её имя — Софа, но обращаются к ней и так, и так. Ей 90 лет. Ну, это, если по паспорту, а если без него и не замечать глубоких, канавками, морщинок на худеньком, но всегда живом, улыбчивом и доброжелательном лице с серо-зелёными умными глазами, то ей, совсем, совсем – не столько. После тяжёлого обезвоживания, что здесь – не редкость, и реанимации, она реабилитируется в бейт аводе. Дети ждут, когда она сможет ходить и мечтают забрать домой её. Я навещаю Cоню каждый день, чтобы немного скрасить там её пребывание.
Мы привыкли к нашим посиделкам и уже ждём их. Всегда радостно встречает она меня, словно давно не виделись. Беседы наши на разные темы не иссякают, потому что много чего в жизни было. Соня любит и знает поэзию. Часто читает отрывки из разных авторов. Принесла ей как-то томик поэтов серебряного века. Обрадовалась она несказанно! Теперь вот наслаждаемся каждым словом потрясающего русского языка. По пути мы делаем гимнастику рук, потому как ещё недавно и ложку не могла держать она.
Иногда Соня вспоминает одну или другую бардовскую песню и потихоньку напевает, а иногда романсы любимые. Она любит и знает их, но уверяет, что нет голоса и никогда не пела. Но, думаю, это из скромности .
У Сони три сына.
У одного недавно родилась внучка – правнучка Сони, и её привозили из Канады, чтобы показать, потому что она – тоже Софа! Соня худенькая очень, и Танечка, которая здесь ухаживает за ней, называет её Косточка. Софа – настоящая интеллигентка, можно сказать, эталон. Прожила она нелёгкую жизнь и многие эпизоды вспоминает, но без той печали, которая давит и оставляет тягостный след в душе слушателя, а с пониманием того времени и без осуждения людей, причастных к событиям. Просто было так, а было так. Было и хорошего много! Так и ведём мы с ней разговоры обо всём и понемножку, перескакивая с одного на другое, что волновало когда-то или сейчас тоже.
Очень переживает, что в неурочный час приходится побеспокоить метапелет. Так неудобно мне, сокрушается Соня, что памперсы менять надо. Ужасно стесняюсь. Но здесь – нельзя иначе. Пожаловалась мне, что дней пять не спит ночами. Соседка кричит, зовет папу, маму. Говорю ей, что у меня тоже папа, мама есть, но я не кричу ночами, чего кричишь ты? А ведь болит у неё что-то, вот и кричит, тоже понять можно. Но я не сплю.
И про детство рассказывала Соня: про войну, эвакуацию в Казахстан; и как жили долго со всей роднёй мужа в одном доме, и как счастлива была, когда получили квартиру. Комнаты были узкие, но это были мои комнаты, говорит она, и я так любила свою квартиру.
Вот расскажу, как первый раз в любви мне объяснились. Лет 13 тогда мне было, а мальчику, Мирону, – 15. И вот однажды Санчо Пансо, друг Мирки, вручил записку мне, а там – всего три буквы было – Я. Т. Л. Не могла тогда расшифровать, что означают эти буквы большие с точками. Ну девчонкам, ясное дело, показала. Некоторые, которые умные, тут же и разгадали. Да, любит он тебя, не понимаешь? А тут и Славка, т. е. Санчо Пансо, в стороне стоял, ожидал ответа.
Я и вернула ему тут же записку эту. Понёс обратно её Миркин друг. Видно понял Мирка, что шифровка не была разгадана. Вскоре с новой депешей явился Санчо Пансо. Передал мне новую записочку. Сам опять в сторону отошёл. Ждал ответа. В записке, которую снова читали всем скопом, с подружками любопытными, синими чернилами аккуратно было выведено уже открытым и понятным текстом: «Я тебя люблю». Дальше была приписка: «Читай одна!» Но дело было сделано. Записка опять вернулась без ответа. Прошло совсем немного времени и Мирка, окликнув меня из стайки подружек, решительно направился в мою сторону. «Ты получила мою записку?» – жёстко спросил он. «Получила. Ну и что?» – ответила я. «Ты хорошо прочитала, что там написано?» «Хорошо. Ну и что?» И, тогда, со словами: «А я, ведь, тебя предупреждал. Читай одна», – и влепил мне жёсткую, сильную пощёчину и быстро, быстро пошёл прочь. Было больно. Было стыдно. Но был ранний, тёмный, зимний вечер и никто не мог видеть, как пылало лицо, то ли от боли, то ли от проснувшегося, вдруг, женского, особенного, стыда за справедливо полученную оплеуху и урок, преподанный Миркой — деревенским мальчишкой – мужчиной из заводского посёлка Саввино, где прошло Сонино далёкое, далёкое детство, трудное, но очень, очень счастливое! Была зима. Была луна. И Соне было всего 13 лет. В сугробах снега мерцали лукавые снежинки и обещали ещё много, много хорошего.
ТАК БЫЛО
Она всегда была в чёрном, с чужого плеча, стареньком мужском пиджаке. Чаще в ватных брюках и кирзовых сапогах. Невысокая, с болезненно-жёлтым, испещрённым морщинками, лицом. Курила. И голос был глуховатый.
В то время она уже не работала. Жила на первом этаже аспирантского общежития рядом с мужским туалетом в узкой комнатке, выходящей единственным окном на унылую часть двора. Какая-то отчуждённость и неприязнь ко всем и всему ощущались мгновенно, стоило коснуться её, заговорить. Муж мой был у неё исключением.
Доброжелательный ко всем, он ещё аспирантом снискал и у неё уважение, которое потом и на меня распространилось. И из редких встреч, чаще в кубовой, где тепло и уютно, где трещали дрова и располагали к разговору, представился нам путь Анны Григорьевны, который и привёл её сюда, где она жила безрадостно и беспросветно.
На что жила – не знали, а только пенсию не получала точно. Отказалась от неё, так как определена была ей как больной психически.
А всё обрушилось, исчезло сразу: радости, надежды. Безжалостная, жестокая война началась, когда Ане едва девятнадцать исполнилось. Сразу на фронт запросилась. Окончание института на потом оставила. Да и физик она почти уже. На войне пригодится. Так размышляла, дожидаясь отправки на фронт.
Маленькую, но отчаянно смелую, чаще за мальчишку её принимали. Всю войну она была связистом, таская нелёгкую свою сумку под свист разрывающихся рядом снарядов. И... не задело, не задело даже... Везучая....казалось.
А после войны не пришлось уж институт закончить. Надо было работать. Так и оказалась в мастерских горного института. Освоила и тут не женское, слесарное мужское, дело. Там и задержалась на всю жизнь. Всем было тогда плохо и ей тоже, поэтому ничего для себя не просила, не требовала, так как знала нечто более важное – цену человеческой жизни и это – главное. Надо было только выжить, теперь уже в мирное, но совсем не лёгкое время. А вот правду в глаза она говорила, не боялась. Зато другие молчали, только косились на Анну Григорьевну:
– Не в себе она. Вот и чешет. Только этим и объясняли её прямолинейность да несговорчивость с иным начальством. А потом всё же признали её больной психически, от работы отстранили, но в общежитии жить оставили. Не могла простить этой обиды Анна Григорьевна людям и пенсию оформлять не стала. Вот и жила уже много лет, перебиваясь, гордая, возмущённая, но никем не утешенная и не приласканная.
Поговаривали, что ночью вагоны разгружать ходит. Может и было это так. Да только мы, занятые своими делами, как-то не удосуживались вглядеться в эту жизнь, в которой, казалось, все было напрасно: не было дома, работы, друзей, но шли дни и годы... Нам же легче было проскочить мимо и не задуматься и не затруднить себя чужой болью. Вроде бы так и надо. У меня хорошо, а у тебя... Да что за дело мне до этого? Однажды она пришла к нам взволнованная и нетерпеливая. Глаза её сияли, и я вдруг увидела, что они очень и очень красивые.
– Мне бы чемоданчик дней на несколько, маленький, маленький, ну самый маленький, – быстро заговорила она.
Пообещав подыскать что-нибудь подходящее, через пару часов впервые зашла я к ней в комнату. Столик, покрытый старой клеёнкой, один единственный стул, да железная узкая кровать составляли всю её мебель.
Небогатый гардероб висел на стене, прикрытый тканью в цветочек. На кровати лежал развязанный узелок, где, видимо, хранилось всё её женское жестокое богатство: награды, много наград...
Застигнутая врасплох, она смущённо объяснять стала:
– Да вот приёмник на лотерею выиграла, а взяла деньгами, 150 рублей целых. Поеду в Белоруссию. Там воевала, там прошла моя юность... и жизнь тоже... Хочу те места увидеть снова, хотя бы места... Вспомнить всех...
Потрясённая, я лепетала, что чемоданчик найдем, обязательно найдем, а в голове стучало: там, там, в этом аду, она была счастлива, но только не здесь, не здесь с нами...
CТАРУХИ
Узкий, грязный подъезд. Поднимаюсь на второй этаж. Звоню. Сначала шарканье ног. В проёме двери совсем седая старуха с крупным носом, в очках, через которые глаза, и без того, огромные и красивые, ещё больше кажутся.
– А мне Раскина нужна. Вы Раскина? – спрашиваю её.
– Нет. Рябых, Рябых я...
– Cтранно. А где же Раскина живёт? Этот адрес дали.
И тут замечаю, что двухкомнатная хрущёвская квартира и коммуналка ещё, и из двери, так называемой, второй квартиры, решительно двинулась ко мне маленькая, сгорбленная вторая старуха в ночной измятой рубашке, в огромных валенках с калошами на босу ногу, хотя июнь на дворе. Видно, что с трудом поднялась с кровати. Её былая красота другая. Черты лица более мелкие, но красота была, была когда-то...
– Ой, вы Раскина? – соображаю я.
– Я, я Раскина!
– А я, тут, творожок и сметану принесла Вам.
– Да, да. Спасибо, спасибо, что прислали.
Мне не по себе от унылой обстановки жилья одинокого, беспомощного, больного человека.
– А творожок жирный, вкусный, – говорю ей, чтобы как-то смягчить возникшую неловкость.
– На несколько дней теперь мне хватит, а вот адельфана и клофелина попросили бы. Ничего уж от давления нету.
А дверь открыта. И из коридора наблюдает, вернее поджидает меня, вторая старуха, Рябых которая, и обиженно причитает, что ей вот ничего никогда не носят...
– Наверное, Вы не одна живёте, поэтому?
– Да с дочкой, с дочкой живу я.
– Вот видите, Вы хоть с дочкой живёте, а соседка, ведь, совсем, совсем одна.
– Да, одна, но мы, вот, пять лет за ней ухаживали, а она плохая, неблагодарная, кивая в сторону счастливой обладательницы творога, с обидой, тихо говорит Рябых.
– И почему-то мне ничего не носят, – возмущенно твердит она.
– А мне 90 лет уже и муж воевал у меня. Он, он, – решается открыть секрет, но в последнюю минуту девяностолетняя бдительность оказывается, всё-же, сильнее желания объявить, наконец, кем же был её муж, и она сообщает очень важное, обтекаемо и с намёком.
– Он, он не простым солдатом был, а мне так ничего и не приносят...
Подняв вверх с обидой руку, и сжав свой старенький, сухонький, но грозный кулачок, она воинственно обещает, что напишет, обязательно напишет в Москву. Пусть-ка там разберутся...
Тем временем Раскина, ковыляя, провожает меня к двери и шепчет:
– Плохая, очень плохая она, – указывая на Рябых.
В растерянности выхожу и закрываю за собой дверь, но не решаюсь сразу уйти, хотя хочется, ой как хочется, чтобы не слышать обид друг к другу двух несчастных старух, милых и добрых врозь и плохих вместе.
Но я ничем, решительно ничем не могу помочь ни одной из них в этой ещё тлеющей, но уже завершённой жизни.
Выбегаю на улицу и стараюсь свернуть с дороги, по которой идут унылые люди. Я реву, реву по-настоящему. Мне страшно. И мне так хочется увидеть мою старенькую, умную, сильную маму, спрятаться за неё, как это бывало в далёком, далёком детстве, и чтобы она просто пожалела меня. Мне очень нужно сейчас это...
P.S.
Я работала волонтёром у пожилых людей, когда на Украине купить продукты было трудно, а уж про творог и сметану и мечтать нельзя было. Директор молокозавода выделял один раз в неделю бесплатно творог, сметану – и мы разносили одиноким старикам. Молокозавод находился рядом с макаронной фабрикой г. Донецка.
Сонечка, Соня! На самом деле её имя — Софа, но обращаются к ней и так, и так. Ей 90 лет. Ну, это, если по паспорту, а если без него и не замечать глубоких, канавками, морщинок на худеньком, но всегда живом, улыбчивом и доброжелательном лице с серо-зелёными умными глазами, то ей, совсем, совсем – не столько. После тяжёлого обезвоживания, что здесь – не редкость, и реанимации, она реабилитируется в бейт аводе. Дети ждут, когда она сможет ходить и мечтают забрать домой её. Я навещаю Cоню каждый день, чтобы немного скрасить там её пребывание.
Мы привыкли к нашим посиделкам и уже ждём их. Всегда радостно встречает она меня, словно давно не виделись. Беседы наши на разные темы не иссякают, потому что много чего в жизни было. Соня любит и знает поэзию. Часто читает отрывки из разных авторов. Принесла ей как-то томик поэтов серебряного века. Обрадовалась она несказанно! Теперь вот наслаждаемся каждым словом потрясающего русского языка. По пути мы делаем гимнастику рук, потому как ещё недавно и ложку не могла держать она.
Иногда Соня вспоминает одну или другую бардовскую песню и потихоньку напевает, а иногда романсы любимые. Она любит и знает их, но уверяет, что нет голоса и никогда не пела. Но, думаю, это из скромности .
У Сони три сына.
У одного недавно родилась внучка – правнучка Сони, и её привозили из Канады, чтобы показать, потому что она – тоже Софа! Соня худенькая очень, и Танечка, которая здесь ухаживает за ней, называет её Косточка. Софа – настоящая интеллигентка, можно сказать, эталон. Прожила она нелёгкую жизнь и многие эпизоды вспоминает, но без той печали, которая давит и оставляет тягостный след в душе слушателя, а с пониманием того времени и без осуждения людей, причастных к событиям. Просто было так, а было так. Было и хорошего много! Так и ведём мы с ней разговоры обо всём и понемножку, перескакивая с одного на другое, что волновало когда-то или сейчас тоже.
Очень переживает, что в неурочный час приходится побеспокоить метапелет. Так неудобно мне, сокрушается Соня, что памперсы менять надо. Ужасно стесняюсь. Но здесь – нельзя иначе. Пожаловалась мне, что дней пять не спит ночами. Соседка кричит, зовет папу, маму. Говорю ей, что у меня тоже папа, мама есть, но я не кричу ночами, чего кричишь ты? А ведь болит у неё что-то, вот и кричит, тоже понять можно. Но я не сплю.
И про детство рассказывала Соня: про войну, эвакуацию в Казахстан; и как жили долго со всей роднёй мужа в одном доме, и как счастлива была, когда получили квартиру. Комнаты были узкие, но это были мои комнаты, говорит она, и я так любила свою квартиру.
Вот расскажу, как первый раз в любви мне объяснились. Лет 13 тогда мне было, а мальчику, Мирону, – 15. И вот однажды Санчо Пансо, друг Мирки, вручил записку мне, а там – всего три буквы было – Я. Т. Л. Не могла тогда расшифровать, что означают эти буквы большие с точками. Ну девчонкам, ясное дело, показала. Некоторые, которые умные, тут же и разгадали. Да, любит он тебя, не понимаешь? А тут и Славка, т. е. Санчо Пансо, в стороне стоял, ожидал ответа.
Я и вернула ему тут же записку эту. Понёс обратно её Миркин друг. Видно понял Мирка, что шифровка не была разгадана. Вскоре с новой депешей явился Санчо Пансо. Передал мне новую записочку. Сам опять в сторону отошёл. Ждал ответа. В записке, которую снова читали всем скопом, с подружками любопытными, синими чернилами аккуратно было выведено уже открытым и понятным текстом: «Я тебя люблю». Дальше была приписка: «Читай одна!» Но дело было сделано. Записка опять вернулась без ответа. Прошло совсем немного времени и Мирка, окликнув меня из стайки подружек, решительно направился в мою сторону. «Ты получила мою записку?» – жёстко спросил он. «Получила. Ну и что?» – ответила я. «Ты хорошо прочитала, что там написано?» «Хорошо. Ну и что?» И, тогда, со словами: «А я, ведь, тебя предупреждал. Читай одна», – и влепил мне жёсткую, сильную пощёчину и быстро, быстро пошёл прочь. Было больно. Было стыдно. Но был ранний, тёмный, зимний вечер и никто не мог видеть, как пылало лицо, то ли от боли, то ли от проснувшегося, вдруг, женского, особенного, стыда за справедливо полученную оплеуху и урок, преподанный Миркой — деревенским мальчишкой – мужчиной из заводского посёлка Саввино, где прошло Сонино далёкое, далёкое детство, трудное, но очень, очень счастливое! Была зима. Была луна. И Соне было всего 13 лет. В сугробах снега мерцали лукавые снежинки и обещали ещё много, много хорошего.
ТАК БЫЛО
Она всегда была в чёрном, с чужого плеча, стареньком мужском пиджаке. Чаще в ватных брюках и кирзовых сапогах. Невысокая, с болезненно-жёлтым, испещрённым морщинками, лицом. Курила. И голос был глуховатый.
В то время она уже не работала. Жила на первом этаже аспирантского общежития рядом с мужским туалетом в узкой комнатке, выходящей единственным окном на унылую часть двора. Какая-то отчуждённость и неприязнь ко всем и всему ощущались мгновенно, стоило коснуться её, заговорить. Муж мой был у неё исключением.
Доброжелательный ко всем, он ещё аспирантом снискал и у неё уважение, которое потом и на меня распространилось. И из редких встреч, чаще в кубовой, где тепло и уютно, где трещали дрова и располагали к разговору, представился нам путь Анны Григорьевны, который и привёл её сюда, где она жила безрадостно и беспросветно.
На что жила – не знали, а только пенсию не получала точно. Отказалась от неё, так как определена была ей как больной психически.
А всё обрушилось, исчезло сразу: радости, надежды. Безжалостная, жестокая война началась, когда Ане едва девятнадцать исполнилось. Сразу на фронт запросилась. Окончание института на потом оставила. Да и физик она почти уже. На войне пригодится. Так размышляла, дожидаясь отправки на фронт.
Маленькую, но отчаянно смелую, чаще за мальчишку её принимали. Всю войну она была связистом, таская нелёгкую свою сумку под свист разрывающихся рядом снарядов. И... не задело, не задело даже... Везучая....казалось.
А после войны не пришлось уж институт закончить. Надо было работать. Так и оказалась в мастерских горного института. Освоила и тут не женское, слесарное мужское, дело. Там и задержалась на всю жизнь. Всем было тогда плохо и ей тоже, поэтому ничего для себя не просила, не требовала, так как знала нечто более важное – цену человеческой жизни и это – главное. Надо было только выжить, теперь уже в мирное, но совсем не лёгкое время. А вот правду в глаза она говорила, не боялась. Зато другие молчали, только косились на Анну Григорьевну:
– Не в себе она. Вот и чешет. Только этим и объясняли её прямолинейность да несговорчивость с иным начальством. А потом всё же признали её больной психически, от работы отстранили, но в общежитии жить оставили. Не могла простить этой обиды Анна Григорьевна людям и пенсию оформлять не стала. Вот и жила уже много лет, перебиваясь, гордая, возмущённая, но никем не утешенная и не приласканная.
Поговаривали, что ночью вагоны разгружать ходит. Может и было это так. Да только мы, занятые своими делами, как-то не удосуживались вглядеться в эту жизнь, в которой, казалось, все было напрасно: не было дома, работы, друзей, но шли дни и годы... Нам же легче было проскочить мимо и не задуматься и не затруднить себя чужой болью. Вроде бы так и надо. У меня хорошо, а у тебя... Да что за дело мне до этого? Однажды она пришла к нам взволнованная и нетерпеливая. Глаза её сияли, и я вдруг увидела, что они очень и очень красивые.
– Мне бы чемоданчик дней на несколько, маленький, маленький, ну самый маленький, – быстро заговорила она.
Пообещав подыскать что-нибудь подходящее, через пару часов впервые зашла я к ней в комнату. Столик, покрытый старой клеёнкой, один единственный стул, да железная узкая кровать составляли всю её мебель.
Небогатый гардероб висел на стене, прикрытый тканью в цветочек. На кровати лежал развязанный узелок, где, видимо, хранилось всё её женское жестокое богатство: награды, много наград...
Застигнутая врасплох, она смущённо объяснять стала:
– Да вот приёмник на лотерею выиграла, а взяла деньгами, 150 рублей целых. Поеду в Белоруссию. Там воевала, там прошла моя юность... и жизнь тоже... Хочу те места увидеть снова, хотя бы места... Вспомнить всех...
Потрясённая, я лепетала, что чемоданчик найдем, обязательно найдем, а в голове стучало: там, там, в этом аду, она была счастлива, но только не здесь, не здесь с нами...
CТАРУХИ
Узкий, грязный подъезд. Поднимаюсь на второй этаж. Звоню. Сначала шарканье ног. В проёме двери совсем седая старуха с крупным носом, в очках, через которые глаза, и без того, огромные и красивые, ещё больше кажутся.
– А мне Раскина нужна. Вы Раскина? – спрашиваю её.
– Нет. Рябых, Рябых я...
– Cтранно. А где же Раскина живёт? Этот адрес дали.
И тут замечаю, что двухкомнатная хрущёвская квартира и коммуналка ещё, и из двери, так называемой, второй квартиры, решительно двинулась ко мне маленькая, сгорбленная вторая старуха в ночной измятой рубашке, в огромных валенках с калошами на босу ногу, хотя июнь на дворе. Видно, что с трудом поднялась с кровати. Её былая красота другая. Черты лица более мелкие, но красота была, была когда-то...
– Ой, вы Раскина? – соображаю я.
– Я, я Раскина!
– А я, тут, творожок и сметану принесла Вам.
– Да, да. Спасибо, спасибо, что прислали.
Мне не по себе от унылой обстановки жилья одинокого, беспомощного, больного человека.
– А творожок жирный, вкусный, – говорю ей, чтобы как-то смягчить возникшую неловкость.
– На несколько дней теперь мне хватит, а вот адельфана и клофелина попросили бы. Ничего уж от давления нету.
А дверь открыта. И из коридора наблюдает, вернее поджидает меня, вторая старуха, Рябых которая, и обиженно причитает, что ей вот ничего никогда не носят...
– Наверное, Вы не одна живёте, поэтому?
– Да с дочкой, с дочкой живу я.
– Вот видите, Вы хоть с дочкой живёте, а соседка, ведь, совсем, совсем одна.
– Да, одна, но мы, вот, пять лет за ней ухаживали, а она плохая, неблагодарная, кивая в сторону счастливой обладательницы творога, с обидой, тихо говорит Рябых.
– И почему-то мне ничего не носят, – возмущенно твердит она.
– А мне 90 лет уже и муж воевал у меня. Он, он, – решается открыть секрет, но в последнюю минуту девяностолетняя бдительность оказывается, всё-же, сильнее желания объявить, наконец, кем же был её муж, и она сообщает очень важное, обтекаемо и с намёком.
– Он, он не простым солдатом был, а мне так ничего и не приносят...
Подняв вверх с обидой руку, и сжав свой старенький, сухонький, но грозный кулачок, она воинственно обещает, что напишет, обязательно напишет в Москву. Пусть-ка там разберутся...
Тем временем Раскина, ковыляя, провожает меня к двери и шепчет:
– Плохая, очень плохая она, – указывая на Рябых.
В растерянности выхожу и закрываю за собой дверь, но не решаюсь сразу уйти, хотя хочется, ой как хочется, чтобы не слышать обид друг к другу двух несчастных старух, милых и добрых врозь и плохих вместе.
Но я ничем, решительно ничем не могу помочь ни одной из них в этой ещё тлеющей, но уже завершённой жизни.
Выбегаю на улицу и стараюсь свернуть с дороги, по которой идут унылые люди. Я реву, реву по-настоящему. Мне страшно. И мне так хочется увидеть мою старенькую, умную, сильную маму, спрятаться за неё, как это бывало в далёком, далёком детстве, и чтобы она просто пожалела меня. Мне очень нужно сейчас это...
P.S.
Я работала волонтёром у пожилых людей, когда на Украине купить продукты было трудно, а уж про творог и сметану и мечтать нельзя было. Директор молокозавода выделял один раз в неделю бесплатно творог, сметану – и мы разносили одиноким старикам. Молокозавод находился рядом с макаронной фабрикой г. Донецка.
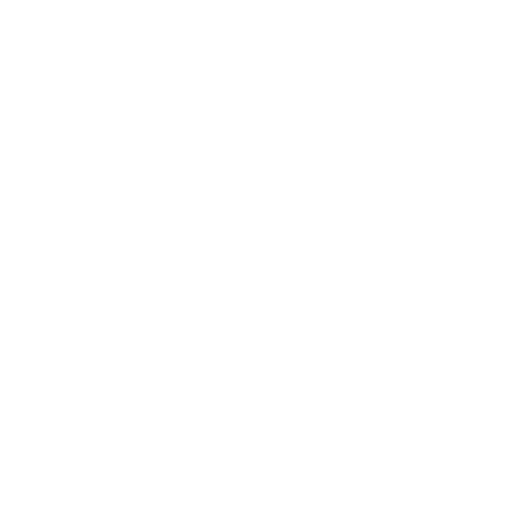
Татьяна МАТЯГИНА
Выпускница Высших литературных курсов Литературного института им. А.М.Горького. Участник ЛИТО «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России. Дипломант международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции». Публикации в коллективном сборнике поэзии и прозы «Путь мастерства», в литературном альманахе «ЛитЭра», в сборниках рассказов «Точки соприкосновения» («2014) и «Точки созидания» (2015), «Точки непостижимого» (2017).
Выпускница Высших литературных курсов Литературного института им. А.М.Горького. Участник ЛИТО «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России. Дипломант международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции». Публикации в коллективном сборнике поэзии и прозы «Путь мастерства», в литературном альманахе «ЛитЭра», в сборниках рассказов «Точки соприкосновения» («2014) и «Точки созидания» (2015), «Точки непостижимого» (2017).
ПЛОВЕЦ ШОХИН
Отучившись на авиатехника, Шохин прибыл сюда в то время, когда формировался их авиаполк. Городок как городок… Теперь, после нескольких месяцев пребывания здесь, он ощущал себя почти старожилом. Он знал, что если за дальним ангаром перемахнуть через забор, то сразу окажешься на обширном пустыре, тянувшемся позади авиаполя, а за ним – небольшое озеро. Некоторые из техсостава туда купаться бегали. Особенно после многочасовой возни с моторами. Переплывали его туда и обратно по несколько раз и – в часть.
Шохину сразу не глянулось это самое озерцо. Мелковато. Однако, поговаривали, есть и другое. Не ближний свет, конечно, зато больше, а главное – глубже! Любил он хорошую глубину, а потому был уверен, что и туда своим ходом доберётся, ведь впереди долгое жаркое лето.
Там, где он родился, Волга полноводна... Нырнёшь прямо с откоса и долго плывёшь под водой. Бывало, на спор с ребятами, погружаясь поочерёдно, дыхание задерживали – кто дольше. Нравились ему такие упражнения. Это вроде соревнования с самим собой. Какие там сто десять секунд на золотой значок ГТО! Да ему и полутора минут с лихвой хватало на эту самую стометровку! В любых заплывах всегда первый! Потому и прозвище прилепилось – «пловец».
Случалось, и механик Проценюк покидал расположение части. Правда, никому компанию не составлял, ссылаясь на то, что не умеет плавать. Но и с собой никого не звал. Всё больше отмалчивался. Иногда многозначительно улыбался, пропуская мимо ушей безобидные шуточки. Несложно было догадаться, что завёл он зазнобу, вот и старается использовать для свиданий любой подходящий момент. Но всё-таки под общим напором однажды обмолвился, что не за горами свадьба.
– Ты бы хоть карточку показал, что ли, – прямо в лоб выпалил кто-то из техсостава.
Тот мгновенно извлёк из внутреннего кармана маленькую фотографию и предъявил любопытствующим.
– Красивая, – одобрительно кивали сослуживцы.
Когда снова подвернулся случай, Проценюк как обычно подался к невесте. Немного поразмыслив, Шохин смекнул, что настал момент осуществить задуманное. Желающих присоединиться не нашлось, а потому к дальнему озеру он направился в одиночестве. Сначала пришлось шагать по грунтовке, потом пересечь кукурузное поле и, миновав лесополосу, взобраться на пологий холм. Оттуда открывался вид на озеро и примыкавший к нему окраинный район города, походивший на обычное село. Там, на противоположной стороне, до самой дороги, ведущей в город, сверкали белизной саманные домики с пристройками и сараями позади огородов. Из дворов доносились негромкие голоса… А здесь ни души… Тишина… Высоко в небе, распластав крылья, кружит сокол…
Было жарко. Плавал он долго. Наконец, глубоко вдохнув, мгновенно исчез под водой, а показался в стороне, у камышовой заводи. Теперь лежит в траве, греется на июньском солнце и в мыслях возвращается к событиям почти двухлетней давности, когда после окончания курсов шоферов был зачислен в школу авиатехников. Никаких препятствий тому не было, да и к шоферскому делу отец приучал загодя. Сам-то и посейчас хлеб на элеватор возит. Почему-то вспомнилось, как в детстве, на Волге, с дворовой ребятнёй девчонок пугали. Вот так подплывёшь скрытно, да вынырнешь резко… Визгу!
На том берегу, метрах в трёхстах послышался шум мотора. «Эмка» – враз определил Шохин. Негромкий звук, мягкий ход… Он, было, привстал, глядя через озеро, но никакой машины не увидел. Двигатель затих, и Шохин, подложив под голову гимнастёрку, снова растянулся в густой траве.
Вдруг откуда-то послышалось:
– Стой! Стой!
Фу ты, подумал Шохин, детвора местная, что ли, в «чапая» играет? Хотя вовсе не мальчишечий это вскрик…
– Стой! Стрелять буду! – вновь с противоположного берега раздался упреждающий возглас.
Шохин опять приподнялся на локте, чтобы прояснить ситуацию, и увидел троих, выбегавших один за другим из большого сарая, что стоял обособленно, как бы в стороне от крайнего дома. Первый, оторвавшийся, начал отстреливался.
– Не давай ему уйти, – выхватывая маузер, командовал тот, что был замыкающим.
Тут же прозвучал ответный выстрел.
– Гранату бросать? – спрашивал на бегу долговязый, видимо, младший по званию.
– Бросай! Чего медлишь, – кричал ему в спину отстающий.
Длинный сорвал чеку и швырнул гранату. Грянул взрыв. Осколки посыпались, но никого не задели. Стреляя на ходу, оба продолжали преследование.
Когда началась перестрелка, Шохин поспешил укрыться в камышах, откуда наблюдал за происходящим. Солнце слепило глаза, и потому не сразу удалось разглядеть, что преследователи были в форме офицеров НКВД.
Поначалу Шохин даже сообразить не мог, как ему действовать. Одно было ясно: удирающий держит курс на перелесок. Вдруг тот приостановился, обернулся и, выстрелив несколько раз, побежал дальше. Высокий вскрикнул и, схватившись за плечо, замедлил шаг. Подбежав к раненому, старший мгновенно оценил ситуацию и дал команду следовать к машине. Он не видел как убегавший, воспользовавшись заминкой, резко изменил направление: теперь он мчался в сторону камышей прямо на Шохина. По мере приближения фигура его вырисовывалась всё чётче.
«Так это же, вроде…Ну да, он самый…» – Шохин с трудом узнал Проценюка. Он хотел было окликнуть сослуживца, но вовремя спохватился. «Так это же, выходит, за ним погоня…» – никак не мог он себе уяснить, почему Проценюк убегает от спецов… Да ещё и в штатском… «Так что же это? Диверсант, что ли…»
Шохин чувствовал, что угадывает траекторию движения Проценюка. Тот, подняв оружие над головой и скрываемый от преследователей густым камышом, плыл в сторону оврага. «Надо бы как следует притопить его. Если что – откачаю!» Он понял, что по-другому нельзя. Ничего не получится по-другому. Решение пришло мгновенно, и Шохин опустился с головой в воду.
Когда диверсанта привели в чувство, капитан приказал подоспевшему шофёру осмотреть сарай. Там на сеновале были обнаружены немецкая радиостанция «Телефункен», запасное питание к ней, ракетницы и немалая сумма советских денег.
Возвращаясь в расположение части, Шохин испытывал смешанные чувства: с одной стороны был горд тем, что помог задержать диверсанта. Но в то же время ему было непонятно, как среди сослуживцев, товарищей, мог затеряться эдакий… экземпляр… Одним словом, предатель.
На рассвете авиаполк перебазировался на полевой аэродром. По приказу все самолёты были максимально рассредоточены и тщательно замаскированы. А ещё через несколько дней началась война.
Отучившись на авиатехника, Шохин прибыл сюда в то время, когда формировался их авиаполк. Городок как городок… Теперь, после нескольких месяцев пребывания здесь, он ощущал себя почти старожилом. Он знал, что если за дальним ангаром перемахнуть через забор, то сразу окажешься на обширном пустыре, тянувшемся позади авиаполя, а за ним – небольшое озеро. Некоторые из техсостава туда купаться бегали. Особенно после многочасовой возни с моторами. Переплывали его туда и обратно по несколько раз и – в часть.
Шохину сразу не глянулось это самое озерцо. Мелковато. Однако, поговаривали, есть и другое. Не ближний свет, конечно, зато больше, а главное – глубже! Любил он хорошую глубину, а потому был уверен, что и туда своим ходом доберётся, ведь впереди долгое жаркое лето.
Там, где он родился, Волга полноводна... Нырнёшь прямо с откоса и долго плывёшь под водой. Бывало, на спор с ребятами, погружаясь поочерёдно, дыхание задерживали – кто дольше. Нравились ему такие упражнения. Это вроде соревнования с самим собой. Какие там сто десять секунд на золотой значок ГТО! Да ему и полутора минут с лихвой хватало на эту самую стометровку! В любых заплывах всегда первый! Потому и прозвище прилепилось – «пловец».
Случалось, и механик Проценюк покидал расположение части. Правда, никому компанию не составлял, ссылаясь на то, что не умеет плавать. Но и с собой никого не звал. Всё больше отмалчивался. Иногда многозначительно улыбался, пропуская мимо ушей безобидные шуточки. Несложно было догадаться, что завёл он зазнобу, вот и старается использовать для свиданий любой подходящий момент. Но всё-таки под общим напором однажды обмолвился, что не за горами свадьба.
– Ты бы хоть карточку показал, что ли, – прямо в лоб выпалил кто-то из техсостава.
Тот мгновенно извлёк из внутреннего кармана маленькую фотографию и предъявил любопытствующим.
– Красивая, – одобрительно кивали сослуживцы.
Когда снова подвернулся случай, Проценюк как обычно подался к невесте. Немного поразмыслив, Шохин смекнул, что настал момент осуществить задуманное. Желающих присоединиться не нашлось, а потому к дальнему озеру он направился в одиночестве. Сначала пришлось шагать по грунтовке, потом пересечь кукурузное поле и, миновав лесополосу, взобраться на пологий холм. Оттуда открывался вид на озеро и примыкавший к нему окраинный район города, походивший на обычное село. Там, на противоположной стороне, до самой дороги, ведущей в город, сверкали белизной саманные домики с пристройками и сараями позади огородов. Из дворов доносились негромкие голоса… А здесь ни души… Тишина… Высоко в небе, распластав крылья, кружит сокол…
Было жарко. Плавал он долго. Наконец, глубоко вдохнув, мгновенно исчез под водой, а показался в стороне, у камышовой заводи. Теперь лежит в траве, греется на июньском солнце и в мыслях возвращается к событиям почти двухлетней давности, когда после окончания курсов шоферов был зачислен в школу авиатехников. Никаких препятствий тому не было, да и к шоферскому делу отец приучал загодя. Сам-то и посейчас хлеб на элеватор возит. Почему-то вспомнилось, как в детстве, на Волге, с дворовой ребятнёй девчонок пугали. Вот так подплывёшь скрытно, да вынырнешь резко… Визгу!
На том берегу, метрах в трёхстах послышался шум мотора. «Эмка» – враз определил Шохин. Негромкий звук, мягкий ход… Он, было, привстал, глядя через озеро, но никакой машины не увидел. Двигатель затих, и Шохин, подложив под голову гимнастёрку, снова растянулся в густой траве.
Вдруг откуда-то послышалось:
– Стой! Стой!
Фу ты, подумал Шохин, детвора местная, что ли, в «чапая» играет? Хотя вовсе не мальчишечий это вскрик…
– Стой! Стрелять буду! – вновь с противоположного берега раздался упреждающий возглас.
Шохин опять приподнялся на локте, чтобы прояснить ситуацию, и увидел троих, выбегавших один за другим из большого сарая, что стоял обособленно, как бы в стороне от крайнего дома. Первый, оторвавшийся, начал отстреливался.
– Не давай ему уйти, – выхватывая маузер, командовал тот, что был замыкающим.
Тут же прозвучал ответный выстрел.
– Гранату бросать? – спрашивал на бегу долговязый, видимо, младший по званию.
– Бросай! Чего медлишь, – кричал ему в спину отстающий.
Длинный сорвал чеку и швырнул гранату. Грянул взрыв. Осколки посыпались, но никого не задели. Стреляя на ходу, оба продолжали преследование.
Когда началась перестрелка, Шохин поспешил укрыться в камышах, откуда наблюдал за происходящим. Солнце слепило глаза, и потому не сразу удалось разглядеть, что преследователи были в форме офицеров НКВД.
Поначалу Шохин даже сообразить не мог, как ему действовать. Одно было ясно: удирающий держит курс на перелесок. Вдруг тот приостановился, обернулся и, выстрелив несколько раз, побежал дальше. Высокий вскрикнул и, схватившись за плечо, замедлил шаг. Подбежав к раненому, старший мгновенно оценил ситуацию и дал команду следовать к машине. Он не видел как убегавший, воспользовавшись заминкой, резко изменил направление: теперь он мчался в сторону камышей прямо на Шохина. По мере приближения фигура его вырисовывалась всё чётче.
«Так это же, вроде…Ну да, он самый…» – Шохин с трудом узнал Проценюка. Он хотел было окликнуть сослуживца, но вовремя спохватился. «Так это же, выходит, за ним погоня…» – никак не мог он себе уяснить, почему Проценюк убегает от спецов… Да ещё и в штатском… «Так что же это? Диверсант, что ли…»
Шохин чувствовал, что угадывает траекторию движения Проценюка. Тот, подняв оружие над головой и скрываемый от преследователей густым камышом, плыл в сторону оврага. «Надо бы как следует притопить его. Если что – откачаю!» Он понял, что по-другому нельзя. Ничего не получится по-другому. Решение пришло мгновенно, и Шохин опустился с головой в воду.
Когда диверсанта привели в чувство, капитан приказал подоспевшему шофёру осмотреть сарай. Там на сеновале были обнаружены немецкая радиостанция «Телефункен», запасное питание к ней, ракетницы и немалая сумма советских денег.
Возвращаясь в расположение части, Шохин испытывал смешанные чувства: с одной стороны был горд тем, что помог задержать диверсанта. Но в то же время ему было непонятно, как среди сослуживцев, товарищей, мог затеряться эдакий… экземпляр… Одним словом, предатель.
На рассвете авиаполк перебазировался на полевой аэродром. По приказу все самолёты были максимально рассредоточены и тщательно замаскированы. А ещё через несколько дней началась война.
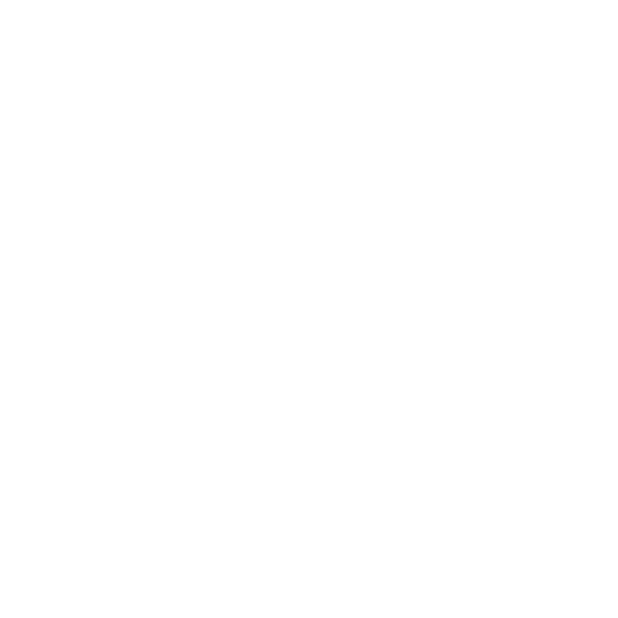
Татьяна МАХОТКИНА
Живу в г. Санкт-Петербург. В 2004 году окончила СПбГМТУ по специальности «Океанотехника и морские технологии», по окончании университета работала в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова., затем в Северо-Западной ФТС. В 2019 г. окончила Курсы литературного мастерства А. В. Воронцова и с тех пор стараюсь освоить самую прекрасную, на мой взгляд, профессию писателя.
Не могу представить свою жизнь без литературы и искусства, люблю свою семью, путешествовать, увлечена театром, йогой, танцами и велоспортом.
Живу в г. Санкт-Петербург. В 2004 году окончила СПбГМТУ по специальности «Океанотехника и морские технологии», по окончании университета работала в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова., затем в Северо-Западной ФТС. В 2019 г. окончила Курсы литературного мастерства А. В. Воронцова и с тех пор стараюсь освоить самую прекрасную, на мой взгляд, профессию писателя.
Не могу представить свою жизнь без литературы и искусства, люблю свою семью, путешествовать, увлечена театром, йогой, танцами и велоспортом.
ПИСЬМА
– Таня, прошу тебя, хотя бы раз в жизни послушай маму.
Таня аккуратно укладывала вещи в дорожную сумку.
– О чем ты вообще думаешь? Лететь за тысячи километров, а то, что у тебя сессия, ты, по-видимому, забыла.
– Я почти все сдала, досрочно, между прочим.
– Доченька, я ценю твое упорство и желание идти к своей цели, но, если честно, это больше напоминает упрямство.
– Мам, я должна, в память о бабушке, пойми ты наконец.
– Танечка, нам всем ее очень не хватает, только этим бабушку не вернешь.
– Обещаю, если в этот раз ничего не получится, больше никаких поисков, честное слово. Не переживай ты так, мамуль, через три дня я буду дома.
– Долетишь, напиши, а лучше позвони, и всегда будь на связи.
– Договорились.
Вылет в Красноярск задерживали в связи с плохими погодными условиями. Тане захотелось вернуться домой, выпить теплый какао с молоком и лечь спать.
Девушка зашла в кафе, заказала двойной капучино с карамелью и села за дальний столик в углу.
– Может быть, мама права, и мне пора остановиться. Чего я добилась за три месяца поиска? Ничего.
Таня вспомнила февральский вечер, бабушкин дом в окружении заснеженных елей и липовый чай в белых чашках с васильками. Это была их последняя встреча.
– Танечка, я хочу тебе кое-что отдать, а ты, пожалуйста, распорядись ими правильно.
Бабушка достала из шкатулки ветхие, сложенные пополам листочки.
– Что это, бабуль?
– Письма Сони Смирновой из блокадного Ленинграда отцу на фронт. Девочка осталась совсем одна, и твой прадедушка помогал ей, чем мог.
– Бабушка, я что-то ничего не понимаю, откуда эти письма у нас?
– А ты прочти, Танюша, и все поймешь.
Таня аккуратно развернула бумагу с красивым детским подчерком и стала читать.
«9 сентября 1941 года.
Здравствуй, дорогой папа! Вот уже почти два месяца, как мы не получаем от тебя писем. Мама говорит мне не беспокоиться, а сама плачет по ночам, думает, я не слышу. Я решила, что буду тебе писать, а потом, как узнаем твой адрес, отправлю все письма сразу, и ты обрадуешься. Живем мы, как и все ленинградцы. Маму мобилизовали, она теперь работает в госпитале на Розенштейна, а мне пришлось оставить школу, нужно присматривать за Сашенькой, в ясли ей нельзя по здоровью. Мы теперь очень сдружились с Борисовыми, ты должен их помнить — это наши соседи, справа тетя Зина, Сережа и маленький Славик. Мама сказала, в тяжелые времена лучше держаться вместе. Тетя Зина еще летом стала запасать продукты, сахарный песок, подсолнечное масло, крупы. Мама с ней не согласна, она говорит, что все это паника, но по карточкам мы теперь отовариваем все, а то, что не съедаем, складываем в шкаф.
Вчера наш город бомбили два раза. Было очень страшно. Все грохотало, падали зажигательные бомбы, многие дома загорелись. А потом небо охватило красное зарево, загорелись Бадаевские продуктовые склады. Сережа с ребятами ездили на трамвае смотреть пожар, я тоже хотела, но мама не отпустила. Вечером мама и тетя Зина переписали в тетрадь все наши продукты, долго что-то считали и шептались. Я все думаю, как ты там на фронте? Говорят, под Ленинградом идут ожесточенные бои. Мы тебя очень любим, папочка, и ждем.
До свидания, твоя Соня.»
«16 октября 1941 года.
Здравствуй, дорогой папа!
Пишу тебе, как и обещала. Нас каждый день бомбят, иногда по два-три раза объявляют воздушную тревогу. Я сейчас почти всегда одна с Сашенькой и Славиком. Славик перестал ходить в садик из-за постоянных обстрелов. Мама много работает, приходит домой очень уставшая, иногда засыпает, не поев. Тетя Зина работает, как и раньше, на Кировском заводе, ездит туда на трамвае и тоже, бывает, по несколько дней не возвращается. Сережа с начала войны записался в отряд МПВО. Он дежурит на крышах, санпостах и убежищах, а однажды даже выследил сигнальщика и преследовал, пока его не схватил патруль. Я тоже хотела записаться в отряд, но мама сказала, важно, чтобы каждый занимался своим делом, твое дело – следить за домом и детьми.
Нам в третий раз снизили норму хлеба, многие люди уже голодают, а мы пока держимся. Мы с мамой сходили в Фуражный магазин в конце обводного канала и купили много дуранды, раньше ей кормили лошадей, а теперь мы варим суп, получается даже вкусно. В начале октября тетя Зина отвезла нас в Купчино, там на колхозных полях осталось много капусты. Мы ехали на 39 трамвае, потом шли пролесками, чтобы не встретить патруль. Набрали четыре больших мешка, тетя Зина засолила капусту в большие кастрюли и банки, мама говорит, что нам ее Бог послал. Осень в этом году очень холодная, Сережа принес из ремесленного училища буржуйки, они ужасно коптят, у нас все стены стали черные, зато расходуется мало дров. Сашенька сказала первое слово «папа», это я ее научила. Когда мама услышала, она заплакала. Я выучила одну молитву и теперь я каждый вечер за тебя молюсь. До свидания, мой любимый папа.»
«20 ноября 1941 года.
Мой любимый папа, у нас случилось большое несчастье. Сначала заболела Сашенька, она в последнее время была совсем слабенькой, потом появился кашель и жар, и ей стало совсем плохо. Мама увезла ее в госпиталь, а через три дня Сашенька умерла от воспаления легких. Мы похоронили ее на Волковом кладбище у церкви. Мама отдала наши хлебные карточки за место и гроб. После похорон мама стала сама не своя, она лежала и смотрела в потолок чужими, страшными глазами. Я боялась, что мама сошла с ума, я уже видела такое, но к вечеру мама поднялась, стала собираться на работу. Перед уходом она обняла меня и сказала: «Моя родная девочка, нам выпало тяжелое время, Сашенька была слишком мала, она не могла бороться, а мы с тобой будем, будем жить и ждать папу. Чтобы ни случилось, помни, ты справишься, сил всегда больше, чем кажется. Как бы ни было тяжело и страшно, в самый трудный час, не сдавайся, вера и надежда всегда с тобой, а завтра будет новый, лучший день».
Мама ушла и больше не вернулась. На следующий день, на санитарной машине приехал доктор, Алексей Николаевич, он работал вместе с мамой. Алексей Николаевич сказал, что ночью в госпиталь попало две бомбы, мама погибла. Он помог нам с тетей Зиной похоронить маму рядом с Сашенькой. Я предложила ему карточки, но он сказал: «Убери, я тебя не оставлю, буду помогать, моя семья в эвакуации, а мне одному много не надо».
Если бы ты знал, папочка, как мне тяжело, лучше бы мне умереть с мамой и Сашенькой.
До свидания, твоя Соня!»
«16 декабря 1941 года.
Здравствуй, мой родной папа! Живем мы теперь очень тяжело. В воскресенье ночью при авиаобстреле погиб Сережа. Тетя Зина, уже вконец ослабшая, как узнала, совсем слегла. Сережу похоронили ребята из отряда, в котором он служил.
Теперь на мне вся работа. В четыре утра я иду занимать очередь за хлебом в булочную на угол Фонтанки и Климова, хлеб привозят к восьми часам, иногда привозят мало, так, что всем не хватает, а иногда вообще не приво-зят. Потом несу хлеб домой, прячу его под пальто, сейчас могут отнять. Я немного поем, покормлю Славика и тетю Зину, хлеб мы делим на два раза, а больше у нас ничего не осталось, на прошлой неделе закончилась последняя капуста. Когда согреюсь, иду за водой на Фонтанку. К проруби нужно спускаться по обледенелой лестнице, особенно трудно по ней подниматься, случается, что я падаю и разливаю воду, тогда приходится идти обратно.
Воду я везу на санках, ведро и кастрюлю, чтобы хватило на два дня, везти тяжело, но лучше так, чем ходить каждый день. Сил становится все меньше и меньше.
Прихожу домой, растапливаю буржуйку, кипячу воду. Кипяток мы теперь называем «чай», это наш с тетей Зиной обед. Потом иду в ясли за обедом для Славика, ему дают немного супа и каши. Славик маленький, а знает, когда я возвращаюсь, сидит и ждет меня возле двери.
Дрова у нас тоже давно закончились. Алексей Николаевич сказал вместо дров брать мебель из пустых квартир, а как закончится, можно брать книги и ломать половицы. Книги пока не трогаю, хватает мебели. В нашей квартире никого кроме нас уже не осталось. 8 декабря во всем городе отключили электричество, сначала лампочки еще горели очень слабо, а потом совсем погасли.
Папа, у Тихоновых в квартире стоит швейная машинка, если я ее возьму обменять на продукты, не очень это будет плохо? У меня еще остались мамины сережки и твой фотоаппарат, я хотела их сохранить, но, видно, и их придется обменять. Я теперь только о еде думаю, и о тебе каждый день, больше ни о чем не могу.
До свидания, твоя Соня!»
«26 декабря 1941 года
Здравствуй, мой любимый папочка! Думала, мы уже не доживем до Нового года, а тут столько всего произошло, что не знаю с чего начать. Расскажу все по порядку. На прошлой неделе в среду я везла воду, передо мной упал мальчик, встать и идти он не мог, пришлось вылить воду и везти его на санках. Зовут его Костя. Ночью в их дом попала бомба, мама и бабушка Кости погибли, а он остался жив. Я боялась, что тетя Зина не разрешит ему остаться, но она стала совсем безучастная. В подкладке пальто у Кости лежали хлебные карточки на него, маму и бабушку на месяц вперед.
Позавчера приходил Алексей Николаевич, принес бутылочку масла и банку свиной тушенки. Он нас не забывает, сам худющий стал, одни глаза остались. А еще представляешь, папочка, Алексей Николаевич принес мне билет на настоящую Новогоднюю елку. 6 января в Большом драматическом театре будет спектакль «Три мушкетера», а потом будет обед.
Я рассказала ему, как нашла Костю, он меня похвалил, сказал, что очень важно сейчас оставаться человеком, есть вещи пострашнее голода и смерти. Я знаю о чем он говорил, много чего насмотрелась, но стараюсь об этом не думать.
Со вчерашнего дня повысили нормы хлеба, будут выдавать по 200 граммов. Теперь, у нас вместе с Костиными карточками выходит по 300 граммов хлеба каждому на целый месяц, и это не считая остальных продуктов. Я все-таки обменяла швейную машинку, еле дотащила ее до рынка. Поменяла выгодно, на плитку жмыха, пол килограмма муки и картофельные очистки. Буду варить суп, нам на долго хватит, может, и тетя Зина поправится.
С Костей мне стало намного легче, он все-все мне помогает. Вечером мы пьем кипяток с кусочком хлеба, и я рассказываю мальчикам сказки, те, которые знаю, или придумываю свои. Потом мы укрываемся всем теплым, что есть в доме, и ложимся спать втроем, так теплее. Теперь мы выживем, я это точно знаю, только за тетю Зину боюсь.
До свидания, твоя Соня.»
«25 августа 1942 года
Здравствуй, мой дорогой папа! Прости, что долго тебе не писала. В январе, сразу после Рождества, умерла тетя Зина. После ее смерти Алексей Николаевич определил нас с мальчиками в 80-ый детский дом. Живется нам теперь намного легче, воспитатели здесь очень хорошие, особенно Лилия Петровна. Иногда, во время сонного часа у малышей, мы с Костей и другими ребятами сбегаем и гуляем по городу. Ленинград сейчас не узнать. Разрушены целые улицы, Гостиный двор, обсерватория, и даже Кировский театр. Представляю, как бы огорчилась мама, она его так любила. Помнишь, как мы все вместе ходили на «Жизель», а потом ели пирожные в кафе «Север» на Невском.
Нам прибавили по 50 граммов хлеба. А весной во дворе детского дома мы посадили картошку, морковь, капусту и укроп. Получился настоящий огород.
Папа, нас скоро эвакуируют, говорят в Красноярск, это так далеко, я все думаю, как ты сможешь меня найти. Я тебя очень жду, папочка, и буду ждать, пока ты не вернешься, только ты обязательно возвращайся и отыщи меня.
До свидания, твоя Соня.»
Через несколько дней после этого вечера у бабушки случился инфаркт, из больницы она уже не вернулась. А Таня, наверное, чтобы немного заглушить нестерпимую тоску, занялась поисками Смирновой Софьи.
«Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс номер 657 Санкт-Петербург-Красноярск авиакомпании Россия. Всех пассажиров просим пройти к выходу номер 12».
Таня автоматически посмотрела на табло, взяла сумку и пошла к выходу. Утро в Красноярске было теплым и солнечным. Если ночью тут и была гроза с ураганным ветром, сейчас о ней ничего не напоминало.
Таня решила начать поиск с посещения Емельяновской школы. Именно на месте школы стоял когда-то детский дом, в котором жила Соня до весны сорок пятого года. Таня очень надеялась, что там сохранились хоть какие-то сведения о ленинградских детях.
Девушка договорилась о встрече с директором школы по телефону и вызвала такси.
Александра Ивановна встретила Таню в фойе, проводила в свой кабинет и внимательно выслушала.
– Понимаете, Татьяна, у нас нет никаких сведений. Вам нужно было ехать в Красноярский архив, все документы по блокадным детям там.
– Дело в том, что я уже делала запрос в архив. По документам 21 ребенок, в том числе Соня Смирнова, в мае 1945 года были переведены из Емельянова в Канский детский дом. Я написала в архивный фонд Красноярской области и мне пришел ответ, что Смирнова Софья в списках воспитанников за 1944-1949 года не числится.
– Что же, тогда Вам стоит поискать ее среди реэвакуированных детей.
– Я нашла эвакуационную карточку Сони, данных о ее возвращении в Ленинград нет. Но ведь человек не может просто так исчезнуть.
– Многие документы были утеряны безвозвратно. Да и отыскать человека, спустя столько лет, задача трудная. Я тоже не знаю, где мой дед похоронен. Мама его искала, но увы. Теперь мы ходим на братскую могилу, надеемся, что и ему кто-то приносит цветы.
– По-вашему, я зря прилетела?
– Я просто не знаю, Таня, как вам помочь. Ее ведь может не быть в живых. Сколько детей погибло в дороге, а сколько потом здесь. Вы только не расстраивайтесь, все и по-другому могло устроиться. Соня выросла, уехала в другой город, вышла замуж, поди найди ее теперь с другой фамилией. А знаете что, давайте сходим в школьный музей, там есть несколько фотографий, возможно, вам стоит их увидеть.
Музей был обычным классом на первом этаже школы. Таня вспомнила, что такой же музей был в школе, где она училась.
– Наш музей посвящен истории края. Военных экспонатов у нас не много, в основном это фронтовые письма, открытки, фотографии, есть несколько наградных документов и солдатская форма. Война сюда не дошла, но почти в каждой семье кто-то погиб на фронте.
Александра Ивановна наклонилась над стеклянной витриной.
– Идите сюда, Таня, здесь фотографии, о которых я говорила. Смотрите, вот детский дом, в 1961 году на его месте построили нашу школу. А это октябрь 1944 года, школьная линейка к началу учебного года.
– А почему линейка в октябре?
– Занятия в школе начинались только после уборки урожая на колхозных полях. А на этом снимке дети перед отправкой домой в Ленинград, это весна 45 года.
Фотография была сделана на железнодорожной платформе. Внимание Тани привлекла девочка-подросток, стоявшая у вагона, одной рукой она прижимала к себе ребенка лет пяти, а другой держала узелок. Позади нее стоял высокий худой мальчик с большим дорожным чемоданом.
– Александра Ивановна, а нет ли в поселке того, кто может помнить этих детей.
– Дайте подумать. Здесь недалеко живет бывшая учительница, Елизавета Петровна, если я не ошибаюсь, в те годы она была воспитанницей детского дома. Попробуйте поговорить с ней.
– А как мне ее найти?
– Пойдете от школы направо, сразу за магазином дом с зеленой крышей. Там она живет. Если заблудитесь, спросите прохожих, у нас все друг друга знают.
– Можно я сниму эту фотографию на телефон.
– Конечно. Вы думаете эта девочка на снимке Соня?
– Не знаю, но, если это так, значит она, все-таки, вернулась домой.
– Что ж, желаю вам удачи.
– Спасибо, Александра Ивановна.
– Не за что, а если не найдете вашу Соню, не грустите, передайте письма в музей, люди будут их читать и память о ней будет жива.
– Я так и поступлю. Спасибо еще раз. До свидания.
– Прощайте, Татьяна.
Таня нашла Елизавету Петровну в саду, сидящей на деревянной скамейке под яблоней.
– Здравствуйте, Елизавета Петровна!
– Здравствуйте. Ну и духота сегодня, к вечеру опять гроза соберётся.
Таня посмотрела на голубое небо без единого облачка.
– Ты к Анюте? Она скоро придет, иди пока посиди в теньке.
Таня прошла по узкой тропинке между грядок и села на скамейку.
– Елизавета Петровна, а я к Вам.
– Ко мне?
– Да, я разыскиваю одного человека, вернее девочку Соню Смирнову, вы жили вместе в детском доме во время войны. Помните ее?
– Соню? Помню. Мы познакомились ещё в Ленинграде, вместе эвакуировались сюда в сорок втором году.
– Вы дружили с ней?
– Мы все дружили, а как иначе.
Таня открыла на телефоне фотографию.
– Елизавета Петровна, посмотрите, пожалуйста, здесь есть Соня?
– Подожди, дай-ка поближе, без очков не вижу.
– Я сейчас увеличу. Так получше?
– Да, вот она Соня, а это вроде Костик, и маленький с ними, не помню, как звали. Они все время втроём держались.
– Значит, Соня, все-таки, вернулась в Ленинград?
– Все мы хотели вернуться в Ленинград, в свои дома, к маме и папе. Но вернулись только те, у кого нашлись родственники. Мы с Соней были сиротами, в Ленинграде нас никто не ждал. Мне больше повезло, я осталась жить у школьной учительницы, она мужа и двоих сыновей потеряла на войне, вот и решила меня удочерить. Так я тут всю жизнь и прожила. А Соню в детский дом отправили, в какой не скажу, не помню.
– А мальчиков тоже в детский дом забрали?
– Самого маленького отправили в Ленинград, у него родственники нашлись. Он без Сони уезжать не хотел, очень плакал, это понятно, она ему как мать была, пропал бы без неё.
– А другой мальчик Костя?
Елизавета Петровна задумалась.
– Так за ним, вроде, отец приехал, а может я что и путаю.
У Тани пронеслись в голове слова директора «поди найди ее с другой фамилией»
– А вы, случайно не помните, какая фамилия была у Кости?
– Семенов, кличка у него была Семён, его Костей почти никто не звал.
– Спасибо, Елизавета Петровна! Вы очень мне помогли.
– Так может зайдешь, квасом тебя напою домашним, ты такого не пробовала.
– Спасибо, но я побегу, мне надо успеть на самолёт. До свидания, Елизавета Петровна.
Спустя несколько дней дождливым июньским днем Таня шла по Английской набережной, время от времени поглядывая на номера домов. Дойдя до парадной дома номер 22, девушка остановилась. Казалось, только сейчас она поняла, что через несколько минут увидит Соню Смирнову из далекого блокадного Ленинграда. Немного помедлив, Таня позвонила в домофон.
Дверь ей открыла молодая девушка.
– Здравствуйте.
– Добрый день, меня зовут Татьяна Лаврентьева, это я вам звонила по поводу писем.
– Да, проходите, а я Ольга, бабушка вас ждет, идите по коридору направо.
Таня вошла в светлую, уютную гостиную. У окна, за круглым столом сидела пожилая женщина, в темно-синем платье с кружевным воротником.
– Здравствуйте, Софья Александровна, я…
– А, Танечка, вы позволите себя так называть? Ну что же вы стоите, идите к столу, сейчас будем пить чай. Садитесь сюда, здесь вам будет удобнее, – женщина показала на кресло рядом с собой.
– А я тут, пока вас дожидалась, решила посмотреть старые фотографии, знаете ли, воспоминания — это прекрасно, я думаю, старость дана нам для воспоминаний. Не бойтесь стареть, Танюша, бойтесь прожить неинтересную, скучную жизнь.
Таня улыбнулась, и стала рассматривать картину в красивой бронзовой раме. Это был портрет, у открытого окна сидела молодая женщина в кремовом платье с брошью. Ветер развевал ее короткие вьющиеся волосы. В ярком солнечном свете ее глаза казались желто-карими. Позади, держа ее за плечи, стоял высокий, молодой мужчина в военном мундире. Лицо его было строгим и спокойным, при этом глаза смотрели с нежностью и даже насмешкой.
– Это Ваши родители?
– Да, мой муж был художником, не сказать, чтобы великим, но говорили – вполне талантливым, он написал для меня этот портрет по фотографии.
Софья Александровна показала маленькую черно-белую фотографию, точную копию висящей над камином картины.
– Перед войной папе на службе подарили фотоаппарат, и я сделала этот снимок в нашей старой квартире на Лермонтовском проспекте. Вот такими я их и помню: красивыми, любящими, счастливыми.
– Вы очень похожи на маму, особенно глаза.
– Да, и волосы, ну или то, что от них осталось, – улыбаясь, она поправила красиво уложенную прическу.
В комнату вошла Ольга с подносом.
– К вашему приходу мы с бабушкой испекли вишневый пирог, обязательно попробуйте, вам понравится, – Ольга налила чай и устроилась на стуле рядом с бабушкой.
– Вы не представляете, как бабушка обрадовалась, когда вы позвонили.
– Ах да, – Таня достала из сумки письма и протянула их Софье Александровне.
– Но как они попали к Вам? Мы с бабушкой последние два дня только об этом и говорим.
– Алексей Николаевич, мой прадедушка, эти письма он прислал своей жене в Тюмень. Когда началась война, она с маленькой дочкой гостила у своих родителей, там они оставались до конца войны. Прабабушка по возвращении долго искала вас, она говорила, что должна это сделать в память о муже. Я совсем недавно узнала об этих письмах и решила, что должна попробовать поискать вас еще раз. Не скажу, что было легко, на самом деле мне повезло.
– Вы сказали, – в память о муже, значит Алексей Николаевич погиб?
– Прадедушка был убит под Выборгом 19 июня 1944 года осколком разорвавшегося снаряда.
– Проклятая война, никого не обошла стороной. Дорогая моя Танечка, как же я вам благодарна, я всегда хотела узнать его судьбу, сказать ему «спасибо». Но ничего кроме имени, я о нем не знала, а вот теперь вы здесь, это такая радость. Я ведь осталась жива только благодаря ему. Последний раз мы виделись перед отъездом в Красноярск, Алексей Николаевич нас провожал, собрал в дорогу кое-какой еды. Он пообещал мне разыскать папу, а я передала ему свои письма, так мы и простились.
Нас эвакуировали в сентябре сорок второго года. Ехали мы тяжело, больше месяца, сначала на машинах, потом почти всю дорогу в вагонах для скота. Еда быстро кончилась. Иногда на станциях люди подходили к поезду и передавали нам что-то поесть. Кто выжил, так ослабли, что не могли ходить. В Емельяново нас встретили как родных, люди плакали, приносили кто что мог, еду, одежду, дрова. Нам выделили дом с участком, весной мы посадили огород, постепенно стали забывать о голоде и бомбежках. Так и жили, росли, работали, учились.
– Как вам с Костей удалось вернуться в Ленинград?
– Нас, как сирот, должны были перевести в Канский детский дом. За несколько дней до отъезда за Костей приехал отец, Олег Петрович. Костя наотрез отказался уезжать без меня, Олег Петрович оформил документы и забрал нас обоих, так я и стала Соней Семеновой, обрела наконец семью и дом. Хороший он был человек, вырастил меня, как родную дочь, дал образование, я закончила медицинский институт, всю жизнь проработала в Мариинской больнице. В 54-ом вышла замуж, у меня трое детей, семь внуков и уже двенадцать правнуков. Вот одна Ольга осталась незамужней, но ее, болтушку, никто брать не хочет.
Ольга весело рассмеялась:
– Бабушка, дай мне институт закончить.
Софья Александровна перевернула страницы альбома
– Это мама Кости и Олег Петрович, до войны. А это Костя, он стал военным летчиком, полковником. Костя умер в 2010 году.
– Значит, Вы так и не встретились с папой?
– Вы сейчас, удивитесь, Таня, мы, все-таки, встретились. От Ленинграда нас везли на грузовиках вдоль линии фронта. Однажды ночью мы остановились передохнуть. Нас, детей, распределяли по солдатским блиндажам погреться. Я помогала разносить маленьких и ослабших детей, так в одном из блиндажей мы и встретились. Помню, как я оставила ребенка, собиралась выходить и вдруг услышала папин крик: «Соня, Соня, доченька!». Этого не расскажешь. Как я ждала, как молилась, чтобы услышать его голос. Представляла, как откроется дверь, и войдет папа, и вот я слышу, вижу, как он бежит ко мне, и ничего не понимаю, просто стою и смотрю, как истукан. Сначала мы даже не могли говорить, сидели обнявшись и плакали, потом понемногу пришли в себя. Я рассказала, как умерла мама и Сашенька, где их похоронили. Как я нашла Костю, и как мы жили в детском доме. Через какое-то время за нами пришла воспитательница, Лилия Петровна, нужно было ехать дальше. Мы попрощались, сколько лет прошло, а мне тяжело вспоминать. Как сейчас вижу папины глаза, столько в них было отчаяния и боли.
Софья Александровна сняла очки, вытерла салфеткой слезы.
– А знаете, девочки, время все сгладило, смерть мамы и Сашеньки, голод, страх, залечило все мои раны, а эту, видно, оставило мне на память. Это была наша последняя встреча. Папа погиб 29 марта 1942 года, при освобождении деревни Кондуя, всего через три недели после нашей встречи.
– Софья Александровна, как вы, ребенком, совсем одна, смогли вынести все эти ужасы, как смогли выжить?
– А я была не одна, со мной был твой прадедушка, тетя Зина, Славик и Костя, а еще тогда и всю мою долгую, и скажу вам, счастливую жизнь, меня никогда не оставляли вера и надежда.
Таня шла домой, дождь закончился, прохладный ветер доносил запах сирени. Светлые фасады домов светились бледной позолотой в вечерних солнечных лучах. Скоро город окутает белая ночь и воздух станет сумеречно-прозрачным, почти призрачным. Таня остановилась на Благовещенском мосту, задумалась глядя на изумрудную гладь Невы.
– Мой Петербург, какие нечеловеческие муки ты видел и какое мужество, величайшее горе и самопожертвование! Ты мог погибнуть, но выжил, возродился из пепла. Все прошло, нет больше разрушенных домов, пустых улиц и темных окон. Нет страха, голода, смерти. Все прошло, осталась только память.
– Таня, прошу тебя, хотя бы раз в жизни послушай маму.
Таня аккуратно укладывала вещи в дорожную сумку.
– О чем ты вообще думаешь? Лететь за тысячи километров, а то, что у тебя сессия, ты, по-видимому, забыла.
– Я почти все сдала, досрочно, между прочим.
– Доченька, я ценю твое упорство и желание идти к своей цели, но, если честно, это больше напоминает упрямство.
– Мам, я должна, в память о бабушке, пойми ты наконец.
– Танечка, нам всем ее очень не хватает, только этим бабушку не вернешь.
– Обещаю, если в этот раз ничего не получится, больше никаких поисков, честное слово. Не переживай ты так, мамуль, через три дня я буду дома.
– Долетишь, напиши, а лучше позвони, и всегда будь на связи.
– Договорились.
Вылет в Красноярск задерживали в связи с плохими погодными условиями. Тане захотелось вернуться домой, выпить теплый какао с молоком и лечь спать.
Девушка зашла в кафе, заказала двойной капучино с карамелью и села за дальний столик в углу.
– Может быть, мама права, и мне пора остановиться. Чего я добилась за три месяца поиска? Ничего.
Таня вспомнила февральский вечер, бабушкин дом в окружении заснеженных елей и липовый чай в белых чашках с васильками. Это была их последняя встреча.
– Танечка, я хочу тебе кое-что отдать, а ты, пожалуйста, распорядись ими правильно.
Бабушка достала из шкатулки ветхие, сложенные пополам листочки.
– Что это, бабуль?
– Письма Сони Смирновой из блокадного Ленинграда отцу на фронт. Девочка осталась совсем одна, и твой прадедушка помогал ей, чем мог.
– Бабушка, я что-то ничего не понимаю, откуда эти письма у нас?
– А ты прочти, Танюша, и все поймешь.
Таня аккуратно развернула бумагу с красивым детским подчерком и стала читать.
«9 сентября 1941 года.
Здравствуй, дорогой папа! Вот уже почти два месяца, как мы не получаем от тебя писем. Мама говорит мне не беспокоиться, а сама плачет по ночам, думает, я не слышу. Я решила, что буду тебе писать, а потом, как узнаем твой адрес, отправлю все письма сразу, и ты обрадуешься. Живем мы, как и все ленинградцы. Маму мобилизовали, она теперь работает в госпитале на Розенштейна, а мне пришлось оставить школу, нужно присматривать за Сашенькой, в ясли ей нельзя по здоровью. Мы теперь очень сдружились с Борисовыми, ты должен их помнить — это наши соседи, справа тетя Зина, Сережа и маленький Славик. Мама сказала, в тяжелые времена лучше держаться вместе. Тетя Зина еще летом стала запасать продукты, сахарный песок, подсолнечное масло, крупы. Мама с ней не согласна, она говорит, что все это паника, но по карточкам мы теперь отовариваем все, а то, что не съедаем, складываем в шкаф.
Вчера наш город бомбили два раза. Было очень страшно. Все грохотало, падали зажигательные бомбы, многие дома загорелись. А потом небо охватило красное зарево, загорелись Бадаевские продуктовые склады. Сережа с ребятами ездили на трамвае смотреть пожар, я тоже хотела, но мама не отпустила. Вечером мама и тетя Зина переписали в тетрадь все наши продукты, долго что-то считали и шептались. Я все думаю, как ты там на фронте? Говорят, под Ленинградом идут ожесточенные бои. Мы тебя очень любим, папочка, и ждем.
До свидания, твоя Соня.»
«16 октября 1941 года.
Здравствуй, дорогой папа!
Пишу тебе, как и обещала. Нас каждый день бомбят, иногда по два-три раза объявляют воздушную тревогу. Я сейчас почти всегда одна с Сашенькой и Славиком. Славик перестал ходить в садик из-за постоянных обстрелов. Мама много работает, приходит домой очень уставшая, иногда засыпает, не поев. Тетя Зина работает, как и раньше, на Кировском заводе, ездит туда на трамвае и тоже, бывает, по несколько дней не возвращается. Сережа с начала войны записался в отряд МПВО. Он дежурит на крышах, санпостах и убежищах, а однажды даже выследил сигнальщика и преследовал, пока его не схватил патруль. Я тоже хотела записаться в отряд, но мама сказала, важно, чтобы каждый занимался своим делом, твое дело – следить за домом и детьми.
Нам в третий раз снизили норму хлеба, многие люди уже голодают, а мы пока держимся. Мы с мамой сходили в Фуражный магазин в конце обводного канала и купили много дуранды, раньше ей кормили лошадей, а теперь мы варим суп, получается даже вкусно. В начале октября тетя Зина отвезла нас в Купчино, там на колхозных полях осталось много капусты. Мы ехали на 39 трамвае, потом шли пролесками, чтобы не встретить патруль. Набрали четыре больших мешка, тетя Зина засолила капусту в большие кастрюли и банки, мама говорит, что нам ее Бог послал. Осень в этом году очень холодная, Сережа принес из ремесленного училища буржуйки, они ужасно коптят, у нас все стены стали черные, зато расходуется мало дров. Сашенька сказала первое слово «папа», это я ее научила. Когда мама услышала, она заплакала. Я выучила одну молитву и теперь я каждый вечер за тебя молюсь. До свидания, мой любимый папа.»
«20 ноября 1941 года.
Мой любимый папа, у нас случилось большое несчастье. Сначала заболела Сашенька, она в последнее время была совсем слабенькой, потом появился кашель и жар, и ей стало совсем плохо. Мама увезла ее в госпиталь, а через три дня Сашенька умерла от воспаления легких. Мы похоронили ее на Волковом кладбище у церкви. Мама отдала наши хлебные карточки за место и гроб. После похорон мама стала сама не своя, она лежала и смотрела в потолок чужими, страшными глазами. Я боялась, что мама сошла с ума, я уже видела такое, но к вечеру мама поднялась, стала собираться на работу. Перед уходом она обняла меня и сказала: «Моя родная девочка, нам выпало тяжелое время, Сашенька была слишком мала, она не могла бороться, а мы с тобой будем, будем жить и ждать папу. Чтобы ни случилось, помни, ты справишься, сил всегда больше, чем кажется. Как бы ни было тяжело и страшно, в самый трудный час, не сдавайся, вера и надежда всегда с тобой, а завтра будет новый, лучший день».
Мама ушла и больше не вернулась. На следующий день, на санитарной машине приехал доктор, Алексей Николаевич, он работал вместе с мамой. Алексей Николаевич сказал, что ночью в госпиталь попало две бомбы, мама погибла. Он помог нам с тетей Зиной похоронить маму рядом с Сашенькой. Я предложила ему карточки, но он сказал: «Убери, я тебя не оставлю, буду помогать, моя семья в эвакуации, а мне одному много не надо».
Если бы ты знал, папочка, как мне тяжело, лучше бы мне умереть с мамой и Сашенькой.
До свидания, твоя Соня!»
«16 декабря 1941 года.
Здравствуй, мой родной папа! Живем мы теперь очень тяжело. В воскресенье ночью при авиаобстреле погиб Сережа. Тетя Зина, уже вконец ослабшая, как узнала, совсем слегла. Сережу похоронили ребята из отряда, в котором он служил.
Теперь на мне вся работа. В четыре утра я иду занимать очередь за хлебом в булочную на угол Фонтанки и Климова, хлеб привозят к восьми часам, иногда привозят мало, так, что всем не хватает, а иногда вообще не приво-зят. Потом несу хлеб домой, прячу его под пальто, сейчас могут отнять. Я немного поем, покормлю Славика и тетю Зину, хлеб мы делим на два раза, а больше у нас ничего не осталось, на прошлой неделе закончилась последняя капуста. Когда согреюсь, иду за водой на Фонтанку. К проруби нужно спускаться по обледенелой лестнице, особенно трудно по ней подниматься, случается, что я падаю и разливаю воду, тогда приходится идти обратно.
Воду я везу на санках, ведро и кастрюлю, чтобы хватило на два дня, везти тяжело, но лучше так, чем ходить каждый день. Сил становится все меньше и меньше.
Прихожу домой, растапливаю буржуйку, кипячу воду. Кипяток мы теперь называем «чай», это наш с тетей Зиной обед. Потом иду в ясли за обедом для Славика, ему дают немного супа и каши. Славик маленький, а знает, когда я возвращаюсь, сидит и ждет меня возле двери.
Дрова у нас тоже давно закончились. Алексей Николаевич сказал вместо дров брать мебель из пустых квартир, а как закончится, можно брать книги и ломать половицы. Книги пока не трогаю, хватает мебели. В нашей квартире никого кроме нас уже не осталось. 8 декабря во всем городе отключили электричество, сначала лампочки еще горели очень слабо, а потом совсем погасли.
Папа, у Тихоновых в квартире стоит швейная машинка, если я ее возьму обменять на продукты, не очень это будет плохо? У меня еще остались мамины сережки и твой фотоаппарат, я хотела их сохранить, но, видно, и их придется обменять. Я теперь только о еде думаю, и о тебе каждый день, больше ни о чем не могу.
До свидания, твоя Соня!»
«26 декабря 1941 года
Здравствуй, мой любимый папочка! Думала, мы уже не доживем до Нового года, а тут столько всего произошло, что не знаю с чего начать. Расскажу все по порядку. На прошлой неделе в среду я везла воду, передо мной упал мальчик, встать и идти он не мог, пришлось вылить воду и везти его на санках. Зовут его Костя. Ночью в их дом попала бомба, мама и бабушка Кости погибли, а он остался жив. Я боялась, что тетя Зина не разрешит ему остаться, но она стала совсем безучастная. В подкладке пальто у Кости лежали хлебные карточки на него, маму и бабушку на месяц вперед.
Позавчера приходил Алексей Николаевич, принес бутылочку масла и банку свиной тушенки. Он нас не забывает, сам худющий стал, одни глаза остались. А еще представляешь, папочка, Алексей Николаевич принес мне билет на настоящую Новогоднюю елку. 6 января в Большом драматическом театре будет спектакль «Три мушкетера», а потом будет обед.
Я рассказала ему, как нашла Костю, он меня похвалил, сказал, что очень важно сейчас оставаться человеком, есть вещи пострашнее голода и смерти. Я знаю о чем он говорил, много чего насмотрелась, но стараюсь об этом не думать.
Со вчерашнего дня повысили нормы хлеба, будут выдавать по 200 граммов. Теперь, у нас вместе с Костиными карточками выходит по 300 граммов хлеба каждому на целый месяц, и это не считая остальных продуктов. Я все-таки обменяла швейную машинку, еле дотащила ее до рынка. Поменяла выгодно, на плитку жмыха, пол килограмма муки и картофельные очистки. Буду варить суп, нам на долго хватит, может, и тетя Зина поправится.
С Костей мне стало намного легче, он все-все мне помогает. Вечером мы пьем кипяток с кусочком хлеба, и я рассказываю мальчикам сказки, те, которые знаю, или придумываю свои. Потом мы укрываемся всем теплым, что есть в доме, и ложимся спать втроем, так теплее. Теперь мы выживем, я это точно знаю, только за тетю Зину боюсь.
До свидания, твоя Соня.»
«25 августа 1942 года
Здравствуй, мой дорогой папа! Прости, что долго тебе не писала. В январе, сразу после Рождества, умерла тетя Зина. После ее смерти Алексей Николаевич определил нас с мальчиками в 80-ый детский дом. Живется нам теперь намного легче, воспитатели здесь очень хорошие, особенно Лилия Петровна. Иногда, во время сонного часа у малышей, мы с Костей и другими ребятами сбегаем и гуляем по городу. Ленинград сейчас не узнать. Разрушены целые улицы, Гостиный двор, обсерватория, и даже Кировский театр. Представляю, как бы огорчилась мама, она его так любила. Помнишь, как мы все вместе ходили на «Жизель», а потом ели пирожные в кафе «Север» на Невском.
Нам прибавили по 50 граммов хлеба. А весной во дворе детского дома мы посадили картошку, морковь, капусту и укроп. Получился настоящий огород.
Папа, нас скоро эвакуируют, говорят в Красноярск, это так далеко, я все думаю, как ты сможешь меня найти. Я тебя очень жду, папочка, и буду ждать, пока ты не вернешься, только ты обязательно возвращайся и отыщи меня.
До свидания, твоя Соня.»
Через несколько дней после этого вечера у бабушки случился инфаркт, из больницы она уже не вернулась. А Таня, наверное, чтобы немного заглушить нестерпимую тоску, занялась поисками Смирновой Софьи.
«Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс номер 657 Санкт-Петербург-Красноярск авиакомпании Россия. Всех пассажиров просим пройти к выходу номер 12».
Таня автоматически посмотрела на табло, взяла сумку и пошла к выходу. Утро в Красноярске было теплым и солнечным. Если ночью тут и была гроза с ураганным ветром, сейчас о ней ничего не напоминало.
Таня решила начать поиск с посещения Емельяновской школы. Именно на месте школы стоял когда-то детский дом, в котором жила Соня до весны сорок пятого года. Таня очень надеялась, что там сохранились хоть какие-то сведения о ленинградских детях.
Девушка договорилась о встрече с директором школы по телефону и вызвала такси.
Александра Ивановна встретила Таню в фойе, проводила в свой кабинет и внимательно выслушала.
– Понимаете, Татьяна, у нас нет никаких сведений. Вам нужно было ехать в Красноярский архив, все документы по блокадным детям там.
– Дело в том, что я уже делала запрос в архив. По документам 21 ребенок, в том числе Соня Смирнова, в мае 1945 года были переведены из Емельянова в Канский детский дом. Я написала в архивный фонд Красноярской области и мне пришел ответ, что Смирнова Софья в списках воспитанников за 1944-1949 года не числится.
– Что же, тогда Вам стоит поискать ее среди реэвакуированных детей.
– Я нашла эвакуационную карточку Сони, данных о ее возвращении в Ленинград нет. Но ведь человек не может просто так исчезнуть.
– Многие документы были утеряны безвозвратно. Да и отыскать человека, спустя столько лет, задача трудная. Я тоже не знаю, где мой дед похоронен. Мама его искала, но увы. Теперь мы ходим на братскую могилу, надеемся, что и ему кто-то приносит цветы.
– По-вашему, я зря прилетела?
– Я просто не знаю, Таня, как вам помочь. Ее ведь может не быть в живых. Сколько детей погибло в дороге, а сколько потом здесь. Вы только не расстраивайтесь, все и по-другому могло устроиться. Соня выросла, уехала в другой город, вышла замуж, поди найди ее теперь с другой фамилией. А знаете что, давайте сходим в школьный музей, там есть несколько фотографий, возможно, вам стоит их увидеть.
Музей был обычным классом на первом этаже школы. Таня вспомнила, что такой же музей был в школе, где она училась.
– Наш музей посвящен истории края. Военных экспонатов у нас не много, в основном это фронтовые письма, открытки, фотографии, есть несколько наградных документов и солдатская форма. Война сюда не дошла, но почти в каждой семье кто-то погиб на фронте.
Александра Ивановна наклонилась над стеклянной витриной.
– Идите сюда, Таня, здесь фотографии, о которых я говорила. Смотрите, вот детский дом, в 1961 году на его месте построили нашу школу. А это октябрь 1944 года, школьная линейка к началу учебного года.
– А почему линейка в октябре?
– Занятия в школе начинались только после уборки урожая на колхозных полях. А на этом снимке дети перед отправкой домой в Ленинград, это весна 45 года.
Фотография была сделана на железнодорожной платформе. Внимание Тани привлекла девочка-подросток, стоявшая у вагона, одной рукой она прижимала к себе ребенка лет пяти, а другой держала узелок. Позади нее стоял высокий худой мальчик с большим дорожным чемоданом.
– Александра Ивановна, а нет ли в поселке того, кто может помнить этих детей.
– Дайте подумать. Здесь недалеко живет бывшая учительница, Елизавета Петровна, если я не ошибаюсь, в те годы она была воспитанницей детского дома. Попробуйте поговорить с ней.
– А как мне ее найти?
– Пойдете от школы направо, сразу за магазином дом с зеленой крышей. Там она живет. Если заблудитесь, спросите прохожих, у нас все друг друга знают.
– Можно я сниму эту фотографию на телефон.
– Конечно. Вы думаете эта девочка на снимке Соня?
– Не знаю, но, если это так, значит она, все-таки, вернулась домой.
– Что ж, желаю вам удачи.
– Спасибо, Александра Ивановна.
– Не за что, а если не найдете вашу Соню, не грустите, передайте письма в музей, люди будут их читать и память о ней будет жива.
– Я так и поступлю. Спасибо еще раз. До свидания.
– Прощайте, Татьяна.
Таня нашла Елизавету Петровну в саду, сидящей на деревянной скамейке под яблоней.
– Здравствуйте, Елизавета Петровна!
– Здравствуйте. Ну и духота сегодня, к вечеру опять гроза соберётся.
Таня посмотрела на голубое небо без единого облачка.
– Ты к Анюте? Она скоро придет, иди пока посиди в теньке.
Таня прошла по узкой тропинке между грядок и села на скамейку.
– Елизавета Петровна, а я к Вам.
– Ко мне?
– Да, я разыскиваю одного человека, вернее девочку Соню Смирнову, вы жили вместе в детском доме во время войны. Помните ее?
– Соню? Помню. Мы познакомились ещё в Ленинграде, вместе эвакуировались сюда в сорок втором году.
– Вы дружили с ней?
– Мы все дружили, а как иначе.
Таня открыла на телефоне фотографию.
– Елизавета Петровна, посмотрите, пожалуйста, здесь есть Соня?
– Подожди, дай-ка поближе, без очков не вижу.
– Я сейчас увеличу. Так получше?
– Да, вот она Соня, а это вроде Костик, и маленький с ними, не помню, как звали. Они все время втроём держались.
– Значит, Соня, все-таки, вернулась в Ленинград?
– Все мы хотели вернуться в Ленинград, в свои дома, к маме и папе. Но вернулись только те, у кого нашлись родственники. Мы с Соней были сиротами, в Ленинграде нас никто не ждал. Мне больше повезло, я осталась жить у школьной учительницы, она мужа и двоих сыновей потеряла на войне, вот и решила меня удочерить. Так я тут всю жизнь и прожила. А Соню в детский дом отправили, в какой не скажу, не помню.
– А мальчиков тоже в детский дом забрали?
– Самого маленького отправили в Ленинград, у него родственники нашлись. Он без Сони уезжать не хотел, очень плакал, это понятно, она ему как мать была, пропал бы без неё.
– А другой мальчик Костя?
Елизавета Петровна задумалась.
– Так за ним, вроде, отец приехал, а может я что и путаю.
У Тани пронеслись в голове слова директора «поди найди ее с другой фамилией»
– А вы, случайно не помните, какая фамилия была у Кости?
– Семенов, кличка у него была Семён, его Костей почти никто не звал.
– Спасибо, Елизавета Петровна! Вы очень мне помогли.
– Так может зайдешь, квасом тебя напою домашним, ты такого не пробовала.
– Спасибо, но я побегу, мне надо успеть на самолёт. До свидания, Елизавета Петровна.
Спустя несколько дней дождливым июньским днем Таня шла по Английской набережной, время от времени поглядывая на номера домов. Дойдя до парадной дома номер 22, девушка остановилась. Казалось, только сейчас она поняла, что через несколько минут увидит Соню Смирнову из далекого блокадного Ленинграда. Немного помедлив, Таня позвонила в домофон.
Дверь ей открыла молодая девушка.
– Здравствуйте.
– Добрый день, меня зовут Татьяна Лаврентьева, это я вам звонила по поводу писем.
– Да, проходите, а я Ольга, бабушка вас ждет, идите по коридору направо.
Таня вошла в светлую, уютную гостиную. У окна, за круглым столом сидела пожилая женщина, в темно-синем платье с кружевным воротником.
– Здравствуйте, Софья Александровна, я…
– А, Танечка, вы позволите себя так называть? Ну что же вы стоите, идите к столу, сейчас будем пить чай. Садитесь сюда, здесь вам будет удобнее, – женщина показала на кресло рядом с собой.
– А я тут, пока вас дожидалась, решила посмотреть старые фотографии, знаете ли, воспоминания — это прекрасно, я думаю, старость дана нам для воспоминаний. Не бойтесь стареть, Танюша, бойтесь прожить неинтересную, скучную жизнь.
Таня улыбнулась, и стала рассматривать картину в красивой бронзовой раме. Это был портрет, у открытого окна сидела молодая женщина в кремовом платье с брошью. Ветер развевал ее короткие вьющиеся волосы. В ярком солнечном свете ее глаза казались желто-карими. Позади, держа ее за плечи, стоял высокий, молодой мужчина в военном мундире. Лицо его было строгим и спокойным, при этом глаза смотрели с нежностью и даже насмешкой.
– Это Ваши родители?
– Да, мой муж был художником, не сказать, чтобы великим, но говорили – вполне талантливым, он написал для меня этот портрет по фотографии.
Софья Александровна показала маленькую черно-белую фотографию, точную копию висящей над камином картины.
– Перед войной папе на службе подарили фотоаппарат, и я сделала этот снимок в нашей старой квартире на Лермонтовском проспекте. Вот такими я их и помню: красивыми, любящими, счастливыми.
– Вы очень похожи на маму, особенно глаза.
– Да, и волосы, ну или то, что от них осталось, – улыбаясь, она поправила красиво уложенную прическу.
В комнату вошла Ольга с подносом.
– К вашему приходу мы с бабушкой испекли вишневый пирог, обязательно попробуйте, вам понравится, – Ольга налила чай и устроилась на стуле рядом с бабушкой.
– Вы не представляете, как бабушка обрадовалась, когда вы позвонили.
– Ах да, – Таня достала из сумки письма и протянула их Софье Александровне.
– Но как они попали к Вам? Мы с бабушкой последние два дня только об этом и говорим.
– Алексей Николаевич, мой прадедушка, эти письма он прислал своей жене в Тюмень. Когда началась война, она с маленькой дочкой гостила у своих родителей, там они оставались до конца войны. Прабабушка по возвращении долго искала вас, она говорила, что должна это сделать в память о муже. Я совсем недавно узнала об этих письмах и решила, что должна попробовать поискать вас еще раз. Не скажу, что было легко, на самом деле мне повезло.
– Вы сказали, – в память о муже, значит Алексей Николаевич погиб?
– Прадедушка был убит под Выборгом 19 июня 1944 года осколком разорвавшегося снаряда.
– Проклятая война, никого не обошла стороной. Дорогая моя Танечка, как же я вам благодарна, я всегда хотела узнать его судьбу, сказать ему «спасибо». Но ничего кроме имени, я о нем не знала, а вот теперь вы здесь, это такая радость. Я ведь осталась жива только благодаря ему. Последний раз мы виделись перед отъездом в Красноярск, Алексей Николаевич нас провожал, собрал в дорогу кое-какой еды. Он пообещал мне разыскать папу, а я передала ему свои письма, так мы и простились.
Нас эвакуировали в сентябре сорок второго года. Ехали мы тяжело, больше месяца, сначала на машинах, потом почти всю дорогу в вагонах для скота. Еда быстро кончилась. Иногда на станциях люди подходили к поезду и передавали нам что-то поесть. Кто выжил, так ослабли, что не могли ходить. В Емельяново нас встретили как родных, люди плакали, приносили кто что мог, еду, одежду, дрова. Нам выделили дом с участком, весной мы посадили огород, постепенно стали забывать о голоде и бомбежках. Так и жили, росли, работали, учились.
– Как вам с Костей удалось вернуться в Ленинград?
– Нас, как сирот, должны были перевести в Канский детский дом. За несколько дней до отъезда за Костей приехал отец, Олег Петрович. Костя наотрез отказался уезжать без меня, Олег Петрович оформил документы и забрал нас обоих, так я и стала Соней Семеновой, обрела наконец семью и дом. Хороший он был человек, вырастил меня, как родную дочь, дал образование, я закончила медицинский институт, всю жизнь проработала в Мариинской больнице. В 54-ом вышла замуж, у меня трое детей, семь внуков и уже двенадцать правнуков. Вот одна Ольга осталась незамужней, но ее, болтушку, никто брать не хочет.
Ольга весело рассмеялась:
– Бабушка, дай мне институт закончить.
Софья Александровна перевернула страницы альбома
– Это мама Кости и Олег Петрович, до войны. А это Костя, он стал военным летчиком, полковником. Костя умер в 2010 году.
– Значит, Вы так и не встретились с папой?
– Вы сейчас, удивитесь, Таня, мы, все-таки, встретились. От Ленинграда нас везли на грузовиках вдоль линии фронта. Однажды ночью мы остановились передохнуть. Нас, детей, распределяли по солдатским блиндажам погреться. Я помогала разносить маленьких и ослабших детей, так в одном из блиндажей мы и встретились. Помню, как я оставила ребенка, собиралась выходить и вдруг услышала папин крик: «Соня, Соня, доченька!». Этого не расскажешь. Как я ждала, как молилась, чтобы услышать его голос. Представляла, как откроется дверь, и войдет папа, и вот я слышу, вижу, как он бежит ко мне, и ничего не понимаю, просто стою и смотрю, как истукан. Сначала мы даже не могли говорить, сидели обнявшись и плакали, потом понемногу пришли в себя. Я рассказала, как умерла мама и Сашенька, где их похоронили. Как я нашла Костю, и как мы жили в детском доме. Через какое-то время за нами пришла воспитательница, Лилия Петровна, нужно было ехать дальше. Мы попрощались, сколько лет прошло, а мне тяжело вспоминать. Как сейчас вижу папины глаза, столько в них было отчаяния и боли.
Софья Александровна сняла очки, вытерла салфеткой слезы.
– А знаете, девочки, время все сгладило, смерть мамы и Сашеньки, голод, страх, залечило все мои раны, а эту, видно, оставило мне на память. Это была наша последняя встреча. Папа погиб 29 марта 1942 года, при освобождении деревни Кондуя, всего через три недели после нашей встречи.
– Софья Александровна, как вы, ребенком, совсем одна, смогли вынести все эти ужасы, как смогли выжить?
– А я была не одна, со мной был твой прадедушка, тетя Зина, Славик и Костя, а еще тогда и всю мою долгую, и скажу вам, счастливую жизнь, меня никогда не оставляли вера и надежда.
Таня шла домой, дождь закончился, прохладный ветер доносил запах сирени. Светлые фасады домов светились бледной позолотой в вечерних солнечных лучах. Скоро город окутает белая ночь и воздух станет сумеречно-прозрачным, почти призрачным. Таня остановилась на Благовещенском мосту, задумалась глядя на изумрудную гладь Невы.
– Мой Петербург, какие нечеловеческие муки ты видел и какое мужество, величайшее горе и самопожертвование! Ты мог погибнуть, но выжил, возродился из пепла. Все прошло, нет больше разрушенных домов, пустых улиц и темных окон. Нет страха, голода, смерти. Все прошло, осталась только память.
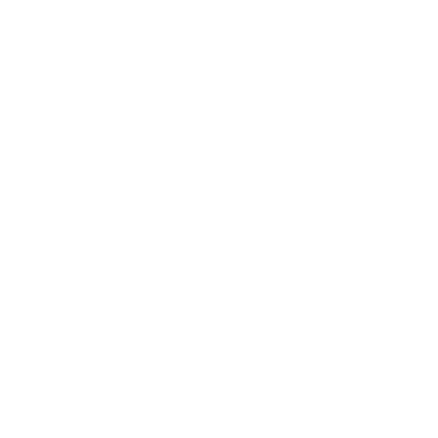
Антон ПАНФЕРОВ
Родился 21 декабря 1980 года в городе Калининград (ныне Королев) Московской области. С 1999 года работаю в структуре ОАО «РЖД». Активно занимался айкидо (2 дан). В 2015 году окончил РГУТиС (МГУС) по специальности экономика труда и управление персоналом. Учеба в институте стала причиной появления нового увлечения – проба пера. На первом этапе это были статьи, характеристики, отчеты, зарисовки на экономические, исторические и социальные темы, которые со временем обросли художественными образами. В 2017 году выпустил первый роман: «Сунгирь – тайна древней стоянки». В 2018 году вступил в члены «Литературного объединения им. Дм. Кедрина» (г. Мытищи).
Родился 21 декабря 1980 года в городе Калининград (ныне Королев) Московской области. С 1999 года работаю в структуре ОАО «РЖД». Активно занимался айкидо (2 дан). В 2015 году окончил РГУТиС (МГУС) по специальности экономика труда и управление персоналом. Учеба в институте стала причиной появления нового увлечения – проба пера. На первом этапе это были статьи, характеристики, отчеты, зарисовки на экономические, исторические и социальные темы, которые со временем обросли художественными образами. В 2017 году выпустил первый роман: «Сунгирь – тайна древней стоянки». В 2018 году вступил в члены «Литературного объединения им. Дм. Кедрина» (г. Мытищи).
ЗНАК ПОБЕДЫ
Этим утром ты проснулся сам, и мне не пришлось тебя будить. Ты сидел на своей постели и расправлял перекрутившуюся за ночь майку. Глаза твои искрились так же как и прошлым вечером, когда ты в предвкушении схватив табурет, бросился с ним мне наперерез, и я чуть не обожгла тебя горячим чаем. Ты даже не заметил меня. Поставив его возле стены и забравшись на него, ты отметил красным крестом день в календаре. День 9 мая. Мне было приятно, что тебе, шестилетнему мальчику, уже известен этот светлый, праздничный день. Но когда ты мне заявил:
– Мам! Почему ты все еще не одета? Ты разве не знаешь, что сегодня парад, и мы должны на нем быть, – я на минуту опешила и не знала что сказать.
– Ты хочешь поехать на Красную площадь?
– Конечно! Ты разве не знаешь, какой сегодня день?
Я, конечно, об этом знала, но вот когда для тебя этот день стал так важен? Я смотрела на тебя, и мне казалось, что в твоем лице я видела что-то, до боли знакомое мне с детства. Твои голубые огромные глаза, сияющие утренним светом и чистотой. Белые пряди нечесаных волос, сбитых в овин и торчащих в разные стороны. Твои брови, сползающие к переносице, когда ты хмуришься, и все время смеющаяся линия рта. Этот образ запомнился мне с самого детства, но чей он, я никак не могла вспомнить…
Когда мы вышли во двор, весеннее ласковое солнце встретило нас теплыми лучами. Оно щипало глаза и заставляло прятаться в тень. Ты морщился, крутил головой и по твоим щекам катились прозрачные слезинки. Но скоро все прошло, и твои глаза привыкли к свету.
На площади, куда мы пришли, было много народа. Играла музыка. Ты держал меня за руку, боясь потеряться, и смотрел по сторонам. Когда все началось, ты затаил дыхание. Твои глаза раскрылись еще шире, следя за тем, как стройные ряды молодых, красивых, статных военных шагают колоннами по брусчатке главной площади страны.
– Алешка, и ты здесь! – Раздался знакомый голос, и крепкие мужские руки подхватили тебя и подняли вверх. Это был дедушка твоего друга Мишки, который собирал вас каждые выходные и рассказывал разные истории. Когда ты оказался у него на плечах, меня охватило волнение. Но твой довольный искрящийся взгляд успокоил меня. Сложив руки на голове Мишкиного дедушки, ты пристально наблюдал за парадом.
– Я самый высокий здесь! – восхищался ты, поглядывая сверху вниз на меня.
– Сиди спокойно! – я сурово посмотрела на тебя и погрозила пальцем.
Когда загрохотала тяжелая техника, ты напрягся от волнения, и в таком восторженном напряжении просидел до тех пор, пока хвост танковой колоны не скрылся за Васильевским спуском.
– Мам, ты видела какие они…, мам, а ты видела когда они…, мам а ты видела сколько у них…? – поток нескончаемого удивления и бессвязной восторженной речи срывался с твоих уст, когда мы вместе со всеми гостями покидали Красную площадь. Спустя время, на скамейке в Нескучном саду, под звуки солдатской гармошки, ты уже уплетал мороженое, наслаждаясь атмосферой парка. Болтая ногами и раскачиваясь, словно на качелях, ты с любопытством рассматривал окружающих.
– Доешь сначала, а потом будешь качаться!
– Я больше не хочу. На! – Ты отдал мне остатки своего мороженого, спрыгнул с лавочки и в два счета оказался перед людьми в военной форме, которые сидели неподалеку. Тебя привлекло огромное количество наград на кителе пожилого мужчины. Взобравшись на лавочку, ты сел рядом с ним, ничуть не постеснявшись.
– Алеша, ну-ка вернись! – волновалась я. Но ты не слушал. Тебе было интересно с ними.
«Пусть посмотрит, ему же интересно. Он никогда не видел этого». – Услышала я свой внутренний голос.
– Дедушка, а это все твои? – Ты подполз ближе к ветерану и принялся рассматривать медали.
– Мои, внучек, мои. – Старичок посадил тебя к себе на колени, и поглаживая по голове сам с интересом смотрел на тебя.
Я не спускала с тебя глаз.
– А откуда у тебя столько? – Ты трогал медали руками, и сердце мое сжималось. Мне казалось, что так нельзя, и хотелось одернуть тебя, но улыбка ветерана говорила об обратном.
– Заслужил.
– Заслужи-и-и-и-л!? А как это?
– Хэ-хэ-хэ, вот вырастишь, узнаешь как это.
– Деда, а что здесь написано? – Ты указал пальцем на одну из медалей.
– А ты разве читать не умеешь?
Ты устыдился и покачал головой.
– Здесь написано «Наше дело правое, мы победили!» Это медаль за победу над фашистской Германией. Знаешь кто такие фашисты?
Ты опять отрицательно покачал головой. И мне стало стыдно за себя.
– Мама тебе не рассказывала?
– Нет.
– Эээ, да ты наверное и в школу еще не ходишь.
– В следующем году пойду.
– А звать то тебя как?
– Алешка! – С гордостью воскликнул ты.
– Молодец! Геройское имя. Песня даже такая есть, «Алеша» называется. Тоже наверное не слышал?
Ты вздохнул горестно, и потупив глаза надул губы.
– Ну ладно тебе, не дуйся. Придет время, обо всем узнаешь, если захочешь. У мамки у своей спроси, может она тебе расскажет. – Старичок погладил тебя по белокурой голове, потом с трудом поднялся и, посмотрев на мальчугана, взял под козырек.
– Ну, бывай, Алешка!
Ты тоже соскочил со скамейки, вытянулся по стойке смирно, как делали военные, которых ты недавно видел.
– До свидания, дедушка.
Старичок, опираясь на палку, с трудом передвигал ноги, а мы стояли и смотрели ему вслед. Вслед великой уходящей эпохе, подарившей нам жизнь и мирное небо над головой.
– Мам, а ты знаешь этого дедушку? – неожиданно произнес ты.
– Глупый, откуда же я могу его знать?
– Ты видела, сколько у него наград?
– Видела, видела.
– Я тоже столько хочу.
Ты всегда вызывал у меня улыбку, и я никогда не воспринимала всерьез твоих слов. Но сегодня мне показалось, что ты говоришь серьезно, и твой неподдельный интерес к увиденному, навел меня на мысль: Какой ценой достались этим людям их награды? Страшно представить, что должен пережить человек, чтобы удостоиться этой медали, ордена, знака отличия? И мне стало страшно за тебя.
– Ты еще не устал, герой? Может, поедем домой, поспим пару часиков, а потом вернемся?
– Да ты что, мам, мы же столько интересного пропустим.
До самого вечера мы гуляли по праздничной Москве. Скверы, парки, праздничные площадки, выставочные комплексы, всё, где слышался голос праздника, хотелось тебе увидеть. Я видела, что ты устал. Твои посоловевшие глаза выдавали тебя, но ты всячески старался это скрыть, показывая свою стойкость. Наша прогулка заканчивалась на Поклонной горе. Через дорогу находился наш дом, и мы не раз здесь бывали.
– Может, посмотрим салют дома, из окошка? – предложила я. Но ты насупил брови и отрицательно покачал головой.
Тебя привлекла толпа народа, стоявшая в очереди за воздушными шарами. Их разнообразные формы вздымались над торговой площадкой, терлись друг об друга, шелестя и поскрипывая.
– Мам, купи!
– Зачем он тебе? Куда ты его денешь? – протестовала я. – Он дома сдуется, или ты его лопнешь обо что-нибудь.
– Не лопну, ну купи, пожалуйста! Я хочу вот тот красный с блестящей звездой.
– Дайте нам красный шарик, вон тот, с надписью «Победа» – обратилась я к продавцу. Мужчина отвязал шарик и протянул тебе. – Держи, малец. Ты поблагодарил и прижал шарик к себе, ослепляя меня взглядом.
– Как, ты сказала, он называется?
– Не называется, а написано на нем «Победа». Видишь? Мы же учили с тобой буквы. Забыл?
– А это что за звезда? – Ты провел своей маленькой ладошкой по серебристому напылению на шарике.
– Это и есть орден «Победа».
В этот самый момент раздались первые залпы салюта, заставившие нас вздрогнуть. Вверх взметнулся столб разноцветного огня, рассыпаясь по небу ярким бисером. И сотни глаз восторженно загорелись, уставившись в темное небо, освещаемое яркими разноцветными вспышками. Твою усталость как рукой сняло. С каждым последующим раскатом, ты весело подпрыгивал, издавая радостные звуки.
Такой живой интерес к празднику 9 мая, я видела у тебя впервые. Стоя здесь, среди огромной толпы народа, под залпы праздничного салюта, я придерживала тебя за плечи, и перед моими глазами, словно искорка, пролетела история моей семьи. Где все мужчины, переняв эстафету, наследовали военные традиции. А что, если судьба распорядится и ты тоже станешь военным?
«Ты все равно должна будешь ему рассказать о героическом прошлом твоих предков: отца, деда и прадеда, невозможно и неправильно это скрывать», говорил мне внутренний голос. Я боялась разговоров об этом, и не знала, нужно ли тебе это сейчас. Сможешь ли ты понять? Я не переставала думать об этом все то мгновенье, пока длился праздничный фейерверк, когда небо озарялось всеми цветами радуги, и сотни голосов, в такт раскатам салюта выкрикивали победное «Ура».
Когда все закончилось, мы пошли домой. Ты какое-то время еще находился под впечатлением, но уже у самого дома начал клевать носом, и я взяла тебя на руки. В этот самый момент нитка, при помощи которой шарик был привязан к твоей руке распустилась, и он взмыл в небо. Налетевший теплый майский ветерок, подхватил его воздушное тело и помчал вперед.
– Мама! – Услышала я, и твое застывшее лицо с открытым ртом и грустными глазами, обращенное в сторону удаляющегося «Символа Победы», еще долго вспоминалось мне в тот вечер.
Мне казалось, что ты вот-вот заплачешь, и я начала успокаивать тебя. Но ты не плакал в этот праздничный день, ты отдал все свои силы и покойно дремал на моих руках.
…Уже лежа под одеялом, ты открыл глаза и спросил:
– А шарик улетел?
– Да сынок, улетел. Спи.
– А куда он полетел?
– Далеко, далеко, сквозь годы и расстояния.
– Мам, а кто такие фашисты? Тот дедушка в парке, мне так и не сказал. Расскажи ты.
– Спи давай, какие тебе фашисты на ночь глядя.
– А ты расскажи потихоньку, а я буду спать.
– Ну хорошо! – согласилась я. – Тогда представь, что ты, это улетевший шарик. Ты взмыл в небо высоко-высоко, и перед тобой открылись огромные пространства нашей Родины.
Ты зажмурил глаза, натянул одеяло повыше, накрывшись чуть ли не с головой, я легла рядом, и тихонько, чтобы не разбудить, начала рассказывать.
– Солнечные лучи наполняли шарик энергией света, а легкий ветерок гнал и кружил его над полями, унося все дальше от Москвы. Где-то внизу, словно букашки проползали люди и машины, виднелись серые силуэты домов, и где-то вдали у самого горизонта голубая полоска неба соединялась с зеленой полосой густых подмосковных лесов.
Вдруг, яркая вспышка света, все изменила. Стало как-то холодно, подул сильный осенний ветер, подхватил шарик и бросил его вниз, закружил словно водоворот, затягивая его внутрь.
Ты завертелся, засопел, но глаза не открыл. Я подождала, пока ты успокоишься и продолжила.
– Пейзаж окрасился в серые полутона, лишь пожелтевшая листва деревьев вносила в эту унылую картину пестрое разнообразие. Порывы ветра играли с шариком, то поднимая его ввысь, то прижимая к самой земле. Ее раскисшая поверхность обнажалась под грубой армейской обувью. Эшелоны солдат, преодолевая большие расстояния, двигались на запад. Сырые комья земли, вздымались большими грудами, пересекая поля, тянулись от одной кромки леса к другой. Сотни натруженных рук, кирками и лопатами копали траншеи. Женщины, подростки, старики трудились неустанно, переворачивая пласты сырой, тяжелой земли.
«Воздух»! – прозвучала команда, и все бросились в укрытие. Страшный гул разнеся над русской равниной, и десятки снарядов, со свистом полетели на землю, разрываясь и засыпая все вокруг горящими осколками.
Маленький шарик с трудом уворачивался, стараясь выбраться из этого ада. Продираясь сквозь черный дым, он наконец снова взмыл в небо. Невдалеке от него пролетели самолеты, с фашистской свастикой на борту. Они, сделав свое черное дело, уходили на запасной аэродром. Невыносимый гул стоял в небе над русской равниной.
– Фашисты, фашисты – повторял ты сквозь сон.
А шарик все летел и летел, то снижаясь, то снова взмывая ввысь. Белые хлопья снега посыпались с небес на землю. Холодные, ледяные бусинки застучали по поверхности шарика, окутывая его со всех сторон. Его движение снова замедлилось, и он стал спускаться. Вот уже видна большая дорога, а рядом с ней черная излучина широкой реки. Словно змея, она петляет, скрываясь за деревьями, и снова появляется из-за холма.
Со стороны дороги раздался шум двигателей, это темная колонна автомобилей медленно движется на запад. Но едва шарик приблизился к военному эшелону, как вдалеке показались танки, их было немного, но они двигались прямо на идущую колонну машин. Головной танк остановился и спустя мгновение раздался звук выстрела. Комья мерзлой земли взлетели рядом с автоколонной. Из тентовых кузовов повыскакивыли солдаты, и бросились в укрытие, готовясь к бою. Танки все ближе и ближе подбирались к теснившимся на узкой дороге грузовикам, которые пытались развернуться. Снова прозвучали выстрелы: один, другой третий. Кузов одной машины разлетелся в щепки от прямого попадания.
Но недолго длилось торжество фашистских танков. Как только эти железные машины выкатились на открытое поле, с противоположного берега реки заработали пушки. Они были хорошо укрыты, и были неприметны невооруженному глазу. Один за другим, звуки выстрелов и разрывы снарядов сотрясали землю. Один за другим загорались фашистские танки, наполняя воздух запахом гари и черного дыма.
Но шарик не останавливался и летел вперед, ему было интересно, что же там дальше, за лесом. Теряясь за темными свинцовыми тучами, он вновь выныривал из-под них, проносясь над макушками деревьев, снижаясь к водной глади еще незамерзшей реки. Он не заметил, как наступили вечерние сумерки. Все как будто замолкло вокруг и исчезло из поля зрения. Но не тут-то было. Темноту ноябрьского неба осветили сотни вспышек. С обеих сторон раздалась канонада. Феерия огня и взрывов заполнила собой округу.
Вот она, линия соприкосновения противоборствующих сторон. Битва добра и зла. Проверка на прочность и право на жизнь сильнейшему. Зависнув над этой огненной стихией, шарик стал свидетелем грандиозной битвы машин и орудий. Сколько еще продлилось это противостояние, и кто остался победителем, шарик так и не узнал. Очередным потоком холодного ветра, его сорвало с места и понесло дальше.
Как будто вынырнув из-под земли, шарик снова очутился на освещенной ярким солнцем местности.
«Что это за люди впереди? Их так много, и это точно не солдаты».
Это были дети. В белых рубашках с алыми галстуками, повязанными на шее, они вместе со своими старшими товарищами сажали молодые деревца.
«Какое странное место! На перекрестке двух дорог. И вдруг парк, а посреди него памятник. Что это за памятник? Молодая девушка с заведенными за спину руками. Кто она?»
Шарик снижается, практически к самому подножью памятника, делает круг, облетая его. Надпись на памятнике гласит:
«Зое – бессмертной героине советского народа…»
Шарик повторяет ее имя и снова взлетает вверх.
– Мам, а кто такая эта Зоя, и почему шарик не знает её имени? – произнес вдруг ты, открыв глаза. Я даже вздрогнула от неожиданности.
– Ты почему не спишь?
– Я слушаю, мам. Я хочу узнать, кто такая Зоя.
– Не будешь спать, ничего не узнаешь.
– Я буду, только ты рассказывай дальше. – Ты снова закрыл глаза и замолчал, готовясь слушать.
– Холодный, сырой ноябрьский воздух стал тяжелым и не позволял шарику подняться высоко над землей, он летел, задевая кроны деревьев и крыши домов. Куда гнал его ветер, он не знал. Местность кругом была незнакомая, и какая-то подозрительная тишина царила вокруг. Везде были леса и заснеженные белые равнины. Лишь вдалеке из трубы дома, тонкой струйкой поднимался к небу белый дымок. По мере того, как шарик приближался к домам, их становилось все больше и больше, и из-за перелеска показалась деревня. Опять показались люди. Они стояли кучно, и их темные силуэты отчетливо выделялись на белом фоне. По их лицам было видно, что они чем-то сильно напуганы. Их взгляды были обращены в одну сторону. Туда, где отчетливо слышалась немецкая речь.
Горстка фашистов истязала молодую девушку. Босую, полураздетую, они вывели ее на мороз на всеобщее обозрение. Тут же рядом была приготовлена виселица.
– Это показательная казнь, в назидание всем нам, за непослушание, – шептались местные жители.
– Так будет с каждым, кто осмелится не подчиняться нам! Смерть партизанам! – выкрикнул один из фашистов, в ответ трусливому шепоту в рядах.
Лишь юная героиня не изменила себе. Даже когда толстая веревка обвила ее хрупкую шею, она гордо произнесла:
– Люди! Будьте смелее! Боритесь, бейте фашистов! Жгите, травите их! Нет места черной нечисти на нашей земле! Я не боюсь умереть, товарищи! Это счастье – умереть за свою Родину.
Хлесткий удар по спине пронзил тело девушки нестерпимой болью, но она, закусив губу, промолчала, не издав ни звука.
– Вы меня сейчас повесите, но я не одна! Нас двести миллионов, всех не перевешаете! Вам отомстят за меня! – Это были ее последние слова.
И тут вдруг все увидели, что над их головами кружит красный шарик. Он покачивался на ветру, клонясь то в одну сторону, то в другую, потом, словно заметив на себе пристальные взгляды, сорвался с места и, гонимый потоком легкого ветерка, понесся в сторону домов.
– Убрать это! – закричал один из фашистов. И вслед шарику раздались пулеметные очереди, но он уже завернул за угол дома, и оказался во дворе. Своей длинной ниткой зацепившись за плетень, он никак не мог освободиться.
– Мам, смотри! – Маленький мальчик спрыгнул с подоконника и помчался во двор.
– Алешка, стой! Не смей выходить на улицу!
– Там знак, нужно его спрятать, пока немцы не увидели. – Выбежав на улицу, он принялся освобождать зацепившуюся нитку, как вдруг, у него над головой раздалась пулеметная очередь, и шарик, словно опавший лист, сник к земле. Алешка быстро подобрал его и сунул за пазуху. Перед ним стоял немец с протянутой рукой.
– Дай сюда! – произнес он по-русски с грубым акцентом.
Алешка отшатнулся от него и побежал в дом. На пороге его встретила мать. Немец шел прямо на них. Заслонив сына собой, она дала понять фашисту, что любой ценой будет защищать своего ребенка.
– Прочь, женщина!
– Не смей его трогать! – Ее сухая чуть сгорбленная фигура и потемневшее с заостренными скулами лицо было еще не старым и показалось немцу приятным.
Но в ее ярких, черных глазах он прочитал, что даже под страхом смерти, она не отдаст ему сына. Так они стояли и смотрели друг на друга, и фашист не посмел тронуть ни её, ни сына.Он лишь выругался по-немецки, плюнул под ноги, и пошел прочь со двора.
Дома Алешка разложил шарик на столе и прочитал надпись «Победа», проведя рукой по шершавой эмблеме ордена.
– Это знак, мам!
– Какой знак?
– Знак из Москвы!
– Значит недолго им осталось! – произнесла мать, прочитав слово «Победа».
И она не ошиблась. Ровно через неделю началось контрнаступление Красной армии под Москвой, по результатам которого фашисты были отброшены на сто пятьдесят – двести километров. А уже в январе Алешка с мамой встречали освободителей на своей земле.
Ты спал и улыбался во сне. Я знала, что ты счастлив и у тебя все хорошо. И я была счастлива вместе с тобой. Собравшись уходить, я случайно обратила внимание на стопку альбомов с фотографиями, пылившихся на полке шкафа. Я схватила первый попавшийся и открыла. Мне на колени упала маленькая пожелтевшая фотокарточка. Оттуда прямо на меня смотрели выразительные глаза белокурого мальчика, как две капли похожего на тебя. Я поднесла фотографию к твоему умиленному, спящему личику. «Вот кто это был» вспомнила я. «И почему я раньше не замечала этого»? Я положила фотокарточку рядом с твоей головой, нежно поцеловала, и, погасив свет, вышла из комнаты.
Этим утром ты проснулся сам, и мне не пришлось тебя будить. Ты сидел на своей постели и расправлял перекрутившуюся за ночь майку. Глаза твои искрились так же как и прошлым вечером, когда ты в предвкушении схватив табурет, бросился с ним мне наперерез, и я чуть не обожгла тебя горячим чаем. Ты даже не заметил меня. Поставив его возле стены и забравшись на него, ты отметил красным крестом день в календаре. День 9 мая. Мне было приятно, что тебе, шестилетнему мальчику, уже известен этот светлый, праздничный день. Но когда ты мне заявил:
– Мам! Почему ты все еще не одета? Ты разве не знаешь, что сегодня парад, и мы должны на нем быть, – я на минуту опешила и не знала что сказать.
– Ты хочешь поехать на Красную площадь?
– Конечно! Ты разве не знаешь, какой сегодня день?
Я, конечно, об этом знала, но вот когда для тебя этот день стал так важен? Я смотрела на тебя, и мне казалось, что в твоем лице я видела что-то, до боли знакомое мне с детства. Твои голубые огромные глаза, сияющие утренним светом и чистотой. Белые пряди нечесаных волос, сбитых в овин и торчащих в разные стороны. Твои брови, сползающие к переносице, когда ты хмуришься, и все время смеющаяся линия рта. Этот образ запомнился мне с самого детства, но чей он, я никак не могла вспомнить…
Когда мы вышли во двор, весеннее ласковое солнце встретило нас теплыми лучами. Оно щипало глаза и заставляло прятаться в тень. Ты морщился, крутил головой и по твоим щекам катились прозрачные слезинки. Но скоро все прошло, и твои глаза привыкли к свету.
На площади, куда мы пришли, было много народа. Играла музыка. Ты держал меня за руку, боясь потеряться, и смотрел по сторонам. Когда все началось, ты затаил дыхание. Твои глаза раскрылись еще шире, следя за тем, как стройные ряды молодых, красивых, статных военных шагают колоннами по брусчатке главной площади страны.
– Алешка, и ты здесь! – Раздался знакомый голос, и крепкие мужские руки подхватили тебя и подняли вверх. Это был дедушка твоего друга Мишки, который собирал вас каждые выходные и рассказывал разные истории. Когда ты оказался у него на плечах, меня охватило волнение. Но твой довольный искрящийся взгляд успокоил меня. Сложив руки на голове Мишкиного дедушки, ты пристально наблюдал за парадом.
– Я самый высокий здесь! – восхищался ты, поглядывая сверху вниз на меня.
– Сиди спокойно! – я сурово посмотрела на тебя и погрозила пальцем.
Когда загрохотала тяжелая техника, ты напрягся от волнения, и в таком восторженном напряжении просидел до тех пор, пока хвост танковой колоны не скрылся за Васильевским спуском.
– Мам, ты видела какие они…, мам, а ты видела когда они…, мам а ты видела сколько у них…? – поток нескончаемого удивления и бессвязной восторженной речи срывался с твоих уст, когда мы вместе со всеми гостями покидали Красную площадь. Спустя время, на скамейке в Нескучном саду, под звуки солдатской гармошки, ты уже уплетал мороженое, наслаждаясь атмосферой парка. Болтая ногами и раскачиваясь, словно на качелях, ты с любопытством рассматривал окружающих.
– Доешь сначала, а потом будешь качаться!
– Я больше не хочу. На! – Ты отдал мне остатки своего мороженого, спрыгнул с лавочки и в два счета оказался перед людьми в военной форме, которые сидели неподалеку. Тебя привлекло огромное количество наград на кителе пожилого мужчины. Взобравшись на лавочку, ты сел рядом с ним, ничуть не постеснявшись.
– Алеша, ну-ка вернись! – волновалась я. Но ты не слушал. Тебе было интересно с ними.
«Пусть посмотрит, ему же интересно. Он никогда не видел этого». – Услышала я свой внутренний голос.
– Дедушка, а это все твои? – Ты подполз ближе к ветерану и принялся рассматривать медали.
– Мои, внучек, мои. – Старичок посадил тебя к себе на колени, и поглаживая по голове сам с интересом смотрел на тебя.
Я не спускала с тебя глаз.
– А откуда у тебя столько? – Ты трогал медали руками, и сердце мое сжималось. Мне казалось, что так нельзя, и хотелось одернуть тебя, но улыбка ветерана говорила об обратном.
– Заслужил.
– Заслужи-и-и-и-л!? А как это?
– Хэ-хэ-хэ, вот вырастишь, узнаешь как это.
– Деда, а что здесь написано? – Ты указал пальцем на одну из медалей.
– А ты разве читать не умеешь?
Ты устыдился и покачал головой.
– Здесь написано «Наше дело правое, мы победили!» Это медаль за победу над фашистской Германией. Знаешь кто такие фашисты?
Ты опять отрицательно покачал головой. И мне стало стыдно за себя.
– Мама тебе не рассказывала?
– Нет.
– Эээ, да ты наверное и в школу еще не ходишь.
– В следующем году пойду.
– А звать то тебя как?
– Алешка! – С гордостью воскликнул ты.
– Молодец! Геройское имя. Песня даже такая есть, «Алеша» называется. Тоже наверное не слышал?
Ты вздохнул горестно, и потупив глаза надул губы.
– Ну ладно тебе, не дуйся. Придет время, обо всем узнаешь, если захочешь. У мамки у своей спроси, может она тебе расскажет. – Старичок погладил тебя по белокурой голове, потом с трудом поднялся и, посмотрев на мальчугана, взял под козырек.
– Ну, бывай, Алешка!
Ты тоже соскочил со скамейки, вытянулся по стойке смирно, как делали военные, которых ты недавно видел.
– До свидания, дедушка.
Старичок, опираясь на палку, с трудом передвигал ноги, а мы стояли и смотрели ему вслед. Вслед великой уходящей эпохе, подарившей нам жизнь и мирное небо над головой.
– Мам, а ты знаешь этого дедушку? – неожиданно произнес ты.
– Глупый, откуда же я могу его знать?
– Ты видела, сколько у него наград?
– Видела, видела.
– Я тоже столько хочу.
Ты всегда вызывал у меня улыбку, и я никогда не воспринимала всерьез твоих слов. Но сегодня мне показалось, что ты говоришь серьезно, и твой неподдельный интерес к увиденному, навел меня на мысль: Какой ценой достались этим людям их награды? Страшно представить, что должен пережить человек, чтобы удостоиться этой медали, ордена, знака отличия? И мне стало страшно за тебя.
– Ты еще не устал, герой? Может, поедем домой, поспим пару часиков, а потом вернемся?
– Да ты что, мам, мы же столько интересного пропустим.
До самого вечера мы гуляли по праздничной Москве. Скверы, парки, праздничные площадки, выставочные комплексы, всё, где слышался голос праздника, хотелось тебе увидеть. Я видела, что ты устал. Твои посоловевшие глаза выдавали тебя, но ты всячески старался это скрыть, показывая свою стойкость. Наша прогулка заканчивалась на Поклонной горе. Через дорогу находился наш дом, и мы не раз здесь бывали.
– Может, посмотрим салют дома, из окошка? – предложила я. Но ты насупил брови и отрицательно покачал головой.
Тебя привлекла толпа народа, стоявшая в очереди за воздушными шарами. Их разнообразные формы вздымались над торговой площадкой, терлись друг об друга, шелестя и поскрипывая.
– Мам, купи!
– Зачем он тебе? Куда ты его денешь? – протестовала я. – Он дома сдуется, или ты его лопнешь обо что-нибудь.
– Не лопну, ну купи, пожалуйста! Я хочу вот тот красный с блестящей звездой.
– Дайте нам красный шарик, вон тот, с надписью «Победа» – обратилась я к продавцу. Мужчина отвязал шарик и протянул тебе. – Держи, малец. Ты поблагодарил и прижал шарик к себе, ослепляя меня взглядом.
– Как, ты сказала, он называется?
– Не называется, а написано на нем «Победа». Видишь? Мы же учили с тобой буквы. Забыл?
– А это что за звезда? – Ты провел своей маленькой ладошкой по серебристому напылению на шарике.
– Это и есть орден «Победа».
В этот самый момент раздались первые залпы салюта, заставившие нас вздрогнуть. Вверх взметнулся столб разноцветного огня, рассыпаясь по небу ярким бисером. И сотни глаз восторженно загорелись, уставившись в темное небо, освещаемое яркими разноцветными вспышками. Твою усталость как рукой сняло. С каждым последующим раскатом, ты весело подпрыгивал, издавая радостные звуки.
Такой живой интерес к празднику 9 мая, я видела у тебя впервые. Стоя здесь, среди огромной толпы народа, под залпы праздничного салюта, я придерживала тебя за плечи, и перед моими глазами, словно искорка, пролетела история моей семьи. Где все мужчины, переняв эстафету, наследовали военные традиции. А что, если судьба распорядится и ты тоже станешь военным?
«Ты все равно должна будешь ему рассказать о героическом прошлом твоих предков: отца, деда и прадеда, невозможно и неправильно это скрывать», говорил мне внутренний голос. Я боялась разговоров об этом, и не знала, нужно ли тебе это сейчас. Сможешь ли ты понять? Я не переставала думать об этом все то мгновенье, пока длился праздничный фейерверк, когда небо озарялось всеми цветами радуги, и сотни голосов, в такт раскатам салюта выкрикивали победное «Ура».
Когда все закончилось, мы пошли домой. Ты какое-то время еще находился под впечатлением, но уже у самого дома начал клевать носом, и я взяла тебя на руки. В этот самый момент нитка, при помощи которой шарик был привязан к твоей руке распустилась, и он взмыл в небо. Налетевший теплый майский ветерок, подхватил его воздушное тело и помчал вперед.
– Мама! – Услышала я, и твое застывшее лицо с открытым ртом и грустными глазами, обращенное в сторону удаляющегося «Символа Победы», еще долго вспоминалось мне в тот вечер.
Мне казалось, что ты вот-вот заплачешь, и я начала успокаивать тебя. Но ты не плакал в этот праздничный день, ты отдал все свои силы и покойно дремал на моих руках.
…Уже лежа под одеялом, ты открыл глаза и спросил:
– А шарик улетел?
– Да сынок, улетел. Спи.
– А куда он полетел?
– Далеко, далеко, сквозь годы и расстояния.
– Мам, а кто такие фашисты? Тот дедушка в парке, мне так и не сказал. Расскажи ты.
– Спи давай, какие тебе фашисты на ночь глядя.
– А ты расскажи потихоньку, а я буду спать.
– Ну хорошо! – согласилась я. – Тогда представь, что ты, это улетевший шарик. Ты взмыл в небо высоко-высоко, и перед тобой открылись огромные пространства нашей Родины.
Ты зажмурил глаза, натянул одеяло повыше, накрывшись чуть ли не с головой, я легла рядом, и тихонько, чтобы не разбудить, начала рассказывать.
– Солнечные лучи наполняли шарик энергией света, а легкий ветерок гнал и кружил его над полями, унося все дальше от Москвы. Где-то внизу, словно букашки проползали люди и машины, виднелись серые силуэты домов, и где-то вдали у самого горизонта голубая полоска неба соединялась с зеленой полосой густых подмосковных лесов.
Вдруг, яркая вспышка света, все изменила. Стало как-то холодно, подул сильный осенний ветер, подхватил шарик и бросил его вниз, закружил словно водоворот, затягивая его внутрь.
Ты завертелся, засопел, но глаза не открыл. Я подождала, пока ты успокоишься и продолжила.
– Пейзаж окрасился в серые полутона, лишь пожелтевшая листва деревьев вносила в эту унылую картину пестрое разнообразие. Порывы ветра играли с шариком, то поднимая его ввысь, то прижимая к самой земле. Ее раскисшая поверхность обнажалась под грубой армейской обувью. Эшелоны солдат, преодолевая большие расстояния, двигались на запад. Сырые комья земли, вздымались большими грудами, пересекая поля, тянулись от одной кромки леса к другой. Сотни натруженных рук, кирками и лопатами копали траншеи. Женщины, подростки, старики трудились неустанно, переворачивая пласты сырой, тяжелой земли.
«Воздух»! – прозвучала команда, и все бросились в укрытие. Страшный гул разнеся над русской равниной, и десятки снарядов, со свистом полетели на землю, разрываясь и засыпая все вокруг горящими осколками.
Маленький шарик с трудом уворачивался, стараясь выбраться из этого ада. Продираясь сквозь черный дым, он наконец снова взмыл в небо. Невдалеке от него пролетели самолеты, с фашистской свастикой на борту. Они, сделав свое черное дело, уходили на запасной аэродром. Невыносимый гул стоял в небе над русской равниной.
– Фашисты, фашисты – повторял ты сквозь сон.
А шарик все летел и летел, то снижаясь, то снова взмывая ввысь. Белые хлопья снега посыпались с небес на землю. Холодные, ледяные бусинки застучали по поверхности шарика, окутывая его со всех сторон. Его движение снова замедлилось, и он стал спускаться. Вот уже видна большая дорога, а рядом с ней черная излучина широкой реки. Словно змея, она петляет, скрываясь за деревьями, и снова появляется из-за холма.
Со стороны дороги раздался шум двигателей, это темная колонна автомобилей медленно движется на запад. Но едва шарик приблизился к военному эшелону, как вдалеке показались танки, их было немного, но они двигались прямо на идущую колонну машин. Головной танк остановился и спустя мгновение раздался звук выстрела. Комья мерзлой земли взлетели рядом с автоколонной. Из тентовых кузовов повыскакивыли солдаты, и бросились в укрытие, готовясь к бою. Танки все ближе и ближе подбирались к теснившимся на узкой дороге грузовикам, которые пытались развернуться. Снова прозвучали выстрелы: один, другой третий. Кузов одной машины разлетелся в щепки от прямого попадания.
Но недолго длилось торжество фашистских танков. Как только эти железные машины выкатились на открытое поле, с противоположного берега реки заработали пушки. Они были хорошо укрыты, и были неприметны невооруженному глазу. Один за другим, звуки выстрелов и разрывы снарядов сотрясали землю. Один за другим загорались фашистские танки, наполняя воздух запахом гари и черного дыма.
Но шарик не останавливался и летел вперед, ему было интересно, что же там дальше, за лесом. Теряясь за темными свинцовыми тучами, он вновь выныривал из-под них, проносясь над макушками деревьев, снижаясь к водной глади еще незамерзшей реки. Он не заметил, как наступили вечерние сумерки. Все как будто замолкло вокруг и исчезло из поля зрения. Но не тут-то было. Темноту ноябрьского неба осветили сотни вспышек. С обеих сторон раздалась канонада. Феерия огня и взрывов заполнила собой округу.
Вот она, линия соприкосновения противоборствующих сторон. Битва добра и зла. Проверка на прочность и право на жизнь сильнейшему. Зависнув над этой огненной стихией, шарик стал свидетелем грандиозной битвы машин и орудий. Сколько еще продлилось это противостояние, и кто остался победителем, шарик так и не узнал. Очередным потоком холодного ветра, его сорвало с места и понесло дальше.
Как будто вынырнув из-под земли, шарик снова очутился на освещенной ярким солнцем местности.
«Что это за люди впереди? Их так много, и это точно не солдаты».
Это были дети. В белых рубашках с алыми галстуками, повязанными на шее, они вместе со своими старшими товарищами сажали молодые деревца.
«Какое странное место! На перекрестке двух дорог. И вдруг парк, а посреди него памятник. Что это за памятник? Молодая девушка с заведенными за спину руками. Кто она?»
Шарик снижается, практически к самому подножью памятника, делает круг, облетая его. Надпись на памятнике гласит:
«Зое – бессмертной героине советского народа…»
Шарик повторяет ее имя и снова взлетает вверх.
– Мам, а кто такая эта Зоя, и почему шарик не знает её имени? – произнес вдруг ты, открыв глаза. Я даже вздрогнула от неожиданности.
– Ты почему не спишь?
– Я слушаю, мам. Я хочу узнать, кто такая Зоя.
– Не будешь спать, ничего не узнаешь.
– Я буду, только ты рассказывай дальше. – Ты снова закрыл глаза и замолчал, готовясь слушать.
– Холодный, сырой ноябрьский воздух стал тяжелым и не позволял шарику подняться высоко над землей, он летел, задевая кроны деревьев и крыши домов. Куда гнал его ветер, он не знал. Местность кругом была незнакомая, и какая-то подозрительная тишина царила вокруг. Везде были леса и заснеженные белые равнины. Лишь вдалеке из трубы дома, тонкой струйкой поднимался к небу белый дымок. По мере того, как шарик приближался к домам, их становилось все больше и больше, и из-за перелеска показалась деревня. Опять показались люди. Они стояли кучно, и их темные силуэты отчетливо выделялись на белом фоне. По их лицам было видно, что они чем-то сильно напуганы. Их взгляды были обращены в одну сторону. Туда, где отчетливо слышалась немецкая речь.
Горстка фашистов истязала молодую девушку. Босую, полураздетую, они вывели ее на мороз на всеобщее обозрение. Тут же рядом была приготовлена виселица.
– Это показательная казнь, в назидание всем нам, за непослушание, – шептались местные жители.
– Так будет с каждым, кто осмелится не подчиняться нам! Смерть партизанам! – выкрикнул один из фашистов, в ответ трусливому шепоту в рядах.
Лишь юная героиня не изменила себе. Даже когда толстая веревка обвила ее хрупкую шею, она гордо произнесла:
– Люди! Будьте смелее! Боритесь, бейте фашистов! Жгите, травите их! Нет места черной нечисти на нашей земле! Я не боюсь умереть, товарищи! Это счастье – умереть за свою Родину.
Хлесткий удар по спине пронзил тело девушки нестерпимой болью, но она, закусив губу, промолчала, не издав ни звука.
– Вы меня сейчас повесите, но я не одна! Нас двести миллионов, всех не перевешаете! Вам отомстят за меня! – Это были ее последние слова.
И тут вдруг все увидели, что над их головами кружит красный шарик. Он покачивался на ветру, клонясь то в одну сторону, то в другую, потом, словно заметив на себе пристальные взгляды, сорвался с места и, гонимый потоком легкого ветерка, понесся в сторону домов.
– Убрать это! – закричал один из фашистов. И вслед шарику раздались пулеметные очереди, но он уже завернул за угол дома, и оказался во дворе. Своей длинной ниткой зацепившись за плетень, он никак не мог освободиться.
– Мам, смотри! – Маленький мальчик спрыгнул с подоконника и помчался во двор.
– Алешка, стой! Не смей выходить на улицу!
– Там знак, нужно его спрятать, пока немцы не увидели. – Выбежав на улицу, он принялся освобождать зацепившуюся нитку, как вдруг, у него над головой раздалась пулеметная очередь, и шарик, словно опавший лист, сник к земле. Алешка быстро подобрал его и сунул за пазуху. Перед ним стоял немец с протянутой рукой.
– Дай сюда! – произнес он по-русски с грубым акцентом.
Алешка отшатнулся от него и побежал в дом. На пороге его встретила мать. Немец шел прямо на них. Заслонив сына собой, она дала понять фашисту, что любой ценой будет защищать своего ребенка.
– Прочь, женщина!
– Не смей его трогать! – Ее сухая чуть сгорбленная фигура и потемневшее с заостренными скулами лицо было еще не старым и показалось немцу приятным.
Но в ее ярких, черных глазах он прочитал, что даже под страхом смерти, она не отдаст ему сына. Так они стояли и смотрели друг на друга, и фашист не посмел тронуть ни её, ни сына.Он лишь выругался по-немецки, плюнул под ноги, и пошел прочь со двора.
Дома Алешка разложил шарик на столе и прочитал надпись «Победа», проведя рукой по шершавой эмблеме ордена.
– Это знак, мам!
– Какой знак?
– Знак из Москвы!
– Значит недолго им осталось! – произнесла мать, прочитав слово «Победа».
И она не ошиблась. Ровно через неделю началось контрнаступление Красной армии под Москвой, по результатам которого фашисты были отброшены на сто пятьдесят – двести километров. А уже в январе Алешка с мамой встречали освободителей на своей земле.
Ты спал и улыбался во сне. Я знала, что ты счастлив и у тебя все хорошо. И я была счастлива вместе с тобой. Собравшись уходить, я случайно обратила внимание на стопку альбомов с фотографиями, пылившихся на полке шкафа. Я схватила первый попавшийся и открыла. Мне на колени упала маленькая пожелтевшая фотокарточка. Оттуда прямо на меня смотрели выразительные глаза белокурого мальчика, как две капли похожего на тебя. Я поднесла фотографию к твоему умиленному, спящему личику. «Вот кто это был» вспомнила я. «И почему я раньше не замечала этого»? Я положила фотокарточку рядом с твоей головой, нежно поцеловала, и, погасив свет, вышла из комнаты.
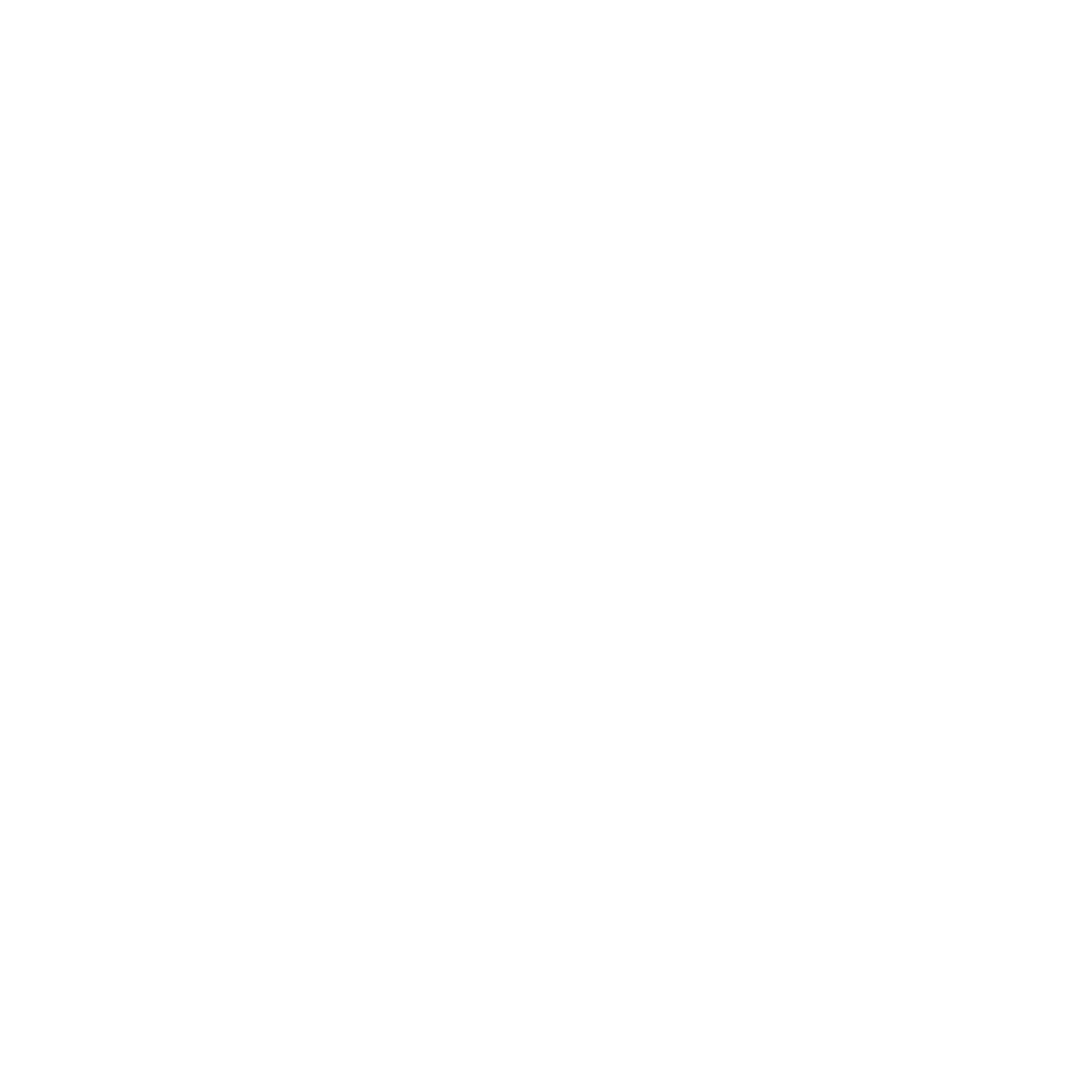
Антонина СПИРИДОНОВА
Родилась на Украине. До переезда в подмосковный Дедовск более 20 лет прожила в г. Актобе (Казахстан). Работает в Москве. Член Союза писателей России. Автор книг стихов «Земляничная зима» (2007), «Здравствуй» (2014), «Сердце к сердцу. Букет трилистников (2018), в соавторстве с поэтами Владиславом Цылёвым и Юлией Великановой. Активно публикуется в литературных журналах, альманахах и коллективных сборниках, лауреат литературных конкурсов, награждена медалями, дипломами и грамотами Московской городской организации Союза писателей РФ.
Родилась на Украине. До переезда в подмосковный Дедовск более 20 лет прожила в г. Актобе (Казахстан). Работает в Москве. Член Союза писателей России. Автор книг стихов «Земляничная зима» (2007), «Здравствуй» (2014), «Сердце к сердцу. Букет трилистников (2018), в соавторстве с поэтами Владиславом Цылёвым и Юлией Великановой. Активно публикуется в литературных журналах, альманахах и коллективных сборниках, лауреат литературных конкурсов, награждена медалями, дипломами и грамотами Московской городской организации Союза писателей РФ.
СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ
– Всё вокруг – это жизнь. Всё, что вошло в мир и пребывает в нём…
Бабушка лежит на высокой хирургической кровати. В палате светло, тепло и просторно, а за окном съёжилась от мороза тонкая берёзка, прижала к себе омертвевшие листья, словно укрыться ими пытается. Листья не успели пожелтеть. Дрожат они на ветру – странные, сизо-зелёные, ни живые, ни мёртвые…
Бабушка ловит мой взгляд. Слабо улыбается:
– Если тебе кажется иначе или что-то выглядит не так, – в нём всё равно скрыта жизнь. Наш мир родит жизнь даже из останков того, что его покидает.
Я едва сдерживаю слёзы. Бабушку готовят к операции. Доктор сказал, что шансов почти нет, но без операции их нет совсем. Бабушка всё понимает, сама бывший хирург, здесь же в военном госпитале работала. Много крови и боли перевидала…
– Ты землянику принесла? – спрашивает бабушка.
– Да, но тебе же нельзя.
– Я и не буду. Поставь на столике, пусть красуется – сладость земли родимой.
Крупная садовая земляника красуется в искристом хрустальном салатнике. Её запах сладким облаком плывёт по больничной палате, перенося нас в весну, в самое начало лета. Я закрываю глаза, впитываю бабушкин голос, вслушиваюсь в её рассказ…
…Помню, той весною в сорок третьем всё дружно выстрелило. В рост пошло. Война только-только откатилась от Москвы. Совсем недавно пушки утихли, и вот уже раскатисто, на правах победителя, гром грохочет:
– Ур-ра! Ур-ра! Урожаев пора…
Жарко. Босые ноги несут меня по мягкой от частых дождей лесной тропинке и дальше, прочь с тропы, в густую траву, к близким берёзкам, под сень леса – к ягодной сладости!
– Невеста, стой же, егоза! Нельзя туда! Опасно! – сердито кричит мне вслед сержант дядя Серёжа. Но я отмахиваюсь. Не накажет! И даже ругать не станет. Мы друзья. Сегодня землянику собираем. Всё, что он находит, я тут же съедаю с его большой шершавой, пахнущей махоркой ладони. А он смеётся:
– Оголодала моя невеста. Ешь-ешь, непоседушка.
Мне седьмой год. Здесь я родилась, здесь мой дом. Вообще-то сам дом сгорел, когда бомбёжки начались. В эвакуацию мы опоздали. Последний поезд с Курского вокзала ушёл без нас. Город закрыли и обратно нас уже не выпустили. Мы целую зиму жили при вокзале. Мама в госпитале медсестрой работала. Отец воевал где-то неподалёку. Москву защищал. А когда немцев отогнали, и отец вернулся. К маминой и нашей с братом радости. Больной, израненный, но живой, слава Богу.
– Руки-ноги целы, а то, что живот разворотило, и половину кишок вырезали – это ничего, новые отрастут, – шутил отец. Но тяжёлого поднимать он не мог, и даже нас, детей, на колени брал с осторожностью.
Мы жили в казавшейся мне тогда огромной коммунальной квартире в бывшем Гучковском особняке, неподалеку от станции Дедово. Отец, инженер-путеец, работал начальником станции. Мама возилась с младшим плаксой-братиком Васькой. А я росла сама себе хозяйкой. Детей сверстников в моём окружении не было. Дружила я с солдатами. Они меня знали, привечали и угощали, чем могли, кто хлеба краюхой, кто сахаром, а то и горьким шоколадом. Самый большой мой друг сержант дядя Серёжа рассказывал:
– Мы, невеста, леса подмосковные чистим, мины убираем и оружие всякое, и вражье, и наше, чтобы ты спокойно грибы-ягоды собирать могла и братик твой, когда подрастёт…
Ходила я везде, не обращая внимания на посты и караулы. Окликнут:
– Здравствуй, невеста, проходи-проходи…
А в расположении части и накормят меня и, бывало, вымоют чумазую. И мыла дадут для мамы и брата в подарок. Те, что постарше, о семьях своих, о дочерях и сыновьях в кипящем вареве войны оставшихся, тосковали. А молодые сестрёнку младшую во мне видели. Но все невестою звали. Это теперь – Нина Петровна, заслуженный пенсионер… А тогда… Дадут мне котелок солдатской каши, гордо несу его домой – кормилица, мама похвалит. Иду вдоль Волоколамки, и обязательно какая-нибудь из проезжающих полуторок остановится:
– Здравствуй, невеста, домой торопишься? – И подвезут до самого переезда. А дома ждут – каша эта из солдатского котелка была, скажу прямо, семье нашей хорошим подспорьем.
…Так вот, бегу я по травам изумрудным, травы колышутся, солнечные блики по ним приплясывают, и вдруг – ой, острый камешек в ногу впился. Села, вожу рукой по подошве. Дядя Серёжа догнал меня, склонился, ногу осматривает, утешает меня:
– Ну, ничего страшного, крови нет, на камешек накололась, но не поранилась.
И тут я замечаю – в траве вокруг меня алые крапины рассыпаны. Много их.
– Ух-ты! Земляничка спелая!
Бегу от одной к другой. Срываю ягодки душистые. Щедро дарит земля родная сладости свои. За кустами полянка открывается. И земляники там тоже видимо-невидимо. Продираюсь сквозь заросли, вкусноту предвкушая. Но дядя Серёжа с высоты своего роста видит впереди то, чего я пока не замечаю:
– Постой, невеста! Не ходи туда. Ой, стой же!..
На заветной полянке земляники действительно пропасть. И вот она передо мною – сама королева-земляничища, огромная, налитая, медово-красная. Срываю и в рот. Сладко! Ничего слаще я, наверное, так за всю жизнь и не пробовала. Съела ягоду и только потом заметила, что кустик земляничный сквозь отверстие пулей в каске пробитое пророс, а из-под травы очертания человеческие угадываются. Немец там полёг, а может, и нашего солдата-защитника родная земля приняла…
Бабушка замолкает. Мы снова в больничной палате, а за окном нынешняя московская зима, морозная и бесснежная.
– Ой, страшно тебе, наверное, было?! – вскрикиваю я.
Бабушка улыбается:
– Весь ужас ситуации я лишь с годами осознала. А тогда и страшно-то не было. Перешагнула я через каску, пулей пробитую, и побежала дальше в жизнь.
– Всё вокруг – это жизнь. Всё, что вошло в мир и пребывает в нём…
Бабушка лежит на высокой хирургической кровати. В палате светло, тепло и просторно, а за окном съёжилась от мороза тонкая берёзка, прижала к себе омертвевшие листья, словно укрыться ими пытается. Листья не успели пожелтеть. Дрожат они на ветру – странные, сизо-зелёные, ни живые, ни мёртвые…
Бабушка ловит мой взгляд. Слабо улыбается:
– Если тебе кажется иначе или что-то выглядит не так, – в нём всё равно скрыта жизнь. Наш мир родит жизнь даже из останков того, что его покидает.
Я едва сдерживаю слёзы. Бабушку готовят к операции. Доктор сказал, что шансов почти нет, но без операции их нет совсем. Бабушка всё понимает, сама бывший хирург, здесь же в военном госпитале работала. Много крови и боли перевидала…
– Ты землянику принесла? – спрашивает бабушка.
– Да, но тебе же нельзя.
– Я и не буду. Поставь на столике, пусть красуется – сладость земли родимой.
Крупная садовая земляника красуется в искристом хрустальном салатнике. Её запах сладким облаком плывёт по больничной палате, перенося нас в весну, в самое начало лета. Я закрываю глаза, впитываю бабушкин голос, вслушиваюсь в её рассказ…
…Помню, той весною в сорок третьем всё дружно выстрелило. В рост пошло. Война только-только откатилась от Москвы. Совсем недавно пушки утихли, и вот уже раскатисто, на правах победителя, гром грохочет:
– Ур-ра! Ур-ра! Урожаев пора…
Жарко. Босые ноги несут меня по мягкой от частых дождей лесной тропинке и дальше, прочь с тропы, в густую траву, к близким берёзкам, под сень леса – к ягодной сладости!
– Невеста, стой же, егоза! Нельзя туда! Опасно! – сердито кричит мне вслед сержант дядя Серёжа. Но я отмахиваюсь. Не накажет! И даже ругать не станет. Мы друзья. Сегодня землянику собираем. Всё, что он находит, я тут же съедаю с его большой шершавой, пахнущей махоркой ладони. А он смеётся:
– Оголодала моя невеста. Ешь-ешь, непоседушка.
Мне седьмой год. Здесь я родилась, здесь мой дом. Вообще-то сам дом сгорел, когда бомбёжки начались. В эвакуацию мы опоздали. Последний поезд с Курского вокзала ушёл без нас. Город закрыли и обратно нас уже не выпустили. Мы целую зиму жили при вокзале. Мама в госпитале медсестрой работала. Отец воевал где-то неподалёку. Москву защищал. А когда немцев отогнали, и отец вернулся. К маминой и нашей с братом радости. Больной, израненный, но живой, слава Богу.
– Руки-ноги целы, а то, что живот разворотило, и половину кишок вырезали – это ничего, новые отрастут, – шутил отец. Но тяжёлого поднимать он не мог, и даже нас, детей, на колени брал с осторожностью.
Мы жили в казавшейся мне тогда огромной коммунальной квартире в бывшем Гучковском особняке, неподалеку от станции Дедово. Отец, инженер-путеец, работал начальником станции. Мама возилась с младшим плаксой-братиком Васькой. А я росла сама себе хозяйкой. Детей сверстников в моём окружении не было. Дружила я с солдатами. Они меня знали, привечали и угощали, чем могли, кто хлеба краюхой, кто сахаром, а то и горьким шоколадом. Самый большой мой друг сержант дядя Серёжа рассказывал:
– Мы, невеста, леса подмосковные чистим, мины убираем и оружие всякое, и вражье, и наше, чтобы ты спокойно грибы-ягоды собирать могла и братик твой, когда подрастёт…
Ходила я везде, не обращая внимания на посты и караулы. Окликнут:
– Здравствуй, невеста, проходи-проходи…
А в расположении части и накормят меня и, бывало, вымоют чумазую. И мыла дадут для мамы и брата в подарок. Те, что постарше, о семьях своих, о дочерях и сыновьях в кипящем вареве войны оставшихся, тосковали. А молодые сестрёнку младшую во мне видели. Но все невестою звали. Это теперь – Нина Петровна, заслуженный пенсионер… А тогда… Дадут мне котелок солдатской каши, гордо несу его домой – кормилица, мама похвалит. Иду вдоль Волоколамки, и обязательно какая-нибудь из проезжающих полуторок остановится:
– Здравствуй, невеста, домой торопишься? – И подвезут до самого переезда. А дома ждут – каша эта из солдатского котелка была, скажу прямо, семье нашей хорошим подспорьем.
…Так вот, бегу я по травам изумрудным, травы колышутся, солнечные блики по ним приплясывают, и вдруг – ой, острый камешек в ногу впился. Села, вожу рукой по подошве. Дядя Серёжа догнал меня, склонился, ногу осматривает, утешает меня:
– Ну, ничего страшного, крови нет, на камешек накололась, но не поранилась.
И тут я замечаю – в траве вокруг меня алые крапины рассыпаны. Много их.
– Ух-ты! Земляничка спелая!
Бегу от одной к другой. Срываю ягодки душистые. Щедро дарит земля родная сладости свои. За кустами полянка открывается. И земляники там тоже видимо-невидимо. Продираюсь сквозь заросли, вкусноту предвкушая. Но дядя Серёжа с высоты своего роста видит впереди то, чего я пока не замечаю:
– Постой, невеста! Не ходи туда. Ой, стой же!..
На заветной полянке земляники действительно пропасть. И вот она передо мною – сама королева-земляничища, огромная, налитая, медово-красная. Срываю и в рот. Сладко! Ничего слаще я, наверное, так за всю жизнь и не пробовала. Съела ягоду и только потом заметила, что кустик земляничный сквозь отверстие пулей в каске пробитое пророс, а из-под травы очертания человеческие угадываются. Немец там полёг, а может, и нашего солдата-защитника родная земля приняла…
Бабушка замолкает. Мы снова в больничной палате, а за окном нынешняя московская зима, морозная и бесснежная.
– Ой, страшно тебе, наверное, было?! – вскрикиваю я.
Бабушка улыбается:
– Весь ужас ситуации я лишь с годами осознала. А тогда и страшно-то не было. Перешагнула я через каску, пулей пробитую, и побежала дальше в жизнь.
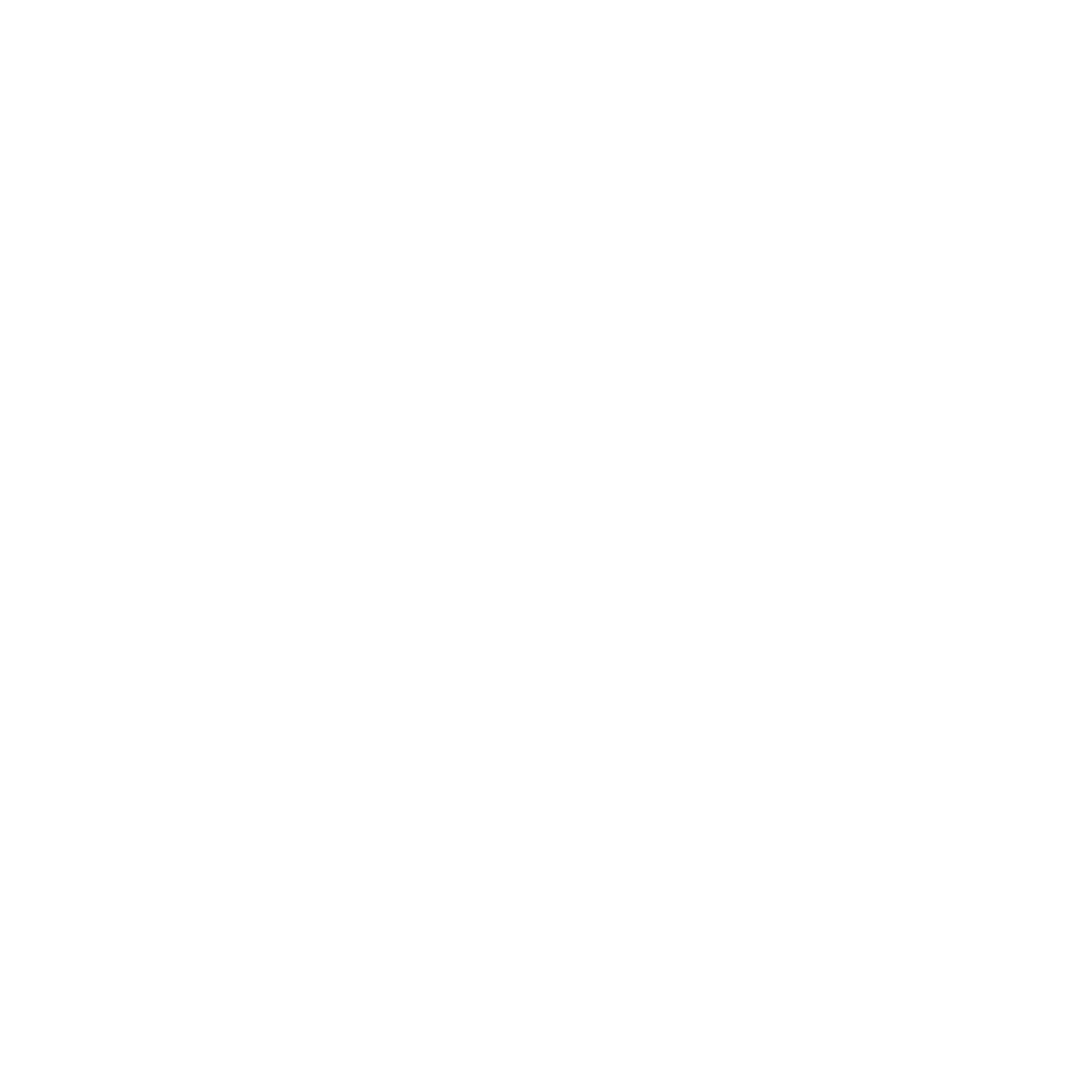
Валерий ФЕДОСОВ
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живу в Подмосковье. По основной специальности — инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Красноярске-45 на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 — в Институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке.
Стихами и прозой занимаюсь с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в альманахе «Муза», газете «Родники» и других изданиях.
Издал четыре книги стихов: «Речь осенней птицы»(2007), «Главное слово» (2010), «Орган, баян и балалайка» (2012), «Бренная листва. Венок сонетов» (2016). Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2010) и книгу прозы «Поцелуй с неба» (2020). Книгу прозы можно приобрести: https://bookshop.novslovo.ru/
Cайт автора: http://www.valeryfedosov.ru
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живу в Подмосковье. По основной специальности — инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Красноярске-45 на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 — в Институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке.
Стихами и прозой занимаюсь с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в альманахе «Муза», газете «Родники» и других изданиях.
Издал четыре книги стихов: «Речь осенней птицы»(2007), «Главное слово» (2010), «Орган, баян и балалайка» (2012), «Бренная листва. Венок сонетов» (2016). Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2010) и книгу прозы «Поцелуй с неба» (2020). Книгу прозы можно приобрести: https://bookshop.novslovo.ru/
Cайт автора: http://www.valeryfedosov.ru
МЕДАЛЬ ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА
«И пусть мы были
маленькими очень…»
Р. Рождественский
Сюжет этой хроники долгое время был для меня как некая тайна за семью печатями. Он пришёл ко мне без спроса, неожиданно и довольно поздно: мне уже было под сорок лет от роду… Пришёл как некое открытие в собственной жизни. Будто в старых моих архивах кто-то случайно откопал непроявленный негатив, окунул его в проявитель, и вот оно, живое воспоминание сначала нехотя, а затем быстрее и быстрее стало обретать узнаваемые черты. И вот они проступают из-под спуда спрессованной и капитально слежавшейся породы, имя которой ВРЕМЯ.
Породы, сложенной живыми людскими характерами и беспощадными внешними обстоятельствами.
К большому сожалению, ни то, ни другое изменить нам не дано. Как и не было мне дано «нырнуть» в события 1943 года более трёх десятков лет, пока «не созрели» некоторые обстоятельства.
* * *
Работа у меня была, искренне считаю, одна из самых интересных в мире, захватывающая и творческая, сродни труду (и мукам!) композитора или художника: чем больше работаешь, тем больше работать хочется; наконец-таки я сподобился работы ответственной и, главное, самостоятельной, ею была загружена моя голова, считайте – круглые сутки, и успокаивалась только после решения очередной задачи, чтобы приступить... к вызревающей задаче следующей…
Пожалуй, уже и не вспомню: в который это раз я проходил медицинскую комиссию для поездки в служебную загранкомандировку в Перу. Там наши специалисты вели изыскания для огромного гидротехнического комплекса Ольмос; я же был главным инженером проекта (ГИПом) этого объекта. Проектирование велось в Москве, где в основном и должен находиться руководитель проекта. Однако, время от времени необходимо бывать на площадке изысканий, чтобы самому убедиться, как будущие сооружения вписываются в местность, выдать или уточнить задания на изыскания, получить полевые данные и прочая-прочая…Такие поездки на объект, как правило краткосрочные, – на месяц, максимум два, каждый раз требовали оформления так называемого «выездного дела». Причём, – «по полной программе»: составление и утверждение в строгих партийных инстанциях производственной характеристики, прохождение медицинской комиссии с получением справки о здоровье (с непременным заключением «практически здоров»). И каждый раз – с подтверждением действующих прививок и справок из известных диспансеров…
Это уже гораздо позже стали практиковать оформление так называемой «многократки». Она в разы сократила всю «мышиную возню» огромного аппарата, в поте лица занимавшегося бесконечной проверкой «документов» для командирования специалиста. И всё равно, хоть и «многократка», а проходить медицину и партком обязательно… Десять, пятнадцать раз, и всё одно и то же, всё сначала, будто видят тебя впервые. Врач смотрит все анализы, простучит по коленкам, «поинтересуется» не дрожат ли вытянутые пальцы рук, найдёт ли пациент свой собственный нос и попадёт ли в него с закрытыми глазами с первого раза. Это понятно.
– А как у вас с флюорографией? А не было ли у вас лёгочных заболеваний, травмы черепа?
– Не было, доктор, упаси Бог, что вы такое говорите!
Справки я получал исправно, а над вопросами эскулапов серьёзно и не задумывался.
Но где-то на двадцатый раз после таких вопросов я и сам вдруг засомневался: если спрашивает, то возможно, что-то увидел, что-то вычислил и заподозрил: врачи вон какие умные, кандидаты кругом да доктора наук… А один из них – старичок дотошный и симпатичный, спросил:
– Вот у вас на снимке виден, правда слабо, но явно, заизвестковавшийся очаг на лёгком…
И вспомнил я себя из одна тысяча девятьсот сорок-голодного года, и картинки безрадостного детства медленно-медленно выползали из проявителя моей памяти, «ныряющей» в глубину лет…
1946 год. Весь класс прошёл обследование на реакцию Пирке. У всех ребят реакция положительная. А у одного меня – отрицательная. Раз уж отрицательная, то я решил, что это плохо, тем более, что один из класса такой… Горевал я по этому поводу по темноте своей потихоньку – сухими слезами «в тряпочку». Развеять моё «горе» было некому, да я и не стремился выяснять: плохо, так плохо, ничего не поделаешь. Это уже гораздо позже я узнал, что такой результат означает, что в организме отсутствует (вот он – отрицательный ответ!) возбудитель туберкулёза. Выходит, что и горевал-то зря…
Постой, постой, говорю сам себе, вспоминая первые свои собственные впечатления и рассказ моей мамы о нашем «исходе» из города в горы в конце августа 42-го… Погружаюсь ещё глубже… Когда мне было лет… три полных года, но память моя крепко-накрепко отпечатала первые картины военного времени… Память детских лет, видимо, не в силах сохранить все события в их действительной последовательности, остались лишь некие фрагменты в разрозненных, но незабываемых кадрах.
Северный Кавказ, предгорья Эльбруса, уютный и живописный городок Микоян-Шахар на берегу речки Теберды. Как раз летом 42-го у меня врачи выявили серьёзные подозрения на туберкулёз: на одном лёгком было обнаружено затемнение величиной с крупную монету. А тут – война, отец ушёл на фронт, под Новороссийск. Мама продала что-то из книг, – у родителей была приличная библиотека, – и купила мне рекомендованное «лекарство» в двух небольших бочоночках. В одном – свиной топлёный жир – «смалец», второй – с мёдом.
Я себе не могу представить, как это мама, со мной больным на руках, с сумкой самых необходимых вещей, двумя этими бочонками нашла в себе силы и смелости двинуться из города в горы с толпой беженцев в туманных поисках неизвестного приюта, для того, чтобы пережить-переждать нашествие, выскочить из-под нависшей оккупации. Люди шли по единственной дороге в горы вдоль берега Теберды, используя единственный транспорт, – собственные ноги…
Вот такая была эвакуация, которая фактически… не состоялась.
Через много лет мне, уже достаточно повзрослевшему, на учёбе, в ВУЗе или на работе, приходилось заполнять анкеты, так называемые личные листки по учёту кадров. Я спрашивал маму, были ли мы в оккупации, на что она всегда твёрдо и однозначно отвечала «нет». Тоном, не допускающим ни расспросов, ни обсуждения.
Это уже когда я «окончательно» сам вышел на пенсию, мама мне рассказала о некоторых деталях нашего «исхода» с беженцами в горы. Не то, чтобы она сначала крепко забыла, что́ тогда произошло с нами, и даже «при моём участии». Это она хорошо помнила и все эти годы – почти 70 лет! хранила в себе, оберегая и оставляя меня в искреннем неведении, принимая скрываемое на свою чистую материнскую совесть. И – всего-то одна-единственная деталь того похода, которую я тогда не запомнил то ли из-за малого возраста, то ли – болезни, то ли того и другого вместе взятого. Или просто этот эпизод стёрся в моей памяти по той причине, что столько лет о нём не вспоминалось и ничто о нём не напоминало… Будто бы существует некий закон, по которому всякое настоящее, имеющее естественную перспективу стать устойчивым и запоминающимся прошлым, при отсутствии длительного обращения к нему теряет эту перспективу, полностью пропадает и безвозвратно вытирается начисто из памяти – раз и навсегда. А тут мама сама открыла завесу…
Толпа навьюченных беженцев, превозмогая трудности подъёма, продвигалась по берегу речки Теберды в горы, не имея никакого понятия где было бы возможно найти более или менее человеческую ночёвку-остановку. Может быть, – в местечке Верхняя Марá, куда и вступила наша толпа и уже располагалась на привал-отдых ли, на остановку?
И в это время нас настиг отряд немцев. Не знаю, как вышло, но получилось так, что в одном зале, вроде столовой, среди беженцев расположилась и небольшая группа немцев. Демонстрируя нам свое миролюбивое настроение, один из немцев, по всей видимости, старший группы, взял меня-ребёнка из рук сопротивляющейся мамы и поставил себе на колени. Этому я резко воспротивился, будто бы понимая, кто передо мной, и пытался освободиться. Выпустить меня из рук не входило в его намерения, да, может, у него самого в Германии свой киндер моих лет остался… Контакт складывался бурным, а развязка получилась моментальной: я своей ручонкой со злостью ударил его по лицу, он тут же ссадил меня на пол и подтолкнул в руки перепуганной до смерти моей мамы. К счастью, ни жёсткой реакции немца, ни пагубных для нас последствий не было.
Завеса за этим случаем закрывается… Я практически ничего в нем не помню, всё это рассказала мне мама. Только один раз рассказала, и я запомнил. Больше никогда она этот случай никому не пересказывала, ни мне одному, ни тем более компании. Может быть, отцу после войны, но этого уже не проверишь.
Так и получилось: сзади немцы, здесь и впереди уже тоже они, так что и уходить-то от них некуда. Пришлось возвращаться обратно в родной город, который, к нашему тихому ужасу, оказался уже оккупированным.
Благо, хоть наша комнатушка сохранилась никем не занятой.
На улице погулять – не погуляешь: обстановка тревожная и страшная, да ещё и болезнь с не проходящими простудами, в сопровождении опротивевших капель датского короля, смальца и мёда… Так что подоконник в нашей комнатке на втором этаже стал единственным моим наблюдательным пунктом.
* * *
Гражданские люди, их было достаточно много, стояли в ряду на кромке вырытого вдоль дороги рва. Потом непонятно откуда слух прорезал стрекочущий противный звук, похожий на работу какой-то громадной швейной машинки, а люди пропали – попадали вниз, в ров, из окна мне уже и не видно. На тот момент мой жизненный опыт трёхлетнего ребёнка не знал ещё многих ассоциаций, явлений и их последствий и ограничивался впечатлениями мирной жизни, – вон за столом мама работает – шьёт что-то, швейная машинка стрекочет… Но то, что я понял своим детским умом, глядя в то утро из окна, так это то, что люди падали в траншею, – тут ни при чём никакая швейная машинка… Мама, увидев моё наблюдение, быстро подскочила ко мне и без объяснений довольно резко оторвала меня от окна. Эту зловещую картину я запомнил на всю оставшуюся жизнь, – «расстрел», называется, хотя самого этого слова на тот момент, конечно, не знал.
* * *
Немцы довольно быстро (это сегодня кажется, что – быстро), ушли с Северного Кавказа, опасаясь, как бы не попасть в уже намечающийся котёл, – следующий после Сталинградского. Верхушка из местных, тех, кто приветствовал и хлебосольно встречал гитлеровские отряды, с дорогими подношениями – полными парадными экипировками настоящих джигитов (с золотыми саблями, тонкими белыми бурками, надеваемыми на плечи, белыми папахами на голову и, конечно, – породистыми скакунами), «залегла на дно». Чего в этом предательстве было больше: подспудной веками копившейся ненависти к русским, унаследованной ещё от царского режима, к Советскому Союзу, или – национальной боязни противостоять врагу исключительно из желания сохранить и без того малочисленный собственный этнос, – не мне судить…
Осудил Сталин.
Ещё накануне гражданское население в своих традиционно чёрных одеждах сновало по городку, как вдруг в одну ночь, здоровый кавказский воздух был взрезан рёвом сотен студебеккеров (это, помните? – автомобили повышенной проходимости, поставлявшиеся американцами по лендлизу). Всё, кроме русских, местное население, включая женщин, стариков и детей, с минимально допустимым скарбом – 5 кг, было вывезено из города. Кто говорил, – на север в район Воркуты, кто говорил, – в Казахстан. А утром – пустынная тишина… И – зима на дворе, мягкая кавказская, не в пример жёсткой воркутинской или такой же по свирепости континентальной казахской.
* * *
Через «каких-нибудь» 75 лет после этого эпизода, в Интернете я увидел некий свет, возможно, каким-то косвенным образом объясняющий произошедшее, а точнее – отсутствие «пагубных для нас последствий».
Советские хроники отмечают, что в конце августа 1942 года группа немецких альпийских стрелков из дивизии «Эдельвейс» под командованием капитана Грота совершила восхождение на обе вершины Эльбруса. Капитан со своими спутниками ещё в довоенное время не раз поднимался на эти вершины в команде с советскими альпинистами, прилично знал не только здешние тропы, но и русский язык. Целью восхождения на этот раз было установить фашистские знамёна на обеих вершинах. Это было сделано, группа спустилась, и рапорт был отправлен в ставку. Однако вместо поздравления пришёл разнос: почему не поставили на вершинах штандарты фюрера? Пришлось команде повторить восхождение на оба пика.
Я безусловно далёк от мысли даже в малости сочувствовать захватчикам: на войне – как на войне.
А наград за двойное покорение Эльбруса команда из «Эдельвейса» так и не дождалась…
И поделом: знаменитый на весь мир альпийский цветок именно в горах Кавказа никогда не произрастал, сейчас не водится, и в ближайшую историческую эпоху его появление здесь явно не предвидится.
«И пусть мы были
маленькими очень…»
Р. Рождественский
Сюжет этой хроники долгое время был для меня как некая тайна за семью печатями. Он пришёл ко мне без спроса, неожиданно и довольно поздно: мне уже было под сорок лет от роду… Пришёл как некое открытие в собственной жизни. Будто в старых моих архивах кто-то случайно откопал непроявленный негатив, окунул его в проявитель, и вот оно, живое воспоминание сначала нехотя, а затем быстрее и быстрее стало обретать узнаваемые черты. И вот они проступают из-под спуда спрессованной и капитально слежавшейся породы, имя которой ВРЕМЯ.
Породы, сложенной живыми людскими характерами и беспощадными внешними обстоятельствами.
К большому сожалению, ни то, ни другое изменить нам не дано. Как и не было мне дано «нырнуть» в события 1943 года более трёх десятков лет, пока «не созрели» некоторые обстоятельства.
* * *
Работа у меня была, искренне считаю, одна из самых интересных в мире, захватывающая и творческая, сродни труду (и мукам!) композитора или художника: чем больше работаешь, тем больше работать хочется; наконец-таки я сподобился работы ответственной и, главное, самостоятельной, ею была загружена моя голова, считайте – круглые сутки, и успокаивалась только после решения очередной задачи, чтобы приступить... к вызревающей задаче следующей…
Пожалуй, уже и не вспомню: в который это раз я проходил медицинскую комиссию для поездки в служебную загранкомандировку в Перу. Там наши специалисты вели изыскания для огромного гидротехнического комплекса Ольмос; я же был главным инженером проекта (ГИПом) этого объекта. Проектирование велось в Москве, где в основном и должен находиться руководитель проекта. Однако, время от времени необходимо бывать на площадке изысканий, чтобы самому убедиться, как будущие сооружения вписываются в местность, выдать или уточнить задания на изыскания, получить полевые данные и прочая-прочая…Такие поездки на объект, как правило краткосрочные, – на месяц, максимум два, каждый раз требовали оформления так называемого «выездного дела». Причём, – «по полной программе»: составление и утверждение в строгих партийных инстанциях производственной характеристики, прохождение медицинской комиссии с получением справки о здоровье (с непременным заключением «практически здоров»). И каждый раз – с подтверждением действующих прививок и справок из известных диспансеров…
Это уже гораздо позже стали практиковать оформление так называемой «многократки». Она в разы сократила всю «мышиную возню» огромного аппарата, в поте лица занимавшегося бесконечной проверкой «документов» для командирования специалиста. И всё равно, хоть и «многократка», а проходить медицину и партком обязательно… Десять, пятнадцать раз, и всё одно и то же, всё сначала, будто видят тебя впервые. Врач смотрит все анализы, простучит по коленкам, «поинтересуется» не дрожат ли вытянутые пальцы рук, найдёт ли пациент свой собственный нос и попадёт ли в него с закрытыми глазами с первого раза. Это понятно.
– А как у вас с флюорографией? А не было ли у вас лёгочных заболеваний, травмы черепа?
– Не было, доктор, упаси Бог, что вы такое говорите!
Справки я получал исправно, а над вопросами эскулапов серьёзно и не задумывался.
Но где-то на двадцатый раз после таких вопросов я и сам вдруг засомневался: если спрашивает, то возможно, что-то увидел, что-то вычислил и заподозрил: врачи вон какие умные, кандидаты кругом да доктора наук… А один из них – старичок дотошный и симпатичный, спросил:
– Вот у вас на снимке виден, правда слабо, но явно, заизвестковавшийся очаг на лёгком…
И вспомнил я себя из одна тысяча девятьсот сорок-голодного года, и картинки безрадостного детства медленно-медленно выползали из проявителя моей памяти, «ныряющей» в глубину лет…
1946 год. Весь класс прошёл обследование на реакцию Пирке. У всех ребят реакция положительная. А у одного меня – отрицательная. Раз уж отрицательная, то я решил, что это плохо, тем более, что один из класса такой… Горевал я по этому поводу по темноте своей потихоньку – сухими слезами «в тряпочку». Развеять моё «горе» было некому, да я и не стремился выяснять: плохо, так плохо, ничего не поделаешь. Это уже гораздо позже я узнал, что такой результат означает, что в организме отсутствует (вот он – отрицательный ответ!) возбудитель туберкулёза. Выходит, что и горевал-то зря…
Постой, постой, говорю сам себе, вспоминая первые свои собственные впечатления и рассказ моей мамы о нашем «исходе» из города в горы в конце августа 42-го… Погружаюсь ещё глубже… Когда мне было лет… три полных года, но память моя крепко-накрепко отпечатала первые картины военного времени… Память детских лет, видимо, не в силах сохранить все события в их действительной последовательности, остались лишь некие фрагменты в разрозненных, но незабываемых кадрах.
Северный Кавказ, предгорья Эльбруса, уютный и живописный городок Микоян-Шахар на берегу речки Теберды. Как раз летом 42-го у меня врачи выявили серьёзные подозрения на туберкулёз: на одном лёгком было обнаружено затемнение величиной с крупную монету. А тут – война, отец ушёл на фронт, под Новороссийск. Мама продала что-то из книг, – у родителей была приличная библиотека, – и купила мне рекомендованное «лекарство» в двух небольших бочоночках. В одном – свиной топлёный жир – «смалец», второй – с мёдом.
Я себе не могу представить, как это мама, со мной больным на руках, с сумкой самых необходимых вещей, двумя этими бочонками нашла в себе силы и смелости двинуться из города в горы с толпой беженцев в туманных поисках неизвестного приюта, для того, чтобы пережить-переждать нашествие, выскочить из-под нависшей оккупации. Люди шли по единственной дороге в горы вдоль берега Теберды, используя единственный транспорт, – собственные ноги…
Вот такая была эвакуация, которая фактически… не состоялась.
Через много лет мне, уже достаточно повзрослевшему, на учёбе, в ВУЗе или на работе, приходилось заполнять анкеты, так называемые личные листки по учёту кадров. Я спрашивал маму, были ли мы в оккупации, на что она всегда твёрдо и однозначно отвечала «нет». Тоном, не допускающим ни расспросов, ни обсуждения.
Это уже когда я «окончательно» сам вышел на пенсию, мама мне рассказала о некоторых деталях нашего «исхода» с беженцами в горы. Не то, чтобы она сначала крепко забыла, что́ тогда произошло с нами, и даже «при моём участии». Это она хорошо помнила и все эти годы – почти 70 лет! хранила в себе, оберегая и оставляя меня в искреннем неведении, принимая скрываемое на свою чистую материнскую совесть. И – всего-то одна-единственная деталь того похода, которую я тогда не запомнил то ли из-за малого возраста, то ли – болезни, то ли того и другого вместе взятого. Или просто этот эпизод стёрся в моей памяти по той причине, что столько лет о нём не вспоминалось и ничто о нём не напоминало… Будто бы существует некий закон, по которому всякое настоящее, имеющее естественную перспективу стать устойчивым и запоминающимся прошлым, при отсутствии длительного обращения к нему теряет эту перспективу, полностью пропадает и безвозвратно вытирается начисто из памяти – раз и навсегда. А тут мама сама открыла завесу…
Толпа навьюченных беженцев, превозмогая трудности подъёма, продвигалась по берегу речки Теберды в горы, не имея никакого понятия где было бы возможно найти более или менее человеческую ночёвку-остановку. Может быть, – в местечке Верхняя Марá, куда и вступила наша толпа и уже располагалась на привал-отдых ли, на остановку?
И в это время нас настиг отряд немцев. Не знаю, как вышло, но получилось так, что в одном зале, вроде столовой, среди беженцев расположилась и небольшая группа немцев. Демонстрируя нам свое миролюбивое настроение, один из немцев, по всей видимости, старший группы, взял меня-ребёнка из рук сопротивляющейся мамы и поставил себе на колени. Этому я резко воспротивился, будто бы понимая, кто передо мной, и пытался освободиться. Выпустить меня из рук не входило в его намерения, да, может, у него самого в Германии свой киндер моих лет остался… Контакт складывался бурным, а развязка получилась моментальной: я своей ручонкой со злостью ударил его по лицу, он тут же ссадил меня на пол и подтолкнул в руки перепуганной до смерти моей мамы. К счастью, ни жёсткой реакции немца, ни пагубных для нас последствий не было.
Завеса за этим случаем закрывается… Я практически ничего в нем не помню, всё это рассказала мне мама. Только один раз рассказала, и я запомнил. Больше никогда она этот случай никому не пересказывала, ни мне одному, ни тем более компании. Может быть, отцу после войны, но этого уже не проверишь.
Так и получилось: сзади немцы, здесь и впереди уже тоже они, так что и уходить-то от них некуда. Пришлось возвращаться обратно в родной город, который, к нашему тихому ужасу, оказался уже оккупированным.
Благо, хоть наша комнатушка сохранилась никем не занятой.
На улице погулять – не погуляешь: обстановка тревожная и страшная, да ещё и болезнь с не проходящими простудами, в сопровождении опротивевших капель датского короля, смальца и мёда… Так что подоконник в нашей комнатке на втором этаже стал единственным моим наблюдательным пунктом.
* * *
Гражданские люди, их было достаточно много, стояли в ряду на кромке вырытого вдоль дороги рва. Потом непонятно откуда слух прорезал стрекочущий противный звук, похожий на работу какой-то громадной швейной машинки, а люди пропали – попадали вниз, в ров, из окна мне уже и не видно. На тот момент мой жизненный опыт трёхлетнего ребёнка не знал ещё многих ассоциаций, явлений и их последствий и ограничивался впечатлениями мирной жизни, – вон за столом мама работает – шьёт что-то, швейная машинка стрекочет… Но то, что я понял своим детским умом, глядя в то утро из окна, так это то, что люди падали в траншею, – тут ни при чём никакая швейная машинка… Мама, увидев моё наблюдение, быстро подскочила ко мне и без объяснений довольно резко оторвала меня от окна. Эту зловещую картину я запомнил на всю оставшуюся жизнь, – «расстрел», называется, хотя самого этого слова на тот момент, конечно, не знал.
* * *
Немцы довольно быстро (это сегодня кажется, что – быстро), ушли с Северного Кавказа, опасаясь, как бы не попасть в уже намечающийся котёл, – следующий после Сталинградского. Верхушка из местных, тех, кто приветствовал и хлебосольно встречал гитлеровские отряды, с дорогими подношениями – полными парадными экипировками настоящих джигитов (с золотыми саблями, тонкими белыми бурками, надеваемыми на плечи, белыми папахами на голову и, конечно, – породистыми скакунами), «залегла на дно». Чего в этом предательстве было больше: подспудной веками копившейся ненависти к русским, унаследованной ещё от царского режима, к Советскому Союзу, или – национальной боязни противостоять врагу исключительно из желания сохранить и без того малочисленный собственный этнос, – не мне судить…
Осудил Сталин.
Ещё накануне гражданское население в своих традиционно чёрных одеждах сновало по городку, как вдруг в одну ночь, здоровый кавказский воздух был взрезан рёвом сотен студебеккеров (это, помните? – автомобили повышенной проходимости, поставлявшиеся американцами по лендлизу). Всё, кроме русских, местное население, включая женщин, стариков и детей, с минимально допустимым скарбом – 5 кг, было вывезено из города. Кто говорил, – на север в район Воркуты, кто говорил, – в Казахстан. А утром – пустынная тишина… И – зима на дворе, мягкая кавказская, не в пример жёсткой воркутинской или такой же по свирепости континентальной казахской.
* * *
Через «каких-нибудь» 75 лет после этого эпизода, в Интернете я увидел некий свет, возможно, каким-то косвенным образом объясняющий произошедшее, а точнее – отсутствие «пагубных для нас последствий».
Советские хроники отмечают, что в конце августа 1942 года группа немецких альпийских стрелков из дивизии «Эдельвейс» под командованием капитана Грота совершила восхождение на обе вершины Эльбруса. Капитан со своими спутниками ещё в довоенное время не раз поднимался на эти вершины в команде с советскими альпинистами, прилично знал не только здешние тропы, но и русский язык. Целью восхождения на этот раз было установить фашистские знамёна на обеих вершинах. Это было сделано, группа спустилась, и рапорт был отправлен в ставку. Однако вместо поздравления пришёл разнос: почему не поставили на вершинах штандарты фюрера? Пришлось команде повторить восхождение на оба пика.
Я безусловно далёк от мысли даже в малости сочувствовать захватчикам: на войне – как на войне.
А наград за двойное покорение Эльбруса команда из «Эдельвейса» так и не дождалась…
И поделом: знаменитый на весь мир альпийский цветок именно в горах Кавказа никогда не произрастал, сейчас не водится, и в ближайшую историческую эпоху его появление здесь явно не предвидится.
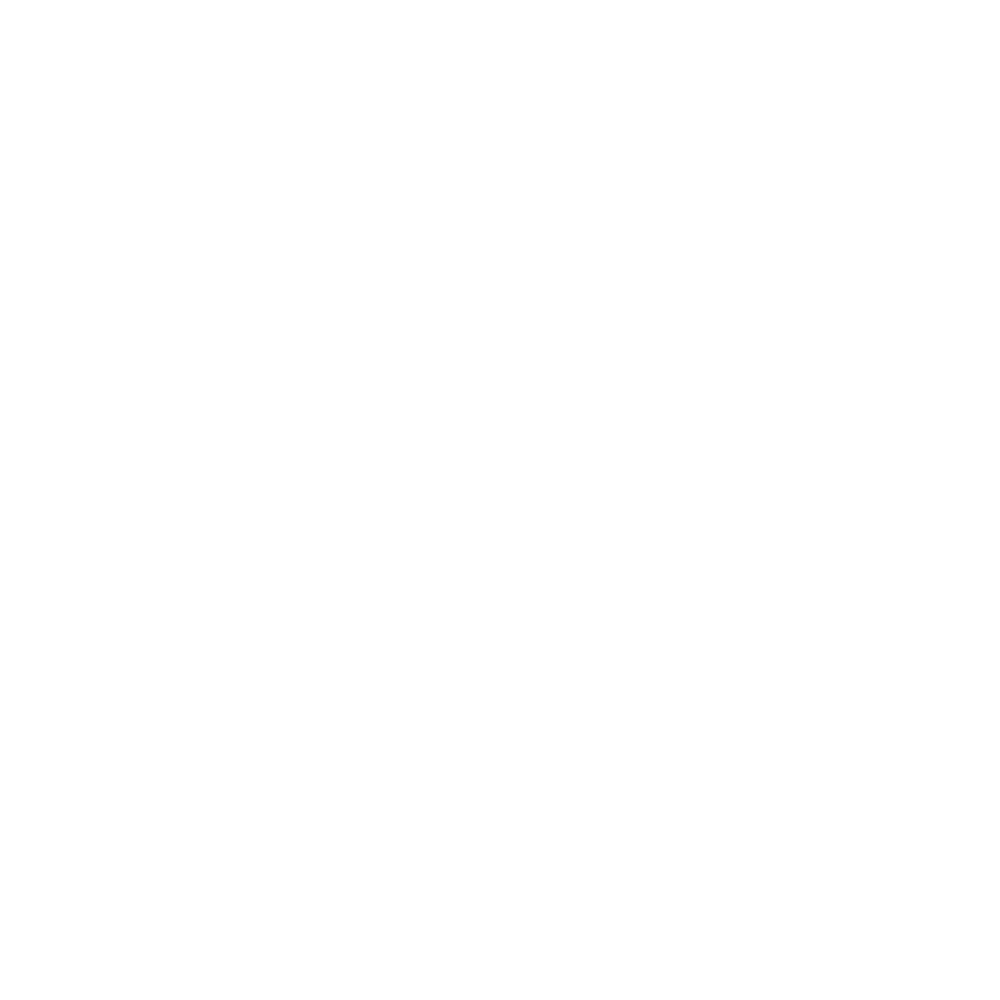
Сергей ШЕЛАГИН
Родился в 1960 году в Москве. Закончил Московский радиомеханический техникум (МРМТ) по специальности «оптико-электронные приборы». После демобилизации из рядов Советской Армии поступил на вечернее отделение Московского государственного института электроники и математики (МГИЭМ).
Прошло уже больше десяти лет, как наша семья переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Какие достижения я считаю самыми значительными? Не мои - это точно. Скорее достижения моих детей, которые, словно сговорившись, подарили мне после переезда в Санкт-Петербург шесть внуков. Всё по-честному. Три мальчика и три девочки… А в свободное от работы и внуков время как раз и пишу рассказы и стихи - как для взрослых, так и для детей.
Родился в 1960 году в Москве. Закончил Московский радиомеханический техникум (МРМТ) по специальности «оптико-электронные приборы». После демобилизации из рядов Советской Армии поступил на вечернее отделение Московского государственного института электроники и математики (МГИЭМ).
Прошло уже больше десяти лет, как наша семья переехала из Москвы в Санкт-Петербург. Какие достижения я считаю самыми значительными? Не мои - это точно. Скорее достижения моих детей, которые, словно сговорившись, подарили мне после переезда в Санкт-Петербург шесть внуков. Всё по-честному. Три мальчика и три девочки… А в свободное от работы и внуков время как раз и пишу рассказы и стихи - как для взрослых, так и для детей.
ПАРНИШКА
Аще бо и пойду по среде сени смертныя,
не убоюся зла, яко Ты со мной еси.
(Псалом 22-й Давида)
Вплоть до 1975 года наша семья жила в маленькой двухкомнатной квартирке на краешке Москвы. Отец с матушкой работали, не покладая рук. Мы не считали себя бедными, но и зажиточной нашу семью тоже нельзя было назвать. Трапезничали мы на крохотной кухне, в которой вся без исключения мебель была сделана руками отца. Но три раза в год накрывался белой скатертью круглый стол в большой комнате. Собирались мы за столом 31-го декабря, 7-го ноября и 9-го мая.
Встречать Новый год всегда было интересно. За день или два до праздника отец приносил ёлку. С антресолей возле кухни осторожно извлекалась коробка с ёлочными игрушками, а на пахнущие свежей хвоей и волшебством ветки развешивались стеклянные шишечки, домики, снегурочки и гирлянды. А под ёлку ставили настоящего Деда Мороза из пластмассы. В те далёкие годы 31-е декабря был рабочим днём, поэтому стол мы накрывали поздно, за час до боя курантов. А потом слушали по радио новогоднее поздравление руководящей партии – и смотрели «Голубой огонёк» по крохотному по нынешним меркам чёрно-белому телевизору со смешным выпуклым экраном.
7-го ноября стол начинали накрывать с утра, чтобы успеть к началу парада на Красной площади. Родители обсуждали руководителей страны, стоящих на трибуне мавзолея, потом сам парад, потом матушка с отцом о чём-то разговаривали. А я убегал во двор.
Но самым волнующим праздником был День Победы. Рано утром мы бережно доставали из буфета обеденный сервиз, и праздничная посуда аккуратно выставлялась на стол. Бутылочку «беленькой», которую перед праздником покупал отец, мама переливала в хрустальный графин, а на столе появлялись разные вкусности.
Меня переодевали в брюки и белую рубашку, а мама надевала выходное платье. Дольше всех одевался отец. Он надевал светлую рубашку и костюм, долго и неумело завязывая перед зеркалом галстук. На костюме уже висела боевая награда отца – медаль «За оборону Ленинграда». Потом мы включали маленький ламповый телевизор и садились за праздничный стол. Отец брал графин и наполнял первую рюмку. Мы смотрели фильмы про войну, и долго не уходили из-за стола. Я сидел рядом с отцом, и каждый раз в этот день спрашивал его:
– Папа, расскажи про войну!
– А что там рассказывать? – неохотно отвечал отец, наклоняясь ко мне и улыбаясь уголками губ. – Ничего интересного там не было. Вон, в кино-то, интересней будет.
И мы продолжали смотреть телевизор.
Но потом, где-то после третьей рюмки, он всё-таки начинал отвечать на вопросы маленького несмышлёного мальчишки скупыми короткими фразами.
– Вон как в кино в атаку идут… Сотнями... Не видел я на фронте такого. У нас таких больших наступлений не было. Где-то, наверное, были. А у нас – нет.
– А ты всю войну в атаки ходил?
– Да нет, не всю. Мы и на фронт не сразу попали. Призвали-то нас почти сразу после начала войны. Но повезли не на фронт, а совсем в другую сторону. На Дальний Восток. Боялись все тогда, что японцы вслед за фашистами войну начнут. И служил я там до конца сорок второго. В морской стрелковой бригаде, – отец почти незаметно улыбнулся. – В посёлке Шкотово.
– Ты что, по морю плавал и стрелял?
Папа рассмеялся:
– Нет, на кораблях матросы были, а мы - вроде как морская пехота. Там в бригаде взвод противовоздушной обороны был. Вот я в нём и служил, пока нас на фронт не отправили. Мы на берегу были…
Это всё, что отец тогда рассказал. Но каждый год в День Победы я снова и снова спрашивал его:
– Папа, расскажи про войну!
– Да нет там ничего интересного, на этой войне, – снова и снова отмалчивался поначалу отец.
А я не отставал, прижимаясь к отцу плечом... И, как всегда после очередной праздничной рюмки, он начинал свой немногословный рассказ.
– Вот и на фронте нам каждый день по сто грамм давали. Наркомовские! Тогда, в конце сорок второго, всех нас из Шкотово на прорыв Ленинградской блокады отправили. И уже в декабре мы были на Ленинградском фронте. Переправили нас на передовую. Наступление большое на немцев готовилось. Вот тогда, в одном из боёв, и получил я своё первое ранение.
– А тебе больно было?
Отец усмехнулся:
– Больно, да... Та пуля в ногу попала, да навылет и прошла. Только колено вот зацепило... Отправили в госпиталь, а потом – снова на фронт. Мы к тому времени наши наркомовские порции стали на двоих делить. А то – ну что там, сто грамм – только язык макнуть. Раздадут всем вечером наши фронтовые – я свои граммы соседу отдаю. А на завтра он мне свои сто грамм отдавал. Сто плюс сто - будет двести! Так как-то потеплее было. Пусть через день, но согревались чуток. Вот тогда после госпиталя и узнал, что называлось то наступление – операция «Искра».
Папа снова замолчал…
– А расскажи ещё!
Ласковый взгляд вдруг окутал меня, словно лоскутным одеяльцем в деревне у бубушки, где всегда по ночам светила тёпленькая лампадка на божнице. Отец смотрел на меня, слегка наклонив голову, и грустно улыбался.
– Не приставай к папе, – ответила за него матушка. –Иди погуляй лучше во двор.
А отец действительно загрустил. Казалось, он пытался вспомнить что-то очень важное, но у него не получалось… А может, просто не хотелось ему это «что-то» вспоминать...
– Вот так, сказал бедняк. А сам горько заплакал, – произнёс тогда отец одну из своих присказок – и отвернулся, пытаясь скрыть набухшую на краешке глаза слезу.
Но и на следующий год месяц май не забыл заглянуть в наш уютный московский двор. И вновь мы сели за большой круглый стол, накрытый белой праздничной скатертью.
И, как всегда в этот день, папа наполнил рюмку. Мы смотрели фильм про войну, где бойцы Красной Армии брали Берлин.
В этот раз отец заговорил первым.
– А я вот до Берлина не дошёл. Для меня война раньше закончилась. В феврале сорок четвёртого мы наступали под Лугой, на Волховском фронте. Ведь нас тогда бросало, не пойми как. На Ленинградском фронте попал после ранения в госпиталь, а пока дырку в ноге залатали, наша бригада вперёд ушла.
А тогда после госпиталя обратно в свою часть немногие возвращались. Отправляли туда, где бои шли. Или в другие части, в которых личного состава – считай, что не было.
И в феврале сорок четвёртого нам приказ поступил - перекрыть дорогу из Луги на запад. Надо было занять высоту с отметкой 140. Оттуда эта дорога хорошо просматривалась. Если бы заняли ту высотку – ни один фриц бы по той дороге не прошёл.
А немцы – они ведь тоже не дураки. Знали, что если не смогут прорваться – на этой самой дороге и останутся. Поэтому и вцепились тогда намертво в ту горочку. Отбивались они, как могли. Раз пять нас в атаку поднимали. А у немцев на высотке пушки стояли. Так они сразу лупили прямой наводкой, как только мы вперёд начинали идти. Страшно было...
А тут попробуй, не пойди… Если кто струхнёт да не встанет – свои же расстрелять могли. В атаку шли все. Начинают немцы обстрел – в снег падаешь. Съёжишься, сквозь снег в землю вцепишься пальцами – и ждёшь, пока передышка будет. А пока ждёшь, в землю мёрзлую изо всех сил вцепившись, губы сами шепчут: «Господи, спаси раба твоего грешного!». А за спиной снова: «Вперёд! Вперёд, бойцы! За Родину!». И снова – вставали и бежали… И стрелять-то мы не стреляли. А куда стрелять-то? Фрицы наверху в окопах сидели, а мы их под высоткой и не видели. Чего патроны впустую изводить? Бежали молча, лишь бы дыхания хватило… По снегу быстро не побегаешь…
Вот так – перебежками, под обстрелом, почти до высотки добрались. А тут снова немцы палить начали. И тут снаряд-то – прямо рядом со мной разорвался…
Отец вдруг замолк. Большие руки с набухшими венами лежали на столе, а смотрел он в сторону маленького телевизора. Там, на выпуклом стекле, словно просочившись сквозь чёрную дыру времени в маленькую московскую квартирку, рисовала углём свои картины война…
– Помню, как снаряд жахнул. Громко. Земля в разные стороны разлетелась, а потом – темнота. С ног меня сбило. Сколько времени прошло, и не знаю. Пришёл в себя, глаза открыл – а вокруг земля, с чёрным снегом замешанная. В воронке от снаряда лежу. Кроме комьев земли, не вижу ничего. И дымом пахнет. И снегом. И ещё чем-то, вроде как железом калёным. Думаю – вставать надо… А двинуться не могу. Дёргаюсь, аж пот до костей прошиб, а ни с места – руки не слушаются. В ушах звенит. И ног не чувствую, как будто нет их совсем. Наконец, повернул немного голову. Наверху – небо серое. И, слава Богу – хоть не под землёй... Знаю, что дышу – пар клубочками перед лицом вьётся, а в висках стучит – «Спаси, Господи, раба твоего грешного! Дай силы, Боже…». И нет больше страха… Только вот в сон клонит…
Прервавшись на пару секунд, отец поднял руки и потёр кончиками пальцев виски.
– А что я тогда ещё мог… Помолиться только. Мать моя Агафья учила меня читать, а вот вспомнить не могу, одни обрывки в голове плывут: «Спаси, Господи, раба твоего грешного…». – Ничего больше из чтения не помню, а вот поди-ка ты – читаю, и вроде спокойнее становится. Нет больше страха… Только небо почему-то всё дальше отдаляется. Холодно лежать-то… Пальцы на руках замёрзли, уж и не чувствую их.
И вдруг в воронку парнишка скатился. Ловко так… За плечо меня трясёт: «Живой?» – а я глазами – хлоп-хлоп… А паренёк в ответ: «Ты погоди глаза-то закатывать, чай не красна девица. Сейчас вытащим тебя. Потерпи маленько!».
Достал он бинты, ноги мне перевязал. Автомат поправил половчее, схватил меня в охапку, как куль с мукой, да и поволок. Уж как этот паренёк смог меня до окопа дотащить – ума не приложу. Но дотащил, а там уже ждали нас. Он сперва-то меня бойцам на руки передал. А потом привстал, чтобы вниз соскочить – тут пуля с высотки его и достала. В окоп он уже неживой спрыгнул… Пуля сквозь сердце прошла…
Меня в госпиталь увезли. Долго я там лежал. Три осколка врачи из ног вытащили. А четвёртый – уже после войны доставали. И сколько потом про того паренька не спрашивал – так ничего и не узнал. И даже имени его до сих пор не знаю…
Вот как так? Не было бы тебя здесь, сынок, если бы тот парнишка меня с того света не вытащил. Он и меня спас, и тебя… Спас он нас. А ведь ты тогда и не родился ещё…
* * *
А в уютном московском дворике, как и положено, один год сменялся другим. Опадал снежными хлопьями каждую весну цвет черёмухи за окном. Пролетело в этом дворике и моё детство – моя маленькая жизнь. Пришла моя очередь отдать воинский долг той стране, за которую пролили кровь мой отец – и парнишка, которого он вспоминал потом ещё не один раз.
Меня призвали в армию в октябре 1979 года. От пункта сбора нас привезли на Угрешку – и держали там пару дней. Наконец, всех построили – и мы оказались в аэропорту Домодедово. Всё ещё не понимая, куда нас везут. И только когда на табло в зале вылета кто-то шлёпнул зелёным штампом пункт назначения – «Владивосток» –только тогда я понял, что всё изменилось. Что моя жизнь уже никогда не будет прежней. И даже когда я вернусь обратно – то это буду уже не я, а совсем другой человек.
И мы долго летели во Владик. А потом нас куда-то везли на грузовиках, переодев перед поездкой в колючие серые шинели. Но каким же было моё удивление, когда после прибытия в часть отблеском прошлого врезалась в глаза надпись – «ШКОТОВО». Я оказался в том самом посёлке на берегу Уссурийского залива, где когда-то начинал боевой путь мой отец. И кто знает – может, и тот парнишка, имя которого отец так и не смог узнать, тоже служил здесь…
Я уже никогда этого не узнаю.
Но я знаю другое.
Я знаю, что медаль «За оборону Ленинграда», которой так дорожил отец, – она одна на двоих. Одна на двоих из тех многих и многих живых и павших, кто защищал, спасал и освобождал хранимый ангелами город.
Аще бо и пойду по среде сени смертныя,
не убоюся зла, яко Ты со мной еси.
(Псалом 22-й Давида)
Вплоть до 1975 года наша семья жила в маленькой двухкомнатной квартирке на краешке Москвы. Отец с матушкой работали, не покладая рук. Мы не считали себя бедными, но и зажиточной нашу семью тоже нельзя было назвать. Трапезничали мы на крохотной кухне, в которой вся без исключения мебель была сделана руками отца. Но три раза в год накрывался белой скатертью круглый стол в большой комнате. Собирались мы за столом 31-го декабря, 7-го ноября и 9-го мая.
Встречать Новый год всегда было интересно. За день или два до праздника отец приносил ёлку. С антресолей возле кухни осторожно извлекалась коробка с ёлочными игрушками, а на пахнущие свежей хвоей и волшебством ветки развешивались стеклянные шишечки, домики, снегурочки и гирлянды. А под ёлку ставили настоящего Деда Мороза из пластмассы. В те далёкие годы 31-е декабря был рабочим днём, поэтому стол мы накрывали поздно, за час до боя курантов. А потом слушали по радио новогоднее поздравление руководящей партии – и смотрели «Голубой огонёк» по крохотному по нынешним меркам чёрно-белому телевизору со смешным выпуклым экраном.
7-го ноября стол начинали накрывать с утра, чтобы успеть к началу парада на Красной площади. Родители обсуждали руководителей страны, стоящих на трибуне мавзолея, потом сам парад, потом матушка с отцом о чём-то разговаривали. А я убегал во двор.
Но самым волнующим праздником был День Победы. Рано утром мы бережно доставали из буфета обеденный сервиз, и праздничная посуда аккуратно выставлялась на стол. Бутылочку «беленькой», которую перед праздником покупал отец, мама переливала в хрустальный графин, а на столе появлялись разные вкусности.
Меня переодевали в брюки и белую рубашку, а мама надевала выходное платье. Дольше всех одевался отец. Он надевал светлую рубашку и костюм, долго и неумело завязывая перед зеркалом галстук. На костюме уже висела боевая награда отца – медаль «За оборону Ленинграда». Потом мы включали маленький ламповый телевизор и садились за праздничный стол. Отец брал графин и наполнял первую рюмку. Мы смотрели фильмы про войну, и долго не уходили из-за стола. Я сидел рядом с отцом, и каждый раз в этот день спрашивал его:
– Папа, расскажи про войну!
– А что там рассказывать? – неохотно отвечал отец, наклоняясь ко мне и улыбаясь уголками губ. – Ничего интересного там не было. Вон, в кино-то, интересней будет.
И мы продолжали смотреть телевизор.
Но потом, где-то после третьей рюмки, он всё-таки начинал отвечать на вопросы маленького несмышлёного мальчишки скупыми короткими фразами.
– Вон как в кино в атаку идут… Сотнями... Не видел я на фронте такого. У нас таких больших наступлений не было. Где-то, наверное, были. А у нас – нет.
– А ты всю войну в атаки ходил?
– Да нет, не всю. Мы и на фронт не сразу попали. Призвали-то нас почти сразу после начала войны. Но повезли не на фронт, а совсем в другую сторону. На Дальний Восток. Боялись все тогда, что японцы вслед за фашистами войну начнут. И служил я там до конца сорок второго. В морской стрелковой бригаде, – отец почти незаметно улыбнулся. – В посёлке Шкотово.
– Ты что, по морю плавал и стрелял?
Папа рассмеялся:
– Нет, на кораблях матросы были, а мы - вроде как морская пехота. Там в бригаде взвод противовоздушной обороны был. Вот я в нём и служил, пока нас на фронт не отправили. Мы на берегу были…
Это всё, что отец тогда рассказал. Но каждый год в День Победы я снова и снова спрашивал его:
– Папа, расскажи про войну!
– Да нет там ничего интересного, на этой войне, – снова и снова отмалчивался поначалу отец.
А я не отставал, прижимаясь к отцу плечом... И, как всегда после очередной праздничной рюмки, он начинал свой немногословный рассказ.
– Вот и на фронте нам каждый день по сто грамм давали. Наркомовские! Тогда, в конце сорок второго, всех нас из Шкотово на прорыв Ленинградской блокады отправили. И уже в декабре мы были на Ленинградском фронте. Переправили нас на передовую. Наступление большое на немцев готовилось. Вот тогда, в одном из боёв, и получил я своё первое ранение.
– А тебе больно было?
Отец усмехнулся:
– Больно, да... Та пуля в ногу попала, да навылет и прошла. Только колено вот зацепило... Отправили в госпиталь, а потом – снова на фронт. Мы к тому времени наши наркомовские порции стали на двоих делить. А то – ну что там, сто грамм – только язык макнуть. Раздадут всем вечером наши фронтовые – я свои граммы соседу отдаю. А на завтра он мне свои сто грамм отдавал. Сто плюс сто - будет двести! Так как-то потеплее было. Пусть через день, но согревались чуток. Вот тогда после госпиталя и узнал, что называлось то наступление – операция «Искра».
Папа снова замолчал…
– А расскажи ещё!
Ласковый взгляд вдруг окутал меня, словно лоскутным одеяльцем в деревне у бубушки, где всегда по ночам светила тёпленькая лампадка на божнице. Отец смотрел на меня, слегка наклонив голову, и грустно улыбался.
– Не приставай к папе, – ответила за него матушка. –Иди погуляй лучше во двор.
А отец действительно загрустил. Казалось, он пытался вспомнить что-то очень важное, но у него не получалось… А может, просто не хотелось ему это «что-то» вспоминать...
– Вот так, сказал бедняк. А сам горько заплакал, – произнёс тогда отец одну из своих присказок – и отвернулся, пытаясь скрыть набухшую на краешке глаза слезу.
Но и на следующий год месяц май не забыл заглянуть в наш уютный московский двор. И вновь мы сели за большой круглый стол, накрытый белой праздничной скатертью.
И, как всегда в этот день, папа наполнил рюмку. Мы смотрели фильм про войну, где бойцы Красной Армии брали Берлин.
В этот раз отец заговорил первым.
– А я вот до Берлина не дошёл. Для меня война раньше закончилась. В феврале сорок четвёртого мы наступали под Лугой, на Волховском фронте. Ведь нас тогда бросало, не пойми как. На Ленинградском фронте попал после ранения в госпиталь, а пока дырку в ноге залатали, наша бригада вперёд ушла.
А тогда после госпиталя обратно в свою часть немногие возвращались. Отправляли туда, где бои шли. Или в другие части, в которых личного состава – считай, что не было.
И в феврале сорок четвёртого нам приказ поступил - перекрыть дорогу из Луги на запад. Надо было занять высоту с отметкой 140. Оттуда эта дорога хорошо просматривалась. Если бы заняли ту высотку – ни один фриц бы по той дороге не прошёл.
А немцы – они ведь тоже не дураки. Знали, что если не смогут прорваться – на этой самой дороге и останутся. Поэтому и вцепились тогда намертво в ту горочку. Отбивались они, как могли. Раз пять нас в атаку поднимали. А у немцев на высотке пушки стояли. Так они сразу лупили прямой наводкой, как только мы вперёд начинали идти. Страшно было...
А тут попробуй, не пойди… Если кто струхнёт да не встанет – свои же расстрелять могли. В атаку шли все. Начинают немцы обстрел – в снег падаешь. Съёжишься, сквозь снег в землю вцепишься пальцами – и ждёшь, пока передышка будет. А пока ждёшь, в землю мёрзлую изо всех сил вцепившись, губы сами шепчут: «Господи, спаси раба твоего грешного!». А за спиной снова: «Вперёд! Вперёд, бойцы! За Родину!». И снова – вставали и бежали… И стрелять-то мы не стреляли. А куда стрелять-то? Фрицы наверху в окопах сидели, а мы их под высоткой и не видели. Чего патроны впустую изводить? Бежали молча, лишь бы дыхания хватило… По снегу быстро не побегаешь…
Вот так – перебежками, под обстрелом, почти до высотки добрались. А тут снова немцы палить начали. И тут снаряд-то – прямо рядом со мной разорвался…
Отец вдруг замолк. Большие руки с набухшими венами лежали на столе, а смотрел он в сторону маленького телевизора. Там, на выпуклом стекле, словно просочившись сквозь чёрную дыру времени в маленькую московскую квартирку, рисовала углём свои картины война…
– Помню, как снаряд жахнул. Громко. Земля в разные стороны разлетелась, а потом – темнота. С ног меня сбило. Сколько времени прошло, и не знаю. Пришёл в себя, глаза открыл – а вокруг земля, с чёрным снегом замешанная. В воронке от снаряда лежу. Кроме комьев земли, не вижу ничего. И дымом пахнет. И снегом. И ещё чем-то, вроде как железом калёным. Думаю – вставать надо… А двинуться не могу. Дёргаюсь, аж пот до костей прошиб, а ни с места – руки не слушаются. В ушах звенит. И ног не чувствую, как будто нет их совсем. Наконец, повернул немного голову. Наверху – небо серое. И, слава Богу – хоть не под землёй... Знаю, что дышу – пар клубочками перед лицом вьётся, а в висках стучит – «Спаси, Господи, раба твоего грешного! Дай силы, Боже…». И нет больше страха… Только вот в сон клонит…
Прервавшись на пару секунд, отец поднял руки и потёр кончиками пальцев виски.
– А что я тогда ещё мог… Помолиться только. Мать моя Агафья учила меня читать, а вот вспомнить не могу, одни обрывки в голове плывут: «Спаси, Господи, раба твоего грешного…». – Ничего больше из чтения не помню, а вот поди-ка ты – читаю, и вроде спокойнее становится. Нет больше страха… Только небо почему-то всё дальше отдаляется. Холодно лежать-то… Пальцы на руках замёрзли, уж и не чувствую их.
И вдруг в воронку парнишка скатился. Ловко так… За плечо меня трясёт: «Живой?» – а я глазами – хлоп-хлоп… А паренёк в ответ: «Ты погоди глаза-то закатывать, чай не красна девица. Сейчас вытащим тебя. Потерпи маленько!».
Достал он бинты, ноги мне перевязал. Автомат поправил половчее, схватил меня в охапку, как куль с мукой, да и поволок. Уж как этот паренёк смог меня до окопа дотащить – ума не приложу. Но дотащил, а там уже ждали нас. Он сперва-то меня бойцам на руки передал. А потом привстал, чтобы вниз соскочить – тут пуля с высотки его и достала. В окоп он уже неживой спрыгнул… Пуля сквозь сердце прошла…
Меня в госпиталь увезли. Долго я там лежал. Три осколка врачи из ног вытащили. А четвёртый – уже после войны доставали. И сколько потом про того паренька не спрашивал – так ничего и не узнал. И даже имени его до сих пор не знаю…
Вот как так? Не было бы тебя здесь, сынок, если бы тот парнишка меня с того света не вытащил. Он и меня спас, и тебя… Спас он нас. А ведь ты тогда и не родился ещё…
* * *
А в уютном московском дворике, как и положено, один год сменялся другим. Опадал снежными хлопьями каждую весну цвет черёмухи за окном. Пролетело в этом дворике и моё детство – моя маленькая жизнь. Пришла моя очередь отдать воинский долг той стране, за которую пролили кровь мой отец – и парнишка, которого он вспоминал потом ещё не один раз.
Меня призвали в армию в октябре 1979 года. От пункта сбора нас привезли на Угрешку – и держали там пару дней. Наконец, всех построили – и мы оказались в аэропорту Домодедово. Всё ещё не понимая, куда нас везут. И только когда на табло в зале вылета кто-то шлёпнул зелёным штампом пункт назначения – «Владивосток» –только тогда я понял, что всё изменилось. Что моя жизнь уже никогда не будет прежней. И даже когда я вернусь обратно – то это буду уже не я, а совсем другой человек.
И мы долго летели во Владик. А потом нас куда-то везли на грузовиках, переодев перед поездкой в колючие серые шинели. Но каким же было моё удивление, когда после прибытия в часть отблеском прошлого врезалась в глаза надпись – «ШКОТОВО». Я оказался в том самом посёлке на берегу Уссурийского залива, где когда-то начинал боевой путь мой отец. И кто знает – может, и тот парнишка, имя которого отец так и не смог узнать, тоже служил здесь…
Я уже никогда этого не узнаю.
Но я знаю другое.
Я знаю, что медаль «За оборону Ленинграда», которой так дорожил отец, – она одна на двоих. Одна на двоих из тех многих и многих живых и павших, кто защищал, спасал и освобождал хранимый ангелами город.
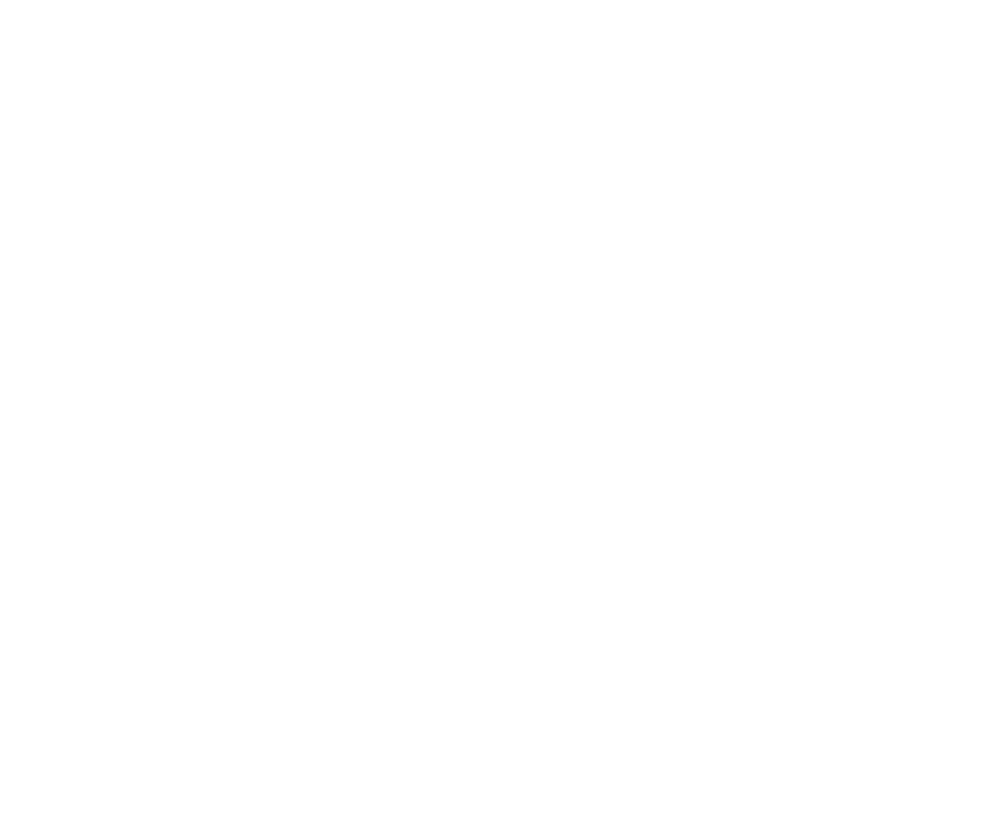
Николай ШОЛАСТЕР
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал не долго, вскоре, начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году, привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году освободившись от занимаемой должности, в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить, давно терзающий душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал не долго, вскоре, начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году, привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году освободившись от занимаемой должности, в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить, давно терзающий душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
ПРИЗНАНИЕ
Напротив нашего дома давно живет уже заброшенный одичавший сад. И хранит он в своих сказочных дебрях следы деятельности нескольких поколений нашего двора. Сколько было посажено деревьев, сколько спилено и сломано, два забора возведено когда-то было (один так и сломали). А уж деревянный столик со скамейкой рождались и умирали каждые пару лет. Еще березка была, которую мой папа посадил.
Раньше все это текло мимо меня, как вода, безмолвно и бесцельно. И было наплевать на все, а тут вдруг заметил свою вовлеченность в этот круговорот жизни и смерти. Внимательно вглядываюсь, будто пытаюсь наизусть заучить все эти метаморфозы как стихи. Вот, завтра этого всего не станет, и надо, непременно надо успеть записать все на «карту памяти». И быстрее уже замелькали за окном времена года! Раньше сам их подгонял:
– Скорей бы лето, зима, Новый год, день рождения, май!
Нынче совсем другие мысли приходят:
– Куда лечу? Зачем лечу?
И уже совсем неинтересно, что там впереди, будто наперед все знаю, а планы на будущее постепенно вытесняются воспоминаниями о прошлом. Неожиданно возникают какие-то странные мысли о покаянии. Раньше и слова-то такого не знал. Теперь, перелистывая свою жизнь вновь и вновь, нахожу немало того, в чем чувствую свою вину и за что стоило бы попросить прощения. Да, именно сейчас, пока хоть что-то еще могу сказать.
Одним из несправедливо недооцененных мною людей был мой папа. Он не отвечал моим представлениям о современном человеке. Как мне тогда казалось, он не был приспособлен к реальной жизни, слишком мягок и интеллигентен, старомоден и не силен физически. Он не владел никакими боевыми искусствами, не умел играть на гитаре и не смотрел загадочно в пространство, попыхивая сигаретой. Зато он был отличным математиком, но поскольку мне это было не нужно, я и не смог оценить это по достоинству. Папа «победоносно» играл в шахматы, не помню людей, его обыгравших. Пытался научить и меня, однако тут опять нестыковка вышла, я вовсе не любил просчитывать ходы, для меня это было мучительно скучно.
А сегодня, провожая грустным взглядом, уходящую свою жизнь, четко понимаю, что всю ее «капризную» часть, папа стоял за моей спиной и предостерегал от всяких падений и неприятностей. Понимание стало ко мне приходить во время службы в армии. Я ведь так же не владел тогда боевыми искусствами, а тут, вдруг, не понравился какому-то старослужащему и он решил научить меня любить Родину. «Разговор» не клеился, драться я не умел, да и не хотел, и все его «зачетные» удары вяли, не находя должного сопротивления. Но и на колени я не падал, не плакал, не просил о пощаде, даже немного заскучал, ожидая, когда он устанет. Мне, как раз, пришло радостное известие из дома, что у меня родился сын, хотелось еще раз перечитать письмо и уснуть в надежде на добрые сны.
Ну…, я все правильно рассчитал, не встретив ожидаемой реакции «обоих типов», он быстро потерял ко мне интерес и оставил в покое. И тут я вдруг вспомнил, как в далеком детстве спросил папу:
– А почему у тебя зубиков нет?
– Это мне на фронте осколками их повыбивало, сынок.
Так захотелось с ним поговорить. Нет не о Битлах, не о каратэ, просто посидеть рядом и послушать его голос. Когда моя служба закончилась, он уже умер, и мы так и не поговорили…
Сегодня, когда меня спрашивают о его трудах по математике, о его биографии, мне становится очень стыдно, я совершенно ничего о нем не знаю, по крайней мере, до моего сознательного возраста. Не интересовался…, более того, разговоры о тригонометрических функциях вызывали устойчивую аллергическую реакцию, которая автоматически распространялась на любую другую информацию о папе. Он никогда не настаивал, терпеливо ждал, когда я, наконец, повзрослею.
Справедливости ради, скажу, что некоторые факты из жизни папы тщательно уводились от моего сознания. Сначала я был маленьким, потом слишком ветреным и бесшабашным «хиппарём», склонным к дерзости и эпатажу, поэтому некоторые вещи узнал лишь в зрелом возрасте, когда его уже не было в живых. Потом и мамы не стало…. И не у кого было больше что-то узнать о нем…
В биографии каждого из нас есть разные страницы, о некоторых приятно рассказать всем, но некоторые стараешься «перелистнуть», не читая. Не имея намерения пересказывать папину биографию, я хочу просто рассказать о нем, как о человеке и моем отношении к нему. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых событиях его характеризующих, известных мне или рассказанных мамой, слегка уже забытых и не претендующих на документальную точность.
Даже дату рождения не могу точно сказать, по документам – 1908 год, но, по маминым словам – 1910 год, а дату изменили, чтобы была возможность раньше пойти в школу, он был способным ребенком. И после школы он поступил в МГУ на механико-математический факультет. Был бедным студентом, мама рассказывала, что в теплое время на учебу он ходил босой и лишь перед университетом надевал туфли, дабы не сносить их преждевременно. И вот он закончил учебу, перед ним открылась дорога, залитая ярким солнечным светом, сулящая несчетное количество побед под бравурное звучанье фанфар. Однако эпоха была не та, чтобы без оглядки шагать туда, где свет. Надо было точно знать, кто светит и куда светит! И перед войной он был арестован за посещение какого-то кружка, то ли там не так уж все было патриотично и по-советски, то ли патриотизм исполнялся не с должным рвением. Большого срока не получилось, но биография была залита огромным черным пятном и, как я думаю, именно тогда ему зубы «повыбивало осколками». Дальше была война.
У него с детства, в результате травмы, не было большого пальца на правой руке и держать оружие он нормально не мог. И все же он пошел добровольцем. Воевал в артиллерийской разведке (наводчиком), там пригодились его математические знания. И он сумел доказать свою полезность для Родины вопреки всем рассуждениям про «гнилую интеллигенцию» и другим всяким предубеждениям.
Вот такой документ я нашел в его бумагах...
С ним он ходил, по словам мамы, в комитет госбезопасности, когда его вызывали для проверки и по вопросам, требующим разъяснений.
Войну он закончил с орденом Красной звезды и ранением, вновь стал преподавать математику. Сначала в Ельце, кажется с 1946 года, потом в Армавире, по-моему с 1954 по 1960 год. Тогда-то и появился я на свет, в феврале 1955 года, но мама с трудом переносила южный климат, пришлось искать место попрохладнее. Лучшим вариантом была бы Москва, мамин родной город, но папе туда не разрешено было, так мы появились в Коломне.
Сколько помню, я был всегда окружен родительской теплотой и заботой. Не сказать, что мы жили богато, но у меня всегда были самые интересные игрушки. Родители безумно любили меня и баловали, мама, правда, построже была и порою доставалось мне от нее «на орехи». У папы строгость ко мне уступала место невероятному фантастическому терпению. У меня, как и у всех детей, наверно, появлялись временами «вредные» идеи. Вот влезла мне в голову дурацкая мысль, что я умею летать. Мы жили на третьем этаже в Армавире и я, придя с родителями домой, прямиком метнулся на балкон с явным намереньем прыгнуть и полететь. Как папа ухитрился меня поймать, и не знаю.
Со временем кубики, солдатики и машинки сменились фотоаппаратом и гитарой. Любые мои позитивные устремления тут же поддерживались и находили материальное воплощение. Но если с фотоаппаратом было достаточно просто, то хорошую гитару купить тогда у нас было крайне трудно. Даже простые советские «дрова» не лежали просто так в магазинах, а папа хотел купить хороший музыкальный инструмент! Это ведь было, пожалуй, мое единственное серьезное увлечение. Я тренькал уже вовсю на мало-музыкальных, походно-костровых «творениях» отечественного производства, а тут совершенно самостоятельно поступил в музыкальную школу (учась в институте), где, кстати, требовался нормальный музыкальный инструмент! И вот у меня появились – чешская «Кремона», а потом немецкая «Музима» с нейлоновыми струнами! «Музима» до сих пор еще жива и хорошо звучит для своих лет. В СССР такие гитары и струны не выпускались тогда и стоили поэтому очень дорого.
Потом были книги: «По ту сторону расцвета» и «Буржуазная массовая культура» А. В. Кукаркина, а также «Модели политического кино» С. И. Юткевича. Разумеется, их направленность была несколько негативно-обличительная – мол, посмотрите до чего дошли эти проклятые капиталисты, но пользовались они заслуженной популярностью, так как только в таком, негативном ключе и можно было узнать что-либо о рок-музыке, иноземных фильмах, книгах и западном искусстве вообще. Излишне напоминать, что тираж этих книг был весьма ограничен, надо было их успеть купить!
Вообще к книгам у папы было особое трепетное отношение, у него даже дрожали руки, когда он держал в руках наиболее ценные, по его мнению, экземпляры! У нас до сих пор осталась большая библиотека, несмотря на попытки как-то ее хоть немного сократить. Разумеется, не выбросить, а подарить часть книг кому-либо, новая жизнь требовала много места, старая теперь вмещалась в маленькую «флэшку». И все же один шкаф мы полностью оставили под книги, пусть говорят, что они заменяют обои, что их никто не читает. Это память о папе! В основном, это им купленные книги, а есть и написанные им.
При всей своей мягкости и внешней беззащитности, он был совершенно несгибаемый человек, который всегда добивался своей цели. И он безгранично любил меня и все, что со мной было связано. В свое время, опять же по легкомыслию, я ушел служить в армию, оставив молодую беременную жену на своих родителей. Когда она лежала в роддоме, он ежедневно посещал ее в любую погоду. Девчонки думали, это отец ребенка, сокрушались, какой старый и не верили, что это свёкор! Когда у него родился внук, счастью его не было предела, очень жаль, продолжалось это недолго. И не было меня, того, кто должен был выполнять роль мужской опоры в семье. В который раз ему пришлось взвалить на себя мои обязанности.
Все, что я сейчас пишу, это мое признание его личности, ответ на его безграничную любовь и покаяние за то, что не сумел сделать это раньше.
Светлая память ему!
Напротив нашего дома давно живет уже заброшенный одичавший сад. И хранит он в своих сказочных дебрях следы деятельности нескольких поколений нашего двора. Сколько было посажено деревьев, сколько спилено и сломано, два забора возведено когда-то было (один так и сломали). А уж деревянный столик со скамейкой рождались и умирали каждые пару лет. Еще березка была, которую мой папа посадил.
Раньше все это текло мимо меня, как вода, безмолвно и бесцельно. И было наплевать на все, а тут вдруг заметил свою вовлеченность в этот круговорот жизни и смерти. Внимательно вглядываюсь, будто пытаюсь наизусть заучить все эти метаморфозы как стихи. Вот, завтра этого всего не станет, и надо, непременно надо успеть записать все на «карту памяти». И быстрее уже замелькали за окном времена года! Раньше сам их подгонял:
– Скорей бы лето, зима, Новый год, день рождения, май!
Нынче совсем другие мысли приходят:
– Куда лечу? Зачем лечу?
И уже совсем неинтересно, что там впереди, будто наперед все знаю, а планы на будущее постепенно вытесняются воспоминаниями о прошлом. Неожиданно возникают какие-то странные мысли о покаянии. Раньше и слова-то такого не знал. Теперь, перелистывая свою жизнь вновь и вновь, нахожу немало того, в чем чувствую свою вину и за что стоило бы попросить прощения. Да, именно сейчас, пока хоть что-то еще могу сказать.
Одним из несправедливо недооцененных мною людей был мой папа. Он не отвечал моим представлениям о современном человеке. Как мне тогда казалось, он не был приспособлен к реальной жизни, слишком мягок и интеллигентен, старомоден и не силен физически. Он не владел никакими боевыми искусствами, не умел играть на гитаре и не смотрел загадочно в пространство, попыхивая сигаретой. Зато он был отличным математиком, но поскольку мне это было не нужно, я и не смог оценить это по достоинству. Папа «победоносно» играл в шахматы, не помню людей, его обыгравших. Пытался научить и меня, однако тут опять нестыковка вышла, я вовсе не любил просчитывать ходы, для меня это было мучительно скучно.
А сегодня, провожая грустным взглядом, уходящую свою жизнь, четко понимаю, что всю ее «капризную» часть, папа стоял за моей спиной и предостерегал от всяких падений и неприятностей. Понимание стало ко мне приходить во время службы в армии. Я ведь так же не владел тогда боевыми искусствами, а тут, вдруг, не понравился какому-то старослужащему и он решил научить меня любить Родину. «Разговор» не клеился, драться я не умел, да и не хотел, и все его «зачетные» удары вяли, не находя должного сопротивления. Но и на колени я не падал, не плакал, не просил о пощаде, даже немного заскучал, ожидая, когда он устанет. Мне, как раз, пришло радостное известие из дома, что у меня родился сын, хотелось еще раз перечитать письмо и уснуть в надежде на добрые сны.
Ну…, я все правильно рассчитал, не встретив ожидаемой реакции «обоих типов», он быстро потерял ко мне интерес и оставил в покое. И тут я вдруг вспомнил, как в далеком детстве спросил папу:
– А почему у тебя зубиков нет?
– Это мне на фронте осколками их повыбивало, сынок.
Так захотелось с ним поговорить. Нет не о Битлах, не о каратэ, просто посидеть рядом и послушать его голос. Когда моя служба закончилась, он уже умер, и мы так и не поговорили…
Сегодня, когда меня спрашивают о его трудах по математике, о его биографии, мне становится очень стыдно, я совершенно ничего о нем не знаю, по крайней мере, до моего сознательного возраста. Не интересовался…, более того, разговоры о тригонометрических функциях вызывали устойчивую аллергическую реакцию, которая автоматически распространялась на любую другую информацию о папе. Он никогда не настаивал, терпеливо ждал, когда я, наконец, повзрослею.
Справедливости ради, скажу, что некоторые факты из жизни папы тщательно уводились от моего сознания. Сначала я был маленьким, потом слишком ветреным и бесшабашным «хиппарём», склонным к дерзости и эпатажу, поэтому некоторые вещи узнал лишь в зрелом возрасте, когда его уже не было в живых. Потом и мамы не стало…. И не у кого было больше что-то узнать о нем…
В биографии каждого из нас есть разные страницы, о некоторых приятно рассказать всем, но некоторые стараешься «перелистнуть», не читая. Не имея намерения пересказывать папину биографию, я хочу просто рассказать о нем, как о человеке и моем отношении к нему. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых событиях его характеризующих, известных мне или рассказанных мамой, слегка уже забытых и не претендующих на документальную точность.
Даже дату рождения не могу точно сказать, по документам – 1908 год, но, по маминым словам – 1910 год, а дату изменили, чтобы была возможность раньше пойти в школу, он был способным ребенком. И после школы он поступил в МГУ на механико-математический факультет. Был бедным студентом, мама рассказывала, что в теплое время на учебу он ходил босой и лишь перед университетом надевал туфли, дабы не сносить их преждевременно. И вот он закончил учебу, перед ним открылась дорога, залитая ярким солнечным светом, сулящая несчетное количество побед под бравурное звучанье фанфар. Однако эпоха была не та, чтобы без оглядки шагать туда, где свет. Надо было точно знать, кто светит и куда светит! И перед войной он был арестован за посещение какого-то кружка, то ли там не так уж все было патриотично и по-советски, то ли патриотизм исполнялся не с должным рвением. Большого срока не получилось, но биография была залита огромным черным пятном и, как я думаю, именно тогда ему зубы «повыбивало осколками». Дальше была война.
У него с детства, в результате травмы, не было большого пальца на правой руке и держать оружие он нормально не мог. И все же он пошел добровольцем. Воевал в артиллерийской разведке (наводчиком), там пригодились его математические знания. И он сумел доказать свою полезность для Родины вопреки всем рассуждениям про «гнилую интеллигенцию» и другим всяким предубеждениям.
Вот такой документ я нашел в его бумагах...
С ним он ходил, по словам мамы, в комитет госбезопасности, когда его вызывали для проверки и по вопросам, требующим разъяснений.
Войну он закончил с орденом Красной звезды и ранением, вновь стал преподавать математику. Сначала в Ельце, кажется с 1946 года, потом в Армавире, по-моему с 1954 по 1960 год. Тогда-то и появился я на свет, в феврале 1955 года, но мама с трудом переносила южный климат, пришлось искать место попрохладнее. Лучшим вариантом была бы Москва, мамин родной город, но папе туда не разрешено было, так мы появились в Коломне.
Сколько помню, я был всегда окружен родительской теплотой и заботой. Не сказать, что мы жили богато, но у меня всегда были самые интересные игрушки. Родители безумно любили меня и баловали, мама, правда, построже была и порою доставалось мне от нее «на орехи». У папы строгость ко мне уступала место невероятному фантастическому терпению. У меня, как и у всех детей, наверно, появлялись временами «вредные» идеи. Вот влезла мне в голову дурацкая мысль, что я умею летать. Мы жили на третьем этаже в Армавире и я, придя с родителями домой, прямиком метнулся на балкон с явным намереньем прыгнуть и полететь. Как папа ухитрился меня поймать, и не знаю.
Со временем кубики, солдатики и машинки сменились фотоаппаратом и гитарой. Любые мои позитивные устремления тут же поддерживались и находили материальное воплощение. Но если с фотоаппаратом было достаточно просто, то хорошую гитару купить тогда у нас было крайне трудно. Даже простые советские «дрова» не лежали просто так в магазинах, а папа хотел купить хороший музыкальный инструмент! Это ведь было, пожалуй, мое единственное серьезное увлечение. Я тренькал уже вовсю на мало-музыкальных, походно-костровых «творениях» отечественного производства, а тут совершенно самостоятельно поступил в музыкальную школу (учась в институте), где, кстати, требовался нормальный музыкальный инструмент! И вот у меня появились – чешская «Кремона», а потом немецкая «Музима» с нейлоновыми струнами! «Музима» до сих пор еще жива и хорошо звучит для своих лет. В СССР такие гитары и струны не выпускались тогда и стоили поэтому очень дорого.
Потом были книги: «По ту сторону расцвета» и «Буржуазная массовая культура» А. В. Кукаркина, а также «Модели политического кино» С. И. Юткевича. Разумеется, их направленность была несколько негативно-обличительная – мол, посмотрите до чего дошли эти проклятые капиталисты, но пользовались они заслуженной популярностью, так как только в таком, негативном ключе и можно было узнать что-либо о рок-музыке, иноземных фильмах, книгах и западном искусстве вообще. Излишне напоминать, что тираж этих книг был весьма ограничен, надо было их успеть купить!
Вообще к книгам у папы было особое трепетное отношение, у него даже дрожали руки, когда он держал в руках наиболее ценные, по его мнению, экземпляры! У нас до сих пор осталась большая библиотека, несмотря на попытки как-то ее хоть немного сократить. Разумеется, не выбросить, а подарить часть книг кому-либо, новая жизнь требовала много места, старая теперь вмещалась в маленькую «флэшку». И все же один шкаф мы полностью оставили под книги, пусть говорят, что они заменяют обои, что их никто не читает. Это память о папе! В основном, это им купленные книги, а есть и написанные им.
При всей своей мягкости и внешней беззащитности, он был совершенно несгибаемый человек, который всегда добивался своей цели. И он безгранично любил меня и все, что со мной было связано. В свое время, опять же по легкомыслию, я ушел служить в армию, оставив молодую беременную жену на своих родителей. Когда она лежала в роддоме, он ежедневно посещал ее в любую погоду. Девчонки думали, это отец ребенка, сокрушались, какой старый и не верили, что это свёкор! Когда у него родился внук, счастью его не было предела, очень жаль, продолжалось это недолго. И не было меня, того, кто должен был выполнять роль мужской опоры в семье. В который раз ему пришлось взвалить на себя мои обязанности.
Все, что я сейчас пишу, это мое признание его личности, ответ на его безграничную любовь и покаяние за то, что не сумел сделать это раньше.
Светлая память ему!

Виктор СЛАВЯНИН (1943-2020)
Родился на Украине, в Киевской области. Окончил Киевский политехнический институт им. И.И. Сикорского по специальности «Управляемые снаряды морского базирования». Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М.Горького. Печатался в журналах Австралии, Америки, Белоруссии, Дании, Канады, России, Украины. Автор 10 книг прозы. Готовятся к печати в Украине две книги семейной хроники «Время незамеченных людей» и сборник военных повестей «Особый фронт».
Родился на Украине, в Киевской области. Окончил Киевский политехнический институт им. И.И. Сикорского по специальности «Управляемые снаряды морского базирования». Окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М.Горького. Печатался в журналах Австралии, Америки, Белоруссии, Дании, Канады, России, Украины. Автор 10 книг прозы. Готовятся к печати в Украине две книги семейной хроники «Время незамеченных людей» и сборник военных повестей «Особый фронт».
ВРАГИ
1.
«Клятое утро!» — выругался Мещеряк, разглядев на фоне чуть просветлевшего неба огромное смоляное пятно и, осторожно сделав десяток нерешительных шагов, понял, что это куст. Поравнявшись с ним, задевая плечом ветки, он намерился идти дальше, но зацепился ногой за что-то твёрдое, торчавшее из земли. От неожиданности присел, и готов был даже упасть на землю, затаиться.
«Корень!? — Ожёг испуг. — Чертяка, как железный. Хорошо, хоть не бабахнуло».
Опустился на колени и принялся ощупывать занывшую от боли ногу. Ладонь внезапно коснулась холодного металла и, нервно дрожа, заскользила медленно под куст. Пальцы нащупали толстый круг, похожий на колесо, а затем, обогнув тонкий лист щита — рифлёный, точно паханый, кожух станкового пулемёта. Раздвинув ветки, он попытался пролезть глубже в куст, но, ужаленный колючками шиповника, выругался и с силой дёрнул пулемёт. Ветки, хрустя надломленными суставами, отпустили его. Машинально отвернув пробку на кожухе ствола, Мещеряк сунул в отверстие палец — вода была у самого верха, — попробовал на язык, сплюнул.
«Свежая. Спрятали недавно, видать... — Смекнул он, обрадовавшись неожиданной находке. — Значит, скоро за им придут. — И внезапную радость снова сменила тревога. — Вот только мне с хозяинами этой балалайки встречаться нету никакой пользы... окромя вреда. От, имелись бы патроны, то может быть?.. Сторожить этую железяку, когда нечем стрельнуть — дело совсем дурное. Не найду — побегу дальше».
Мещеряк лёг на живот и, осторожно шаря пальцами возле корней, извлёк из-под веток две тяжёлые коробки, наполненные лентами.
«Ого! С таким добром можно около пулемёта полежать, как у бабы под боком. — И глянул с опаской в темноту за спиной. Ему показалось, что кто-то наблюдает за ним из ночного мрака. — Если кто сунется — то ещё поглядим... Куст в этом степу — получшей ДОТа в Ирпене».
Восток только-только начинал светлеть, выталкивая на небо еле заметную серую полоску горизонта.
— Раз судьбина так распорядилась, — сказал себе он, — надобно её послушать. Заночую тут часиков до двенадцати, а там солнышко припечёт и путь-дорожку высветит. Немца, даст Бог, не принесёт в этот околот.
Улегшись возле куста и подложив под голову коробку с патронами, Мещеряк выбрал на небе одиноко догоравшую звезду и стал смотреть на неё. Блёклая точка сначала горела ровно, затем начала мигать, прыгать из стороны в сторону, а потом исчезать. С неба, словно от самой звезды, опускался пряный аромат зреющего шиповника, перемешанного с запахами, неостывшей за ночь, полынной степи. Мерцание звезды, степные запахи убаюкивали. Он тряс головой, отгоняя сон. В издёрганной, переполненной тревогой, душе что-то стучало, как весенняя беспрерывная капель, не позволяло заснуть раньше, чем высветлится рассвет. Потёр глаза кулаками и, чтобы не заснуть, взялся гадать о тех, кто оставил посреди поля пулемёт со свежей водой под рубашкой и банки с патронами.
«Запихнули его под куст не от лёгкой жизни... Это ж какую надо силу иметь, чтобы тяжесть этую на себе тянуть?.. Да ещё в жару... А если человек один остался? От, как я... — Он взял пилотку и вытер ею вдруг взмокший лоб. — Так и вдвоём дурную железяку пихать — далёко не отнесёшь. А, может, где близко село?.. И пошли хлопцы-пулемётчики хоть малый кусочек хлеба попросить. Поночевать по-людски... Им хорошо теперь... — позавидовал он неизвестным ему хлопцам. — Сейчас бы поспать где-нибудь под стрехой соломенной, а не в этом колючем бурьяне...»
Мещеряк шёл уже три ночи, ориентируясь только по звёздам, а на зорьке закапывался, хоронился среди голой степи, как удавалось, и ждал темноты, чтобы идти дальше. И после трёх волчьих дней не мог равнодушно встречать рассвет, который своими первыми, ещё невидимыми лучами истязал его душу, разрывая её на куски.
«А если немец эту пушку специально сюда прикатил? — Безотчётная тревога отгоняла назойливый давящий сон. — Я буду тишком спать, а они заявятся?.. Нет, — и как бы успокаивая себя, он подложил ещё и пилотку под голову. — Бандура эта, конечно, красноармейская. А то как!? «Максим» совсем старый. В Финскую уже стволы с крышками для снега были. И патроны на тряпку нанизанные, наверно? — Мещеряк открыл коробку, просунул руку, и нащупал знакомую жёсткую парусину. — У!.. Старье нашенское... Немец своей техники не кинет. Не на собственном же горбу её прёт... Не проспать бы, когда придут пулемётчики... — Он, последним усилием приподнял тяжёлые веки, нагруженные усталостью и предрассветной, неодолимой сонливостью. — Хлопцы картошки принесут... И цибули...»
Звезда сгорела.
На начавшее просветляться небо веки надвинули сплошную черноту... Мещеряк чувствовал, как его усталая, измотанная беспрерывным подзиранием, душа проваливается в мягкую чёрную пропасть... И не мог сопротивляться...
...И из этой черноты, с той стороны, откуда он пришёл, донёсся слабый шорох сухой травы, точно по ней тянули срубленное дерево, а затем отчётливо послышались неторопливые шаги. Шум двигался прямо на него.
Сон слетел.
Повернувшись как можно тише на живот, чтобы не выдать себя, Мещеряк прижался к земле и, нащупав рукой патронную коробку, стал торопливо доставать из нее ленту. Патроны, скреблись с ужасным грохотом о железные стенки коробки.
«Сколько раз долдонил! — выругал себя он. — Заряди сперва, а уже потом спать! Не успею! От, точно, не успею! — Пальцы суетно забегали по замку патронника. — А, может, это за пулемётом идут?»
Шаги неспешные, размеренные, как показалось, даже лениво мягкие, стучали совсем близко. На ещё тёмном фоне неба уже можно было разглядеть силуэт с винтовкой на плече.
«Наш, — вцепился в него глазами Мещеряк. — Трехлинейка... И вещмешок добрый. И бежит нескоро. Видать, без дела особого бежит... Значит, знает куда... Показал бы дорогу, служивый... От, если б он из нашей бригады! Кому ж тут быть сейчас?.. А, может, и из другой… Если не торопится... значит, пожрать у него имеется... Вдвоём бы... Он сперва посидит, а я посплю. Потом он поспит...» — И, уступая высасывающему нутро голоду и желанию по-детски безмятежно выспаться, осторожно свистнул.
Силуэт от неожиданности замер, а затем повалился на землю, как пустой мешок.
Не сводя глаз с того места, куда упал незнакомец, Мещеряк продолжал суетно заправлять ленту в пулемёт.
«От, старый дурень! — снова выругался он. — Эта железяка без второго номера больше двух патронов и не стрельнёт! А где я тут возьму себе второго номера!? Этого бахну... И опять сам один».
Он громко щёлкнул крышкой патронника, надеясь этим напугать незнакомца, и крикнул осторожно:
— Эй, ты хто!?
Темнота молчала.
— Ты кто? — уже смелее повторил Мещеряк. — Или ты глухой? Где немцы — знаешь?
— Нет! — ответил из мрака тонкий не то детский, не то женский голос, и в свою очередь спросил: — А ты кто?
— Свой. А ты давно по степу бродишь?
Но темнота промолчала.
— Из какой части? — спросил Мещеряк, в душе надеясь, что случай свёл его с однополчанином.
Вместо ответа из темноты долетел щелчок передернутого затвора.
— Не балуй самопалом! — Мещеряк безбожно выругался, как всегда уверенный, что отборный мат — лучшее лекарство против глупости. Но, сознавая, что брань не поможет, сказал: — Я из полка Егорова. Танкового. Знаешь?
Однако незнакомец не ответил.
— Из Девятой армии, — подождав минуту, добавил Мещеряк, поняв, что ему не верят.
— Кто у вас командир? — вдруг спросила темнота мягким, почти певучим голосом.
— Подполковник Егоров, — радостно ответил Мещеряк. — Знаешь?.. А ротный — Горячкин...
— Каких командиров знаете ещё? — звонко, с радостной заинтересованностью спросила степь.
— А ты кто такой мне допрос тут выделывать?.. — возмутился Мещеряк. — Иди... куда шёл! Очень ты нужный! А то вмажу из «Максима»! Не то, что про командиров не вспомнишь, а забудешь, как тебя зовут!
Он развернул пулемёт в степь, подтянул коробку с лентой к щёчке, но вместо того, чтобы лечь и глазом ловить незнакомца в прорезь щитка, встал на колени, выпрямил спину, принялся суетно поправлять гимнастёрку на поясе.
«И зачем я на его кричать стал?! — Мещеряк остался недоволен собой. — Он меня не знает, я — его. А если это девка? Ещё и, правда, уйдёт. У неё жратва обязательно имеется. Девки... они запасливые. А то чего б я молчал, когда зовут? У кого харчи есть — всегда молчат... А девки особенно. — При мысли, что там за темнотой лежит женщина, сердце его вдруг забуянило, по телу медленно поползла горячая волна. Он машинально схватил пилотку и, напялив, стал аккуратно поправлять волосы над ушами. — С мужиком идти легшéй, конечно... А с девкой интереснéй...»
— А сами откуда? — неожиданно вырвался из темноты радостный возглас.
Мещеряк дёрнулся, словно ужаленный. Прилип к пулемёту и ответил заученно, как школяр, не поняв, чего от него хотят:
— Из Киева.
Неизвестный, видимо, спрашивал о другом. И, не ожидавший такого ответа, долго молчал, а потом поинтересовался:
— А куда смотрит хвостом конь Богдана Хмельницкого?
«Для какого дьявола мне тут твой Хмельницкий!? — выругался про себя Мещеряк, но в мыслях представил памятник гетману. — Когда на трамвае от Прорезной едешь, то хвост в окно глядит, и когда к Оперному — он опять же в окне болтается... И булава тоже». — И крикнул:
— А бес его знает! Ты ещё чего спроси про Киев, я тебе разобъясню. Ну, хоть как Евбаз или на Сенной базар проехать?
— Я ничего о Киеве не знаю.
— Для чего тогда спрашиваешь!? — Мещеряку захотелось снова выпустить несколько крепких слов, но желание повстречаться среди степи с женщиной не позволило.
«Голос совсем не мужикастый... — с радостной надеждой решил он. И его облил сладостный жар. — А, точно, там девка!» — И помолчав, осторожно спросил:
— Сами вы откуда будете?
— Из Москвы.
— Давно в кадровой?
— В июле призвали, — ответила темнота.
— Так вы?.. — Он запнулся, понимая, что женщина, призванная в армию, не может быть острижена налысо. — Небось, сами про свою Москву ничего не знаете. — И заискивающе поинтересовался. — От, скажите — на какой вокзал поезд из Киева приезжает?
— На Брянский.
«Может, и на Брянский, — подумал Мещеряк. — Я у вас отродясь не был». — И добавил вслух:
— А из Жмеринки — на Жмеринский?
Незнакомец тихо хихикнул и сквозь смех, как добрый учитель, пояснил уже уверенно по-мужски:
— Нету такого вокзала — Жмеринского.
— Тебе виднее, голомозый! — Мещеряк равнодушно отпустил несколько увесистых крепких слов, поняв, что утро подбросило ему не женщину, а какого-то юнца, и подумал:
«От так!.. Судьбину не обманешь. А что человек этот — не девка, так на то она и война. Тут на баб не разгуляешься. И не верит мне, лысая голова... Так какой дурак на середине голого степу верить другому сразу начнёт?»
Небо в одночасье посветлело. Над горизонтом полыхнула тонким красным прищуром заря, а следом выглянул пылающим зрачком краешек солнца, и его лучи сразу прогнали остаток ночной серой пелены. Вместе с солнцем из предрассветной дымки выплыла бесконечная выгоревшая равнина. Мещеряк начал злиться, глядя, как неудержимо выползает жаркое августовское солнце, разрывая редкие серо-белые тучи, вымазывая их лоскуты кровяными подтёками. И куст шиповника в одно мгновение потерял все необъятные ночные размеры: человек был виден теперь почти со всех сторон.
«Лучше тебе никогда не появляться! — Щурился Мещеряк. — И этот проверяльщик лысый туда же, твою мать!.. Куда конь хвостом глядит!? Ему что, в зад глаза кто вставил? Штаны бы тебе стянуть да по твоему голому заду съездить от этим шиповником... Тогда знал бы, про чего спрашивать...»
Он посмотрел на то место, где лежал незнакомец и громко рассмеялся. Метрах в тридцати, не далее, из ложбинки на фоне серо-жёлтой земли виднелась светло-зелёная клякса форменки.
«Закопался, называется! — С чуть заметным раздражением ухмыльнулся Мещеряк. — Моя б воля, тебе как раз соли из «бердана» сыпануть!» — И крикнул, как кричат незадачливому приятелю-неумёхе:
— Эй, храбрый Янкель, забери свой зад! Немец тебя по нему бегом углядит и одним залпом две половины срубит. Давай сюда.
— Идите вы сюда.
— Я в укрытии, а тебя из всех боков видать. Спрячь задницу сперва, а потом командуй! Ты, никак, старшина или кто?
— Я — красноармеец.
— А я — сержант! — повысил голос Мещеряк. — Аж два треугольника имею. По уставу — тебе командир. И приказываю! До меня бегом! И быстро! А то пальну!
Человек в ложбине вдруг вжался в землю. Он ещё несколько минут лежал, должно о чём-то раздумывая, затем встал на колени и, опираясь на трёхлинейку, как на посох, медленно поднялся.
— А ну, ляж! — крикнул Мещеряк. — И не моги вставать! Божий день кругом! Немец, як коршуняка подлючий, где-то летает и всё видит! Ползи, дурная башка!.. Только гляди не стрельни случаем. Винтовка сама может бабахнуть...
2.
Мещеряк стоял на коленях и смотрел на ползущего, как на диковинку.
— Как ты тут очутился? — спросил он вместо приветствия, когда незнакомец уселся неуклюже возле куста, готовый в любую минуту сбежать.
Это оказался совсем молодой красноармеец, сутулый, худой с прыщеватым, бледно-серым круглым лицом и огромными голубыми глазами, которые светились тревогой. И, натыкаясь на взгляд Мещеряка, он по-девичьи смущённо опускал их, прикрываясь, как шалью, густыми белёсыми бровями. Между этими широко посаженными кружочкам чуть заметно торчала кнопочка носа, походившего на большую фасолину. А чтобы этот шарик не скатился с лица, его подпирала тонкая длинная ниточка плотно сжатых губ. Он был одет в свежую командирскую форменку, в синеватых петлицах которой вместо «кубарей» одиноко белели сабли, схваченные подковой — эмблемы кавалериста.
— Напугал ты меня крепко, хлопец. Слышу — кто-то идёт, а у меня пулемёт незаряженный. Шлепнул бы я тебя, как глупую куропатку... С перепугу, — сказал Мещеряк, отвечая улыбкой на искрящийся взгляд, и подумал: — «Ай, какой молоденький да красивенький. И чего тебе на этой войне быть? Никак тебя мамка потеряла, а теперь убивается, сердешная. Такие должны долго жить и глаз людской радовать. Ну, я тебя до своих доведу. Какаясь девка мне спасибочки потом за тебя скажет...» — И делая серьёзный вид, пояснил, точно оправдывался: — Ночью не разберёшь… где свой... А вот, что тебя надыбал — это здорово... Пожевать бы сейчас. — И вопрошающе посмотрел на парня.
Красноармеец, казалось, совершенно не слышал слов. Он настороженно рассматривал Мещеряка, обдавая его короткими вспышками голубоглазого огня, и старался устроиться поудобней. Сел рядом с пулемётом, подтянул к ноге трехлинейку и, не выпуская её из правой руки, вместо ответа сказал звонко:
— Документы у вас есть?
— А зовуть тебя как? — спросил Мещеряк.
— Документы покажите.
Красноармеец надул щёки, чтобы добавить лицу серьёзности, но из этого вышла смешная детская гримаса.
«Пустое место, а порядок в степу наводит, — подумал Мещеряк, радостно глядя на парня. — Одной рукой, как комара, придавил бы». — И не сдерживая улыбки, сказал добродушно:
— Если надо, то гляди. — Расстегнул карман гимнастёрки, достал оттуда толстую пачку бумаг, перевязанных дратвой, и протянул их незнакомцу. — Тут у меня всё. Даже последняя увольнительная сохраняется. За двадцать первое июня... Не успел я её сдать. Она сейчас поважней красноармейской книжки будет... Я уже до своей палатки, где у меня койка, подбирался, как самолёты нас бомбами закидывать стали. Загулялся я мало-мало. Запоздал из увольнения. Если б не проклятый немец — десять суток губы схлопотал бы. У нас замполит — будь здоров мужик был! Никому не спускал. Накрыло его прямым попаданием в первый же день...
Парень осторожно отложил трехлинейку, взял тонкими, длинными пальцами свёрток, неловко дёрнул за конец нитки. Она развязалась, и ему на колени упал десяток фотографий молодых женщин.
— От у этой я и был, как немец попёр, — сказал Мещеряк, взяв одну карточку и следом подбирая другие. И продолжая улыбаться, спросил: — У тебя пожрать имеется чего-нибудь?
— Фамилия как? — Парень, не слушая, внимательно разглядывал увольнительную.
— Или ты читать не наученный? Младший сержант Мещеряк, Матвей Самсонович. Рождения девятьсот первого. Правда, про это там не зазначено. Ну, это так. Проверяй, проверяй! До ночи далёко.
— Я имею право всех проверять. Всех незнакомых и подозрительных, которых встречу, — авторитетно заявил парень. — И почему увольнительная не на машинке напечатана, а карандашом написанная?..
— Карандашом? — озадаченно спросил Мещеряк. — Зато печать настоящая… А ты сам-то кто такой будешь? — С деланным любопытством принялся разглядывая петлицы своего нового знакомого. И подумал: — «Если бы хоть энкэвэдист задрипанный... Так тогда, понятно, выкладывай без разговору... А то лошадник вонючий. И сразу — докýменты». — И добавил: — Форменка на тебе вроде как парадная, начальственная... Точно на какую выставку привезли... А где ж твой конь, кавалерия?.. Шашка?..
— Мы — не кавалерия! — жуя губами воздух, выдавил боец. Губы его плотно сжались и исчезли с лица. — Мы... — Он долго молчал, глядя то в песок, то в бумажку, о чём-то раздумывая. — Я из специального десанта.
— Так у вас и харчи должны быть специальные. Я тоже был в десанте... Целую неделю. Как на Финскую забрали… Сразу в десант назначили. В лыжный. И тоже новенькую форму выдали... А со мной в роте такие, как ты, молодые были. Из Ташкенту. Это очень далёко... Мы, вот, с тобой говорим, а они ничего не понимали. Ой, как же они радовались новым ладным галехвам. В такой одёжке на фина идтить удобней... Вот только снегу они отродясь не видали, не то, что лыж. А им на сапоги эти длинные деревяшки примотали… и в атаку... — Мещёряк вздохнул тяжело. — Их всех поубивало, хоть и в новых штанах были... — Помолчал и добавил: — А я для десанту не подошёл. Старый, сильно, для десанту... А, вот, харчи в десанте... да... От, там харчи! А теперь, видишь, до чего дожились. В степу стало тесно и на брюхе пресно. Я свою воблу давно закончил... Даже кости пережевал. Давай пожуём, если есть. А то с голоду помру. Уже двое суток ничего не ел.
Красноармеец вернул документы, развязал вещмешок, деловито порылся внутри и достал оттуда что-то похожее на прямоугольную коробочку, завёрнутую в белую тряпочку. Положив это себе на левую ладонь, пальцами правой осторожно распеленал свёрток. Там оказались, сложенные стопкой, пять коричневых сухарей. Парень осторожно, точно держал что-то очень хрупкое, протянул руку с едой к лицу младшего сержанта.
— Все можно? — спросил Мещеряк боязно.
— Лучше один, — ответил боец.
Мещеряк схватил два кусочка, но второй сразу положил на стопку, делая вид, что это у него вышло совершенно случайно. И принялся жадно жевать. Сухарь оказался сладковатым, пропитанным ванилью.
— А как же тебя зовут, хлопец? — спросил он, хрустя сухарём.
Боец посмотрел на сержанта удивленно, но отвечать не стал.
— С перепугу имя забыл? — улыбаясь, поинтересовался Мещеряк.
— Александр.
— Ну, спасибо тебе, Александр, что ты мине встретился. Сержант бросил на парня благодарный взгляд, и снова усмехнулся мимо своей воли. Детская неуклюжесть и напускная настороженность бойца вызывали улыбку. — От голодной смерти спас меня, считай. Сухарь у тебя, прямо, невеста. Сладкий и пахучий. Хочется... и всё мало... А ты чего не ешь? Не голодный?
— Рано, — ответил боец, стеснительно отводя глаза.
— Так ты хоть воды попей. — Ему хотелось как-то особо поблагодарить парня за сухарь. Снял с пояса флягу, обшитую шинельным сукном, отвернул белую крышечку и протянул.
Тот, сделав несколько глотков нехотя, вернул стекляшку . Затем аккуратно запеленал сухари и положил свёрток в вещмешок.
— Ну, я малость посплю. — Сержант поднялся во весь рост и взялся одергивать полы гимнастёрки, расправляя под ремнём складки. — А ты посторожи.
— Спите, — ответил парень, выказывая полное безразличие. Встал на колени и принялся внимательно разглядывать пулемёт.
— Если кто появится — сразу меня буди, — сказал Мещеряк, зевая. — Мы с тобой теперь, вроде, как пулемётный расчёт. Ты будешь... С пулемётом можешь управляться? — И заметив, как от неловкости на лице парня дрогнули брови, добавил: — Вторым номером. А по инструкции надо три.
Он опустился на колени, подлез на четвереньках поближе к корням шиповника, чтобы укрыться большим куском утренней тени, и улёгся, подложив под голову коробку с патронами. Расстегнул пуговицы на гимнастёрке и подставил грудь набегающему из степи лёгкому ветерку. В воздухе, который начал пропитываться утренним зноем, пахло перегретой землёй, перестоявшими чабрецом и полынью, и, как ему почудилось, даже песнями кузнечиков, что звучали монотонно и оттого убаюкивающе сладко, в столь ранний час. Под аккомпанемент однообразной песни он закрыл глаза, и ощутил, что из его уставшего тела стали уходить тревога и страх. Тот самый страх, который шёл всё время рядом с ним, как росомаха, преследующая раненного зверя, не позволяя забыть, что он совершенно один в зловещем воюющем мире.
«Сейчас высплюсь добряче, — подумал Мещеряк. — Теперь не страшно. Хлопец добрый. Сухарь не пожалел, кавалерия... Молодец. И правильно... Для чего сразу два?.. А вечером ещё пожуём...»
Силы оставляли его. Не имея возможности сопротивляться, проваливался в сладкую тёмную пропасть.
— А вы — пулемётчик?
Сержант вздрогнул и сел. Иголки шиповника больно впились в голову. Минута, которую он спал, показалась вечностью.
— Кто идёт!? — Испуг застыл на лице.
— Я спрашиваю — вы пулемётчик?
— Тьху на тебя! Напугал! За три года, пока на войне — я и пулемётчик, и шофёр, — нехотя ответил он. — Захочешь остаться живой — научишься двух зайцев догонять. Так ты сторожи, а потом я тебя сменяю. Только гляди не засни.
Накрыл глаза пилоткой и провалился в сон.
1.
«Клятое утро!» — выругался Мещеряк, разглядев на фоне чуть просветлевшего неба огромное смоляное пятно и, осторожно сделав десяток нерешительных шагов, понял, что это куст. Поравнявшись с ним, задевая плечом ветки, он намерился идти дальше, но зацепился ногой за что-то твёрдое, торчавшее из земли. От неожиданности присел, и готов был даже упасть на землю, затаиться.
«Корень!? — Ожёг испуг. — Чертяка, как железный. Хорошо, хоть не бабахнуло».
Опустился на колени и принялся ощупывать занывшую от боли ногу. Ладонь внезапно коснулась холодного металла и, нервно дрожа, заскользила медленно под куст. Пальцы нащупали толстый круг, похожий на колесо, а затем, обогнув тонкий лист щита — рифлёный, точно паханый, кожух станкового пулемёта. Раздвинув ветки, он попытался пролезть глубже в куст, но, ужаленный колючками шиповника, выругался и с силой дёрнул пулемёт. Ветки, хрустя надломленными суставами, отпустили его. Машинально отвернув пробку на кожухе ствола, Мещеряк сунул в отверстие палец — вода была у самого верха, — попробовал на язык, сплюнул.
«Свежая. Спрятали недавно, видать... — Смекнул он, обрадовавшись неожиданной находке. — Значит, скоро за им придут. — И внезапную радость снова сменила тревога. — Вот только мне с хозяинами этой балалайки встречаться нету никакой пользы... окромя вреда. От, имелись бы патроны, то может быть?.. Сторожить этую железяку, когда нечем стрельнуть — дело совсем дурное. Не найду — побегу дальше».
Мещеряк лёг на живот и, осторожно шаря пальцами возле корней, извлёк из-под веток две тяжёлые коробки, наполненные лентами.
«Ого! С таким добром можно около пулемёта полежать, как у бабы под боком. — И глянул с опаской в темноту за спиной. Ему показалось, что кто-то наблюдает за ним из ночного мрака. — Если кто сунется — то ещё поглядим... Куст в этом степу — получшей ДОТа в Ирпене».
Восток только-только начинал светлеть, выталкивая на небо еле заметную серую полоску горизонта.
— Раз судьбина так распорядилась, — сказал себе он, — надобно её послушать. Заночую тут часиков до двенадцати, а там солнышко припечёт и путь-дорожку высветит. Немца, даст Бог, не принесёт в этот околот.
Улегшись возле куста и подложив под голову коробку с патронами, Мещеряк выбрал на небе одиноко догоравшую звезду и стал смотреть на неё. Блёклая точка сначала горела ровно, затем начала мигать, прыгать из стороны в сторону, а потом исчезать. С неба, словно от самой звезды, опускался пряный аромат зреющего шиповника, перемешанного с запахами, неостывшей за ночь, полынной степи. Мерцание звезды, степные запахи убаюкивали. Он тряс головой, отгоняя сон. В издёрганной, переполненной тревогой, душе что-то стучало, как весенняя беспрерывная капель, не позволяло заснуть раньше, чем высветлится рассвет. Потёр глаза кулаками и, чтобы не заснуть, взялся гадать о тех, кто оставил посреди поля пулемёт со свежей водой под рубашкой и банки с патронами.
«Запихнули его под куст не от лёгкой жизни... Это ж какую надо силу иметь, чтобы тяжесть этую на себе тянуть?.. Да ещё в жару... А если человек один остался? От, как я... — Он взял пилотку и вытер ею вдруг взмокший лоб. — Так и вдвоём дурную железяку пихать — далёко не отнесёшь. А, может, где близко село?.. И пошли хлопцы-пулемётчики хоть малый кусочек хлеба попросить. Поночевать по-людски... Им хорошо теперь... — позавидовал он неизвестным ему хлопцам. — Сейчас бы поспать где-нибудь под стрехой соломенной, а не в этом колючем бурьяне...»
Мещеряк шёл уже три ночи, ориентируясь только по звёздам, а на зорьке закапывался, хоронился среди голой степи, как удавалось, и ждал темноты, чтобы идти дальше. И после трёх волчьих дней не мог равнодушно встречать рассвет, который своими первыми, ещё невидимыми лучами истязал его душу, разрывая её на куски.
«А если немец эту пушку специально сюда прикатил? — Безотчётная тревога отгоняла назойливый давящий сон. — Я буду тишком спать, а они заявятся?.. Нет, — и как бы успокаивая себя, он подложил ещё и пилотку под голову. — Бандура эта, конечно, красноармейская. А то как!? «Максим» совсем старый. В Финскую уже стволы с крышками для снега были. И патроны на тряпку нанизанные, наверно? — Мещеряк открыл коробку, просунул руку, и нащупал знакомую жёсткую парусину. — У!.. Старье нашенское... Немец своей техники не кинет. Не на собственном же горбу её прёт... Не проспать бы, когда придут пулемётчики... — Он, последним усилием приподнял тяжёлые веки, нагруженные усталостью и предрассветной, неодолимой сонливостью. — Хлопцы картошки принесут... И цибули...»
Звезда сгорела.
На начавшее просветляться небо веки надвинули сплошную черноту... Мещеряк чувствовал, как его усталая, измотанная беспрерывным подзиранием, душа проваливается в мягкую чёрную пропасть... И не мог сопротивляться...
...И из этой черноты, с той стороны, откуда он пришёл, донёсся слабый шорох сухой травы, точно по ней тянули срубленное дерево, а затем отчётливо послышались неторопливые шаги. Шум двигался прямо на него.
Сон слетел.
Повернувшись как можно тише на живот, чтобы не выдать себя, Мещеряк прижался к земле и, нащупав рукой патронную коробку, стал торопливо доставать из нее ленту. Патроны, скреблись с ужасным грохотом о железные стенки коробки.
«Сколько раз долдонил! — выругал себя он. — Заряди сперва, а уже потом спать! Не успею! От, точно, не успею! — Пальцы суетно забегали по замку патронника. — А, может, это за пулемётом идут?»
Шаги неспешные, размеренные, как показалось, даже лениво мягкие, стучали совсем близко. На ещё тёмном фоне неба уже можно было разглядеть силуэт с винтовкой на плече.
«Наш, — вцепился в него глазами Мещеряк. — Трехлинейка... И вещмешок добрый. И бежит нескоро. Видать, без дела особого бежит... Значит, знает куда... Показал бы дорогу, служивый... От, если б он из нашей бригады! Кому ж тут быть сейчас?.. А, может, и из другой… Если не торопится... значит, пожрать у него имеется... Вдвоём бы... Он сперва посидит, а я посплю. Потом он поспит...» — И, уступая высасывающему нутро голоду и желанию по-детски безмятежно выспаться, осторожно свистнул.
Силуэт от неожиданности замер, а затем повалился на землю, как пустой мешок.
Не сводя глаз с того места, куда упал незнакомец, Мещеряк продолжал суетно заправлять ленту в пулемёт.
«От, старый дурень! — снова выругался он. — Эта железяка без второго номера больше двух патронов и не стрельнёт! А где я тут возьму себе второго номера!? Этого бахну... И опять сам один».
Он громко щёлкнул крышкой патронника, надеясь этим напугать незнакомца, и крикнул осторожно:
— Эй, ты хто!?
Темнота молчала.
— Ты кто? — уже смелее повторил Мещеряк. — Или ты глухой? Где немцы — знаешь?
— Нет! — ответил из мрака тонкий не то детский, не то женский голос, и в свою очередь спросил: — А ты кто?
— Свой. А ты давно по степу бродишь?
Но темнота промолчала.
— Из какой части? — спросил Мещеряк, в душе надеясь, что случай свёл его с однополчанином.
Вместо ответа из темноты долетел щелчок передернутого затвора.
— Не балуй самопалом! — Мещеряк безбожно выругался, как всегда уверенный, что отборный мат — лучшее лекарство против глупости. Но, сознавая, что брань не поможет, сказал: — Я из полка Егорова. Танкового. Знаешь?
Однако незнакомец не ответил.
— Из Девятой армии, — подождав минуту, добавил Мещеряк, поняв, что ему не верят.
— Кто у вас командир? — вдруг спросила темнота мягким, почти певучим голосом.
— Подполковник Егоров, — радостно ответил Мещеряк. — Знаешь?.. А ротный — Горячкин...
— Каких командиров знаете ещё? — звонко, с радостной заинтересованностью спросила степь.
— А ты кто такой мне допрос тут выделывать?.. — возмутился Мещеряк. — Иди... куда шёл! Очень ты нужный! А то вмажу из «Максима»! Не то, что про командиров не вспомнишь, а забудешь, как тебя зовут!
Он развернул пулемёт в степь, подтянул коробку с лентой к щёчке, но вместо того, чтобы лечь и глазом ловить незнакомца в прорезь щитка, встал на колени, выпрямил спину, принялся суетно поправлять гимнастёрку на поясе.
«И зачем я на его кричать стал?! — Мещеряк остался недоволен собой. — Он меня не знает, я — его. А если это девка? Ещё и, правда, уйдёт. У неё жратва обязательно имеется. Девки... они запасливые. А то чего б я молчал, когда зовут? У кого харчи есть — всегда молчат... А девки особенно. — При мысли, что там за темнотой лежит женщина, сердце его вдруг забуянило, по телу медленно поползла горячая волна. Он машинально схватил пилотку и, напялив, стал аккуратно поправлять волосы над ушами. — С мужиком идти легшéй, конечно... А с девкой интереснéй...»
— А сами откуда? — неожиданно вырвался из темноты радостный возглас.
Мещеряк дёрнулся, словно ужаленный. Прилип к пулемёту и ответил заученно, как школяр, не поняв, чего от него хотят:
— Из Киева.
Неизвестный, видимо, спрашивал о другом. И, не ожидавший такого ответа, долго молчал, а потом поинтересовался:
— А куда смотрит хвостом конь Богдана Хмельницкого?
«Для какого дьявола мне тут твой Хмельницкий!? — выругался про себя Мещеряк, но в мыслях представил памятник гетману. — Когда на трамвае от Прорезной едешь, то хвост в окно глядит, и когда к Оперному — он опять же в окне болтается... И булава тоже». — И крикнул:
— А бес его знает! Ты ещё чего спроси про Киев, я тебе разобъясню. Ну, хоть как Евбаз или на Сенной базар проехать?
— Я ничего о Киеве не знаю.
— Для чего тогда спрашиваешь!? — Мещеряку захотелось снова выпустить несколько крепких слов, но желание повстречаться среди степи с женщиной не позволило.
«Голос совсем не мужикастый... — с радостной надеждой решил он. И его облил сладостный жар. — А, точно, там девка!» — И помолчав, осторожно спросил:
— Сами вы откуда будете?
— Из Москвы.
— Давно в кадровой?
— В июле призвали, — ответила темнота.
— Так вы?.. — Он запнулся, понимая, что женщина, призванная в армию, не может быть острижена налысо. — Небось, сами про свою Москву ничего не знаете. — И заискивающе поинтересовался. — От, скажите — на какой вокзал поезд из Киева приезжает?
— На Брянский.
«Может, и на Брянский, — подумал Мещеряк. — Я у вас отродясь не был». — И добавил вслух:
— А из Жмеринки — на Жмеринский?
Незнакомец тихо хихикнул и сквозь смех, как добрый учитель, пояснил уже уверенно по-мужски:
— Нету такого вокзала — Жмеринского.
— Тебе виднее, голомозый! — Мещеряк равнодушно отпустил несколько увесистых крепких слов, поняв, что утро подбросило ему не женщину, а какого-то юнца, и подумал:
«От так!.. Судьбину не обманешь. А что человек этот — не девка, так на то она и война. Тут на баб не разгуляешься. И не верит мне, лысая голова... Так какой дурак на середине голого степу верить другому сразу начнёт?»
Небо в одночасье посветлело. Над горизонтом полыхнула тонким красным прищуром заря, а следом выглянул пылающим зрачком краешек солнца, и его лучи сразу прогнали остаток ночной серой пелены. Вместе с солнцем из предрассветной дымки выплыла бесконечная выгоревшая равнина. Мещеряк начал злиться, глядя, как неудержимо выползает жаркое августовское солнце, разрывая редкие серо-белые тучи, вымазывая их лоскуты кровяными подтёками. И куст шиповника в одно мгновение потерял все необъятные ночные размеры: человек был виден теперь почти со всех сторон.
«Лучше тебе никогда не появляться! — Щурился Мещеряк. — И этот проверяльщик лысый туда же, твою мать!.. Куда конь хвостом глядит!? Ему что, в зад глаза кто вставил? Штаны бы тебе стянуть да по твоему голому заду съездить от этим шиповником... Тогда знал бы, про чего спрашивать...»
Он посмотрел на то место, где лежал незнакомец и громко рассмеялся. Метрах в тридцати, не далее, из ложбинки на фоне серо-жёлтой земли виднелась светло-зелёная клякса форменки.
«Закопался, называется! — С чуть заметным раздражением ухмыльнулся Мещеряк. — Моя б воля, тебе как раз соли из «бердана» сыпануть!» — И крикнул, как кричат незадачливому приятелю-неумёхе:
— Эй, храбрый Янкель, забери свой зад! Немец тебя по нему бегом углядит и одним залпом две половины срубит. Давай сюда.
— Идите вы сюда.
— Я в укрытии, а тебя из всех боков видать. Спрячь задницу сперва, а потом командуй! Ты, никак, старшина или кто?
— Я — красноармеец.
— А я — сержант! — повысил голос Мещеряк. — Аж два треугольника имею. По уставу — тебе командир. И приказываю! До меня бегом! И быстро! А то пальну!
Человек в ложбине вдруг вжался в землю. Он ещё несколько минут лежал, должно о чём-то раздумывая, затем встал на колени и, опираясь на трёхлинейку, как на посох, медленно поднялся.
— А ну, ляж! — крикнул Мещеряк. — И не моги вставать! Божий день кругом! Немец, як коршуняка подлючий, где-то летает и всё видит! Ползи, дурная башка!.. Только гляди не стрельни случаем. Винтовка сама может бабахнуть...
2.
Мещеряк стоял на коленях и смотрел на ползущего, как на диковинку.
— Как ты тут очутился? — спросил он вместо приветствия, когда незнакомец уселся неуклюже возле куста, готовый в любую минуту сбежать.
Это оказался совсем молодой красноармеец, сутулый, худой с прыщеватым, бледно-серым круглым лицом и огромными голубыми глазами, которые светились тревогой. И, натыкаясь на взгляд Мещеряка, он по-девичьи смущённо опускал их, прикрываясь, как шалью, густыми белёсыми бровями. Между этими широко посаженными кружочкам чуть заметно торчала кнопочка носа, походившего на большую фасолину. А чтобы этот шарик не скатился с лица, его подпирала тонкая длинная ниточка плотно сжатых губ. Он был одет в свежую командирскую форменку, в синеватых петлицах которой вместо «кубарей» одиноко белели сабли, схваченные подковой — эмблемы кавалериста.
— Напугал ты меня крепко, хлопец. Слышу — кто-то идёт, а у меня пулемёт незаряженный. Шлепнул бы я тебя, как глупую куропатку... С перепугу, — сказал Мещеряк, отвечая улыбкой на искрящийся взгляд, и подумал: — «Ай, какой молоденький да красивенький. И чего тебе на этой войне быть? Никак тебя мамка потеряла, а теперь убивается, сердешная. Такие должны долго жить и глаз людской радовать. Ну, я тебя до своих доведу. Какаясь девка мне спасибочки потом за тебя скажет...» — И делая серьёзный вид, пояснил, точно оправдывался: — Ночью не разберёшь… где свой... А вот, что тебя надыбал — это здорово... Пожевать бы сейчас. — И вопрошающе посмотрел на парня.
Красноармеец, казалось, совершенно не слышал слов. Он настороженно рассматривал Мещеряка, обдавая его короткими вспышками голубоглазого огня, и старался устроиться поудобней. Сел рядом с пулемётом, подтянул к ноге трехлинейку и, не выпуская её из правой руки, вместо ответа сказал звонко:
— Документы у вас есть?
— А зовуть тебя как? — спросил Мещеряк.
— Документы покажите.
Красноармеец надул щёки, чтобы добавить лицу серьёзности, но из этого вышла смешная детская гримаса.
«Пустое место, а порядок в степу наводит, — подумал Мещеряк, радостно глядя на парня. — Одной рукой, как комара, придавил бы». — И не сдерживая улыбки, сказал добродушно:
— Если надо, то гляди. — Расстегнул карман гимнастёрки, достал оттуда толстую пачку бумаг, перевязанных дратвой, и протянул их незнакомцу. — Тут у меня всё. Даже последняя увольнительная сохраняется. За двадцать первое июня... Не успел я её сдать. Она сейчас поважней красноармейской книжки будет... Я уже до своей палатки, где у меня койка, подбирался, как самолёты нас бомбами закидывать стали. Загулялся я мало-мало. Запоздал из увольнения. Если б не проклятый немец — десять суток губы схлопотал бы. У нас замполит — будь здоров мужик был! Никому не спускал. Накрыло его прямым попаданием в первый же день...
Парень осторожно отложил трехлинейку, взял тонкими, длинными пальцами свёрток, неловко дёрнул за конец нитки. Она развязалась, и ему на колени упал десяток фотографий молодых женщин.
— От у этой я и был, как немец попёр, — сказал Мещеряк, взяв одну карточку и следом подбирая другие. И продолжая улыбаться, спросил: — У тебя пожрать имеется чего-нибудь?
— Фамилия как? — Парень, не слушая, внимательно разглядывал увольнительную.
— Или ты читать не наученный? Младший сержант Мещеряк, Матвей Самсонович. Рождения девятьсот первого. Правда, про это там не зазначено. Ну, это так. Проверяй, проверяй! До ночи далёко.
— Я имею право всех проверять. Всех незнакомых и подозрительных, которых встречу, — авторитетно заявил парень. — И почему увольнительная не на машинке напечатана, а карандашом написанная?..
— Карандашом? — озадаченно спросил Мещеряк. — Зато печать настоящая… А ты сам-то кто такой будешь? — С деланным любопытством принялся разглядывая петлицы своего нового знакомого. И подумал: — «Если бы хоть энкэвэдист задрипанный... Так тогда, понятно, выкладывай без разговору... А то лошадник вонючий. И сразу — докýменты». — И добавил: — Форменка на тебе вроде как парадная, начальственная... Точно на какую выставку привезли... А где ж твой конь, кавалерия?.. Шашка?..
— Мы — не кавалерия! — жуя губами воздух, выдавил боец. Губы его плотно сжались и исчезли с лица. — Мы... — Он долго молчал, глядя то в песок, то в бумажку, о чём-то раздумывая. — Я из специального десанта.
— Так у вас и харчи должны быть специальные. Я тоже был в десанте... Целую неделю. Как на Финскую забрали… Сразу в десант назначили. В лыжный. И тоже новенькую форму выдали... А со мной в роте такие, как ты, молодые были. Из Ташкенту. Это очень далёко... Мы, вот, с тобой говорим, а они ничего не понимали. Ой, как же они радовались новым ладным галехвам. В такой одёжке на фина идтить удобней... Вот только снегу они отродясь не видали, не то, что лыж. А им на сапоги эти длинные деревяшки примотали… и в атаку... — Мещёряк вздохнул тяжело. — Их всех поубивало, хоть и в новых штанах были... — Помолчал и добавил: — А я для десанту не подошёл. Старый, сильно, для десанту... А, вот, харчи в десанте... да... От, там харчи! А теперь, видишь, до чего дожились. В степу стало тесно и на брюхе пресно. Я свою воблу давно закончил... Даже кости пережевал. Давай пожуём, если есть. А то с голоду помру. Уже двое суток ничего не ел.
Красноармеец вернул документы, развязал вещмешок, деловито порылся внутри и достал оттуда что-то похожее на прямоугольную коробочку, завёрнутую в белую тряпочку. Положив это себе на левую ладонь, пальцами правой осторожно распеленал свёрток. Там оказались, сложенные стопкой, пять коричневых сухарей. Парень осторожно, точно держал что-то очень хрупкое, протянул руку с едой к лицу младшего сержанта.
— Все можно? — спросил Мещеряк боязно.
— Лучше один, — ответил боец.
Мещеряк схватил два кусочка, но второй сразу положил на стопку, делая вид, что это у него вышло совершенно случайно. И принялся жадно жевать. Сухарь оказался сладковатым, пропитанным ванилью.
— А как же тебя зовут, хлопец? — спросил он, хрустя сухарём.
Боец посмотрел на сержанта удивленно, но отвечать не стал.
— С перепугу имя забыл? — улыбаясь, поинтересовался Мещеряк.
— Александр.
— Ну, спасибо тебе, Александр, что ты мине встретился. Сержант бросил на парня благодарный взгляд, и снова усмехнулся мимо своей воли. Детская неуклюжесть и напускная настороженность бойца вызывали улыбку. — От голодной смерти спас меня, считай. Сухарь у тебя, прямо, невеста. Сладкий и пахучий. Хочется... и всё мало... А ты чего не ешь? Не голодный?
— Рано, — ответил боец, стеснительно отводя глаза.
— Так ты хоть воды попей. — Ему хотелось как-то особо поблагодарить парня за сухарь. Снял с пояса флягу, обшитую шинельным сукном, отвернул белую крышечку и протянул.
Тот, сделав несколько глотков нехотя, вернул стекляшку . Затем аккуратно запеленал сухари и положил свёрток в вещмешок.
— Ну, я малость посплю. — Сержант поднялся во весь рост и взялся одергивать полы гимнастёрки, расправляя под ремнём складки. — А ты посторожи.
— Спите, — ответил парень, выказывая полное безразличие. Встал на колени и принялся внимательно разглядывать пулемёт.
— Если кто появится — сразу меня буди, — сказал Мещеряк, зевая. — Мы с тобой теперь, вроде, как пулемётный расчёт. Ты будешь... С пулемётом можешь управляться? — И заметив, как от неловкости на лице парня дрогнули брови, добавил: — Вторым номером. А по инструкции надо три.
Он опустился на колени, подлез на четвереньках поближе к корням шиповника, чтобы укрыться большим куском утренней тени, и улёгся, подложив под голову коробку с патронами. Расстегнул пуговицы на гимнастёрке и подставил грудь набегающему из степи лёгкому ветерку. В воздухе, который начал пропитываться утренним зноем, пахло перегретой землёй, перестоявшими чабрецом и полынью, и, как ему почудилось, даже песнями кузнечиков, что звучали монотонно и оттого убаюкивающе сладко, в столь ранний час. Под аккомпанемент однообразной песни он закрыл глаза, и ощутил, что из его уставшего тела стали уходить тревога и страх. Тот самый страх, который шёл всё время рядом с ним, как росомаха, преследующая раненного зверя, не позволяя забыть, что он совершенно один в зловещем воюющем мире.
«Сейчас высплюсь добряче, — подумал Мещеряк. — Теперь не страшно. Хлопец добрый. Сухарь не пожалел, кавалерия... Молодец. И правильно... Для чего сразу два?.. А вечером ещё пожуём...»
Силы оставляли его. Не имея возможности сопротивляться, проваливался в сладкую тёмную пропасть.
— А вы — пулемётчик?
Сержант вздрогнул и сел. Иголки шиповника больно впились в голову. Минута, которую он спал, показалась вечностью.
— Кто идёт!? — Испуг застыл на лице.
— Я спрашиваю — вы пулемётчик?
— Тьху на тебя! Напугал! За три года, пока на войне — я и пулемётчик, и шофёр, — нехотя ответил он. — Захочешь остаться живой — научишься двух зайцев догонять. Так ты сторожи, а потом я тебя сменяю. Только гляди не засни.
Накрыл глаза пилоткой и провалился в сон.
3.
Когда Мещеряк проснулся, солнце уже добралось до зенита. Тень от куста уползла в сторону. Вокруг плавала всё та же тишина степного стрекотания, только жара стала сильнее. Он зевнул и сладко по-детски потянулся, заламывая руки за голову. И в это же мгновение, словно вернувшись из небытия, уселся и начал лихорадочно поправлять гимнастёрку, как нерадивый боец перед командиром.
— Шура!? — тревожно спросил Мещеряк.
Боец спал возле пулемёта, свернувшись калачиком. Вещмешок он подсунул под голову, винтовку прижал к груди, обхватив руками и ногами.
«От тебе и часовой, — ухмыльнулся сержант. Он ещё раз потянулся с наслаждением. Встал, сбросил на землю ремень и, запустив под гимнастёрку руки, неуклюже принялся поправлять нательное белье, всё время цепляя косым взглядом спящего бойца. Закончив, резким движением подтянул штаны и одернул гимнастёрку. — Пусть спит».
— А вы куда собираетесь? — раздался певучий голос за спиной.
Мещеряк вздрогнул от неожиданности.
— Надо, на всякий случай, оглядеться кругом, — выдавил он из себя, и остался стоять в нерешительности. — А то пока мы спали, может, немец нас окружил. Только и ждёт, когда мы из-под куста выскочим.
— А я и не спал вовсе, — сказал парень.
— Тогда ложись. А я покараулю.
Сержант поднял с земли ремень, затянул на выпирающем животе и долго возился с гимнастёркой, раскладывая складки веером на спине. Заметив, что боец пристально следит за его действиями, спросил:
— Ты чего на меня глядишь, как кот на мышу?
— Вы — младший сержант, а соврали, что сержант, — ответил парень, словно пропел. И в его словах была слышна обида обманутого ребёнка.
— Так и я ж тебя должен проверить, — смутился Мещеряк, пойманный на нелепой лжи. — Хитрость, можна сказать, военная. Младший сержант — разве это чин? — продолжал он, пытаясь хоть как-то оправдаться. — То самое, что боец, только уже командовать одним человеком имеет право. А если б ты, вдруг, с кубарями? Или аж со шпалой? Ты прикажешь — я сразу должен исполнить. Как по уставу положено. Ну, на всяк случай думал… дай, назначу себя сержантом. До того момента, как развидняться начнёт... А теперь и, взаправду, выходит, что я тебе командир... — Громко высморкался, вытер нос тыльной стороной ладони, весело улыбнулся, и заглянул в глаза парня. Голубые светлячки светили холодным блеском недоверия.
Улыбка медленно сползла с почерневшего от загара лица Мещеряка. Он смущённо отвёл глаза, пожалев, что упомянул о своём воинском старшинстве. И, усевшись, стал деловито разматывать грязные обмотки. Раскрутив правую, долго возился с левой. А когда стянул её, с некоторой опаской спросил, как будто вспомнил забытое: — А у тебя самого какой докýмент имеется?
— Нам не положено, — ответил парень.
— Как это? — не веря словам соседа, строго спросил сержант. — Придём до своих — что ты особистам ответишь?.. У меня — увольнительная и книжка со звездой. И то они мине не очень поверят. Сразу напишут — шпион. А могут придумать — диверсант. А тебе?.. Ты чего им предъявишь? Им надо такое показать, чтоб комар носа не подсунул…
— Мы — десант, — перебил парень. — Специальный. Я пароль знаю. Нужно — я скажу, кому положено.
— Пароль — это по-военному. Если что с нами станется, то ты придёшь в штаб и про меня расскажешь... Был, товарищи, такой сержант Мещеряк из танкового полка... А про тебя чего я скажу? Только, как тебя зовут.
— Александр, а по отчеству Климентович, — с нескрываемой гордостью ответил парень.
— Совсем Ворошиловский сын, — попробовал пошутить Мещеряк. — Так ты ж должен быть не простой боец, а командир. Хоть такой крохотулишный, как я.
— Потому что я из детдома, а не какой-то там мамкин сынок, — заученно, строго ответил парень. — И отчество мне специально в честь Климента Ефремовича дали. У нас с ним день рождения в один день.
— Так и фамилия у тебя — Ворошилов? Или какого другого маршала? — Помолчал и добавил осторожно. — Что расстреляют, как шпиона, не боишься?
— За что? — обиделся парень.
— За шпионство… Как тех, других, маршалов?
— Фамилия у меня Бесфамильнов. Я весь придуманный нашим директором.
«А откуль ты про свой день рождения знаешь, если ты не мамкой вылупленный, а каким-то там загульным директором сляпанный?» — хотел съязвить Мещеряк, но вместо этого как бы от нечего делать заметил:
— Чуднó. Фамилия — Бесфамильнов. — И начал не спеша расшнуровывать ботинки. — У нас на фабрике... Это ещё до Финской... Инженер работал. Фамилия — Безголовый, а разумный... Куда там другому наркому... Потом сказали, что он — враг. Троцкистский бухаринец.
— Или — троцкист, или — бухаринец. — Бесфамильнов сидел, вытянув длинные ноги, и напоминал согнутую, толстую жердь, которая переломится, если её неосторожно задеть. — Враг кем угодно может замаскироваться. — Сказал, и осталось не понятным, то ли он поучал, то ли поправлял сержанта.
— Чуднó. И документов у тебя нету, и десант ты какой-то непонятный. Все твои друзяки к немцам за шиворот попадали, а тебя одного сюда ветром сдуло. А парашут твой игде ж?..
— А откуда вы знаете про парашюты? — нервно спросил Бесфамильнов и подозрительно посмотрел на сержанта.
— Так на то он и десант, чтоб с парашутами на войну поступать. — Мещеряк недоверчиво хмыкнул, глядя косым взглядом на бойца. — Чуднó... Десант... И без парашутов?.. Видать, чегой-то особенное поручили?
— А мы — специальный десант. — Парень закрыл глаза и подставил лицо жарким лучам солнца.
— Что ты — специальный десант, сразу видать. И слепой поверит. — Сержант, принялся расстилать грязные обмотки на песке. — А то кому б ещё выдали такую новую форменку и яловые сапоги, как не специальному десанту. Красивый ты, как будто только что от каптенармуса выскочил. Задание выполнил и сразу на представление в штаб. Не переодеваючись... Под этим кустом и спать в такой форменке как-то совсем не полагается. При таком параде только у милки на перинах.
— Нас тоже в обмотках привезли на станцию. И форма была ношеная. Как у вас. Только не кавалерия, — сказал Бесфамильнов, оправдываясь, и ткнул пальцем в петлицу, где красовалась подкова, перехваченная скрещенными шашками. — А потом приказали двум отделениям идти в лесок, который в пяти километрах от станции, и там искать сапоги и форму.
— Они — грибы, по лесу их искать? — удивился Мещеряк, стаскивая тяжёлый ботинок.
— В специальных секретных хранилищах спрятаны. Под землёй. На случай войны. Товарищ начальник штаба карту нарисовал на листе бумаги. Место указал. Дали паёк трехдневный. Мы эти склады два дня искали по значкам, которые на карте нарисованы...
— Так и у вас карт не было?
Бесфамильнов удивлённо поглядел на сержанта.
А тот пояснил:
— Как немец попёр — мы, стало быть, отступать. И куда глаза глядят, бежим. Командир полка мочалит начальника штаба. А тот всё бубонит в ответ: «Где я вам, товарищ подполковник, нужные карты возьму?! У меня только Румыния!» А я караулю возле телефонов… всё слышу. В штабе не было карт, по которым отступать, а только те, на которых Румыния намалёвана...
— А нам без карт нельзя. — Боец с ненавистью прихлопнул слепня на своей руке. — Ничего не найдёшь... Немец станцию бомбил, а мы искали... Вот только один тайный склад откопали. Если бы не старшина — не нашли бы и его. Поле, дорога, овраг... Так, ничего приметного. Холмик, как холмик, а на нём молодые акации растут. — Бесфамильнов, не открывая глаз, снял пилотку и, грубо почесав ногтями стриженую голову, снова напялил на затылок. — Поди, разбери.
— А другие погребки как же? — осторожно поинтересовался Мещеряк, управляясь со вторым ботинком.
— Мы их не успели найти.
— Дюже замаскированные?
— Когда склад раскопали, старшина товарищ Гопкало... Наш командир... Велел всем переодеться. В новое... Вот только гимнастёрка и штаны сыростью воняли. — Парень поднёс к лицу рукав гимнастерки и, громко втянув воздух в себя, презрительно скривился. При этом с лица исчезли не только губы, но и глаза. — Ну — гнилая капуста. Уже два дня на солнце — а всё равно отдаёт подвалом. Если бы не маскировка — выкинул бы эту вонь.
— Зато, совсем новое. Проветрится. Онучки хоть и смердят, а без них войску победы не видать. А скоро зима — она пустая сума!
— А зачем мне в какую-то там кавалерию? — Боец снова ткнул обиженно пальцем в подкову. И вздохнул: — Но приказ.
— Приказ на войне — дело святое, — сказал Мещеряк. Взялся аккуратно раскладывать портянки на нагретой жёлтой траве рядом с обмотками. — Пущай посохнут... Мне б такого старшину. Я б у него тоже одну пару яловых сапог выпросил... А у тебя этой самой карты не осталось? Пошли бы поискали, которые вы с вашим старшиной не нашли… Я умею… Какой погребок с харчами вдруг...
— Парашюты были, а харчей не было.
— И вы весь этот скарб на себе тащили?
— Мы должны были укрытия найти и командиру батальона доложить. Оставить часового и доложить. Потом вернуться и уничтожить. А старшина товарищ Гопкало приказал вход снова завалить. Потом он очень сильно с животом носился. Пошёл в туалет... Три часа его ждали. По кустам шарили. Пропал с картой.
— Нужду старшинскую нашли? — спросил Мещеряк.
— Это как — нужду?
— Если человек по нужде отлучается, значит, эта самая нужда после него должна оставаться.
— Не нашли, — печально ответил парень. — Никто и не искал.
— Драпанул ваш старшина. Сейчас в каком-то хуторе у бабы на чердаке лежит. Ночи дожидается, чтоб до неё в хату спуститься. И сапоги, какие вы нашли, все уже в клуню бабе перетаскал. И гимнастерки...
— Его фашистская разведка захватила! — сказал боец. На его лице застыла обида. — Нас про неё особо на инструктаже предупреждали.
— И этая самая разведка лично тебе про старшину сразу доложила? — Прищурив язвительно глаза, Мещеряк посмотрел на соседа. — А чего ж она тебя не поймала?
— Нас было четверо, а он — один. Фашисты его...
— А куда остальные подевались?
— Сбежали, сволочи! Они!.. Я сразу заметил!.. Всё время шушукались! — Его губы вдруг задрожали, а ноздри стали нервно дёргаться. Он пытался справиться со своей слабостью, но у него ничего не вышло. — Только ждали момента, как от старшины избавиться.
— От мы тут с тобой воюем, — стараясь успокоить парня, сказал Мещеряк, — а солдатский скарб из других погребов, которые не нашлись, тоже уже — тю-тю. Твой старшина и те трое весь скарб давно растащили по хуторским дворам. И сохнут штаны и гимнастёрки сейчас на солнце, что мои портянки... А то и парашутами хлев утоптали, как бочку тюлькой.
Парень растерянно смотрел то на сержанта, то мимо него. И было видно, что он беспомощно ищет слова, которыми можно было бы отгородиться, защититься от беспощадности Мещеряка.
— И вообще... — начал он нерешительно.
— Ты бы свои портянки посушил, — сказал Мещеряк, стараясь помочь парню избавиться от неловкости и растерянности. — Ты ещё молодой, и портянки носить не наученный. Вроде, тряпки смрадные — хуже некуда, а на войне родную мать заменяют.
Он замолчал и долго возился с грязными лоскутами, стараясь получше разложить их под палящими лучами солнца. Но устав от томительного молчания, спросил:
— И где ж остальные ваши десантники специальные?
— Я на станцию вернулся... Там только горелые вагоны. Даже ни одной собаки... Фашисты всё разбомбили... За километр гарью несло.
— Моли Бога, что они тебя не застрелили.
— Кто?
— Старшина... И те двое.
— Меня? — удивлённо спросил боец. — Товарищ старшина? Да я у них за политрука был. И, вообще... Товарищ старшина наш... детдомовский.
Снова наступило неловкое, тягостное молчание.
— Ты самих немцев живыми хоть видал? — осторожно поинтересовался Мещеряк. Он поджал под себя левую ногу и принялся деловито расчёсывать кожу между пальцами.
— Нет, — спокойно ответил Бесфамильнов. — Они надо мной... Первые два дня, пока я шёл... летали. А вчера никого не было. Даже в небе.
— Не до войны немцу вчерась было. Видать, им аванс, или получку выдавали. Дюже занятые. — И сержант уже серьезно по-отцовски спросил: — А если бы они тебя углядели и шлёпнули, шпана безусая!?
— А зачем я им один? По одному из пушки стрелять никто не будет. Это всем известно.
— Это тебя в твоём детдоме так научили?
— Вы, товарищ сержант, что?.. Кино «Чапаев» не смотрели?
— Хм... — Мещеряк хмыкнул отрешённо. — Счастливчик ты, Шура. В рубашке народился... А я каждое утро в землю зарываюсь, как тот крот, и оттуда волком скалюсь: или нету кого кругом. Всё больше голову в бурьяне держу. — И, вытянув ноги, осторожно сказал: — А, может, у тебя ещё чего найдётся пожевать... Ну, кроме сухарей.
— Каша, — ответил Бесфамильнов. — Целая банка.
— Богатый, — радостно сказал Мещеряк. — Прямо тебе, непман! Зачнёшь есть и мёд, если голод проймёт. Давай! Уже и обедать пора. Солнце, вона, как припекает. — Он лёг на живот и стал смотреть на парня просящим взглядом.
— Кашу — вечером, — деловито сказал Бесфамильнов. — Нам надо ещё дня два продержаться.
— Что-то важное станется через два дня?
— К своим придём.
— А каша какая?
— Гречневая.
— С мясом?
— Как положено.
«У танкиста взято... — сержант тяжело и печально вздохнул, — и вашему десанту в мешок положено». — И попросил:
— Так, может, сухарь ещё один дашь?
Бесфамильнов достал из мешка сухари и, переломив один, половину протянул сержанту, а вторую вставил себе в рот.
— А вот у нас на Финской, — сказал Мещеряк, откусывая кусочек, — так только одни шпроты были. Ни хлеба, ни соли... Только шпроты сучие. Я от них очень животом маялся... От их бы сейчас сюда, миленьких.
Сержант съел, запил из фляги и, протягивая её бойцу, спросил:
— У тебя закурить, случаем, сынок, не найдётся?
— Я не курю.
— Жалко.
Он поднялся тяжело, встал возле куста и принялся обрывать ягоды шиповника. Сорвав, ногтем большого пальца разломал красный шарик. Выковырял зёрнышки, а мякоть отправил в рот.
— А пулемёт как вы катили? — вдруг спросил Бесфамильнов, словно пытался докопаться до какой-то главной для себя истины. Встал на колени возле пулемётного колеса и попробовал открыть крышку патронника.
— Да кто его в одиночку по степу волочить станет? — ответил сержант, разжёвывая звуки вместе с ягодами. — Его нести — самое малое, три человека требуется. Один — лафет за спиной на себе... Двое... — И вскрикнул возмущённо: — И кто это так с оружием обращается! Где тебя учили!? Только не лапай гашетку! — Присел, выдернул из пулемёта ленту. — И что вы за десант такой, что не умеете с таким пулемётом обращаться? Гляди, как надо... Он проще лопаты... Только дюже часто патрон перекашивает.
— А где же остальные? — перебил парень.
— Какие остальные? — удивился Мещеряк.
— Ну, вы же один не могли его сюда принести.
— А ты всё меня проверяешь? Да я ночью на него наткнулся, как слепой конь на колоду. Бросили его тут... Гляди сюда! В жизни и на войне пригодится. Аккуратненько закладываешь патрон как раз против дырки. А другой, чтоб рядочком лежал. Как близнятки. Закрываешь патронник... и давишь на гашетку! Я давно уже не пулемётчик. После Финской — уже связист. Старший, куда пошлют. При офицере связи прикреплённый. Катушки от штаба полка в роты тягал. Вот тут, Шура, надо было немецкой разведки сильно бояться. — Он выплюнул изжёванные ягоды, встал и наполнил рот новой порцией. — Сколько она наших хлопцев переловила. Найдут провод, перекусят, а сами в кустах, рядом, залягут ожидать. Комполка или начштаб хватятся телефон крутить, а он мёртвый. Сразу бойца из отделения связи выкрикнут. «Бегом марш восстановить!» Добегает несчастный до места разрыва... И нету больше человека... А меня Бог миловал пока. — Он глянул в лицо парня, надеясь увидеть в его глазах понимание. Но тот смотрел отрешённо на пулемёт и, казалось, даже не слышал сержанта.
— Сволочи! — процедил сквозь зубы Бесфамильнов. На его круглом лице заметно взбухли желваки, а ноздри стали снова нервно вздрагивать. Его душа рвалась на части.
— Кого это ты так? — удивлённо спросил Мещеряк и повернулся всем корпусом к парню.
— Все! Оружие побросали — и по кустам!
— Да ты не кипятись, Александр, — стараясь успокоить парня, сказал сержант. — Ты лучше шиповника пожуй. Врагов можна и оружием, и без оружия сничтожать. Главное, найти нужного врага... Мы с тобой полежим под этим кустом до вечера и пойдём. А пулемёт пущай тут гниёт. Без него до своих быстрее добежим. Там другой дадут...
— Как это — гниёт!? — выкрикнул парень. — Это же оружие!
— А если б мы с тобой надыбали около этого шиповника? Замаскированную...
— И её взяли бы обязательно… Как учили? Оружие не бросать…
Мещеряк хмыкнул и искоса поглядел на красноармейца.
— А ты знаешь, какая она — гаубыца.
— Оружие такое.
— Вот, мы пойдём вечером, найдём гаубыцу. Тут этого барахла сейчас, как блох на собаке. Ты этую железяку через фронт перетянешь. Она тебе заменит документы, какие надо показывать политрукам-особистам. За неё тебе орден прикрутят... — И спросил: — Может, у тебя, случаем, зеркало есть?
— Для чего мне ваше зеркало? — с удивлением спросил парень. — Я — девка какая?
— Жалко.
Мещеряк забросил в рот несколько ягод шиповника, снова принялся поправлять гимнастёрку, которая выбилась из-под ремня, пока рвал ягоды.
— А вот вы точно, как девка, — сказал боец. — Всё время прихорашиваетесь. Девки юбку всё время одёргивают, а вы гимнастёрку. — И ухмыльнулся насмешливо себе под нос. При этом лицо снова озарилось радостной улыбкой. — Может, у вас ещё и одеколон имеется?
— Адикалон? Это ты угадал, — смущённо ответил сержант, словно его застукали за непотребным занятием. После замечания бойца плечи у него безвольно опустились: он действительно стал напоминать невысокую, очень круглую, полную в талии женщину, одетую в военную форму. Только чёрная грубая щетина, битая сединой, выдавала мужика. — Если б был адикалон, то я б у тебя его на сухари выменял. Они из твоего мешка на всю степь пахнут.
— Зачем мне одеколон?
— Молодому адикалон завсегда нужный. Если б мине этот клятый адикалон, когда я таким безусым был, то и жизень моя совсем по другой колее покатилась бы. — Мещеряк выплюнул очередную порцию жвачки, улёгся на живот около пулемёта, подставив спину жаркому солнцу. Выдернул из земли серую травинку, принялся грызть, перекидывая из одного угла рта в другой. — На сладкий запах самые красивые мотылёчки-бабочки прилетают. До яркой бабочки руки сами тянутся. Капустниц рябых каждое лето кругом море. И никому до них дела нету. А прилетит какая цыганочка... Крылья — как тая бархатная юбка, переливаются... Глаз оторвать — сил никаких нету...
Мещеряк перевернулся на спину, подложил под голову ладони, согнул левую ногу в колене и как на подставку положил на неё правую. Безотчётный страх вдруг оставил его, точно вокруг не было никакой войны. И почудилось, что он лежит не в жаркой степи, а у себя во дворе, на далекой Лукьяновке под старым раскидистым орехом...
— Я как про адикалон вспомню... — сержант закрыл глаза. — Так душа у меня точно горн в кузнице... Горит жаром. А этот самый адикалон, как тот дух, что из мехов... Жару додаёт... Стояли мы у восемнадцатом в одном местечке. Где-то около Житомира. И приглянулась мине девка ладная. Чернявая, кудряшки по всей голове. А глаза, як две сливы-венгерки, синим туманом помазанные. Батько её дегтем торговал, а мы в его дворе коней батарейных держали. Я до неё из разных боков прилаживался. Даже сережки обещал купить. А она мимо меня, да мимо меня. Точно меня совсем и нету. А командир мой над ней с первой атаки верх взял. Сапоги надраит хозяйским дегтем, портупею вымажет канихволем, чтоб скрипела, как струна на скрипке, кресты нацепит... А они один об другой цокались, как колокольцы свадебные... Обязательно сверху себя адикалоном зальёт... Другой брандмейстер на пожаре воды меньше тратит... И до Цыльки в магазин...
Мещеряк загадочно замолчал. Выплюнул огрызок травинки, сорвав другую, отправил в рот. Смотрел в небо, словно пытался разглядеть за его белёсой пустотой давно потерянную любовь...
— Она с ним и сбежала, когда отступали... Будь у меня адикалон — пошла бы за меня...
— А разве в Красной армии кресты имеются? — озадаченно поинтересовался Бесфамильнов.
— Кресты? — переспросил задумчиво сержант. И, испугавшись, перевернулся на живот. — То я по привычке. Командир наш любил всякие цацки на грудях носить. Они звенели что церковные звоны на пасху. Он всякие значки называл крестами. «Георгиев надену, — говорил всегда, — и к Цыльке в пазуху руки греть!»
Он посмотрел на Бесфамильнова смеясь, но смех вышел неуклюжим.
— А кто у вас командиром был? — спросил парень.
— Я теперь и не помню.
— Не помните командиров Красной армии? — возмущённо удивился Бесфамильнов.
— Какой-то Примаков... А потом — Фрунза.
Мещеряк встал и снова взялся поправлять гимнастёрку, но вовремя остановился.
«Тьфу на твои сухари! — подумал он, косясь на красноармейца. Тот сидел на коленях у пулемёта и о чём-то сосредоточенно думал, глядя в землю. Губы его дергались нервно. — Из-за пустой утробы, я тебе, цуцику, обязан про освою жизнь рассказывать... А до своих придём — ты к моим словам столько своих приляпаешь, что и пара волов не оторвут. Тогда и доказывай, кто крепче шкуру спускал из спины — Деникин в Житомире или Фрунза в Крыму...»
— В Житомире, — отрешённо произнёс Бесфамильнов, точно боролся с собственной неуверенностью. Он оставил пулемёт и весело глянул на сержанта. Но эта весёлость больно уколола Мещеряка.
— А у вас в детдоме девчата были? Или одни хлопцы?
— Зачем нам девки?
«То-то ты такой кусючий, как собака, что ни одной девки ещё не щупал», — подумал сержант и, принялся снова рвать ягоды. Набивая ими рот, осторожно спросил, глотая звуки:
— А вас всем детдомом отдали в энкэвэдэ?
Парень застыл в некотором замешательстве, уронив растерянный взгляд в песок. И после долгого молчания спросил:
— Почему, именно, в энкавэдэ?
— Так простому пехотинцу или артиллеристу не доверят особое задание ... До немца в тыл только сильно проверенных засылают... чтоб не остались...
— Кого в пехоту... В артиллерию. И только меня директор специально в райком водил. Там сразу и определили в Осназ политбойцом.
— И чего это за чин теперь будет? Краснофлотцев я знаю. И всяких других с разными рангами... Военврачей, скажем.
— Это для повышения стойкости и боеспособности бойцов Красной армии.
— А для какого дела вас направили?
— Мешать фашистам и помогать Красной армии. Скот и хлеб уничтожать.
— А разве какая немецкая тёлка танку препона?
— Наш скот, — пояснил Бесфамильнов. — Всех колхозных коров и лошадей, которые с Красной армией не отступили. А хлеба сколько осталось?.. И чтобы это всё фашистам?
— Эй, немчура, держи карман ширей! — Мещеряк засмеялся и, свернув кукиш, ткнул им в степь. — Люди давно коней и коров по дворам разобрали. Эта тварь божья не виновата, что её колхоз бросил, когда утекал. Ни конь, ни корова без человека не выживут, хоть и скотиной называются. В хозяйском хлеву войну перестоят и опять в колхоз вернутся.
— Именно этот скот и нужно уничтожить в первую голову! Директива специальная в колхозы была отправлена. Но не дошла. Вот мы её и обязаны выполнить. А те, кто этот скот и хлеб присвоили — автоматически становятся пособниками врага. Они будут кормить и поить этот скот, а, значит, помогать фашистам. Ждали, ждали фашиста! Дождались!? Не получится!
— Ты, как по писаному, точно мы не в степу прячемся, а на собрании сидим. Ну, взяла баба тую коровку или коника себе в двор... А вы за это спалите хлев? Мамке прокормить малых деток надо? Их там, — сержант указал рукой на запад, — ой, сколько осталось. Они только-только из голодовки выкарабкались...
— Какая это ещё голодовка? — с недоумением спросил парень. Его глаза вспыхнули холодным огнём. — В газетах ни о какой голодовке не писали. Лично я про это не читал.
— От детки молока попьют, — стал объяснять Мещеряк, не обращая внимания на вопрос. Он продолжал рвать ягоды шиповника и набивать ими рот. — Быстрей вырастут. И будут добрые красноармейцы.
— По-вашему, выходит, что война на несколько лет?
— Если хорошо поглядеть — на года два, а то и три.
Бесфамильнов громко рассмеялся. И сквозь колючий смех сообщил:
— Да Красная армия уже наступает! Когда я в райкоме был — товарищ секретарь об этом объявил. Я сам слышал — фашистам завтра конец!
«Ой как немец напугал всех в райкоме, если каждая тёлка — враг народа... Если какой человек губит после себя всё — значит, возвращаться не собирается», — подумал Мещеряк и, сплюнув жвачку, спросил:
— А тебе коров и коней не жалко?
— Нет.
— И откуда ты такой? Ещё молодой хлопец, а уже злой?.. На войне нельзя быть злым. Ни на своих, ни на чужих...
— На фашистов нельзя быть злым? Они вероломно...
— ...потому что злых первыми убивают. И если...
— А откуда фашисту знать — злой я на него или нет?..
— ...не немец в башке дырку сделает, так свой в спину стрельнёт. — Сержант глянул мельком на Бесфамильнова и, перехватив холодный настороженный взгляд, даже вздрогнул: — «Человек если злой, — промелькнула отчаянная мысль, — так он злой ко всем. Или то красный, или то белый, или, как немец — серый». — Снова сплюнул жвачку, и бросив несколько красных ягод в рот, сказал, поглаживая большой мясистой ладонью себя по густой щетине: — Жалко, у тебя нету зеркала. Не люблю я, когда жнивье на морде. А особенно белое. — И вдруг засмеялся весело. — А некоторым девкам даже нравится... От если б надыбать сейчас в степу хоть какой церабкоп ...
— А кто такой церабкоп?
— Центральный рабоче-крестьянский кооператив. У вас в Москве таких нету? Ну... — Мещеряк задумался на мгновение. — Вроде, как магазин, по-теперешнему. У меня тридцатка завалялась. Знакомая на мыло дала, чтоб я у старшины ротного купил. Так война помешала... Вот с чужими грошами иду... Я б себе зеркало сейчас взял и «беломору»... А тебе... адикалону.
Ефрейтор выплюнул жвачку, уселся на траву взялся за портянку.
— Вы куда? — настороженно спросил Бесфамильнов.
— До ветру. Я на твоём первом сухаре уже сижу... И, значит, назначаю тебя в караул. Около этого куста у нас с тобой будет пост номер один.
— Вы что!?
Мещеряк недоуменно взглянул на бойца.
— Пост номер один только у Мавзолея. И каждый час там меняются часовые, — объяснил парень. Глаза его вспыхнули и с недоумённой обидой смотрели на сержанта, а руки нервно вздрагивали. И не найдя понимания своим чувствам, боец трепетно пояснил. — Нас каждый год водили смотреть.
— А в этом твоём специальном десанте, пост номер один был? — огрызнулся сержант.
— Кажется... был, — неуверенно ответил Бесфамильнов. — Где-то в штабе.
— Лучше, чтоб тот пост на кухне располагался. Поближе до повара.
— Как вы можете? Какого ещё повара? Это же Мавзолей!
Мещеряк поднял голову и увидел, что огонь в глазах парня остыл, руки безвольно опустились, а бледное лицо покрылось красными пятнами. И понял, что сказал глупость. Чтобы избавиться от неловкости, вскочил, отшвырнул в сторону портянку, надул щёки и на одном дыхании скомандовал:
— Боец Бесфамильнов, слушай мой приказ! Сейчас твой пост номер один около этого куста! — И громко выпустив воздух из груди, мягко добавил: — А, самое главное — тут никаких проверяющих нету. И до ветру можна, когда хочешь, сходить...
— Ну, и идите вы к вашему ветру! — ответил парень, точно отмахнулся от чужой настырности.
Мещеряк увидел, что Бесфамильнову было неприятно находиться рядом с ним. Смущённо пряча глаза, он тяжело, неуклюже, повернулся на коротких ногах и, переваливаясь по-утиному, пошёл в степь, осторожно ставя босые ступни в горячий, колючий песок. Сейчас он действительно был похож на уже немолодую располневшую женщину.
«Зачем я тебя остановил? — подумал в сердцах Мещеряк. — Шёл бы ты со своей кашей кудась подальше! Видали! Каждый год водят в мавзолей... как тёлок до бугая... Как у музей на голую бабу глядеть, которая на стенке в раме намалёванная. И кому-то грошей не жалко на трамвае всех возить! А раз ты такой правильный — сторожи!»
Когда Мещеряк проснулся, солнце уже добралось до зенита. Тень от куста уползла в сторону. Вокруг плавала всё та же тишина степного стрекотания, только жара стала сильнее. Он зевнул и сладко по-детски потянулся, заламывая руки за голову. И в это же мгновение, словно вернувшись из небытия, уселся и начал лихорадочно поправлять гимнастёрку, как нерадивый боец перед командиром.
— Шура!? — тревожно спросил Мещеряк.
Боец спал возле пулемёта, свернувшись калачиком. Вещмешок он подсунул под голову, винтовку прижал к груди, обхватив руками и ногами.
«От тебе и часовой, — ухмыльнулся сержант. Он ещё раз потянулся с наслаждением. Встал, сбросил на землю ремень и, запустив под гимнастёрку руки, неуклюже принялся поправлять нательное белье, всё время цепляя косым взглядом спящего бойца. Закончив, резким движением подтянул штаны и одернул гимнастёрку. — Пусть спит».
— А вы куда собираетесь? — раздался певучий голос за спиной.
Мещеряк вздрогнул от неожиданности.
— Надо, на всякий случай, оглядеться кругом, — выдавил он из себя, и остался стоять в нерешительности. — А то пока мы спали, может, немец нас окружил. Только и ждёт, когда мы из-под куста выскочим.
— А я и не спал вовсе, — сказал парень.
— Тогда ложись. А я покараулю.
Сержант поднял с земли ремень, затянул на выпирающем животе и долго возился с гимнастёркой, раскладывая складки веером на спине. Заметив, что боец пристально следит за его действиями, спросил:
— Ты чего на меня глядишь, как кот на мышу?
— Вы — младший сержант, а соврали, что сержант, — ответил парень, словно пропел. И в его словах была слышна обида обманутого ребёнка.
— Так и я ж тебя должен проверить, — смутился Мещеряк, пойманный на нелепой лжи. — Хитрость, можна сказать, военная. Младший сержант — разве это чин? — продолжал он, пытаясь хоть как-то оправдаться. — То самое, что боец, только уже командовать одним человеком имеет право. А если б ты, вдруг, с кубарями? Или аж со шпалой? Ты прикажешь — я сразу должен исполнить. Как по уставу положено. Ну, на всяк случай думал… дай, назначу себя сержантом. До того момента, как развидняться начнёт... А теперь и, взаправду, выходит, что я тебе командир... — Громко высморкался, вытер нос тыльной стороной ладони, весело улыбнулся, и заглянул в глаза парня. Голубые светлячки светили холодным блеском недоверия.
Улыбка медленно сползла с почерневшего от загара лица Мещеряка. Он смущённо отвёл глаза, пожалев, что упомянул о своём воинском старшинстве. И, усевшись, стал деловито разматывать грязные обмотки. Раскрутив правую, долго возился с левой. А когда стянул её, с некоторой опаской спросил, как будто вспомнил забытое: — А у тебя самого какой докýмент имеется?
— Нам не положено, — ответил парень.
— Как это? — не веря словам соседа, строго спросил сержант. — Придём до своих — что ты особистам ответишь?.. У меня — увольнительная и книжка со звездой. И то они мине не очень поверят. Сразу напишут — шпион. А могут придумать — диверсант. А тебе?.. Ты чего им предъявишь? Им надо такое показать, чтоб комар носа не подсунул…
— Мы — десант, — перебил парень. — Специальный. Я пароль знаю. Нужно — я скажу, кому положено.
— Пароль — это по-военному. Если что с нами станется, то ты придёшь в штаб и про меня расскажешь... Был, товарищи, такой сержант Мещеряк из танкового полка... А про тебя чего я скажу? Только, как тебя зовут.
— Александр, а по отчеству Климентович, — с нескрываемой гордостью ответил парень.
— Совсем Ворошиловский сын, — попробовал пошутить Мещеряк. — Так ты ж должен быть не простой боец, а командир. Хоть такой крохотулишный, как я.
— Потому что я из детдома, а не какой-то там мамкин сынок, — заученно, строго ответил парень. — И отчество мне специально в честь Климента Ефремовича дали. У нас с ним день рождения в один день.
— Так и фамилия у тебя — Ворошилов? Или какого другого маршала? — Помолчал и добавил осторожно. — Что расстреляют, как шпиона, не боишься?
— За что? — обиделся парень.
— За шпионство… Как тех, других, маршалов?
— Фамилия у меня Бесфамильнов. Я весь придуманный нашим директором.
«А откуль ты про свой день рождения знаешь, если ты не мамкой вылупленный, а каким-то там загульным директором сляпанный?» — хотел съязвить Мещеряк, но вместо этого как бы от нечего делать заметил:
— Чуднó. Фамилия — Бесфамильнов. — И начал не спеша расшнуровывать ботинки. — У нас на фабрике... Это ещё до Финской... Инженер работал. Фамилия — Безголовый, а разумный... Куда там другому наркому... Потом сказали, что он — враг. Троцкистский бухаринец.
— Или — троцкист, или — бухаринец. — Бесфамильнов сидел, вытянув длинные ноги, и напоминал согнутую, толстую жердь, которая переломится, если её неосторожно задеть. — Враг кем угодно может замаскироваться. — Сказал, и осталось не понятным, то ли он поучал, то ли поправлял сержанта.
— Чуднó. И документов у тебя нету, и десант ты какой-то непонятный. Все твои друзяки к немцам за шиворот попадали, а тебя одного сюда ветром сдуло. А парашут твой игде ж?..
— А откуда вы знаете про парашюты? — нервно спросил Бесфамильнов и подозрительно посмотрел на сержанта.
— Так на то он и десант, чтоб с парашутами на войну поступать. — Мещеряк недоверчиво хмыкнул, глядя косым взглядом на бойца. — Чуднó... Десант... И без парашутов?.. Видать, чегой-то особенное поручили?
— А мы — специальный десант. — Парень закрыл глаза и подставил лицо жарким лучам солнца.
— Что ты — специальный десант, сразу видать. И слепой поверит. — Сержант, принялся расстилать грязные обмотки на песке. — А то кому б ещё выдали такую новую форменку и яловые сапоги, как не специальному десанту. Красивый ты, как будто только что от каптенармуса выскочил. Задание выполнил и сразу на представление в штаб. Не переодеваючись... Под этим кустом и спать в такой форменке как-то совсем не полагается. При таком параде только у милки на перинах.
— Нас тоже в обмотках привезли на станцию. И форма была ношеная. Как у вас. Только не кавалерия, — сказал Бесфамильнов, оправдываясь, и ткнул пальцем в петлицу, где красовалась подкова, перехваченная скрещенными шашками. — А потом приказали двум отделениям идти в лесок, который в пяти километрах от станции, и там искать сапоги и форму.
— Они — грибы, по лесу их искать? — удивился Мещеряк, стаскивая тяжёлый ботинок.
— В специальных секретных хранилищах спрятаны. Под землёй. На случай войны. Товарищ начальник штаба карту нарисовал на листе бумаги. Место указал. Дали паёк трехдневный. Мы эти склады два дня искали по значкам, которые на карте нарисованы...
— Так и у вас карт не было?
Бесфамильнов удивлённо поглядел на сержанта.
А тот пояснил:
— Как немец попёр — мы, стало быть, отступать. И куда глаза глядят, бежим. Командир полка мочалит начальника штаба. А тот всё бубонит в ответ: «Где я вам, товарищ подполковник, нужные карты возьму?! У меня только Румыния!» А я караулю возле телефонов… всё слышу. В штабе не было карт, по которым отступать, а только те, на которых Румыния намалёвана...
— А нам без карт нельзя. — Боец с ненавистью прихлопнул слепня на своей руке. — Ничего не найдёшь... Немец станцию бомбил, а мы искали... Вот только один тайный склад откопали. Если бы не старшина — не нашли бы и его. Поле, дорога, овраг... Так, ничего приметного. Холмик, как холмик, а на нём молодые акации растут. — Бесфамильнов, не открывая глаз, снял пилотку и, грубо почесав ногтями стриженую голову, снова напялил на затылок. — Поди, разбери.
— А другие погребки как же? — осторожно поинтересовался Мещеряк, управляясь со вторым ботинком.
— Мы их не успели найти.
— Дюже замаскированные?
— Когда склад раскопали, старшина товарищ Гопкало... Наш командир... Велел всем переодеться. В новое... Вот только гимнастёрка и штаны сыростью воняли. — Парень поднёс к лицу рукав гимнастерки и, громко втянув воздух в себя, презрительно скривился. При этом с лица исчезли не только губы, но и глаза. — Ну — гнилая капуста. Уже два дня на солнце — а всё равно отдаёт подвалом. Если бы не маскировка — выкинул бы эту вонь.
— Зато, совсем новое. Проветрится. Онучки хоть и смердят, а без них войску победы не видать. А скоро зима — она пустая сума!
— А зачем мне в какую-то там кавалерию? — Боец снова ткнул обиженно пальцем в подкову. И вздохнул: — Но приказ.
— Приказ на войне — дело святое, — сказал Мещеряк. Взялся аккуратно раскладывать портянки на нагретой жёлтой траве рядом с обмотками. — Пущай посохнут... Мне б такого старшину. Я б у него тоже одну пару яловых сапог выпросил... А у тебя этой самой карты не осталось? Пошли бы поискали, которые вы с вашим старшиной не нашли… Я умею… Какой погребок с харчами вдруг...
— Парашюты были, а харчей не было.
— И вы весь этот скарб на себе тащили?
— Мы должны были укрытия найти и командиру батальона доложить. Оставить часового и доложить. Потом вернуться и уничтожить. А старшина товарищ Гопкало приказал вход снова завалить. Потом он очень сильно с животом носился. Пошёл в туалет... Три часа его ждали. По кустам шарили. Пропал с картой.
— Нужду старшинскую нашли? — спросил Мещеряк.
— Это как — нужду?
— Если человек по нужде отлучается, значит, эта самая нужда после него должна оставаться.
— Не нашли, — печально ответил парень. — Никто и не искал.
— Драпанул ваш старшина. Сейчас в каком-то хуторе у бабы на чердаке лежит. Ночи дожидается, чтоб до неё в хату спуститься. И сапоги, какие вы нашли, все уже в клуню бабе перетаскал. И гимнастерки...
— Его фашистская разведка захватила! — сказал боец. На его лице застыла обида. — Нас про неё особо на инструктаже предупреждали.
— И этая самая разведка лично тебе про старшину сразу доложила? — Прищурив язвительно глаза, Мещеряк посмотрел на соседа. — А чего ж она тебя не поймала?
— Нас было четверо, а он — один. Фашисты его...
— А куда остальные подевались?
— Сбежали, сволочи! Они!.. Я сразу заметил!.. Всё время шушукались! — Его губы вдруг задрожали, а ноздри стали нервно дёргаться. Он пытался справиться со своей слабостью, но у него ничего не вышло. — Только ждали момента, как от старшины избавиться.
— От мы тут с тобой воюем, — стараясь успокоить парня, сказал Мещеряк, — а солдатский скарб из других погребов, которые не нашлись, тоже уже — тю-тю. Твой старшина и те трое весь скарб давно растащили по хуторским дворам. И сохнут штаны и гимнастёрки сейчас на солнце, что мои портянки... А то и парашутами хлев утоптали, как бочку тюлькой.
Парень растерянно смотрел то на сержанта, то мимо него. И было видно, что он беспомощно ищет слова, которыми можно было бы отгородиться, защититься от беспощадности Мещеряка.
— И вообще... — начал он нерешительно.
— Ты бы свои портянки посушил, — сказал Мещеряк, стараясь помочь парню избавиться от неловкости и растерянности. — Ты ещё молодой, и портянки носить не наученный. Вроде, тряпки смрадные — хуже некуда, а на войне родную мать заменяют.
Он замолчал и долго возился с грязными лоскутами, стараясь получше разложить их под палящими лучами солнца. Но устав от томительного молчания, спросил:
— И где ж остальные ваши десантники специальные?
— Я на станцию вернулся... Там только горелые вагоны. Даже ни одной собаки... Фашисты всё разбомбили... За километр гарью несло.
— Моли Бога, что они тебя не застрелили.
— Кто?
— Старшина... И те двое.
— Меня? — удивлённо спросил боец. — Товарищ старшина? Да я у них за политрука был. И, вообще... Товарищ старшина наш... детдомовский.
Снова наступило неловкое, тягостное молчание.
— Ты самих немцев живыми хоть видал? — осторожно поинтересовался Мещеряк. Он поджал под себя левую ногу и принялся деловито расчёсывать кожу между пальцами.
— Нет, — спокойно ответил Бесфамильнов. — Они надо мной... Первые два дня, пока я шёл... летали. А вчера никого не было. Даже в небе.
— Не до войны немцу вчерась было. Видать, им аванс, или получку выдавали. Дюже занятые. — И сержант уже серьезно по-отцовски спросил: — А если бы они тебя углядели и шлёпнули, шпана безусая!?
— А зачем я им один? По одному из пушки стрелять никто не будет. Это всем известно.
— Это тебя в твоём детдоме так научили?
— Вы, товарищ сержант, что?.. Кино «Чапаев» не смотрели?
— Хм... — Мещеряк хмыкнул отрешённо. — Счастливчик ты, Шура. В рубашке народился... А я каждое утро в землю зарываюсь, как тот крот, и оттуда волком скалюсь: или нету кого кругом. Всё больше голову в бурьяне держу. — И, вытянув ноги, осторожно сказал: — А, может, у тебя ещё чего найдётся пожевать... Ну, кроме сухарей.
— Каша, — ответил Бесфамильнов. — Целая банка.
— Богатый, — радостно сказал Мещеряк. — Прямо тебе, непман! Зачнёшь есть и мёд, если голод проймёт. Давай! Уже и обедать пора. Солнце, вона, как припекает. — Он лёг на живот и стал смотреть на парня просящим взглядом.
— Кашу — вечером, — деловито сказал Бесфамильнов. — Нам надо ещё дня два продержаться.
— Что-то важное станется через два дня?
— К своим придём.
— А каша какая?
— Гречневая.
— С мясом?
— Как положено.
«У танкиста взято... — сержант тяжело и печально вздохнул, — и вашему десанту в мешок положено». — И попросил:
— Так, может, сухарь ещё один дашь?
Бесфамильнов достал из мешка сухари и, переломив один, половину протянул сержанту, а вторую вставил себе в рот.
— А вот у нас на Финской, — сказал Мещеряк, откусывая кусочек, — так только одни шпроты были. Ни хлеба, ни соли... Только шпроты сучие. Я от них очень животом маялся... От их бы сейчас сюда, миленьких.
Сержант съел, запил из фляги и, протягивая её бойцу, спросил:
— У тебя закурить, случаем, сынок, не найдётся?
— Я не курю.
— Жалко.
Он поднялся тяжело, встал возле куста и принялся обрывать ягоды шиповника. Сорвав, ногтем большого пальца разломал красный шарик. Выковырял зёрнышки, а мякоть отправил в рот.
— А пулемёт как вы катили? — вдруг спросил Бесфамильнов, словно пытался докопаться до какой-то главной для себя истины. Встал на колени возле пулемётного колеса и попробовал открыть крышку патронника.
— Да кто его в одиночку по степу волочить станет? — ответил сержант, разжёвывая звуки вместе с ягодами. — Его нести — самое малое, три человека требуется. Один — лафет за спиной на себе... Двое... — И вскрикнул возмущённо: — И кто это так с оружием обращается! Где тебя учили!? Только не лапай гашетку! — Присел, выдернул из пулемёта ленту. — И что вы за десант такой, что не умеете с таким пулемётом обращаться? Гляди, как надо... Он проще лопаты... Только дюже часто патрон перекашивает.
— А где же остальные? — перебил парень.
— Какие остальные? — удивился Мещеряк.
— Ну, вы же один не могли его сюда принести.
— А ты всё меня проверяешь? Да я ночью на него наткнулся, как слепой конь на колоду. Бросили его тут... Гляди сюда! В жизни и на войне пригодится. Аккуратненько закладываешь патрон как раз против дырки. А другой, чтоб рядочком лежал. Как близнятки. Закрываешь патронник... и давишь на гашетку! Я давно уже не пулемётчик. После Финской — уже связист. Старший, куда пошлют. При офицере связи прикреплённый. Катушки от штаба полка в роты тягал. Вот тут, Шура, надо было немецкой разведки сильно бояться. — Он выплюнул изжёванные ягоды, встал и наполнил рот новой порцией. — Сколько она наших хлопцев переловила. Найдут провод, перекусят, а сами в кустах, рядом, залягут ожидать. Комполка или начштаб хватятся телефон крутить, а он мёртвый. Сразу бойца из отделения связи выкрикнут. «Бегом марш восстановить!» Добегает несчастный до места разрыва... И нету больше человека... А меня Бог миловал пока. — Он глянул в лицо парня, надеясь увидеть в его глазах понимание. Но тот смотрел отрешённо на пулемёт и, казалось, даже не слышал сержанта.
— Сволочи! — процедил сквозь зубы Бесфамильнов. На его круглом лице заметно взбухли желваки, а ноздри стали снова нервно вздрагивать. Его душа рвалась на части.
— Кого это ты так? — удивлённо спросил Мещеряк и повернулся всем корпусом к парню.
— Все! Оружие побросали — и по кустам!
— Да ты не кипятись, Александр, — стараясь успокоить парня, сказал сержант. — Ты лучше шиповника пожуй. Врагов можна и оружием, и без оружия сничтожать. Главное, найти нужного врага... Мы с тобой полежим под этим кустом до вечера и пойдём. А пулемёт пущай тут гниёт. Без него до своих быстрее добежим. Там другой дадут...
— Как это — гниёт!? — выкрикнул парень. — Это же оружие!
— А если б мы с тобой надыбали около этого шиповника? Замаскированную...
— И её взяли бы обязательно… Как учили? Оружие не бросать…
Мещеряк хмыкнул и искоса поглядел на красноармейца.
— А ты знаешь, какая она — гаубыца.
— Оружие такое.
— Вот, мы пойдём вечером, найдём гаубыцу. Тут этого барахла сейчас, как блох на собаке. Ты этую железяку через фронт перетянешь. Она тебе заменит документы, какие надо показывать политрукам-особистам. За неё тебе орден прикрутят... — И спросил: — Может, у тебя, случаем, зеркало есть?
— Для чего мне ваше зеркало? — с удивлением спросил парень. — Я — девка какая?
— Жалко.
Мещеряк забросил в рот несколько ягод шиповника, снова принялся поправлять гимнастёрку, которая выбилась из-под ремня, пока рвал ягоды.
— А вот вы точно, как девка, — сказал боец. — Всё время прихорашиваетесь. Девки юбку всё время одёргивают, а вы гимнастёрку. — И ухмыльнулся насмешливо себе под нос. При этом лицо снова озарилось радостной улыбкой. — Может, у вас ещё и одеколон имеется?
— Адикалон? Это ты угадал, — смущённо ответил сержант, словно его застукали за непотребным занятием. После замечания бойца плечи у него безвольно опустились: он действительно стал напоминать невысокую, очень круглую, полную в талии женщину, одетую в военную форму. Только чёрная грубая щетина, битая сединой, выдавала мужика. — Если б был адикалон, то я б у тебя его на сухари выменял. Они из твоего мешка на всю степь пахнут.
— Зачем мне одеколон?
— Молодому адикалон завсегда нужный. Если б мине этот клятый адикалон, когда я таким безусым был, то и жизень моя совсем по другой колее покатилась бы. — Мещеряк выплюнул очередную порцию жвачки, улёгся на живот около пулемёта, подставив спину жаркому солнцу. Выдернул из земли серую травинку, принялся грызть, перекидывая из одного угла рта в другой. — На сладкий запах самые красивые мотылёчки-бабочки прилетают. До яркой бабочки руки сами тянутся. Капустниц рябых каждое лето кругом море. И никому до них дела нету. А прилетит какая цыганочка... Крылья — как тая бархатная юбка, переливаются... Глаз оторвать — сил никаких нету...
Мещеряк перевернулся на спину, подложил под голову ладони, согнул левую ногу в колене и как на подставку положил на неё правую. Безотчётный страх вдруг оставил его, точно вокруг не было никакой войны. И почудилось, что он лежит не в жаркой степи, а у себя во дворе, на далекой Лукьяновке под старым раскидистым орехом...
— Я как про адикалон вспомню... — сержант закрыл глаза. — Так душа у меня точно горн в кузнице... Горит жаром. А этот самый адикалон, как тот дух, что из мехов... Жару додаёт... Стояли мы у восемнадцатом в одном местечке. Где-то около Житомира. И приглянулась мине девка ладная. Чернявая, кудряшки по всей голове. А глаза, як две сливы-венгерки, синим туманом помазанные. Батько её дегтем торговал, а мы в его дворе коней батарейных держали. Я до неё из разных боков прилаживался. Даже сережки обещал купить. А она мимо меня, да мимо меня. Точно меня совсем и нету. А командир мой над ней с первой атаки верх взял. Сапоги надраит хозяйским дегтем, портупею вымажет канихволем, чтоб скрипела, как струна на скрипке, кресты нацепит... А они один об другой цокались, как колокольцы свадебные... Обязательно сверху себя адикалоном зальёт... Другой брандмейстер на пожаре воды меньше тратит... И до Цыльки в магазин...
Мещеряк загадочно замолчал. Выплюнул огрызок травинки, сорвав другую, отправил в рот. Смотрел в небо, словно пытался разглядеть за его белёсой пустотой давно потерянную любовь...
— Она с ним и сбежала, когда отступали... Будь у меня адикалон — пошла бы за меня...
— А разве в Красной армии кресты имеются? — озадаченно поинтересовался Бесфамильнов.
— Кресты? — переспросил задумчиво сержант. И, испугавшись, перевернулся на живот. — То я по привычке. Командир наш любил всякие цацки на грудях носить. Они звенели что церковные звоны на пасху. Он всякие значки называл крестами. «Георгиев надену, — говорил всегда, — и к Цыльке в пазуху руки греть!»
Он посмотрел на Бесфамильнова смеясь, но смех вышел неуклюжим.
— А кто у вас командиром был? — спросил парень.
— Я теперь и не помню.
— Не помните командиров Красной армии? — возмущённо удивился Бесфамильнов.
— Какой-то Примаков... А потом — Фрунза.
Мещеряк встал и снова взялся поправлять гимнастёрку, но вовремя остановился.
«Тьфу на твои сухари! — подумал он, косясь на красноармейца. Тот сидел на коленях у пулемёта и о чём-то сосредоточенно думал, глядя в землю. Губы его дергались нервно. — Из-за пустой утробы, я тебе, цуцику, обязан про освою жизнь рассказывать... А до своих придём — ты к моим словам столько своих приляпаешь, что и пара волов не оторвут. Тогда и доказывай, кто крепче шкуру спускал из спины — Деникин в Житомире или Фрунза в Крыму...»
— В Житомире, — отрешённо произнёс Бесфамильнов, точно боролся с собственной неуверенностью. Он оставил пулемёт и весело глянул на сержанта. Но эта весёлость больно уколола Мещеряка.
— А у вас в детдоме девчата были? Или одни хлопцы?
— Зачем нам девки?
«То-то ты такой кусючий, как собака, что ни одной девки ещё не щупал», — подумал сержант и, принялся снова рвать ягоды. Набивая ими рот, осторожно спросил, глотая звуки:
— А вас всем детдомом отдали в энкэвэдэ?
Парень застыл в некотором замешательстве, уронив растерянный взгляд в песок. И после долгого молчания спросил:
— Почему, именно, в энкавэдэ?
— Так простому пехотинцу или артиллеристу не доверят особое задание ... До немца в тыл только сильно проверенных засылают... чтоб не остались...
— Кого в пехоту... В артиллерию. И только меня директор специально в райком водил. Там сразу и определили в Осназ политбойцом.
— И чего это за чин теперь будет? Краснофлотцев я знаю. И всяких других с разными рангами... Военврачей, скажем.
— Это для повышения стойкости и боеспособности бойцов Красной армии.
— А для какого дела вас направили?
— Мешать фашистам и помогать Красной армии. Скот и хлеб уничтожать.
— А разве какая немецкая тёлка танку препона?
— Наш скот, — пояснил Бесфамильнов. — Всех колхозных коров и лошадей, которые с Красной армией не отступили. А хлеба сколько осталось?.. И чтобы это всё фашистам?
— Эй, немчура, держи карман ширей! — Мещеряк засмеялся и, свернув кукиш, ткнул им в степь. — Люди давно коней и коров по дворам разобрали. Эта тварь божья не виновата, что её колхоз бросил, когда утекал. Ни конь, ни корова без человека не выживут, хоть и скотиной называются. В хозяйском хлеву войну перестоят и опять в колхоз вернутся.
— Именно этот скот и нужно уничтожить в первую голову! Директива специальная в колхозы была отправлена. Но не дошла. Вот мы её и обязаны выполнить. А те, кто этот скот и хлеб присвоили — автоматически становятся пособниками врага. Они будут кормить и поить этот скот, а, значит, помогать фашистам. Ждали, ждали фашиста! Дождались!? Не получится!
— Ты, как по писаному, точно мы не в степу прячемся, а на собрании сидим. Ну, взяла баба тую коровку или коника себе в двор... А вы за это спалите хлев? Мамке прокормить малых деток надо? Их там, — сержант указал рукой на запад, — ой, сколько осталось. Они только-только из голодовки выкарабкались...
— Какая это ещё голодовка? — с недоумением спросил парень. Его глаза вспыхнули холодным огнём. — В газетах ни о какой голодовке не писали. Лично я про это не читал.
— От детки молока попьют, — стал объяснять Мещеряк, не обращая внимания на вопрос. Он продолжал рвать ягоды шиповника и набивать ими рот. — Быстрей вырастут. И будут добрые красноармейцы.
— По-вашему, выходит, что война на несколько лет?
— Если хорошо поглядеть — на года два, а то и три.
Бесфамильнов громко рассмеялся. И сквозь колючий смех сообщил:
— Да Красная армия уже наступает! Когда я в райкоме был — товарищ секретарь об этом объявил. Я сам слышал — фашистам завтра конец!
«Ой как немец напугал всех в райкоме, если каждая тёлка — враг народа... Если какой человек губит после себя всё — значит, возвращаться не собирается», — подумал Мещеряк и, сплюнув жвачку, спросил:
— А тебе коров и коней не жалко?
— Нет.
— И откуда ты такой? Ещё молодой хлопец, а уже злой?.. На войне нельзя быть злым. Ни на своих, ни на чужих...
— На фашистов нельзя быть злым? Они вероломно...
— ...потому что злых первыми убивают. И если...
— А откуда фашисту знать — злой я на него или нет?..
— ...не немец в башке дырку сделает, так свой в спину стрельнёт. — Сержант глянул мельком на Бесфамильнова и, перехватив холодный настороженный взгляд, даже вздрогнул: — «Человек если злой, — промелькнула отчаянная мысль, — так он злой ко всем. Или то красный, или то белый, или, как немец — серый». — Снова сплюнул жвачку, и бросив несколько красных ягод в рот, сказал, поглаживая большой мясистой ладонью себя по густой щетине: — Жалко, у тебя нету зеркала. Не люблю я, когда жнивье на морде. А особенно белое. — И вдруг засмеялся весело. — А некоторым девкам даже нравится... От если б надыбать сейчас в степу хоть какой церабкоп ...
— А кто такой церабкоп?
— Центральный рабоче-крестьянский кооператив. У вас в Москве таких нету? Ну... — Мещеряк задумался на мгновение. — Вроде, как магазин, по-теперешнему. У меня тридцатка завалялась. Знакомая на мыло дала, чтоб я у старшины ротного купил. Так война помешала... Вот с чужими грошами иду... Я б себе зеркало сейчас взял и «беломору»... А тебе... адикалону.
Ефрейтор выплюнул жвачку, уселся на траву взялся за портянку.
— Вы куда? — настороженно спросил Бесфамильнов.
— До ветру. Я на твоём первом сухаре уже сижу... И, значит, назначаю тебя в караул. Около этого куста у нас с тобой будет пост номер один.
— Вы что!?
Мещеряк недоуменно взглянул на бойца.
— Пост номер один только у Мавзолея. И каждый час там меняются часовые, — объяснил парень. Глаза его вспыхнули и с недоумённой обидой смотрели на сержанта, а руки нервно вздрагивали. И не найдя понимания своим чувствам, боец трепетно пояснил. — Нас каждый год водили смотреть.
— А в этом твоём специальном десанте, пост номер один был? — огрызнулся сержант.
— Кажется... был, — неуверенно ответил Бесфамильнов. — Где-то в штабе.
— Лучше, чтоб тот пост на кухне располагался. Поближе до повара.
— Как вы можете? Какого ещё повара? Это же Мавзолей!
Мещеряк поднял голову и увидел, что огонь в глазах парня остыл, руки безвольно опустились, а бледное лицо покрылось красными пятнами. И понял, что сказал глупость. Чтобы избавиться от неловкости, вскочил, отшвырнул в сторону портянку, надул щёки и на одном дыхании скомандовал:
— Боец Бесфамильнов, слушай мой приказ! Сейчас твой пост номер один около этого куста! — И громко выпустив воздух из груди, мягко добавил: — А, самое главное — тут никаких проверяющих нету. И до ветру можна, когда хочешь, сходить...
— Ну, и идите вы к вашему ветру! — ответил парень, точно отмахнулся от чужой настырности.
Мещеряк увидел, что Бесфамильнову было неприятно находиться рядом с ним. Смущённо пряча глаза, он тяжело, неуклюже, повернулся на коротких ногах и, переваливаясь по-утиному, пошёл в степь, осторожно ставя босые ступни в горячий, колючий песок. Сейчас он действительно был похож на уже немолодую располневшую женщину.
«Зачем я тебя остановил? — подумал в сердцах Мещеряк. — Шёл бы ты со своей кашей кудась подальше! Видали! Каждый год водят в мавзолей... как тёлок до бугая... Как у музей на голую бабу глядеть, которая на стенке в раме намалёванная. И кому-то грошей не жалко на трамвае всех возить! А раз ты такой правильный — сторожи!»
4.
Бесфамильнов стоял на коленях у пулемёта, заправленного лентой, и, крепко вцепившись ладонями в деревянные ручки, сосредоточенно смотрел в степь. Большие пальцы уперлись в гашетку, готовые начать стрельбу.
Мещеряк, тяжело дыша, упал рядом с ним на колени и, подбросив крышку патронника, выдернул ленту из пулемёта.
— Собирайся быстро! — захрипел он шёпотом. — Не дай Бог, стрельнёшь сейчас — нам конец! Немец на мотоциклетках бегит!.. Там дорога... Большак. Надо было не спать, а по сторонам побегать… Оглядеться... А мы как раз около него и лежим... Немец по нему каждый день шастаить — песок сильно газолином смердит... Весь успел пропитаться... Собирайся быстренько... и пошли!
— Куда? — недовольно спросил красноармеец.
— В яр. Он тут недалёко. Метров сто. И Бог нас спасает. Если б мы ночью в ту яругу попали — дальше голову в руках нести пришлось бы.
— Уйти и немца пропустить!? — Бесфамильнов всем своим видом вдруг стал напоминать хищника, спрятавшегося в засаде. Даже из горла, как показалось Мещеряку, вырывалось чуть слышное рычание. А деловитость и неожиданная уверенность говорили, что никуда он не собирается уходить. — Я думал, что вы специально сбежали до своего ветра. Ложитесь, будем пристреливаться.
— Тебя видали? — Мещеряк принялся торопливо наматывать портянки, совершенно не слушая парня. — В яр бежать быстренько нада, пока нас не заметили. Им нас подстрелить — раз плюнуть. Хлопцы потому и бросили пулемёт, что возле самой дороги лежали. Думали, что вернутся. Но, видать, не вышло... Вещмешок не забывай и сухари... Они нам сгодятся...
Мещеряк встал на колени и словно сторожкий сурок поглядел в степь, вытягивая короткую шею.
— Слава Богу, их нету!.. Дорога где-то в ямку скатилась. Это хорошо. Если мы их не видим, то и они нас не углядят, — сказал он суетливо.
— Ну и пусть видят. У нас пулемёт.— Бесфамильнов деловито поднял крышку патронника, стал заправлять ленту.
— Да этот пулемёт для настоящего боя — никчёмная железяка... Их — не меньше, как тридцать мотоциклеток...
— Никчёмная!? Анка одним таким пулемётом офицерский полк разгромила. — Он резко поднялся и остался торчать колодезным журавлём, пристально всматриваясь в степь.
— Ты чего, хлопец? — Мещеряк ухватил бойца за штаны и повалил на песок.
— Нельзя уходить! Это же трусость! — крикнул боец. В голосе уже не было детской мягкости.
— Красноармеец Бесфамильнов! — сурово сказал Мещеряк. — Слушай мою команду! Ты не в детском доме. И я тебе — не нянька. Я — младший командир Красной армии, как старший по уставу.
В стороне, чуть наискосок, появились несколько мотоциклов. Они вылезли из низины и через минуту исчезли. Их сменили другие. Колонна длинной змеёй ползла по степи.
Парень встал на колени, прилип к пулемёту и стал моститься возле него словно квочка на гнездо.
— Красноармеец Бесфамильнов!
— Я предательских приказов не выполняю! — выкрикнул боец торопливо. — И не собираюсь! — Лёг, поднял прицельную планку и вцепился в рукоятки так, что ладони побагровели.
«Молодой, да ранний. Тебе приказывать бесполезно, — подумал Мещеряк, глядя с какой злой решительностью Бесфамильнов держался за пулемёт. — И я, конечно, не командир для тебя. Младший сержант... Бугор на ровном месте, и тот побольше начальник... И гимнастёрка у тебя командирская... А у меня важное дело впереди. Если бы не оно, я бы уже копался в хуторе у ладной бабы. И плевал бы на войну и на тебя. Только жалко такого хорошенького... Может, когдась и люди из тебя будут».
Наматывая торопливо обмотки и настороженно озираясь, тихо сказал:
— Ты скумекай — кому нужна твоя смерть здесь? Их всё равно не остановишь. Ну если бы ты сейчас своё специальное задание выполнял... То понятно... Умри, а сделай... А если ты ни одного немца ещё не убил, так успеешь. Дурное дело не хитрое...
Но Бесфамильнов не ответил.
— Послушай, Шура, а у тебя баба когда-нибудь была или девчонка? — спросил Мещеряк.
— Были! Много! Ну и что? — огрызнулся парень.
— Дело молодое, — откашлялся сержант. — И я, когда таким молодым был, всем хвастал, что у меня их без счёту. Подрос... В голове — как осенью на баштане... наросло. И одна завелась... А потом другая... Если будешь меня держаться, я тебе про девок много расскажу... И научу, чтоб в жизни об них меньше спотыкаться. Скажу сразу: девку возле себя держать — тяжкая наука. Это на войне один раз ошибся и — каюк. А с бабой ошибаться нельзя. До конца дней эта ошибка, как палка в колесе... Не поедешь и не побегишь. Только падаешь. Поднялся, поглядел — вроде, только лоб да колени расквасил. А, выходить — вся душа разбитая. Локоть, какое ребро — заживёт как на собаке. А душу ни одна мазь, даже из аптеки, не залечит.
Колонна вновь выползла на глаза, но уже всем своим удавьим телом, и ближе. Она медленно гнула петли, объезжая низины и стараясь держаться на возвышенностях. Серые мундиры ярко высвечивались лучами августовского солнца.
— В яр надо, пока не заметили, — вдруг зашептал Мещеряк. — Нас подстрелить — раз плюнуть.
— Они к линии фронта! — зло отрезал Бесфамильнов. — Их остановить надо! Здесь!.. Анка с пуле...
— Да пошёл ты со своей Анкой! — не выдержал Мещеряк. — Что ты мне свою безмозглую бабу суёшь!? Анька, Манька... Я на их нагляделся в девятнадцатом... От, в командирских тачанках они руками за пулемёт крепко держались каждую ночь! — И перехватив недовольную ухмылку красноармейца, тихо и спокойно добавил: — Дай Бог, нашему теляти да волка споймати... Что мы вдвоём против них? Объедут и стрелять даже не будут. Не доведи, если в плен возьмут. Я уже у поляков в полоне был. В Здолбунове на одного пана денщиком год, как собака, работал. Так то поляки. Они нашего брата чуть понимают. Мамка — матка. Хлеб — хлеб. Молоко — млеко. А тут немец... Нам до своих надо, сынок. А мне очень надо... У меня, считай, тоже специальное задание...
Он взял в руки коробки с лентами и, поднявшись, приказал:
— Красноармеец Бесфамильнов, за мной, бегом!
— Нельзя их пропускать, — умоляя, сказал парень. Но, подчиняясь приказу, нехотя поднялся, взял в одну руку трехлинейку, в другую — вещмешок. — Они против Красной армии...
— А я думал — в баню париться, — раздражённо ответил Мещеряк и, озираясь, быстро засеменил короткими ногами. — Пригнись, и побежали. Нам до своих очень надо... Вдруг мать твоя объявится, искать тебя начнёт. А если мы с тобой до своих добежим скоро, так нам по ордену дадут... Тебе точно медаль дадут... Это я обещаю. Главное, чтобы ты мне помог до наших живым добраться... Я за тебя слово, где надо, замолвлю... А если чего со мной станется, перво-наперво у меня под...
Но Мещеряк не договорил…
Бесфамильнов коротким рывком выдернул из-под его руки коробку с лентой и, бросив на песок вещмешок и трехлинейку, спотыкаясь, побежал назад к кусту.
— Ты куда! Стой! Александр Климентович!.. Убьют же!
Но парень не слышал. Длинные жеребячьи ноги, цепляясь за песок, делали огромные шаги.
— Думал... кругом одни дураки!? — выкрикивал парень нервно — Тебя плохо учили на шпиона!.. Только у вас там, буржуи «Чапаева» боятся смотреть! У нас все по десять раз ходили!.. Офицер у него нашёлся в штабе, деникинская сволочь! В эркака никаких офицеров отродясь не было! Под Житомиром кресты носить!
Бесфамильнов упал возле пулемёта, вложил ленту в патронник и схватился за ручки.
Звук от мотоциклов стал ревущим, и они приблизились к кусту шиповника, как показалось парню, на расстояние выстрела. Однако он, не спеша, развернул пулемёт в противоположную сторону и поймал в прорезь щитка спину сержанта.
— Непмановский церабкоп! Когда было это?! Когда ты сбежал с беляками к своим полякам! — ненавистно процедил сквозь плотно сжатые губы Бесфамильнов. Заметив, что сержант на какое-то мгновение остановился, он нажал нервно на гашетку. — Думал своими девками-мамками купить, пилсудчик! И фашистов немцами называть, гад!?
Мещеряк уже добегал до уреза яра. Он мельком оглянулся назад и увидел, как дуло «Максима» мигнуло пламенем, а долетевший звук врезался в его грудь и живот. Он судорожно повернулся всем телом к кусту и, словно выпрашивая милостыню у парня, протянул вперёд кулаки, в которых были зажаты трехлинейка и вещмешок. И упал на траву ничком, подмяв себя коробку с пратронами.
Бесфамильнов стремительно развернул пулемёт в степь, поймал в прорезь прицела головной мотоцикл и нажал на гашетку. Но «Максим» немо молчал. Парень выдернул ленту и, как учил его сержант, снова уложил патроны «близнятками». Хлопнул крышкой и надавил...
Пулемёт щёлкнул по-собачьи коротко и умолк...
5.
Неожиданная стрельба в пустой степи остановила колонну. Гауптман, приставил к глазам бинокль, навёл его на краснеющее пятно шиповника, а затем приказно махнул рукой в сторону куста. Из общей массы отделились четыре мотоцикла и, подобно загонщикам на охоте, полукругом стали наезжать на куст.
Красное пятно кустарника опять огрызнулось коротенькой очередью и умолкло.
Пожилой солдат-водитель на полном ходу развернул машину, чтобы пареньку, сидевшему в коляске, было удобней целиться. А тот прижался к прикладу крупнокалиберного пулемёта и послал сноп светящихся пуль к корням шиповника...
Когда они подъехали, то увидели красноармейца, который лежал, уткнувшись окровавленной головой в ручки «Максима».
Водитель указал на тело, лежавшее в стороне.
Пулемётчик вылез из коляски и пошёл к Мещеряку. Перевернул сапогом на спину. Увидел кусок красного шёлка, который выбивался из-под гимнастерки убитого. Достал нож, разрезал ремень и рубаху. Вокруг тела был обмотан большой кусок красной материи.
— Штандарт! — крикнул радостно солдат и поднял над головой полковое знамя.
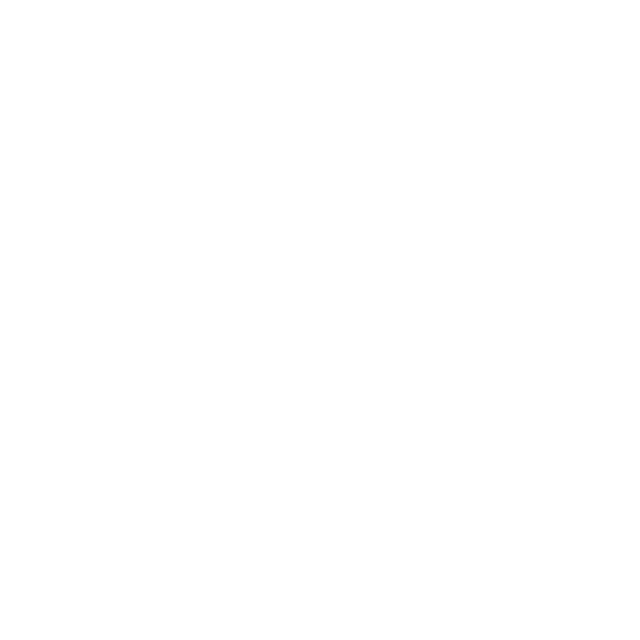
Евгений МОКРУШИН
Родился в 1976 году в п. Кильмезь, Кировской области. Закончил школу и поступил на инженерно-строительный факультет Кировского политеха, где проучился один курс и перешел в педагогический университет, который окончил в 1999 году. Во время учебы работал журналистом в одной из районных газет Кировской области. После окончания университета жил и работал в Кирове, Ижевске, Иваново, Ярославле, Перми. Сейчас проживает в Подмосковье, в городе Жуковский.
В 2019 году окончил дистанционные курсы литературного мастерства А. В. Воронцова, публиковался в альманахе «Точки».
Родился в 1976 году в п. Кильмезь, Кировской области. Закончил школу и поступил на инженерно-строительный факультет Кировского политеха, где проучился один курс и перешел в педагогический университет, который окончил в 1999 году. Во время учебы работал журналистом в одной из районных газет Кировской области. После окончания университета жил и работал в Кирове, Ижевске, Иваново, Ярославле, Перми. Сейчас проживает в Подмосковье, в городе Жуковский.
В 2019 году окончил дистанционные курсы литературного мастерства А. В. Воронцова, публиковался в альманахе «Точки».
ПАЛЫЧ
отрывки из повести
Посвящается Василию Павловичу Русских.
Пластмассовые зубы
Егорка помнил Палыча столько, сколько помнил себя. Иногда ему казалось даже, что сначала он помнил Палыча, а потом уже себя. Помнил седую палычеву шевелюру, густую, которую Палыч старательно зачесывал назад, помнил коряжистые палычевы руки, помнил палычев рот. У Палыча во рту было мало зубов, а еще были пластмассовые зубы, которые были отдельно от Палыча, и которые он иногда вставлял в дополнение к своим собственным. Эти пластмассовые зубы трехлетний Егорка как-то нашел на комоде, схватил их и выбежал из дома в летний огород поиграть, да так и бросил.
– Ах ты, ерепеса – ерепеса. Хо-хо!– хохотал потом Палыч, когда после допроса с пристрастием Егорка таки вспомнил, куда он снес дедовы зубы.
– Хо-хо! – вскрикивает Палыч, хватает Егорку, бросает в небо, ставит на ноги, хлопает по шортикам: побегай!
Вот это «Хо-хо!» и есть то первое воспоминание о Палыче, которое засело в Егорке раньше других.
С зубами Палыч красивый, а без них – добрый, с зубами – серьезный, без них – улыбчивый, с зубами Палыч ходит в центр села в магазин, или на работу в школу, без зубов – курит на крыльце.
Лето. Егорке уже пять, почти шесть.
Вставил Палыч зубы, взял Егорку за руку: пойдем, брат!
Вышли за калитку, пожмурились на майское солнце и направились неспешно к двухэтажному зданию из красного кирпича – старой школе.
Старая школа – рядом с новой.
Новая школа – белая, высокая, с большими окнами и широким крыльцом. Она, как большая белая птица, присевшая отдохнуть среди зелени школьного сада и готова вот-вот снова сорваться в небо.
Старая школа, как уставшая собака, лежит на брюхе, дышит тяжело, грустно глядя пыльными глазами окон, и высунув язык крылечка, чуть свесив его набок, ворчит: «Ну, что смотрите, стою еще, хоть и устали кирпичики мои».
Палыч клацнул зубами, оскалился на Егорку, подмигнул ему правым блестящим глазом и открыл скрипучую деревянную дверь: Заходи, ерепеса!
Егорка с опаской входит в коридор. В нем сумрачно и прохладно, стенки с потемневшей штукатуркой, портреты на пожелтевшей бумаге в рамках из реечек.
«О, я знаю – это дедушка Ленин, он у нас в садике висит...» Дальше какие-то мальчики и девочки с суровыми лицами. «Пи-о-не-ры-ге-ро-и»– шевелит губами Егорка вслед за буквами, написанными широким пером на чуть запыленном листе бумаги. С другой стороны коридора – высоченные деревянные двустворчатые двери – вот одни, где-то вдалеке – другие.
– Пойдем, ерепеса, не боись! – Палыч шаркает ногами по коридору к дальним дверям. Егорка семенит за ним.
В школе никого, только Егорка, Палыч и эхо, которое шуршит, трещит и переговаривается, наполняет коридор зыбкой и дрожащей детской тревогой. Егорка озирается, дедушка Ленин неотрывно следит глазами за Егоркой с портрета!
«Ух! Побегу-ка я за дедом, вон он уже куда ушел!»
– Клац! – поворачивает Палыч ключ в замке.
– Клац! – щелкает он своими пластмассовыми зубами и скалится на подбегающего Егорку. – Заходи!
Какой просторный зал открылся Егоркиным глазам, потолок где-то в вышине и свет из окон истоньшает полки, стоящие у окон и вдоль стен. А на полках – корабли, корабли, корабли! Парусники с крыльями парусов и тоненькими веревочными лестницами, паутиной канатов; катера, отливающие металлом бортов, как хищные стремительные акулы; крейсера, грозно ощетинившиеся стволами орудий; и черные стремительные и гладкие, как налимы, подводные лодки.
Повернул Егорка голову и увидел огромное количество разных самолетов: истребителей, «кукурузников», бомбардировщиков. На стене, как огромные стрекозы, раскинув невесомые полупрозрачные бумажные крылья с просвечивающим фанерными жилками остова – планеры!
Егоркин дух перехватило. Он, как вытянутый из глубины карасик, пучил в восторге глаза и беззвучно открывал рот, не в силах выдохнуть то огромное чувство ослепительного великолепия, которое вдруг раздуло изнутри его легкие, уперлось в ребра.
Палыч смотрел на него, посмеивался, поглаживал рукой седую свою шевелюру, клацнул пластмассовыми зубами, подошел к одной из полок и взял блестящее, черное, вытянутое тело подводной лодки с маленькой выразительной рубкой, с нарисованным на ней советским морским флагом и торчащей соломинкой перископа, четырехлопастным блестящим литым винтом, который через кронштейн был присоединен к тугому и толстому пучку резиновых нитей, натянутых под брюхом лодки. Покрутил в руках, потрогал за подвижные лепестки крыльев для погружения и передал Егорке:
– Держи, ерепеса! Запустим сегодня в бабушкиной ванне.
Егорка взял лодку, как что-то живое, что может сейчас вырваться и убежать, и спросил, глядя на пластмассовые зубы Палыча, которые блестели в растянутых синеватых дедовых губах:
– Деда, а откуда это?
– Эх, ерепеса, ерепеса! Что-то я сделал, что-то друзья мои, что-то ученики. Кого-то нет уже.
– А где они, деда?
Палыч глянул как-то в сторону, клацнул пластмассовыми зубами:
– Пойдем, Егорка, лодку запускать!
Вечером Егорка по уши вымок. Прыгает возле огромного деревянного корыта, крутит винт, закручивает резиновые жилы лодкиного двигателя. По-гру-жа-ет-ся!!!
Палыч курит на крыльце и щурится на Егорку. Его пластмассовые зубы лежат на комоде.
Сенокос
Июль выдался жаркий и мошковитый, комариный. Тучи летучих тварей! Грызут, как собаки, кровь пьют. Говорят, что в колхозном стаде коровы задыхаются: набивается мошка в широкие коровьи ноздри, перебивает дыхание. А что поделаешь?
Косить надо. Пора.
Вечером Палыч сидит на порожке пчельника, рубленой сараюшки, куда он на зиму убирает ульи с пчелами, стучит молотком по лезвию косы – правит. Коса звенит, Палыч из уголка рта пускает табачный дым в осатаневших насекомых: «Сгиньте, ироды!»
Постучал по лезвию, прищурил глаз, посмотрел: порядок. Достал из-под балочки точильный брусок, серый продолговатый камень, поставил косу на длинную гибкую рукоять, упер ее концом в землю и приступил чуть ногой, обутой в калошу, левой рукой взялся там, где черный серп косы крепился к желтой рукоятке, а правой быстро-быстро замахал вдоль лезвия точильным бруском.
Егорка рот раскрыл, как это деда не боится пальцы себе отрезать? Летает брусок, звенит коса: «Дзинь– дзинь, Егорка! Дзинь – дзинь, косарь!»
– Деда, а я что делать буду?
– Как что? Косить будешь! – Палыч взял косу, как полагается, лезвием вниз, повел им над землей: ш-ш-ш!, щелкнул зубами: «Будешь завтра косить, Егорка!»
Егорка смотрит испуганно на косу в руках Палыча: Какая длинная, да страшная. Больша-а-а-я!
– «Литовочку» тебе наладим,– угадывает его испуг дед.
Палыч уходит вглубь пчельника и выходит с маленькой косой, вполовину меньше палычевой.
Постучал по ней Палыч молотком, позвенел по лезвию брусочком: держи, только осторожно, острая!
Егорка дрожащими руками взял ручку косы и повел, как дед, над землей.
«Ш-ш-ш!»– Зашелестела «литовочка» лезвием, разрезая воздух. Острая! Застучало Егоркино сердце от восторга.
Вышли рано утром. Впереди Палыч: коса в руке, лезвие замотано мешковиной, за ним – Егоркин отец, папка Алексей, высокий, стройный, вихрастый, с блестящей до боли в глазах улыбкой под черными густыми усами, за ним – Егорка, за Егоркой – егоркина бабушка, Елизавета Никаноровна, высокая, выше и, кажется, широкоплечее Палыча, суровая и строгая – побаивается ее Егорка – с деревянными граблями и корзинкой, в которой сложена снедь: каравай хлеба, вареные яйца, бутыль с квасом, зеленый лук и редиска, бабушкины ватрушечки – обед. Все это она утром складывала на кухне, старательно оборачивая в старые газеты.
– Палыч, где косить-то нынче будем? – трубит Никаноровна.
– На кладбище, мать! Поднялась там уже под березами, – щурится Палыч на восходящее солнце. – Заодно стариков проведаем.
– Смотри-ка, мошкары-то нет совсем – размеренно произносит папка Алексей.
– Туды ее, холеру! – ворчит Палыч. – Нет, так и не надо. Сенокос!
Кладбище было в полутора километрах от села в березовой рощице. Со стороны дороги оно ограждалось от мира полуразрушенной стеной красного кирпича с проемом ворот, зияющим, как прореха от выпавшего зуба во рту. Справа от входа возвышалось облезлое тело полуразрушенной часовни. Бока ее были когда-то побелены, но сейчас побелка осыпалась, обнажая наготу красных кирпичных стен. Наверху – истерзанный куполок с покосившимся крестом. В прошлое лето Егорка зашел в прохладу часовни, осмотрелся, взглянул на своды, на кучу битого кирпича у противоположной от входа стены, сделал шаг вперед, снова глянул на купол. Ого, кто-то смотрит на Егорку с куска штукатурки. Живые глаза! Тускловато светятся в прохладном полумраке. Суровые и строгие, как у бабушки Елизаветы Никаноровны, и в то же время добрые и грустные, как у Палыча. Кто это смотрел тогда на Егорку? Неведомо! Может сегодня сходить? Еще посмотреть на эти глаза?
Косить нужно было сразу за кирпичной стеной ограды, там полянка была ровная, заросшая травой, шагов тридцать в ширину и шагов сто пятьдесят в длину. За полянкой рощица шелестит березовыми ветками, под березами – могилки: оградки, столики, памятники с овальными плашками фотографий, крестики.
Недалеко от входа – свежий холмик, еще не обнесенный оградой, ветер колышет черные ленты венков. Егорка щурится и читает золотые буквы: «Степану Кузьмичу от...», дальше загнулась лента. Невозможно прочитать.
– Степа «Чемберлен». Не старый ведь еще был, – вздыхает Никаноровна. – До шестидесяти двух не дожил. Неделю, как похоронили. Сердце. Ох-ох-хо!
– Все там будем! – отзывается Палыч.
Еще год назад Егорка бы спросил: «Где это «там», деда?»
А сейчас уже знает, что такое – «там». Знает, но пока не осознает, не замирает от мысли. Егорке почему-то вдруг стало грустно, он помотал головой, чтоб разогнать тоску, осмотрелся вокруг и увидел бабочку. Бабочка сидела на травинке и задумчиво шевелила крыльями. Белокрылая крапивница. Сложила крылья, и не видно ее, раскрыла, и смотрят на Егорку с белых лепестков два черных глазка. Егорка сложил правую ладошку чашечкой и стал незаметно подкрадываться: шаг, другой! сдерживая дыхание и замирая, чтоб не спугнуть... Эх, улетела!
Как у любого ребенка, Егоркина печаль мгновенно переродилась в восторг и ликование: Куда же ты? Эй!
– Ну давай что ли, Алексей, заходи. Намашем сегодня на копёшку – говорит Палыч, поплевав на ладони и подхватив косу. – Идем, ерепеса! – подмигивает он Егорке и, сутулясь, идет в дальний конец полянки. За ним степенно идет папка Алексей. Егорка махнул рукой на бабочку и помчался следом.
Алексей заходит первым. Он косит широко и размашисто. Перед ним мгновенно в толще травы образовывается полукруг, который размеренно ползет вдоль края полянки, и скошеннная трава ложится слева от папки Алексея ровненьким валком.
– Вжиу-у! Вжиу-у! – свистит его коса, а под рубахой набухают и перекатываются папкины жилы. Жарко стало, припекло утреннее солнышко. Алексей положил косу на траву так бережно, как будто она стеклянная, вытер тыльной стороной ладони пот со лба, смахнул соленые капли с шеи и скинул рубашку. Взялся снова за косу и ну махать. Егорка аж рот раскрыл от восторга: какой же красивый у него папка: высокий, бронзовый, блестящий, удалой.
Вслед за папкой Алексеем зашел Палыч. Палыч косит меленько, чуть суетливо, переступая по-птичьи и сутуля спину.
– Вжих-вжих– вжих!
А гляди-ка, косит ровно, чисто и уже нагоняет папку Алексея: поднажми-и-и! Пятки-то подрежу!
Идут уступом в каком-то немыслимом, стройном ритме, как части большого, сильного и совершенного организма, блещут косы, валится трава и во всем этом играет, поет и расстилается над землей прекрасный и бесконечный дух жизни, шаманство, метр и ритм великого вселенского сердцебиения. Егорка чувствует этот пульс, чувствует и вдыхает его вместе с запахом свежескошенной травы, со звуками летающих лезвий, с движением батиных и дедовых рук, которые, кажется, разгоняют ветер, обдувающий егоркино лицо.
– А ты чего, ерепеса! – оклик Палыча выдергивает Егорку из транса.– Косить-то будешь?
Егорка с готовностью кивает: где же ты, моя «литовочка»?
– Давай, Егорка заходи в третью очередь. Да осторожно только, острая!
Егорка деловито, как Палыч, поплевал на ладони, подхватил косу: ну, держись! Эх! Лезвие косы погружается в землю. Выдернул, приметился. Ух! Ну, получше. Только все равно срезал кочку.
– Эх, брат! Этак ты не накосишь. Гляди-ка и затупил уже. Это Егорка, не лопата, а коса, ей траву косят, а не землю бороздят! Ну, давай учиться.
Палыч подхватывает егоркину «литовочку» и звенит по ней бруском, направляет лезвие. Звенит коса тоненько, еле слышно, звонко и заливисто, будто потешается над егоркиной неудачей. А потом вдруг со смешком говорит: «Лиха беда начало. На-у-чишь-ся!»
– Ну смотри, тут не в силе дело. Ты пяточку к земле прижимай, а носочек чуть приподними и веди ровненько, полукружьем, острием режь!
Егорка вновь взял косу и, как учил Палыч, пятку левой ноги вдавил в землю изо всех своих сил, а пальцы приподял так, что в голени свело. Неудобно как-то, что это деда такое советует? А Палыч смотрит на Егорку с теплой, ласковой, веселенькой грустинкой. Положил свои мозоли поверх егоркиных рук и повел косой по траве: вот так, вот так, я про «литовочкины» пяточку и носок говорю. Смотри-ка, получается! Вот так и ступай за нами!
Подошел папка Алексей, смотрит, улыбается, пьет воду широкими глотками из армейской зеленой фляжки: Добро! Мужик растет, хозяин.
Егорка старается, водит косой по траве: гляди-ка и у него полукружек получился, и у него валок из травы слева и у него вдруг зазвенела и запела коса! Эх! Ух! Ура! Умею-ю-ю!
Подошла Никаноровна с граблями, покачала головой: Порядок! Спорится работа, управимся к вечеру! И начала разбивать валки, раскладывать траву на просушку.
Обедали потом, хрустели огурцами, пили теплый квас.
Хороший был день.
До сих пор длится.
Культя
Баню Палыч так и не построил.
– Накой она мне? Казенная есть! Не топи, воду не носи. Пошел помылся, да попарился. А и не один, а в компании. А на выходе и пива наливают. А дома разве нальют?
Никаноровна угрожающе хмыкает.
Суббота – день мужской.
Палыч после обеда собрался лезть на чердак за березовым веником:
– Ну, Егорка, собирайся, пойдем кости греть. «Финскую», говорят, отремонтировали, попотеем.
Егорка бани уже не боится, а раньше боялся.
У папки Алексея, то есть дома у Егорки, баня своя, личная, срубик четыре на четыре в глубине двора за огородом в две сотки, где летом зеленеет ботвой картошка и теснятся в два ряда шесть грядок с морковкой, луком, редиской, а зимой лежит белый чистый снежок толстенной пушистой периной, в середине которой натянутым до звона стежком тянется от крыльца дома к баньке протоптанная дорожка в две подошвы папкиного валенка шириной.
Сама банька старенькая, серенькая, немного покосившаяся на один угол, с холодным дощатым предбанником, в котором папка Алексей быстро и зябко раздевался, пока Егорка сидел, замотанный в красное стеганое ватное одеяло, и они ныряли через низенькую скрипучую дверцу внутрь. Изнутри баня походит на избушку бабы-Яги, которую Егорка как-то видел в сказке по телевизору: в углу стоит кирпичная печь с всегда полуоткрытой дверцей в топку и котлом, в котором что-то страшно утробно рокотало, каменкой, похожей на рот, наполненный горячими булыжниками и чугунными останками мотоциклетного мотора, на которую папка Алексей плескал воду, когда парился. Каменка глотала воду и тут же шипела, как злобная старая кошка, печь тряслась и выплевывала струю горячего страшного и густого пара в сторону полка, на котором ухал и кряхтел папка Алексей. Егорка в этот момент сжимался от ужаса, садился или даже ложился на пол баньки поближе к выходу и осторожно посматривал оттуда на отца, с нетерпением ожидая, когда же тот перестанет стучать по себе огромным березовым веником, от которого отрывались липкие листья и прилипали к папкиной горячей коже. Однажды папка Алексей подхватил Егорку и два раза шлепнул веником по его спине и ниже. Ничего ужаснее до этого Егорка не испытывал. Он взревел и начал вопить не переставая, как-будто ему со спины содрали кожу. Перепуганный папка Алексей наспех надел трусы, замотал Егорку в одеяло и босиком по снегу бегом потащил орущее чадо домой.
– С ума сошел, ему-ж три года всего, а ты его веником, – укоризненно выговаривала егоркина мама папке Алексею.
Папка Алексей виновато переминался, укоризненно поглядывал на Егорку: ты что это, брат, ты ж мужик! и оправдательно мямлил:
– Да что такого, я в три года уже сам парился будь здоров, батю на улицу из бани выгонял...
Егорка с тех пор считал баньку наказанием похуже ремня.
Считал до тех пор, пока не узнал палычеву баню. Казенную. Совсем другое дело: кирпичная, большая, с высокой трубой, дым из которой вырывался в самое небо выше облаков.
Внутри бани прохладно и просторно, на каменных лавках множество людей, трущих себя мочалками, фыркающих и ухающих. И воды – хоть залейся из массивных чугунных кранов с вентилями, напоминающими металлические цветы в пять лепестков. Можно сколько угодно раз наполнить шайку, поднять ее над головой трясущимися от напряжения руками и ухнуть на себя водопад, вздрагивая кожей на спине от восторга и прохлады.
Люди в казенной бане ходили между рядами лавок по деревянным решетчатым трапам, под которыми журчала вода, стекая куда-то в неведомую утробу. Егорка думал, что в подвал.
Трапы эти волшебным образом приводили людей к деревянным дверям двух комнат: парной и «финской».
«Финская». В «финскую» пойдем! Когда Егорка впервые услышал это слово – «финская», – он подумал, что это никак не меньше, чем какое-то загадочное место, а скорее всего просто волшебное. «Финская»! Он услышал это слово от Палыча лет в пять и ему нестерпимо туда захотелось, как в цирк или в кино на мультики, или на сеновал прыгать по огромным сугробам хрустящего и пахучего сена.
«Финская» оказалась тесной и жаркой. Сразу после входа в «финскую» поднималась к противоположной стене галерея деревянных полок, как широкая лестница, на которой сидели плотно друг к другу мужики и жарились. Некоторые пригибали голову к коленям и держали ее руками. В углу «финской» справа от входа гудела огромная электрическая черная печь. Егорка поначалу ее испугался, а потом ничего, привык. Зверюга, хоть и гудела страшно, но была помещена в клетку из горячих деревянных толстых реек. Куда из клетки-то? Гуди себе.
Вот тогда-то и перестал Егорка бояться и жара и веника. Тогда-то он и понял, что он крепкий, смелый и выносливый, настоящий мужик! Тогда, когда Палыч взял подмышку егоркино тельце: ну-ка, расступись, братцы! – и в узкий проход, образовавшийся между сидящими телами, отправился на самый верх галерейки, туда, где жарче всего. Положил на горячие доски прихваченные снаружи прохладные досочки, усадил на них Егорку и уселся рядом сам. Ух, жарко! А не горячо! Сухой воздух облек егоркино тельце в тугой и плотный кокон, запечатанный плотный пакетик, вакуумную оболочку. И как мягким и плотным мехом – плюшем, прикоснулся к егоркиному животу, рукам, ногам, щекам, спине, потерся о них, приласкал и замер на нежной детской коже.
– Сто два градуса! – сообщил Палыч, взглянув на термометр, висящий на стенке.
Егорка услышал «сто» и изумился. Для него «сто» значило какое-то невообразимо далекое и совершенно непостижимое совершенство.
– Ну что, Егорка, пойдем в парилку? – с хитрецой говорит Палыч.
Егорка, разморенный сухим жаром «финской», послушно бредет за Палычем. Трапик, трапик, два поворота и вот она, деревянная дверца, за которой раздаются звуки ударов размоченными в кипятке березовыми ветвями по натянутой коже телесных барабанов.
Веник тогда вдруг превратился из кусачего свирепого пса в ленивого, мягкого и ластящегося кота. Большого и пушистого.
Первыми словами, которые сказал Егорка после возвращения из бани папке Алексею тогда: «Я больше не боюсь париться!» Папка Алексей довольно улыбнулся: «Давно бы так!»
Вот и сейчас Палыч спрашивает:
– Егорка, один веник брать, или два испарим?
– Бери один, деда! Сегодня чутка похлещемся, лето. Вот зимой – другой разговор. Там по два будем брать! – басит деловито Егорка. Никаноровна хмыкает, а Палыч с доброй и довольной усмешкой отвечает:
– Ну, как скажешь. Чутка, так чутка!
Никаноровна складывает в плетеную корзинку банное: мыло в пластиковом футляре, бутылочку из мутной белесой пластмассы, в которую она щурясь налила яичного шампуня (а зачем полную-то бутылку давать, сколько ни давай, все изведут, а так надолго хватит), положила два душистых свежих махровых полотенца, и смену белья трусы-носки-майку Палычу и Егорке, а поверх всего этого – три или четыре старые газеты, на лавку подкладывать, когда одеваться нужно будет после бани, не на голых же рейках сидеть. Вроде все, ничего не забыла.
Зашел с веником Палыч. Потряс, понюхал.
– Чего пыль-то трясешь?! – ворчит на него Никаноровна.
– Да ладно, не ругайся!– машет на нее рукой Палыч и сует веник между ручками корзинки. Смотрит на часы, хмурится:
– Побежали, Егорка, а то пар закончится!
– Побежали! – вскакивает Егорка.
До казенной бани идти с километр. Мимо старой школы красного кирпича, хранящей внутри себя палычевы удивительные корабли – самолеты, мимо новой школы с замечательной, пахнущей опилками, машинным маслом, металлической стружкой и еще чем-то неведомым, мастерской, в которой Палыч преподает «оболтусам» и «балбесам» столярное и слесарное дело, через школьный сад, где растут невысокие яблоньки – китайки, покрывающиеся в конце лета гроздьями мелких и кислых яблочек, и колючими кустами барбариса и боярышника, дальше по тропинке вдоль высоченного забора, потом через двор двухэтажного кирпичного дома, где стоит трактор «Беларусь» без передних колес, вместо них подставленные березовые пеньки, потом по мостику через канавку, в которой стоит всегда зеленая вода, из которой торчат унылые засохшие камыши, еще чуть-чуть и вот она – казенная баня!
В небольшом коридорчике после скрипучей фанерной двери на табуретке стоит консервная банка, куда Палыч кидает несколько монеток, оплачивает вход. Далее идут мимо двери в распивочную, полуоткрытую, за которой видно помещение со стоящими в нем десятком столов – крытыми клееночкой с выцветшим рисунком фанерными столешницами на металлической ноге и ютящимися рядом с ними табуретками. Из распивочной тянет сладковато-кислым хлебно-хмелевым запахом. У противоположной от двери стенки распивочной – деревянная стойка, за которой стоит большая круглолицая женщина в белоснежном халате и кокошнике, с яркими-красными губами, чуть дернутыми улыбкой и открывающими ряд белых зубов с блестящим среди них золотым.
– Галя, привет! – гаркнул Палыч.
Галя задумчиво смотрела в газету, лежащую на стойке и лениво водила по ней карандашом, гадала кроссворд.
– Здорова, Палыч! – ответила она задорно, чуть повременив, дописывая слово. – Попариться?
– Да! Надо кости старые погреть.
– Старые. Скажешь тоже! – осклабилась золотым зубом Галя. А это кто такой? – зыркнула она на Егорку. – Внучок твой? Люськин что ли?
Егорка хмурится, что это значит – Люськин. Мама вовсе не Люська, а Людмила.
– Париться-то умеешь? – уже Егорку спросила Галя, не дождавшись палычева ответа.
– Умею! – бурчит Егорка.
– Ишь! Ух ты, серьезный какой. Ну, попаришься, приходи лимонад пить!
Егорка отмяк, заулыбался: лимонад – это дело.
– С пивом-то как сегодня? – Палычу лимонад не очень интересен.
– Привезли, привезли. Только бочку открыла. – Кивнула Галя на большую деревянную потемневшую бочку, стоящую рядом со стойкой. Из бочки торчит блестящий металлический кран. – Жигулевское, свеженькое. И в бутылках есть. Ну, ступайте! С «будущим»!
С «будущим» – это значит с будущим легким паром.
Егорка с Палычем протопали дальше по коридорчику и оказались в раздевалке, уставленной вдоль стен шкафчиками и лавками перед ними. Палыч пошел вдоль шкафчиков, открывая дверцы, отыскал свободный, поставил рядом с ним корзинку и кивнул Егорке: «Давай сюда!»
Быстро разделись и, чуть поеживаясь, нырнули в «отделение»– помещение, где мылись, и уж из которого дорожка пролегала в парную и «финскую».
Отделение было наполнено звоном холодных и горячих струй о цинковые шайки, плеском выливаемой на головы и пол воды, шлепанием босых ног по деревянным трапам, шорохом натираемых мылом мочалок. В густом молочным пару, застилающем «отделение» чуть ли не от пола до потолка, двигались голые, мокрые, скользкие, как налимы, тела. Они выниривали из тумана и вновь туда погружались с невнятным звуком говора и вскриками, которые растворялись и смешивались со всеми остальными звуками моечного отделения.
– Палыч! Здорова! – раскатисто грянуло из тумана.
– Николай Степаныч, привет! – отозвался Палыч в направлении, откуда раздался голос.
– Иди-ка сюда, старый черт, я тебе холку намылю!
– Пойдем, Егорка! – потрепал Палыч мальчишеские волосики. Там сядем.
Егорка семенит вслед за Палычем, видя перед собой его сутулую спину, и боясь потерять ее в тумане. Зачем туда поперлись? Есть же места поближе. И кричит оттуда так страшно, весь этот банный гул-звон перекричал, и угроза намылить Палычу холку прокатилась легким холодком по егркиной спине: а вдруг и Егорке холку намылят, а где она у него, эта холка? На голове что-ли или на животе?
В углу отделения на каменной скамейке сидит огромный человек. Его голова, насаженная на низкую шею, приросшую так крепко к покатым плечам, что кажется совсем не гибкой, плотной и твердой, как кусок дерева, и если этому огромному человеку надо посмотреть в сторону, то он поворачивает не голову на шее, а поворачивается всем туловищем, так вот, его голова походила на голову людоеда. У него был огромный, широкий рот с синеватыми губами из-под которых торчали железные блестящие зубы, широкий нос с бычьими ноздрями, из которых, как показалось Егорке, вырывался пар, широкое красное лицо и маленькие налитые кровью глаза. Голова, похожая на кочан капусты, была покрыта сверху клочковатой, редкой седой жесткой щетиной. На плечах и груди его тоже росла шерсть. Человек сидел так, что его нижняя часть от пояса и ниже была скрыта от Егорки тазом. Человек энергично двигал рукой, видимо натирал мочалку, лежащую у него на коленях, хозяйственным мылом, дегтярный запах которого вился вокруг.
Егорка присмотрелся, и ему показалось, что он увидел в человеке что-то настолько необычное, что даже сначала не понял, что. Посмотрел еще раз: вот голова – качан, вот тулово, покрытое шерстью, дальше– оцинкованный тазик, и из таза видна всего одна нога. Как? Такой большой человек и всего одна нога? Как же он ходит?
Человек закончил натирать мочалку мылом, шлепнул ею по животу, так, что вокруг полетели мелкие капли пены, глянул на Егорку и махнул ему своей лапищей:
– Ну, иди сюда, знакомиться будем!
Егорка нерешительно глянул на Палыча. Палыч улыбнулся и кивнул: иди, иди, не бойся, дядя не страшный.
Человек подхватил его под мышки и усадил в таз с водой:
– Ну и как нас звать, молодой человек. Сколько же тебе годков?
– Егорка. Мне шесть лет, – отчеканил Егорка заученную фразу.
– А я – Николай Степаныч, твоего деда друг, понятно?
Егорке было понятно слово «друг». У него был друг Вовка, с которым они копались в песочнице, ездили на самокатах, бегали в догонялки, качались на качелях. Он представил, как деда и Николай Степаныч сидят в песочнице с совочками и всхлипнул маленьким задорным смешком.
Степаныч тоже улыбнулся и плеснул в егоркино лицо водой из таза. Егорка почему-то вдруг почувствовал бесконечную теплоту и доверие к Степанычу, почти как к деду, и расхохотался уже в полный голос.
Вытирая кулачком капли с глаз, Егорка вдруг замер. Он увидел, что из туловища Степаныча росла одна нога. Вернее начиналось две. Но одна была нормальная, с узловатой коленкой и дальше с голенью с сеткой синих вен и покрытой волосами, утыкавшейся в разлапистую корявую ступню с загнутыми синеватыми когтями. А вот вторая только начинала расти и сразу обрывалась закругленным, ровным и даже блестящим концом, как острая вершина куриного яйца, обтянутая бледной кожей.
Егорка такое видел впервые и уставился на эту короткую ногу Степаныча, открыв рот. Потом спросил:
– Дядя Николай, а где ваша нога? Не выросла?
Степаныч усмехнулся и сказал с чуть заметной дрожью (эту дрожь Егорка потом много раз вспоминал):
– Потерял я ее... Оставил... На войне...
На войне? Егорка с Вовкой играли в войну, бегали друг за другом с деревянными пистолетами по двору и огороду. А еще война была по телевизору. Но там ничего подобного не показывали. А тут вдруг – и нет ноги, только обрубок, как сосиска...
Егорка вспомнил, как недавно поймал кузнечика и оторвал ему заднюю длинную ногу.
– Зачем ты ноги-то ему рвешь. Больно же. Больше не вырастет. Как кузнечик скакать будет? – Укоризненно качала тогда головой Никаноровна.
И вот сейчас, когда он смотрел на Степаныча, ему вдруг стало так стыдно, что он покраснел и отвернулся.
В «финскую» тогда сходили два раза, да в парилку с веником – один. Лето: не хотелось особо жариться.
Выходили из бани вместе. Егорка шел впереди, за ним Палыч и последним Николай Степаныч скакал на костыле с подвернутой пустой штаниной и в домашней тапке на босой ступне. Он был в расстегнутой рубахе, из-под которой пыхала жаром его грудь. Лицо Николая Степаныча из красного и распаренного стало розовым. С глаз схлынула кровь, и они засветились лучистым добрым и теплым светом.
– Галя! – заорал он, входя в распивочную. – Беги, догоню.
– Ой, да ну тебя! – хохотнула Галя за стойкой. – По две?
– Давай по две! – подтвердил Палыч.– А из лимонада что?
– Буратино.
– Две осилишь? – кивнул Палыч Егорке.
– Две. Скажешь тоже! Лимонада! Да хоть ящик! Егорка выразительно закивал, боясь, что Палыч не поверит.
Лимонад, перелитый из бутылки в пивную кружку, радовался свободе. Он поднимал из своей толщи вверх тысячи мельчайших пузырьков, которые, достигнув поверхности, выпрыгивали тоненькими стройными брызгами-искрами, и они, как цирковые гимнасты, взлетали с арены вверх, делали сальто, взрывались маленькими салютиками и изчезали в воздухе. Егорка склонился над кружкой и несколько искорок-гимнастов тут же заскочили ему в нос, в носу зажгло и глаза заслезились. Егорка пил лимонад медленно, стараясь распробовать каждый глоток, чувствуя, как он протекал внутрь, в живот и начинал там плескаться при каждом движении егоркиного тела.
Палыч и Степаныч пили первую кружку тягуче, не отрываясь, выразительно двигая кадыками. Закончили почти одновременно, поставили пустые кружки на стол, и одновременно крякнули, выдохнув хлебный запах. Посидели, помолчали.
– Ну, что, Коля, как здоровье? – спросил Палыч, немного подождав, когда пиво разольется по телу и угомонит первый жар.
– Да ничего, скриплю. Только вот к непогоде все сильнее ноет, – потер обрубок своей ноги Степаныч, – Ну давай, что ли, за легкий пар, да за здоровье.
Они подняли кружки.
– А ты чего? – подмигнул Степаныч Егорке. – Давай, с легким паром.
Егорка поднял вторую кружку лимонада, чокнулся ей с дедом и Степанычем и вдруг подумал, что никогда больше не будет отрывать кузнечикам ноги.
Домой шли неспеша. Уже вечерело, было прохладно. Палыч шел, сутулясь и шаркая ногами. Смотрел себе под ноги, курил, а потом вдруг сказал:
– Мы ведь, Егорка, со Степанычем воевали вместе, на плащ-палаточке я его и вытягивал тогда, а тут и меня...
– Что тебя, деда? – спросил Егорка, заглядывая Палычу в глаза, которые вдруг заблестели влажностью.
– Попозже расскажу, когда чуть повзрослеешь.
Егорка смотрел на яблони школьного сада. Назавтра они с Володькой, – другом – и соседскими мальчишками, хотели поиграть в войну, побегать между деревьями, популять друг в друга.
«Не пойду, наверное!» – подумал Егорка, остановившись и еще раз посмотрев на яблони. Слово «война» для него вдруг стало другим. Не весело-озорным, с беготней и озорством, а каким-то страшным и тяжелым. Он вдруг представил, как кто-то огромный и безжалостный хватает его за ногу и, не обращая внимания на егоркины крики, отрывает ее и выбрасывает в канаву.
Егорка зажмурился от ужаса, помотал головой и припустился догонять Палыча.
– Деда, а войны не будет? – спросил он Палыча дрогнувшим голосом.
– Не будет, Егорка, не будет. Ты не позволишь, – проговорил Палыч.– Вот и домик наш. Никаноровна, встречай!
– С легким паром!
отрывки из повести
Посвящается Василию Павловичу Русских.
Пластмассовые зубы
Егорка помнил Палыча столько, сколько помнил себя. Иногда ему казалось даже, что сначала он помнил Палыча, а потом уже себя. Помнил седую палычеву шевелюру, густую, которую Палыч старательно зачесывал назад, помнил коряжистые палычевы руки, помнил палычев рот. У Палыча во рту было мало зубов, а еще были пластмассовые зубы, которые были отдельно от Палыча, и которые он иногда вставлял в дополнение к своим собственным. Эти пластмассовые зубы трехлетний Егорка как-то нашел на комоде, схватил их и выбежал из дома в летний огород поиграть, да так и бросил.
– Ах ты, ерепеса – ерепеса. Хо-хо!– хохотал потом Палыч, когда после допроса с пристрастием Егорка таки вспомнил, куда он снес дедовы зубы.
– Хо-хо! – вскрикивает Палыч, хватает Егорку, бросает в небо, ставит на ноги, хлопает по шортикам: побегай!
Вот это «Хо-хо!» и есть то первое воспоминание о Палыче, которое засело в Егорке раньше других.
С зубами Палыч красивый, а без них – добрый, с зубами – серьезный, без них – улыбчивый, с зубами Палыч ходит в центр села в магазин, или на работу в школу, без зубов – курит на крыльце.
Лето. Егорке уже пять, почти шесть.
Вставил Палыч зубы, взял Егорку за руку: пойдем, брат!
Вышли за калитку, пожмурились на майское солнце и направились неспешно к двухэтажному зданию из красного кирпича – старой школе.
Старая школа – рядом с новой.
Новая школа – белая, высокая, с большими окнами и широким крыльцом. Она, как большая белая птица, присевшая отдохнуть среди зелени школьного сада и готова вот-вот снова сорваться в небо.
Старая школа, как уставшая собака, лежит на брюхе, дышит тяжело, грустно глядя пыльными глазами окон, и высунув язык крылечка, чуть свесив его набок, ворчит: «Ну, что смотрите, стою еще, хоть и устали кирпичики мои».
Палыч клацнул зубами, оскалился на Егорку, подмигнул ему правым блестящим глазом и открыл скрипучую деревянную дверь: Заходи, ерепеса!
Егорка с опаской входит в коридор. В нем сумрачно и прохладно, стенки с потемневшей штукатуркой, портреты на пожелтевшей бумаге в рамках из реечек.
«О, я знаю – это дедушка Ленин, он у нас в садике висит...» Дальше какие-то мальчики и девочки с суровыми лицами. «Пи-о-не-ры-ге-ро-и»– шевелит губами Егорка вслед за буквами, написанными широким пером на чуть запыленном листе бумаги. С другой стороны коридора – высоченные деревянные двустворчатые двери – вот одни, где-то вдалеке – другие.
– Пойдем, ерепеса, не боись! – Палыч шаркает ногами по коридору к дальним дверям. Егорка семенит за ним.
В школе никого, только Егорка, Палыч и эхо, которое шуршит, трещит и переговаривается, наполняет коридор зыбкой и дрожащей детской тревогой. Егорка озирается, дедушка Ленин неотрывно следит глазами за Егоркой с портрета!
«Ух! Побегу-ка я за дедом, вон он уже куда ушел!»
– Клац! – поворачивает Палыч ключ в замке.
– Клац! – щелкает он своими пластмассовыми зубами и скалится на подбегающего Егорку. – Заходи!
Какой просторный зал открылся Егоркиным глазам, потолок где-то в вышине и свет из окон истоньшает полки, стоящие у окон и вдоль стен. А на полках – корабли, корабли, корабли! Парусники с крыльями парусов и тоненькими веревочными лестницами, паутиной канатов; катера, отливающие металлом бортов, как хищные стремительные акулы; крейсера, грозно ощетинившиеся стволами орудий; и черные стремительные и гладкие, как налимы, подводные лодки.
Повернул Егорка голову и увидел огромное количество разных самолетов: истребителей, «кукурузников», бомбардировщиков. На стене, как огромные стрекозы, раскинув невесомые полупрозрачные бумажные крылья с просвечивающим фанерными жилками остова – планеры!
Егоркин дух перехватило. Он, как вытянутый из глубины карасик, пучил в восторге глаза и беззвучно открывал рот, не в силах выдохнуть то огромное чувство ослепительного великолепия, которое вдруг раздуло изнутри его легкие, уперлось в ребра.
Палыч смотрел на него, посмеивался, поглаживал рукой седую свою шевелюру, клацнул пластмассовыми зубами, подошел к одной из полок и взял блестящее, черное, вытянутое тело подводной лодки с маленькой выразительной рубкой, с нарисованным на ней советским морским флагом и торчащей соломинкой перископа, четырехлопастным блестящим литым винтом, который через кронштейн был присоединен к тугому и толстому пучку резиновых нитей, натянутых под брюхом лодки. Покрутил в руках, потрогал за подвижные лепестки крыльев для погружения и передал Егорке:
– Держи, ерепеса! Запустим сегодня в бабушкиной ванне.
Егорка взял лодку, как что-то живое, что может сейчас вырваться и убежать, и спросил, глядя на пластмассовые зубы Палыча, которые блестели в растянутых синеватых дедовых губах:
– Деда, а откуда это?
– Эх, ерепеса, ерепеса! Что-то я сделал, что-то друзья мои, что-то ученики. Кого-то нет уже.
– А где они, деда?
Палыч глянул как-то в сторону, клацнул пластмассовыми зубами:
– Пойдем, Егорка, лодку запускать!
Вечером Егорка по уши вымок. Прыгает возле огромного деревянного корыта, крутит винт, закручивает резиновые жилы лодкиного двигателя. По-гру-жа-ет-ся!!!
Палыч курит на крыльце и щурится на Егорку. Его пластмассовые зубы лежат на комоде.
Сенокос
Июль выдался жаркий и мошковитый, комариный. Тучи летучих тварей! Грызут, как собаки, кровь пьют. Говорят, что в колхозном стаде коровы задыхаются: набивается мошка в широкие коровьи ноздри, перебивает дыхание. А что поделаешь?
Косить надо. Пора.
Вечером Палыч сидит на порожке пчельника, рубленой сараюшки, куда он на зиму убирает ульи с пчелами, стучит молотком по лезвию косы – правит. Коса звенит, Палыч из уголка рта пускает табачный дым в осатаневших насекомых: «Сгиньте, ироды!»
Постучал по лезвию, прищурил глаз, посмотрел: порядок. Достал из-под балочки точильный брусок, серый продолговатый камень, поставил косу на длинную гибкую рукоять, упер ее концом в землю и приступил чуть ногой, обутой в калошу, левой рукой взялся там, где черный серп косы крепился к желтой рукоятке, а правой быстро-быстро замахал вдоль лезвия точильным бруском.
Егорка рот раскрыл, как это деда не боится пальцы себе отрезать? Летает брусок, звенит коса: «Дзинь– дзинь, Егорка! Дзинь – дзинь, косарь!»
– Деда, а я что делать буду?
– Как что? Косить будешь! – Палыч взял косу, как полагается, лезвием вниз, повел им над землей: ш-ш-ш!, щелкнул зубами: «Будешь завтра косить, Егорка!»
Егорка смотрит испуганно на косу в руках Палыча: Какая длинная, да страшная. Больша-а-а-я!
– «Литовочку» тебе наладим,– угадывает его испуг дед.
Палыч уходит вглубь пчельника и выходит с маленькой косой, вполовину меньше палычевой.
Постучал по ней Палыч молотком, позвенел по лезвию брусочком: держи, только осторожно, острая!
Егорка дрожащими руками взял ручку косы и повел, как дед, над землей.
«Ш-ш-ш!»– Зашелестела «литовочка» лезвием, разрезая воздух. Острая! Застучало Егоркино сердце от восторга.
Вышли рано утром. Впереди Палыч: коса в руке, лезвие замотано мешковиной, за ним – Егоркин отец, папка Алексей, высокий, стройный, вихрастый, с блестящей до боли в глазах улыбкой под черными густыми усами, за ним – Егорка, за Егоркой – егоркина бабушка, Елизавета Никаноровна, высокая, выше и, кажется, широкоплечее Палыча, суровая и строгая – побаивается ее Егорка – с деревянными граблями и корзинкой, в которой сложена снедь: каравай хлеба, вареные яйца, бутыль с квасом, зеленый лук и редиска, бабушкины ватрушечки – обед. Все это она утром складывала на кухне, старательно оборачивая в старые газеты.
– Палыч, где косить-то нынче будем? – трубит Никаноровна.
– На кладбище, мать! Поднялась там уже под березами, – щурится Палыч на восходящее солнце. – Заодно стариков проведаем.
– Смотри-ка, мошкары-то нет совсем – размеренно произносит папка Алексей.
– Туды ее, холеру! – ворчит Палыч. – Нет, так и не надо. Сенокос!
Кладбище было в полутора километрах от села в березовой рощице. Со стороны дороги оно ограждалось от мира полуразрушенной стеной красного кирпича с проемом ворот, зияющим, как прореха от выпавшего зуба во рту. Справа от входа возвышалось облезлое тело полуразрушенной часовни. Бока ее были когда-то побелены, но сейчас побелка осыпалась, обнажая наготу красных кирпичных стен. Наверху – истерзанный куполок с покосившимся крестом. В прошлое лето Егорка зашел в прохладу часовни, осмотрелся, взглянул на своды, на кучу битого кирпича у противоположной от входа стены, сделал шаг вперед, снова глянул на купол. Ого, кто-то смотрит на Егорку с куска штукатурки. Живые глаза! Тускловато светятся в прохладном полумраке. Суровые и строгие, как у бабушки Елизаветы Никаноровны, и в то же время добрые и грустные, как у Палыча. Кто это смотрел тогда на Егорку? Неведомо! Может сегодня сходить? Еще посмотреть на эти глаза?
Косить нужно было сразу за кирпичной стеной ограды, там полянка была ровная, заросшая травой, шагов тридцать в ширину и шагов сто пятьдесят в длину. За полянкой рощица шелестит березовыми ветками, под березами – могилки: оградки, столики, памятники с овальными плашками фотографий, крестики.
Недалеко от входа – свежий холмик, еще не обнесенный оградой, ветер колышет черные ленты венков. Егорка щурится и читает золотые буквы: «Степану Кузьмичу от...», дальше загнулась лента. Невозможно прочитать.
– Степа «Чемберлен». Не старый ведь еще был, – вздыхает Никаноровна. – До шестидесяти двух не дожил. Неделю, как похоронили. Сердце. Ох-ох-хо!
– Все там будем! – отзывается Палыч.
Еще год назад Егорка бы спросил: «Где это «там», деда?»
А сейчас уже знает, что такое – «там». Знает, но пока не осознает, не замирает от мысли. Егорке почему-то вдруг стало грустно, он помотал головой, чтоб разогнать тоску, осмотрелся вокруг и увидел бабочку. Бабочка сидела на травинке и задумчиво шевелила крыльями. Белокрылая крапивница. Сложила крылья, и не видно ее, раскрыла, и смотрят на Егорку с белых лепестков два черных глазка. Егорка сложил правую ладошку чашечкой и стал незаметно подкрадываться: шаг, другой! сдерживая дыхание и замирая, чтоб не спугнуть... Эх, улетела!
Как у любого ребенка, Егоркина печаль мгновенно переродилась в восторг и ликование: Куда же ты? Эй!
– Ну давай что ли, Алексей, заходи. Намашем сегодня на копёшку – говорит Палыч, поплевав на ладони и подхватив косу. – Идем, ерепеса! – подмигивает он Егорке и, сутулясь, идет в дальний конец полянки. За ним степенно идет папка Алексей. Егорка махнул рукой на бабочку и помчался следом.
Алексей заходит первым. Он косит широко и размашисто. Перед ним мгновенно в толще травы образовывается полукруг, который размеренно ползет вдоль края полянки, и скошеннная трава ложится слева от папки Алексея ровненьким валком.
– Вжиу-у! Вжиу-у! – свистит его коса, а под рубахой набухают и перекатываются папкины жилы. Жарко стало, припекло утреннее солнышко. Алексей положил косу на траву так бережно, как будто она стеклянная, вытер тыльной стороной ладони пот со лба, смахнул соленые капли с шеи и скинул рубашку. Взялся снова за косу и ну махать. Егорка аж рот раскрыл от восторга: какой же красивый у него папка: высокий, бронзовый, блестящий, удалой.
Вслед за папкой Алексеем зашел Палыч. Палыч косит меленько, чуть суетливо, переступая по-птичьи и сутуля спину.
– Вжих-вжих– вжих!
А гляди-ка, косит ровно, чисто и уже нагоняет папку Алексея: поднажми-и-и! Пятки-то подрежу!
Идут уступом в каком-то немыслимом, стройном ритме, как части большого, сильного и совершенного организма, блещут косы, валится трава и во всем этом играет, поет и расстилается над землей прекрасный и бесконечный дух жизни, шаманство, метр и ритм великого вселенского сердцебиения. Егорка чувствует этот пульс, чувствует и вдыхает его вместе с запахом свежескошенной травы, со звуками летающих лезвий, с движением батиных и дедовых рук, которые, кажется, разгоняют ветер, обдувающий егоркино лицо.
– А ты чего, ерепеса! – оклик Палыча выдергивает Егорку из транса.– Косить-то будешь?
Егорка с готовностью кивает: где же ты, моя «литовочка»?
– Давай, Егорка заходи в третью очередь. Да осторожно только, острая!
Егорка деловито, как Палыч, поплевал на ладони, подхватил косу: ну, держись! Эх! Лезвие косы погружается в землю. Выдернул, приметился. Ух! Ну, получше. Только все равно срезал кочку.
– Эх, брат! Этак ты не накосишь. Гляди-ка и затупил уже. Это Егорка, не лопата, а коса, ей траву косят, а не землю бороздят! Ну, давай учиться.
Палыч подхватывает егоркину «литовочку» и звенит по ней бруском, направляет лезвие. Звенит коса тоненько, еле слышно, звонко и заливисто, будто потешается над егоркиной неудачей. А потом вдруг со смешком говорит: «Лиха беда начало. На-у-чишь-ся!»
– Ну смотри, тут не в силе дело. Ты пяточку к земле прижимай, а носочек чуть приподними и веди ровненько, полукружьем, острием режь!
Егорка вновь взял косу и, как учил Палыч, пятку левой ноги вдавил в землю изо всех своих сил, а пальцы приподял так, что в голени свело. Неудобно как-то, что это деда такое советует? А Палыч смотрит на Егорку с теплой, ласковой, веселенькой грустинкой. Положил свои мозоли поверх егоркиных рук и повел косой по траве: вот так, вот так, я про «литовочкины» пяточку и носок говорю. Смотри-ка, получается! Вот так и ступай за нами!
Подошел папка Алексей, смотрит, улыбается, пьет воду широкими глотками из армейской зеленой фляжки: Добро! Мужик растет, хозяин.
Егорка старается, водит косой по траве: гляди-ка и у него полукружек получился, и у него валок из травы слева и у него вдруг зазвенела и запела коса! Эх! Ух! Ура! Умею-ю-ю!
Подошла Никаноровна с граблями, покачала головой: Порядок! Спорится работа, управимся к вечеру! И начала разбивать валки, раскладывать траву на просушку.
Обедали потом, хрустели огурцами, пили теплый квас.
Хороший был день.
До сих пор длится.
Культя
Баню Палыч так и не построил.
– Накой она мне? Казенная есть! Не топи, воду не носи. Пошел помылся, да попарился. А и не один, а в компании. А на выходе и пива наливают. А дома разве нальют?
Никаноровна угрожающе хмыкает.
Суббота – день мужской.
Палыч после обеда собрался лезть на чердак за березовым веником:
– Ну, Егорка, собирайся, пойдем кости греть. «Финскую», говорят, отремонтировали, попотеем.
Егорка бани уже не боится, а раньше боялся.
У папки Алексея, то есть дома у Егорки, баня своя, личная, срубик четыре на четыре в глубине двора за огородом в две сотки, где летом зеленеет ботвой картошка и теснятся в два ряда шесть грядок с морковкой, луком, редиской, а зимой лежит белый чистый снежок толстенной пушистой периной, в середине которой натянутым до звона стежком тянется от крыльца дома к баньке протоптанная дорожка в две подошвы папкиного валенка шириной.
Сама банька старенькая, серенькая, немного покосившаяся на один угол, с холодным дощатым предбанником, в котором папка Алексей быстро и зябко раздевался, пока Егорка сидел, замотанный в красное стеганое ватное одеяло, и они ныряли через низенькую скрипучую дверцу внутрь. Изнутри баня походит на избушку бабы-Яги, которую Егорка как-то видел в сказке по телевизору: в углу стоит кирпичная печь с всегда полуоткрытой дверцей в топку и котлом, в котором что-то страшно утробно рокотало, каменкой, похожей на рот, наполненный горячими булыжниками и чугунными останками мотоциклетного мотора, на которую папка Алексей плескал воду, когда парился. Каменка глотала воду и тут же шипела, как злобная старая кошка, печь тряслась и выплевывала струю горячего страшного и густого пара в сторону полка, на котором ухал и кряхтел папка Алексей. Егорка в этот момент сжимался от ужаса, садился или даже ложился на пол баньки поближе к выходу и осторожно посматривал оттуда на отца, с нетерпением ожидая, когда же тот перестанет стучать по себе огромным березовым веником, от которого отрывались липкие листья и прилипали к папкиной горячей коже. Однажды папка Алексей подхватил Егорку и два раза шлепнул веником по его спине и ниже. Ничего ужаснее до этого Егорка не испытывал. Он взревел и начал вопить не переставая, как-будто ему со спины содрали кожу. Перепуганный папка Алексей наспех надел трусы, замотал Егорку в одеяло и босиком по снегу бегом потащил орущее чадо домой.
– С ума сошел, ему-ж три года всего, а ты его веником, – укоризненно выговаривала егоркина мама папке Алексею.
Папка Алексей виновато переминался, укоризненно поглядывал на Егорку: ты что это, брат, ты ж мужик! и оправдательно мямлил:
– Да что такого, я в три года уже сам парился будь здоров, батю на улицу из бани выгонял...
Егорка с тех пор считал баньку наказанием похуже ремня.
Считал до тех пор, пока не узнал палычеву баню. Казенную. Совсем другое дело: кирпичная, большая, с высокой трубой, дым из которой вырывался в самое небо выше облаков.
Внутри бани прохладно и просторно, на каменных лавках множество людей, трущих себя мочалками, фыркающих и ухающих. И воды – хоть залейся из массивных чугунных кранов с вентилями, напоминающими металлические цветы в пять лепестков. Можно сколько угодно раз наполнить шайку, поднять ее над головой трясущимися от напряжения руками и ухнуть на себя водопад, вздрагивая кожей на спине от восторга и прохлады.
Люди в казенной бане ходили между рядами лавок по деревянным решетчатым трапам, под которыми журчала вода, стекая куда-то в неведомую утробу. Егорка думал, что в подвал.
Трапы эти волшебным образом приводили людей к деревянным дверям двух комнат: парной и «финской».
«Финская». В «финскую» пойдем! Когда Егорка впервые услышал это слово – «финская», – он подумал, что это никак не меньше, чем какое-то загадочное место, а скорее всего просто волшебное. «Финская»! Он услышал это слово от Палыча лет в пять и ему нестерпимо туда захотелось, как в цирк или в кино на мультики, или на сеновал прыгать по огромным сугробам хрустящего и пахучего сена.
«Финская» оказалась тесной и жаркой. Сразу после входа в «финскую» поднималась к противоположной стене галерея деревянных полок, как широкая лестница, на которой сидели плотно друг к другу мужики и жарились. Некоторые пригибали голову к коленям и держали ее руками. В углу «финской» справа от входа гудела огромная электрическая черная печь. Егорка поначалу ее испугался, а потом ничего, привык. Зверюга, хоть и гудела страшно, но была помещена в клетку из горячих деревянных толстых реек. Куда из клетки-то? Гуди себе.
Вот тогда-то и перестал Егорка бояться и жара и веника. Тогда-то он и понял, что он крепкий, смелый и выносливый, настоящий мужик! Тогда, когда Палыч взял подмышку егоркино тельце: ну-ка, расступись, братцы! – и в узкий проход, образовавшийся между сидящими телами, отправился на самый верх галерейки, туда, где жарче всего. Положил на горячие доски прихваченные снаружи прохладные досочки, усадил на них Егорку и уселся рядом сам. Ух, жарко! А не горячо! Сухой воздух облек егоркино тельце в тугой и плотный кокон, запечатанный плотный пакетик, вакуумную оболочку. И как мягким и плотным мехом – плюшем, прикоснулся к егоркиному животу, рукам, ногам, щекам, спине, потерся о них, приласкал и замер на нежной детской коже.
– Сто два градуса! – сообщил Палыч, взглянув на термометр, висящий на стенке.
Егорка услышал «сто» и изумился. Для него «сто» значило какое-то невообразимо далекое и совершенно непостижимое совершенство.
– Ну что, Егорка, пойдем в парилку? – с хитрецой говорит Палыч.
Егорка, разморенный сухим жаром «финской», послушно бредет за Палычем. Трапик, трапик, два поворота и вот она, деревянная дверца, за которой раздаются звуки ударов размоченными в кипятке березовыми ветвями по натянутой коже телесных барабанов.
Веник тогда вдруг превратился из кусачего свирепого пса в ленивого, мягкого и ластящегося кота. Большого и пушистого.
Первыми словами, которые сказал Егорка после возвращения из бани папке Алексею тогда: «Я больше не боюсь париться!» Папка Алексей довольно улыбнулся: «Давно бы так!»
Вот и сейчас Палыч спрашивает:
– Егорка, один веник брать, или два испарим?
– Бери один, деда! Сегодня чутка похлещемся, лето. Вот зимой – другой разговор. Там по два будем брать! – басит деловито Егорка. Никаноровна хмыкает, а Палыч с доброй и довольной усмешкой отвечает:
– Ну, как скажешь. Чутка, так чутка!
Никаноровна складывает в плетеную корзинку банное: мыло в пластиковом футляре, бутылочку из мутной белесой пластмассы, в которую она щурясь налила яичного шампуня (а зачем полную-то бутылку давать, сколько ни давай, все изведут, а так надолго хватит), положила два душистых свежих махровых полотенца, и смену белья трусы-носки-майку Палычу и Егорке, а поверх всего этого – три или четыре старые газеты, на лавку подкладывать, когда одеваться нужно будет после бани, не на голых же рейках сидеть. Вроде все, ничего не забыла.
Зашел с веником Палыч. Потряс, понюхал.
– Чего пыль-то трясешь?! – ворчит на него Никаноровна.
– Да ладно, не ругайся!– машет на нее рукой Палыч и сует веник между ручками корзинки. Смотрит на часы, хмурится:
– Побежали, Егорка, а то пар закончится!
– Побежали! – вскакивает Егорка.
До казенной бани идти с километр. Мимо старой школы красного кирпича, хранящей внутри себя палычевы удивительные корабли – самолеты, мимо новой школы с замечательной, пахнущей опилками, машинным маслом, металлической стружкой и еще чем-то неведомым, мастерской, в которой Палыч преподает «оболтусам» и «балбесам» столярное и слесарное дело, через школьный сад, где растут невысокие яблоньки – китайки, покрывающиеся в конце лета гроздьями мелких и кислых яблочек, и колючими кустами барбариса и боярышника, дальше по тропинке вдоль высоченного забора, потом через двор двухэтажного кирпичного дома, где стоит трактор «Беларусь» без передних колес, вместо них подставленные березовые пеньки, потом по мостику через канавку, в которой стоит всегда зеленая вода, из которой торчат унылые засохшие камыши, еще чуть-чуть и вот она – казенная баня!
В небольшом коридорчике после скрипучей фанерной двери на табуретке стоит консервная банка, куда Палыч кидает несколько монеток, оплачивает вход. Далее идут мимо двери в распивочную, полуоткрытую, за которой видно помещение со стоящими в нем десятком столов – крытыми клееночкой с выцветшим рисунком фанерными столешницами на металлической ноге и ютящимися рядом с ними табуретками. Из распивочной тянет сладковато-кислым хлебно-хмелевым запахом. У противоположной от двери стенки распивочной – деревянная стойка, за которой стоит большая круглолицая женщина в белоснежном халате и кокошнике, с яркими-красными губами, чуть дернутыми улыбкой и открывающими ряд белых зубов с блестящим среди них золотым.
– Галя, привет! – гаркнул Палыч.
Галя задумчиво смотрела в газету, лежащую на стойке и лениво водила по ней карандашом, гадала кроссворд.
– Здорова, Палыч! – ответила она задорно, чуть повременив, дописывая слово. – Попариться?
– Да! Надо кости старые погреть.
– Старые. Скажешь тоже! – осклабилась золотым зубом Галя. А это кто такой? – зыркнула она на Егорку. – Внучок твой? Люськин что ли?
Егорка хмурится, что это значит – Люськин. Мама вовсе не Люська, а Людмила.
– Париться-то умеешь? – уже Егорку спросила Галя, не дождавшись палычева ответа.
– Умею! – бурчит Егорка.
– Ишь! Ух ты, серьезный какой. Ну, попаришься, приходи лимонад пить!
Егорка отмяк, заулыбался: лимонад – это дело.
– С пивом-то как сегодня? – Палычу лимонад не очень интересен.
– Привезли, привезли. Только бочку открыла. – Кивнула Галя на большую деревянную потемневшую бочку, стоящую рядом со стойкой. Из бочки торчит блестящий металлический кран. – Жигулевское, свеженькое. И в бутылках есть. Ну, ступайте! С «будущим»!
С «будущим» – это значит с будущим легким паром.
Егорка с Палычем протопали дальше по коридорчику и оказались в раздевалке, уставленной вдоль стен шкафчиками и лавками перед ними. Палыч пошел вдоль шкафчиков, открывая дверцы, отыскал свободный, поставил рядом с ним корзинку и кивнул Егорке: «Давай сюда!»
Быстро разделись и, чуть поеживаясь, нырнули в «отделение»– помещение, где мылись, и уж из которого дорожка пролегала в парную и «финскую».
Отделение было наполнено звоном холодных и горячих струй о цинковые шайки, плеском выливаемой на головы и пол воды, шлепанием босых ног по деревянным трапам, шорохом натираемых мылом мочалок. В густом молочным пару, застилающем «отделение» чуть ли не от пола до потолка, двигались голые, мокрые, скользкие, как налимы, тела. Они выниривали из тумана и вновь туда погружались с невнятным звуком говора и вскриками, которые растворялись и смешивались со всеми остальными звуками моечного отделения.
– Палыч! Здорова! – раскатисто грянуло из тумана.
– Николай Степаныч, привет! – отозвался Палыч в направлении, откуда раздался голос.
– Иди-ка сюда, старый черт, я тебе холку намылю!
– Пойдем, Егорка! – потрепал Палыч мальчишеские волосики. Там сядем.
Егорка семенит вслед за Палычем, видя перед собой его сутулую спину, и боясь потерять ее в тумане. Зачем туда поперлись? Есть же места поближе. И кричит оттуда так страшно, весь этот банный гул-звон перекричал, и угроза намылить Палычу холку прокатилась легким холодком по егркиной спине: а вдруг и Егорке холку намылят, а где она у него, эта холка? На голове что-ли или на животе?
В углу отделения на каменной скамейке сидит огромный человек. Его голова, насаженная на низкую шею, приросшую так крепко к покатым плечам, что кажется совсем не гибкой, плотной и твердой, как кусок дерева, и если этому огромному человеку надо посмотреть в сторону, то он поворачивает не голову на шее, а поворачивается всем туловищем, так вот, его голова походила на голову людоеда. У него был огромный, широкий рот с синеватыми губами из-под которых торчали железные блестящие зубы, широкий нос с бычьими ноздрями, из которых, как показалось Егорке, вырывался пар, широкое красное лицо и маленькие налитые кровью глаза. Голова, похожая на кочан капусты, была покрыта сверху клочковатой, редкой седой жесткой щетиной. На плечах и груди его тоже росла шерсть. Человек сидел так, что его нижняя часть от пояса и ниже была скрыта от Егорки тазом. Человек энергично двигал рукой, видимо натирал мочалку, лежащую у него на коленях, хозяйственным мылом, дегтярный запах которого вился вокруг.
Егорка присмотрелся, и ему показалось, что он увидел в человеке что-то настолько необычное, что даже сначала не понял, что. Посмотрел еще раз: вот голова – качан, вот тулово, покрытое шерстью, дальше– оцинкованный тазик, и из таза видна всего одна нога. Как? Такой большой человек и всего одна нога? Как же он ходит?
Человек закончил натирать мочалку мылом, шлепнул ею по животу, так, что вокруг полетели мелкие капли пены, глянул на Егорку и махнул ему своей лапищей:
– Ну, иди сюда, знакомиться будем!
Егорка нерешительно глянул на Палыча. Палыч улыбнулся и кивнул: иди, иди, не бойся, дядя не страшный.
Человек подхватил его под мышки и усадил в таз с водой:
– Ну и как нас звать, молодой человек. Сколько же тебе годков?
– Егорка. Мне шесть лет, – отчеканил Егорка заученную фразу.
– А я – Николай Степаныч, твоего деда друг, понятно?
Егорке было понятно слово «друг». У него был друг Вовка, с которым они копались в песочнице, ездили на самокатах, бегали в догонялки, качались на качелях. Он представил, как деда и Николай Степаныч сидят в песочнице с совочками и всхлипнул маленьким задорным смешком.
Степаныч тоже улыбнулся и плеснул в егоркино лицо водой из таза. Егорка почему-то вдруг почувствовал бесконечную теплоту и доверие к Степанычу, почти как к деду, и расхохотался уже в полный голос.
Вытирая кулачком капли с глаз, Егорка вдруг замер. Он увидел, что из туловища Степаныча росла одна нога. Вернее начиналось две. Но одна была нормальная, с узловатой коленкой и дальше с голенью с сеткой синих вен и покрытой волосами, утыкавшейся в разлапистую корявую ступню с загнутыми синеватыми когтями. А вот вторая только начинала расти и сразу обрывалась закругленным, ровным и даже блестящим концом, как острая вершина куриного яйца, обтянутая бледной кожей.
Егорка такое видел впервые и уставился на эту короткую ногу Степаныча, открыв рот. Потом спросил:
– Дядя Николай, а где ваша нога? Не выросла?
Степаныч усмехнулся и сказал с чуть заметной дрожью (эту дрожь Егорка потом много раз вспоминал):
– Потерял я ее... Оставил... На войне...
На войне? Егорка с Вовкой играли в войну, бегали друг за другом с деревянными пистолетами по двору и огороду. А еще война была по телевизору. Но там ничего подобного не показывали. А тут вдруг – и нет ноги, только обрубок, как сосиска...
Егорка вспомнил, как недавно поймал кузнечика и оторвал ему заднюю длинную ногу.
– Зачем ты ноги-то ему рвешь. Больно же. Больше не вырастет. Как кузнечик скакать будет? – Укоризненно качала тогда головой Никаноровна.
И вот сейчас, когда он смотрел на Степаныча, ему вдруг стало так стыдно, что он покраснел и отвернулся.
В «финскую» тогда сходили два раза, да в парилку с веником – один. Лето: не хотелось особо жариться.
Выходили из бани вместе. Егорка шел впереди, за ним Палыч и последним Николай Степаныч скакал на костыле с подвернутой пустой штаниной и в домашней тапке на босой ступне. Он был в расстегнутой рубахе, из-под которой пыхала жаром его грудь. Лицо Николая Степаныча из красного и распаренного стало розовым. С глаз схлынула кровь, и они засветились лучистым добрым и теплым светом.
– Галя! – заорал он, входя в распивочную. – Беги, догоню.
– Ой, да ну тебя! – хохотнула Галя за стойкой. – По две?
– Давай по две! – подтвердил Палыч.– А из лимонада что?
– Буратино.
– Две осилишь? – кивнул Палыч Егорке.
– Две. Скажешь тоже! Лимонада! Да хоть ящик! Егорка выразительно закивал, боясь, что Палыч не поверит.
Лимонад, перелитый из бутылки в пивную кружку, радовался свободе. Он поднимал из своей толщи вверх тысячи мельчайших пузырьков, которые, достигнув поверхности, выпрыгивали тоненькими стройными брызгами-искрами, и они, как цирковые гимнасты, взлетали с арены вверх, делали сальто, взрывались маленькими салютиками и изчезали в воздухе. Егорка склонился над кружкой и несколько искорок-гимнастов тут же заскочили ему в нос, в носу зажгло и глаза заслезились. Егорка пил лимонад медленно, стараясь распробовать каждый глоток, чувствуя, как он протекал внутрь, в живот и начинал там плескаться при каждом движении егоркиного тела.
Палыч и Степаныч пили первую кружку тягуче, не отрываясь, выразительно двигая кадыками. Закончили почти одновременно, поставили пустые кружки на стол, и одновременно крякнули, выдохнув хлебный запах. Посидели, помолчали.
– Ну, что, Коля, как здоровье? – спросил Палыч, немного подождав, когда пиво разольется по телу и угомонит первый жар.
– Да ничего, скриплю. Только вот к непогоде все сильнее ноет, – потер обрубок своей ноги Степаныч, – Ну давай, что ли, за легкий пар, да за здоровье.
Они подняли кружки.
– А ты чего? – подмигнул Степаныч Егорке. – Давай, с легким паром.
Егорка поднял вторую кружку лимонада, чокнулся ей с дедом и Степанычем и вдруг подумал, что никогда больше не будет отрывать кузнечикам ноги.
Домой шли неспеша. Уже вечерело, было прохладно. Палыч шел, сутулясь и шаркая ногами. Смотрел себе под ноги, курил, а потом вдруг сказал:
– Мы ведь, Егорка, со Степанычем воевали вместе, на плащ-палаточке я его и вытягивал тогда, а тут и меня...
– Что тебя, деда? – спросил Егорка, заглядывая Палычу в глаза, которые вдруг заблестели влажностью.
– Попозже расскажу, когда чуть повзрослеешь.
Егорка смотрел на яблони школьного сада. Назавтра они с Володькой, – другом – и соседскими мальчишками, хотели поиграть в войну, побегать между деревьями, популять друг в друга.
«Не пойду, наверное!» – подумал Егорка, остановившись и еще раз посмотрев на яблони. Слово «война» для него вдруг стало другим. Не весело-озорным, с беготней и озорством, а каким-то страшным и тяжелым. Он вдруг представил, как кто-то огромный и безжалостный хватает его за ногу и, не обращая внимания на егоркины крики, отрывает ее и выбрасывает в канаву.
Егорка зажмурился от ужаса, помотал головой и припустился догонять Палыча.
– Деда, а войны не будет? – спросил он Палыча дрогнувшим голосом.
– Не будет, Егорка, не будет. Ты не позволишь, – проговорил Палыч.– Вот и домик наш. Никаноровна, встречай!
– С легким паром!
Сырое мясо
Зимой каждую неделю лепили пельмени. По пятницам. Папка Алексей рубил топором в холодной кладовке стылую свиную тушу, потом огромным и страшным ножом из автомобильной рессоры кромсал куски на прямоугольные розовые пластины с рисунком волокон на срезе и ломтиком белоснежного сала с одного краю. Нарезал, сложил все в большую алюминиевую кастрюлю, достал из шкафчика под буфетом мясорубку, прикрутил ее струбцинкой к краю стола и стал левой рукой кидать в раструб куски мяса, а правой с усилием крутить рукоятку. Егорка сидел рядом с кухонным столом на табуретке и завороженно наблюдал, как из отверстий мясорубки выползают бело-розовые червячки фарша и падают в эмалированный желтый таз со сколом на ободке, в котором светился синеватый металл. Папка Алексей крутит, червячки ползут, Егорка смотрит на них завороженно и боится, как бы папка Алексей не закрутил в мясорубку свои пальцы.
Пришли Никаноровна с Егоркиной мамой. Никаноровна стала замешивать тесто на большой, затертой фанерке, а мама принесла несколько луковиц и начала их чистить. Все немного «всплакнули» и зашвыркали носами.
Егорка вскочил с табуретки и побежал от лукового запаха к окну смотреть на улицу.
На зимнее окно Егорка мог смотреть бесконечно. Прелесть этой красоты он открыл для себя года в три, когда впервые смог забраться на стул и разглядеть морозную узорчатость зимнего окна, волшебные дорожки, чащобы, дворцы, причудливые вихри снежинок, закрученные студеным ветром, и зимнюю сказку, где коварные злодеи умыкнули в чащобу Снегурочку-красавицу, и где ее спасает добрый молодец. Добрый молодец, конечно же, Егорка. На злодеев можно подышать, и они растают, изчезнут, открывая хрустальное прозрачное стекло, через которое виден забор, собравший пушистый снег на вертикальных перекладинах и мягкие белые шапочки на вершинах реек, видны зябко торчащие из сугроба стволы двух вишен в палисаднике, и дальше, за забором, на насыпной дамбе лежит дорога. Летом она покрыта потрескавшимся асфальтом, а зимой – укатанной коркой снега со льдом, белая и блестяшая, как молочное зеркало. Изредка по дороге проскакивает машина, «Запорожец» или «Москвич», реже «Жигули», повиливая по льду задом, или пыхтит трактор «Беларусь», похрустывая по дорожной корке елочкой протектора своих огромных задних колес.
Когда накануне бывает снегопад, то по дороге проносится огромный бело-зеленый грейдер и прилаженным впереди ножом сгребает снег на обочину. Снег летит клубящейся белой толщей и оседает между насыпью дороги и забором пушистой мягкой периной, в которой очень весело потом барахтаться.
У Егорки в кармане монетка – пятачок. Егорка взбирается на стул, достает монетку, дышит на нее, согревает и прикладывает к заиндевевшему стеклу. Пятачок прилипает, Егорка сковыривает его ногтем и смотрит через образовавшееся круглое отверстие в узорчатом покрытии окна из мира избы в зимний мир улицы. Смотрит Егорка, старательно сощурив левый глаз и касаясь кончиком носа холодного стекла: вот пробежал соседский пес по кличке Каравай. Сосед, дядя Миша, так назвал. Настоящий хлебный каравай круглый и хрустящий, а соседский пес вытянутый, приземистый бело-рыжий, на кривых коротких крепких лапах с закрученным калачом хвоста, ну какой же каравай? А вот, Каравай. Каравай промчался слева направо, потом справа налево, остановился, подняв переднюю лапу, пошевелил ухом и кинулся через сугробы в школьный сад. Кого он там увидел? Ай, да все равно! Кошку, наверное, или другого пса.
На ветку вишни сел снегирь – голова, крылья и хвост черные, грудь красная, гордо надутая. Посидел, покрутил головой, заглянул бусинкой глаза в круглое отверстие, через которое глядел на него Егорка. Еще покрутил головой, снова глянул на Егорку: что глазеешь? И вспорхнул, осыпав с ветки невесомый снежный пух, который медленно стал оседать к земле.
Егорке надоело смотреть на улицу, он соскочил со стула и пошел в комнату, где стоял большой обеденный стол, который накрывали по праздникам, на входе в комнату после белых двустворчатых дверей – большой платяной шкаф, и сразу за шкафом – диван. На боковой стенке шкафа, прикрытый кусочком марли, висел китель Палыча.
Егорка отодвигает марлю и смотрит. Вот погоны, на которых четыре звезды. Егорка уже знает, что Палыч – ка-пи-тан. Вот только почему капитан? Капитан – это же командир корабля. Капитан Врунгель, например. А Палыч же не моряк, и бескозырки у него нет. Надо бы спросить. Егорка рассматривает дальше.
Вот с левой стороны висят медали. Их много, больше десятка, они и белые и желтые, подвешены на планки, обтянутые ленточкой. Егорка провел по медалям рукой, и они чуть слышно звякнули. На медалях – звезды, буквы, которые бы надо прочитать, да пока лень.
С правой стороны кителя – Егорка уже знает – ордена. Их два. Ордена – серьезнее медалей, суровее и главнее. Они, как звезды, с перекрещенными саблей и винтовкой, а в середине – белый ободок, в ободке – золотые серп и молот.
«О-те-чествен-ная вой-на» – читает Егорка по складам. Слово «война» он знает, а вот отечественная – это какая? На которой отцы воевали? Так орден у деда, у папки Алексея орденов нет. Тоже надо спросить.
Егорка помнит, как дед в этом кителе, в брюках с лампасами, которые сейчас висят в шкафу и в фуражке с кокардой ходил в прошлом году на парад. Парад был у новой школы, в саду, где стоял памятник. Памятник – это белый каменный грустный солдат с автоматом. На параде сначала много говорили, потом маршировали школьники из дедовой школы, а потом все пошли класть к памятнику цветы. И Палыч с Никаноровной пошли, и Егорка с ними. Кроме Палыча было еще много людей с орденами и медалями. Палыч положил цветы на каменный белый приступок памятника. Потер глаз пальцем и что-то прошептал, а что, Егорка не расслышал, а только видел, как Никаноровна погладила Палыча по руке и посмотрела на него как-то серьезно, чуть нахмурясь. Егорка никогда раньше такого взгляда не видел, обычно Никаноровна Палычем не довольна, все время на него ворчит, а тут вроде как и жалеет.
Посмотрел Егорка на китель, прикрыл снова марлей и, соскочив с дивана, помчался на кухню.
Вокруг стола уже все – мама, папка Алексей, Никаноровна и Палыч. Все лепят пельмени, только Никаноровна еще встает и раскатывает скалкой белый блин из теста, а потом вырезает из него стаканом аккуратные кружочки и складывает их в стопку. У мамы пельмени получаются маленькие аккуратные и кругленькие, у папки Алексея приплюснутые и широкие, да еще из некоторых торчит сквозь швы мясо. А Палыч лепит основательно – не маленькие и не большие, тесто не натянуто, фарш кладет аккуратным шариком, который получается оттого, что Палыч цепляет его чайной ложкой, а края – спаянные, и пельмешек заворачивается тугой и крепкий, как молодой грибочек.
Сидели, лепили молча, Егорка примостился рядом и глядел на руки, покрытые мукой, и таз с бесконечным мясным фаршем.
– Ставь-ка, Никаноровна, кастрюлю на огонь! Этот протвешок сварим, ужинать пора, да и рюмку выпить бы не грех! – говорит Палыч, не переставая ваять пельмень.
– Все тебе не грех! – отзывается Никаноровна. – Праздник-то какой нынче?
– А день прожили, и уже праздник. Да хоть за Алексея выпьем!
Никаноровна бурчит, пинает кота, который крутится под ногами: – У, леший, и тебе мяса. Мышей лови! И достает большую кастрюлю, в которой варят пельмени, набирает воды из крана, который спрятался за печкой, и ставит на газовую плитку.
Егорке скучно, пельмени он лепить пока не умеет. Есть их любит, но это еще не скоро.
Пойти, что ли, еще на ордена посмотреть?
– Егорка, ерепеса! – вдруг слышит он голос Палыча.– Ну-ка подай хлеба!
Егорка идет к подоконнику, куда на время готовки переставили большую глиняную тарелку, покрытую цветастым полотенцем, поднимает полотенце, берет кусок белого хлеба и несет Палычу. Что это деда, проголодался?
Палыч берет хлеб, солит его и вдруг толсто накладывает на него сырой фарш, размазывает по всей поверхности и закрыв глаза с наслаждением откусывает. Жует, не открывая глаз, и урчит, как кот.
Егорка глаза выпучил. Обычно же сварить надо, как в пельменях, ну или в супе фрикадельками или котлетки пожарить, а тут сырой!
Палыч еще раз откусывает, смотрит на Егорку и кивает: Хочешь поробовать?
Егорка испуганно косится на маму.
– Пап, ну зачем ребенку-то? Пельмени скоро сварятся! А вдруг вредно ему сырое?
Маме не нравится дедова идея.
– Да что вредно-то! Эх, поел я его, сырого-то. Досыта погрыз мерзлого, – говорит как-то в сторону Палыч.– Ну, не хочешь, как хочешь!
Он доел свой хлеб с сырым фаршем и вдруг повеселел:
– Никаноровна, подавай пельмени, и давай уж по рюмке выпьем.
Пельмени всегда ели из одной большой тарелки, цепляли вилками каждый со своей стороны и мочили: Палыч и папка Алексей – в уксусную воду, Никаноровна – в сметану, мама и Егорка – в молоко. Егорка жевал вкусное и теплое после купания в молоке ядрышко пельменя и все думал: «А где же Палыч сырого мяса досыта наелся?»
Когда уже все разошлись он спросил Никаноровну, которая прибирала со стола:
– Бабушка, а где деда сырое мясо ел?
Никаноровна вытерла руки о фартук, присела на табуретку, Егорка вскарабкался к ней на колени и прижался к ней спиной. Никаноровна одной рукой обняла его за животик, а другой погладила по голове и говорила:
– Выходил Палыч из окружения под Старой Руссой, точнее выносили его, раненного, рука на коже болталась. Костры нельза было зажигать, так вот они мерзлых лошадей и ели. Еле живого вытащили.
Потом вдруг встрепенулась: Что это я ребенку рассказываю? Ссадила Егорку с колен, встала сама:
– Поди спать, Егорушка, поздно уже!
Кутаясь в жаркое одеяло и засыпая, Егорка все видел и видел, как Палыч ест сырое мясо и урчит, как кот.
Осень
Егор после школы любил вздремнуть. Такая вот привычка. Придет домой из школы, пообедает, уйдет в свою комнату и завалится поверх покрывала на постель. Спал не долго, но крепко.
Сентябрь в этом году был сухим и солнечным. Вот как хорошо! Через неделю день рождения, двенадцать исполняется! Можно будет и погулять. Когда одиннадцать исполнялось, дождь шел как из ведра. Многие, кого звал, не пришли. Были только Вовка-друг, да еще пара одноклассников, длинный Серега и Игрек. Попили чая с тортом, поели позднего арбуза и разошлись.
В этом году надо подумать, кого позвать. Ольку хотелось бы, да вдруг пацаны смеяться будут? И пойдет ли она, она ведь старше на год?
Ладно, неделя еще, придумаем. Только вот угощать чем? Папка Алексей готовить не умеет. Он, если только суп сварить и картошку пожарить. А матери нет, уехала к деду с бабкой. Точнее к бабке, Палыч в больнице. Давно уже.
Палыч заболел два года назад. Егору тогда было 10 лет и его уже совершенно самостоятельно отправили к Палычу с Никаноровной. Одного. Палыч тогда еще больше ссутулился и шаркал калошами, когда ходил по двору. Пчел забросил, семьи пчелиные поел клещ, а осиротевщие ульи затянуло крапивой.
Никаноровна как-то осторожно смотрела на него и старалась поменьше ворчать. Зато Палыч был раздражительным, и даже с Егором не улыбался, как всегда.
Однажды ночью Егор проснулся, чтобы сходить «по-маленькому» и вдруг услышал, как Палыч, ворча перебирается к краю кровати в своей комнате. Было слышно хорошо: в деревенском доме не стены, а заборки из доски-двадцатки.
– Куда ты, Палыч? – сонно простонала Никаноровна.
– Куда, куда. Подыхать! – зло отозвался Палыч.
Егор замер в испуге. Палыч говорил так, как будто это действительно сейчас случится. Зло и обреченно.
– Что ты, Палыч? – встрепенулась Никаноровна. – Заболело что? Скажи, что болит.
Она говорила так, как говорят ребенку, который только что с разбегу упал и ободрал коленку, говорила с болью и жалостью.
– Да ноги что-то заломило, – смягчился Палыч. – Спи, сейчас пройдет.
Егор проворочался тогда до утра, ему было страшно.
На следующее утро задребезжал телефон.
Подошел Палыч.
– Да, он самый. Да, понял. Хорошо. Да, в четверг буду, – сосредоточенно втыкал он в телефонную трубку слова.
Послышалось, как зазвучали короткие гудки.
Палыч постоял, повертел трубку в руках, клацнул ее на аппарат, рассеянно взглянул на Егора, который сидел на диванчике с книжкой, подобрался вдруг, напружинился и закричал:
– Никаноровна, собирай в дорогу! В четверг на операцию кладут. Поеду в область...
Никаноровна засуетилась, вытащила старый чемоданчик, обтянутый желтым дермантином с металлическими накладками на углах. Егор помнил этот чемодан. Ему особо нравилось оттягивать собачку замка и смотреть, как выстреливал подпружиненный язычок.
– Что собирать-то, Палыч? – растерянно спосила она.
– Смотри сама, тебе виднее, трусы, носки, майки, тапки. Что там еще в больнице надо. Пойду я пока покурю.
– Не курил бы ты, Палыч, – всхлипнула Никаноровна, – от них ведь все это, от сигарет твоих проклятых.
– Ладно, не стони! – огрызнулся Палыч, скрипнул дверью и вышел.
Никаноровна постояла в растерянности, огляделась вокруг, увидела Егора и скомандовала:
– Матери позвони, пусть приезжает, поможет по хозяйству. Надолго Палыч.
Палыч вернулся почти через два месяца, в августе. Он приехал веселым, улыбчивым, как-то слишком много и шумно шутил, подтрунивал над Никаноровной, раскопал в чулане и подарил Егору, к великой его радости, кучу фотобумаги и фотохимии, фиксажей и проявителей, фотоувеличитель, бачок для проявки пленки, и красный фонарь:
– Держи, пионер, занимайся!
Егор только-только начал заниматься в фотокружке, и все подаренное Палычем было просто сокровищем.
Палыч рассказывал больничные байки и случаи из операционной. Егор запомнил один, как на операционном столе у пациента рассыпалось легкое.
– На соседней койке лежал, – подытожил Палыч так буднично, как будто рассказывал, как кому-то удалили зуб.
Однажды Палыч вышел из своей комнаты без рубашки и Егорка увидел на его туловище, обтянутом пергаментной кожей, с пучком седых волос на грудине, толстый красноватый шрам, в обрамлении точек – скобочек швов, тянувшийся от груди, нырявший на бок под мышку и заканчивающийся около лопатки.
– Деда, а что это? – спросил Егорка, указывая на такое явное подтверждение того, что палычево туловище вскрывали.
– Ну что-что, – вздохнул Палыч. – Резали меня, оперировали. Одно легкое и отрезали.
– Как так? – еще больше удивился Егор.
– А вот так – у тебя два, а у меня одно, – ответил Палыч и вдруг хохотнул так, как много лет назад, как тогда, когда Егор только-только осознал себя, начал помнить свою жизнь. – Хо-хо, ерепеса!
Егору даже на миг показалось, что сейчас Палыч подхватит его и подкинет вверх. Он даже слегка отшатнулся: тяжеловат он уже, вдруг Палыч надорвется, с одним-то легким.
В конце августа Егор уехал. Школа.
А на следующее лето его к бабке с дедом уже не отправляли, и через год, вот этим летом, которое только закончилось, тоже. Мать уехала в июле и пока не возвращалась, Палыч жил в больнице, мать с ним. Звонила, говорила, что все налаживается и она скоро вернется. Папка Алексей пользовался свободой, и раз или два в неделю выпивал. К Егору он особо с воспитанием не лез, знал, что парень самостоятельный и без контроля не распустится. Они вообще в последнее время стали мало разговаривать друг с другом. Отец читал бесконечные книги, а Егору было с друзьями интереснее, или музыку в наушниках слушать. О чем с отцом-то говорить? Тем более, что и отец особо ничего не спрашивал.
Ну вот и сейчас, когда Егор размышлял, как отметить день рождения, он услышал, как в дом зашел отец, разулся, повесил на вешалку куртку и хлопнул дверью в свою комнату.
Егорка растянулся на кровати, пришла пора вздремнуть. Сквозь сон он услышал, как зазвонил телефон, и как отец что-то глухо отвечал.
Заснул снова и через какое-то время почувствовал, что кто-то трясет его за плечо.
Он сел на кровати в полусне и увидел перед собой лицо отца, еще не четко, сквозь полузакрытые в дреме глаза. Уставился на это лицо застывшим взглядом и, еще не придя полностью в себя, тупо смотрел на двигающиеся отцовы усы, когда-то черные, а сейчас порыжевшие от табака и с несколькими седыми волосками:
-...лыч ...мер! – как будто откуда-то издалека услышал Егор глухой голос отца.
– Что? – нахмурился он недовольно, уже окончательно оставленный сном.
– Палыч. Умер...– выдохнул папка Алексей, погладил Егора по голове и вышел, ссутуля спину и шаркая по полу тапками. Егор уставился в стену, на завиток рисунка желтеньких обоев. Он видел этот завиток тысячи раз, а сейчас смотрел на него, как-будто впервые увидел.
В голове был тупой монотонный и приглушенный шум, как гул ветра в печной трубе зимой.
Палыч умер.
Егор не мог это осознать, представить себе, не мог заставить себя загрустить и заплакать. Он сидел и слушал гул в голове, сидел и слушал, и смотрел на такой незнакомый завиток рисунка на обоях и вдруг услышал голос Палыча, прозвучавший сквозь сенокосную июльскую жару:
– Все там будем!
Журавлик
– Егор Алексееевич, здравствуйте! А вы где? – в телефонной трубке зазвенел голос ассистента Марины. – Комитет собрался, вас ждут все. Вы задерживаетесь? На сколько?
– Скоро, – буркнул Егор, достал сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой и затянулся. Хорошо. Две недели держался, но вот снова закурил. А, да черт с ним!
Нужно бы окно в машине открыть, провоняет все, жена ругаться начнет – обещал ведь бросить. Стекло полностью опускать не стал, сделал маленькую щелочку, сквозь которую на коленку мнгновенно начала капать вода, собирающаяся на крыше автомобиля и по каким-то самым античеловечным законам физики и гравитации затекающая в щель приоткрытого окна и падающая вниз прямо на джинсы. Нет бы катилась по крыше дальше.
Егор поднял стекло.
Пусть ворчит!
Надо бы, конечно, идти, коллеги ждут его презентации. Но с другой стороны, что эта презентация изменит в жизни Егора, в жизни каждого из них. Будут сидеть со скучным видом, поглядывать на часы, копаться в телефонах, зададут пару совершенно ненужных вопросов, а как же, корпоративная культура предписывает проявить интерес к докладу коллеги, начальник вставит свои «пять копеек», пожурит за пару незначительных ошибок и все разбегутся, как тараканы по своим щелям: кто домой, кто в кабак, кто по магазинам. Ура, формальности соблюдены, вечер пятницы наступил, до понедельника не тронь меня!
На хрена все эти реверансы! Разослал бы всем по электронке. Кому это действительно необходимо, позвонят для уточнения и все, не нужно мариновать пятнадцать человек в офисе в пятницу.
Егор приоткрыл окно и выкинул окурок, тронул рычаг, дворники изобразили на лобовухе полукруг. Стоянка была полупустая, народ уже начал разъезжаться. Скоро Москва встанет в пробках, нужно успеть проскочить.
Телефон снова забился в конвульсиях.
– Егор, ты где? – зарокотал в трубке голос шефа.– Ты факапишь все дедлайны!
– Скоро буду, колесо пробил, заезжал в шиномонтажку, – соврал Егор.– Буду минут через двадцать.
– Ждем! – отрезал босс и положил трубку.
«Жди!» – подумал Егор и вытащил еще одну сигарету.
Мыслей никаких не было. Осенняя морось застилала стекло, покрывала его миллионом маленьких линз, через которые причудливым образом искажалась реальность улицы, предметы становились нечеткими и какими-то раскисшими, как из намокшей газетной бумаги. Постепенно стекло покрылось таким слоем капель, что почти ничего нельзя было увидеть снаружи, к тому же салон автомобиля наполнился синеватым табачным дымом. Егор сидел внутри, как в коконе.
Прошло минут пять. Егор достал телефон, открыл галерею и стал листать ленту фотографий. Остановился на фотке двух улыбающихся детских мордашек, мальчика и девочки.
«Деточки. Редко я вас вижу и вы меня. Я уезжаю, – вы еще спите, возвращаюсь – уже спите. Не замечу, как вырастите»…
Крутанул еще – полетели рабочие фотографии, которые заполонили почти всю галерею, надо бы поудалять. Стоп. Фотография двухлетней давности: синяя оградка, серая плита из бетона, в левом углу которой – овальная выпуклая керамическая накладочка. С накладочки смотрит куда-то вдаль, нет, не старик – аксакал, с зачесанной назад седой шевелюрой, впалыми щеками, железными скулами и самое главное – острым, проникающим орлиным взглядом. Аксакал одет в китель, который маленький Егорка разглядывал, отодвинув марлечку.
Егор взглянул на дату, светившуюся в углу экрана, да, он не ошибся. Да, сегодня. Сегодня папка Алексей тряс его сонного за плечо, сегодня, сквозь расплывающийся сон, Егор не с первого раза услышал, что говорил отец.
Егор достал третью сигарету, перегнулся через спинку и потянул к себе кожаный мягкий кейс. Открыл его и вынул белый лист бумаги формата А4.
– Смотри, ерепеса! – сказал Палыч, вертя листок бумаги в руке.– Вот так сгибаешь по диагонали и отрываешь лишнее – получился квадрат. Дальше еще раз по диагонали, потом складываешь пополам, потом в другую сторону пополам.
Егорка следил, чтобы, не дай Бог, не пропустить ни одного движения дедовых рук. Листок бумаги покрывался причудливой последовательностью сгибов.
– А сейчас складываешь вот так, потом перегибаешь, и еще вот так. Сейчас сдесь отогнем и… что получилось? – Палыч смотрел на Егорку хитреньким и веселым своим взглядом.
– Птичка!
– Ага, журавлик, да не простой. Смотри! – Палыч потянул птичку за хвост и она махнула крыльями, потянул еще несколько раз и птичка затрепетала – сейчас полетит.
Егорка от восторга зажмурился! Крыльями машет! А ведь он все сгибы запомнил, все до одного!
Егор подергал журавлика за хвост. Все нормально, птичка махала крыльями.
Телефон задергался снова. Егор глянул на экран и нажал красную телефонную трубку. Затянулся сигаретой и поставил журавлика на автомобильную панель, включил на телефоне камеру и сделал снимок.
Дождь снаружи прекратился и через пару секунд капли на лобовом стекле заблестели, переливаясь радугой. Вышло солнце.
Егор открыл свой аккаунт в Инстаграмме, выложил фотографию журавлика и написал комментарий: «Таких журавликов научил меня делать мой дед, Палыч. Я про него почти ничего не знаю. Нет, конечно же я помню его сутулую фигуру, шевелюру с серебром седины и хриплый смех. Когда я шалил, он называл меня «ерепеса». Еще помню, как мы ловили окуней, косили траву, пили квас с толокном. Помню, что однажды летом дед ввалился к нам с брезентовым рюкзаком и подарил мне мой первый фотоаппарат. Он тогда никого не предупредил о своем приезде, его никто не ждал. Помню, как мы ходили в школьный тир стрелять из мелкашки, как Палыч, мой отец и мой дядька рубили топорами бревна на сруб, а вечером пили водку. Как бабка на них ругалась. Помню, как дед на печи «топил сало», хотя был худым и жилистым, как полено. Помню, как он ходил за пчелами и стриг овец. Помню, как стоял на крыльце, смотрел на закат и курил.
Палыч был сначала солдатом, но про войну никогда не рассказывал, а потом учителем труда и военного дела, самых нужных для мужика умений. И журавлика этого он мне показал на верстаке в мастерской.
Палыча не стало, когда мне было 12 лет. Тридцать лет назад. Давно Палыча нет, а вот журавлик остался. Я его своим детям сейчас делаю. Такие дела»…
Егор сунул телефон в карман, и вырулил со стоянки на дорогу.
«К детям! Успею еще!» – подумал он и прибавил скорости.
Зимой каждую неделю лепили пельмени. По пятницам. Папка Алексей рубил топором в холодной кладовке стылую свиную тушу, потом огромным и страшным ножом из автомобильной рессоры кромсал куски на прямоугольные розовые пластины с рисунком волокон на срезе и ломтиком белоснежного сала с одного краю. Нарезал, сложил все в большую алюминиевую кастрюлю, достал из шкафчика под буфетом мясорубку, прикрутил ее струбцинкой к краю стола и стал левой рукой кидать в раструб куски мяса, а правой с усилием крутить рукоятку. Егорка сидел рядом с кухонным столом на табуретке и завороженно наблюдал, как из отверстий мясорубки выползают бело-розовые червячки фарша и падают в эмалированный желтый таз со сколом на ободке, в котором светился синеватый металл. Папка Алексей крутит, червячки ползут, Егорка смотрит на них завороженно и боится, как бы папка Алексей не закрутил в мясорубку свои пальцы.
Пришли Никаноровна с Егоркиной мамой. Никаноровна стала замешивать тесто на большой, затертой фанерке, а мама принесла несколько луковиц и начала их чистить. Все немного «всплакнули» и зашвыркали носами.
Егорка вскочил с табуретки и побежал от лукового запаха к окну смотреть на улицу.
На зимнее окно Егорка мог смотреть бесконечно. Прелесть этой красоты он открыл для себя года в три, когда впервые смог забраться на стул и разглядеть морозную узорчатость зимнего окна, волшебные дорожки, чащобы, дворцы, причудливые вихри снежинок, закрученные студеным ветром, и зимнюю сказку, где коварные злодеи умыкнули в чащобу Снегурочку-красавицу, и где ее спасает добрый молодец. Добрый молодец, конечно же, Егорка. На злодеев можно подышать, и они растают, изчезнут, открывая хрустальное прозрачное стекло, через которое виден забор, собравший пушистый снег на вертикальных перекладинах и мягкие белые шапочки на вершинах реек, видны зябко торчащие из сугроба стволы двух вишен в палисаднике, и дальше, за забором, на насыпной дамбе лежит дорога. Летом она покрыта потрескавшимся асфальтом, а зимой – укатанной коркой снега со льдом, белая и блестяшая, как молочное зеркало. Изредка по дороге проскакивает машина, «Запорожец» или «Москвич», реже «Жигули», повиливая по льду задом, или пыхтит трактор «Беларусь», похрустывая по дорожной корке елочкой протектора своих огромных задних колес.
Когда накануне бывает снегопад, то по дороге проносится огромный бело-зеленый грейдер и прилаженным впереди ножом сгребает снег на обочину. Снег летит клубящейся белой толщей и оседает между насыпью дороги и забором пушистой мягкой периной, в которой очень весело потом барахтаться.
У Егорки в кармане монетка – пятачок. Егорка взбирается на стул, достает монетку, дышит на нее, согревает и прикладывает к заиндевевшему стеклу. Пятачок прилипает, Егорка сковыривает его ногтем и смотрит через образовавшееся круглое отверстие в узорчатом покрытии окна из мира избы в зимний мир улицы. Смотрит Егорка, старательно сощурив левый глаз и касаясь кончиком носа холодного стекла: вот пробежал соседский пес по кличке Каравай. Сосед, дядя Миша, так назвал. Настоящий хлебный каравай круглый и хрустящий, а соседский пес вытянутый, приземистый бело-рыжий, на кривых коротких крепких лапах с закрученным калачом хвоста, ну какой же каравай? А вот, Каравай. Каравай промчался слева направо, потом справа налево, остановился, подняв переднюю лапу, пошевелил ухом и кинулся через сугробы в школьный сад. Кого он там увидел? Ай, да все равно! Кошку, наверное, или другого пса.
На ветку вишни сел снегирь – голова, крылья и хвост черные, грудь красная, гордо надутая. Посидел, покрутил головой, заглянул бусинкой глаза в круглое отверстие, через которое глядел на него Егорка. Еще покрутил головой, снова глянул на Егорку: что глазеешь? И вспорхнул, осыпав с ветки невесомый снежный пух, который медленно стал оседать к земле.
Егорке надоело смотреть на улицу, он соскочил со стула и пошел в комнату, где стоял большой обеденный стол, который накрывали по праздникам, на входе в комнату после белых двустворчатых дверей – большой платяной шкаф, и сразу за шкафом – диван. На боковой стенке шкафа, прикрытый кусочком марли, висел китель Палыча.
Егорка отодвигает марлю и смотрит. Вот погоны, на которых четыре звезды. Егорка уже знает, что Палыч – ка-пи-тан. Вот только почему капитан? Капитан – это же командир корабля. Капитан Врунгель, например. А Палыч же не моряк, и бескозырки у него нет. Надо бы спросить. Егорка рассматривает дальше.
Вот с левой стороны висят медали. Их много, больше десятка, они и белые и желтые, подвешены на планки, обтянутые ленточкой. Егорка провел по медалям рукой, и они чуть слышно звякнули. На медалях – звезды, буквы, которые бы надо прочитать, да пока лень.
С правой стороны кителя – Егорка уже знает – ордена. Их два. Ордена – серьезнее медалей, суровее и главнее. Они, как звезды, с перекрещенными саблей и винтовкой, а в середине – белый ободок, в ободке – золотые серп и молот.
«О-те-чествен-ная вой-на» – читает Егорка по складам. Слово «война» он знает, а вот отечественная – это какая? На которой отцы воевали? Так орден у деда, у папки Алексея орденов нет. Тоже надо спросить.
Егорка помнит, как дед в этом кителе, в брюках с лампасами, которые сейчас висят в шкафу и в фуражке с кокардой ходил в прошлом году на парад. Парад был у новой школы, в саду, где стоял памятник. Памятник – это белый каменный грустный солдат с автоматом. На параде сначала много говорили, потом маршировали школьники из дедовой школы, а потом все пошли класть к памятнику цветы. И Палыч с Никаноровной пошли, и Егорка с ними. Кроме Палыча было еще много людей с орденами и медалями. Палыч положил цветы на каменный белый приступок памятника. Потер глаз пальцем и что-то прошептал, а что, Егорка не расслышал, а только видел, как Никаноровна погладила Палыча по руке и посмотрела на него как-то серьезно, чуть нахмурясь. Егорка никогда раньше такого взгляда не видел, обычно Никаноровна Палычем не довольна, все время на него ворчит, а тут вроде как и жалеет.
Посмотрел Егорка на китель, прикрыл снова марлей и, соскочив с дивана, помчался на кухню.
Вокруг стола уже все – мама, папка Алексей, Никаноровна и Палыч. Все лепят пельмени, только Никаноровна еще встает и раскатывает скалкой белый блин из теста, а потом вырезает из него стаканом аккуратные кружочки и складывает их в стопку. У мамы пельмени получаются маленькие аккуратные и кругленькие, у папки Алексея приплюснутые и широкие, да еще из некоторых торчит сквозь швы мясо. А Палыч лепит основательно – не маленькие и не большие, тесто не натянуто, фарш кладет аккуратным шариком, который получается оттого, что Палыч цепляет его чайной ложкой, а края – спаянные, и пельмешек заворачивается тугой и крепкий, как молодой грибочек.
Сидели, лепили молча, Егорка примостился рядом и глядел на руки, покрытые мукой, и таз с бесконечным мясным фаршем.
– Ставь-ка, Никаноровна, кастрюлю на огонь! Этот протвешок сварим, ужинать пора, да и рюмку выпить бы не грех! – говорит Палыч, не переставая ваять пельмень.
– Все тебе не грех! – отзывается Никаноровна. – Праздник-то какой нынче?
– А день прожили, и уже праздник. Да хоть за Алексея выпьем!
Никаноровна бурчит, пинает кота, который крутится под ногами: – У, леший, и тебе мяса. Мышей лови! И достает большую кастрюлю, в которой варят пельмени, набирает воды из крана, который спрятался за печкой, и ставит на газовую плитку.
Егорке скучно, пельмени он лепить пока не умеет. Есть их любит, но это еще не скоро.
Пойти, что ли, еще на ордена посмотреть?
– Егорка, ерепеса! – вдруг слышит он голос Палыча.– Ну-ка подай хлеба!
Егорка идет к подоконнику, куда на время готовки переставили большую глиняную тарелку, покрытую цветастым полотенцем, поднимает полотенце, берет кусок белого хлеба и несет Палычу. Что это деда, проголодался?
Палыч берет хлеб, солит его и вдруг толсто накладывает на него сырой фарш, размазывает по всей поверхности и закрыв глаза с наслаждением откусывает. Жует, не открывая глаз, и урчит, как кот.
Егорка глаза выпучил. Обычно же сварить надо, как в пельменях, ну или в супе фрикадельками или котлетки пожарить, а тут сырой!
Палыч еще раз откусывает, смотрит на Егорку и кивает: Хочешь поробовать?
Егорка испуганно косится на маму.
– Пап, ну зачем ребенку-то? Пельмени скоро сварятся! А вдруг вредно ему сырое?
Маме не нравится дедова идея.
– Да что вредно-то! Эх, поел я его, сырого-то. Досыта погрыз мерзлого, – говорит как-то в сторону Палыч.– Ну, не хочешь, как хочешь!
Он доел свой хлеб с сырым фаршем и вдруг повеселел:
– Никаноровна, подавай пельмени, и давай уж по рюмке выпьем.
Пельмени всегда ели из одной большой тарелки, цепляли вилками каждый со своей стороны и мочили: Палыч и папка Алексей – в уксусную воду, Никаноровна – в сметану, мама и Егорка – в молоко. Егорка жевал вкусное и теплое после купания в молоке ядрышко пельменя и все думал: «А где же Палыч сырого мяса досыта наелся?»
Когда уже все разошлись он спросил Никаноровну, которая прибирала со стола:
– Бабушка, а где деда сырое мясо ел?
Никаноровна вытерла руки о фартук, присела на табуретку, Егорка вскарабкался к ней на колени и прижался к ней спиной. Никаноровна одной рукой обняла его за животик, а другой погладила по голове и говорила:
– Выходил Палыч из окружения под Старой Руссой, точнее выносили его, раненного, рука на коже болталась. Костры нельза было зажигать, так вот они мерзлых лошадей и ели. Еле живого вытащили.
Потом вдруг встрепенулась: Что это я ребенку рассказываю? Ссадила Егорку с колен, встала сама:
– Поди спать, Егорушка, поздно уже!
Кутаясь в жаркое одеяло и засыпая, Егорка все видел и видел, как Палыч ест сырое мясо и урчит, как кот.
Осень
Егор после школы любил вздремнуть. Такая вот привычка. Придет домой из школы, пообедает, уйдет в свою комнату и завалится поверх покрывала на постель. Спал не долго, но крепко.
Сентябрь в этом году был сухим и солнечным. Вот как хорошо! Через неделю день рождения, двенадцать исполняется! Можно будет и погулять. Когда одиннадцать исполнялось, дождь шел как из ведра. Многие, кого звал, не пришли. Были только Вовка-друг, да еще пара одноклассников, длинный Серега и Игрек. Попили чая с тортом, поели позднего арбуза и разошлись.
В этом году надо подумать, кого позвать. Ольку хотелось бы, да вдруг пацаны смеяться будут? И пойдет ли она, она ведь старше на год?
Ладно, неделя еще, придумаем. Только вот угощать чем? Папка Алексей готовить не умеет. Он, если только суп сварить и картошку пожарить. А матери нет, уехала к деду с бабкой. Точнее к бабке, Палыч в больнице. Давно уже.
Палыч заболел два года назад. Егору тогда было 10 лет и его уже совершенно самостоятельно отправили к Палычу с Никаноровной. Одного. Палыч тогда еще больше ссутулился и шаркал калошами, когда ходил по двору. Пчел забросил, семьи пчелиные поел клещ, а осиротевщие ульи затянуло крапивой.
Никаноровна как-то осторожно смотрела на него и старалась поменьше ворчать. Зато Палыч был раздражительным, и даже с Егором не улыбался, как всегда.
Однажды ночью Егор проснулся, чтобы сходить «по-маленькому» и вдруг услышал, как Палыч, ворча перебирается к краю кровати в своей комнате. Было слышно хорошо: в деревенском доме не стены, а заборки из доски-двадцатки.
– Куда ты, Палыч? – сонно простонала Никаноровна.
– Куда, куда. Подыхать! – зло отозвался Палыч.
Егор замер в испуге. Палыч говорил так, как будто это действительно сейчас случится. Зло и обреченно.
– Что ты, Палыч? – встрепенулась Никаноровна. – Заболело что? Скажи, что болит.
Она говорила так, как говорят ребенку, который только что с разбегу упал и ободрал коленку, говорила с болью и жалостью.
– Да ноги что-то заломило, – смягчился Палыч. – Спи, сейчас пройдет.
Егор проворочался тогда до утра, ему было страшно.
На следующее утро задребезжал телефон.
Подошел Палыч.
– Да, он самый. Да, понял. Хорошо. Да, в четверг буду, – сосредоточенно втыкал он в телефонную трубку слова.
Послышалось, как зазвучали короткие гудки.
Палыч постоял, повертел трубку в руках, клацнул ее на аппарат, рассеянно взглянул на Егора, который сидел на диванчике с книжкой, подобрался вдруг, напружинился и закричал:
– Никаноровна, собирай в дорогу! В четверг на операцию кладут. Поеду в область...
Никаноровна засуетилась, вытащила старый чемоданчик, обтянутый желтым дермантином с металлическими накладками на углах. Егор помнил этот чемодан. Ему особо нравилось оттягивать собачку замка и смотреть, как выстреливал подпружиненный язычок.
– Что собирать-то, Палыч? – растерянно спосила она.
– Смотри сама, тебе виднее, трусы, носки, майки, тапки. Что там еще в больнице надо. Пойду я пока покурю.
– Не курил бы ты, Палыч, – всхлипнула Никаноровна, – от них ведь все это, от сигарет твоих проклятых.
– Ладно, не стони! – огрызнулся Палыч, скрипнул дверью и вышел.
Никаноровна постояла в растерянности, огляделась вокруг, увидела Егора и скомандовала:
– Матери позвони, пусть приезжает, поможет по хозяйству. Надолго Палыч.
Палыч вернулся почти через два месяца, в августе. Он приехал веселым, улыбчивым, как-то слишком много и шумно шутил, подтрунивал над Никаноровной, раскопал в чулане и подарил Егору, к великой его радости, кучу фотобумаги и фотохимии, фиксажей и проявителей, фотоувеличитель, бачок для проявки пленки, и красный фонарь:
– Держи, пионер, занимайся!
Егор только-только начал заниматься в фотокружке, и все подаренное Палычем было просто сокровищем.
Палыч рассказывал больничные байки и случаи из операционной. Егор запомнил один, как на операционном столе у пациента рассыпалось легкое.
– На соседней койке лежал, – подытожил Палыч так буднично, как будто рассказывал, как кому-то удалили зуб.
Однажды Палыч вышел из своей комнаты без рубашки и Егорка увидел на его туловище, обтянутом пергаментной кожей, с пучком седых волос на грудине, толстый красноватый шрам, в обрамлении точек – скобочек швов, тянувшийся от груди, нырявший на бок под мышку и заканчивающийся около лопатки.
– Деда, а что это? – спросил Егорка, указывая на такое явное подтверждение того, что палычево туловище вскрывали.
– Ну что-что, – вздохнул Палыч. – Резали меня, оперировали. Одно легкое и отрезали.
– Как так? – еще больше удивился Егор.
– А вот так – у тебя два, а у меня одно, – ответил Палыч и вдруг хохотнул так, как много лет назад, как тогда, когда Егор только-только осознал себя, начал помнить свою жизнь. – Хо-хо, ерепеса!
Егору даже на миг показалось, что сейчас Палыч подхватит его и подкинет вверх. Он даже слегка отшатнулся: тяжеловат он уже, вдруг Палыч надорвется, с одним-то легким.
В конце августа Егор уехал. Школа.
А на следующее лето его к бабке с дедом уже не отправляли, и через год, вот этим летом, которое только закончилось, тоже. Мать уехала в июле и пока не возвращалась, Палыч жил в больнице, мать с ним. Звонила, говорила, что все налаживается и она скоро вернется. Папка Алексей пользовался свободой, и раз или два в неделю выпивал. К Егору он особо с воспитанием не лез, знал, что парень самостоятельный и без контроля не распустится. Они вообще в последнее время стали мало разговаривать друг с другом. Отец читал бесконечные книги, а Егору было с друзьями интереснее, или музыку в наушниках слушать. О чем с отцом-то говорить? Тем более, что и отец особо ничего не спрашивал.
Ну вот и сейчас, когда Егор размышлял, как отметить день рождения, он услышал, как в дом зашел отец, разулся, повесил на вешалку куртку и хлопнул дверью в свою комнату.
Егорка растянулся на кровати, пришла пора вздремнуть. Сквозь сон он услышал, как зазвонил телефон, и как отец что-то глухо отвечал.
Заснул снова и через какое-то время почувствовал, что кто-то трясет его за плечо.
Он сел на кровати в полусне и увидел перед собой лицо отца, еще не четко, сквозь полузакрытые в дреме глаза. Уставился на это лицо застывшим взглядом и, еще не придя полностью в себя, тупо смотрел на двигающиеся отцовы усы, когда-то черные, а сейчас порыжевшие от табака и с несколькими седыми волосками:
-...лыч ...мер! – как будто откуда-то издалека услышал Егор глухой голос отца.
– Что? – нахмурился он недовольно, уже окончательно оставленный сном.
– Палыч. Умер...– выдохнул папка Алексей, погладил Егора по голове и вышел, ссутуля спину и шаркая по полу тапками. Егор уставился в стену, на завиток рисунка желтеньких обоев. Он видел этот завиток тысячи раз, а сейчас смотрел на него, как-будто впервые увидел.
В голове был тупой монотонный и приглушенный шум, как гул ветра в печной трубе зимой.
Палыч умер.
Егор не мог это осознать, представить себе, не мог заставить себя загрустить и заплакать. Он сидел и слушал гул в голове, сидел и слушал, и смотрел на такой незнакомый завиток рисунка на обоях и вдруг услышал голос Палыча, прозвучавший сквозь сенокосную июльскую жару:
– Все там будем!
Журавлик
– Егор Алексееевич, здравствуйте! А вы где? – в телефонной трубке зазвенел голос ассистента Марины. – Комитет собрался, вас ждут все. Вы задерживаетесь? На сколько?
– Скоро, – буркнул Егор, достал сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой и затянулся. Хорошо. Две недели держался, но вот снова закурил. А, да черт с ним!
Нужно бы окно в машине открыть, провоняет все, жена ругаться начнет – обещал ведь бросить. Стекло полностью опускать не стал, сделал маленькую щелочку, сквозь которую на коленку мнгновенно начала капать вода, собирающаяся на крыше автомобиля и по каким-то самым античеловечным законам физики и гравитации затекающая в щель приоткрытого окна и падающая вниз прямо на джинсы. Нет бы катилась по крыше дальше.
Егор поднял стекло.
Пусть ворчит!
Надо бы, конечно, идти, коллеги ждут его презентации. Но с другой стороны, что эта презентация изменит в жизни Егора, в жизни каждого из них. Будут сидеть со скучным видом, поглядывать на часы, копаться в телефонах, зададут пару совершенно ненужных вопросов, а как же, корпоративная культура предписывает проявить интерес к докладу коллеги, начальник вставит свои «пять копеек», пожурит за пару незначительных ошибок и все разбегутся, как тараканы по своим щелям: кто домой, кто в кабак, кто по магазинам. Ура, формальности соблюдены, вечер пятницы наступил, до понедельника не тронь меня!
На хрена все эти реверансы! Разослал бы всем по электронке. Кому это действительно необходимо, позвонят для уточнения и все, не нужно мариновать пятнадцать человек в офисе в пятницу.
Егор приоткрыл окно и выкинул окурок, тронул рычаг, дворники изобразили на лобовухе полукруг. Стоянка была полупустая, народ уже начал разъезжаться. Скоро Москва встанет в пробках, нужно успеть проскочить.
Телефон снова забился в конвульсиях.
– Егор, ты где? – зарокотал в трубке голос шефа.– Ты факапишь все дедлайны!
– Скоро буду, колесо пробил, заезжал в шиномонтажку, – соврал Егор.– Буду минут через двадцать.
– Ждем! – отрезал босс и положил трубку.
«Жди!» – подумал Егор и вытащил еще одну сигарету.
Мыслей никаких не было. Осенняя морось застилала стекло, покрывала его миллионом маленьких линз, через которые причудливым образом искажалась реальность улицы, предметы становились нечеткими и какими-то раскисшими, как из намокшей газетной бумаги. Постепенно стекло покрылось таким слоем капель, что почти ничего нельзя было увидеть снаружи, к тому же салон автомобиля наполнился синеватым табачным дымом. Егор сидел внутри, как в коконе.
Прошло минут пять. Егор достал телефон, открыл галерею и стал листать ленту фотографий. Остановился на фотке двух улыбающихся детских мордашек, мальчика и девочки.
«Деточки. Редко я вас вижу и вы меня. Я уезжаю, – вы еще спите, возвращаюсь – уже спите. Не замечу, как вырастите»…
Крутанул еще – полетели рабочие фотографии, которые заполонили почти всю галерею, надо бы поудалять. Стоп. Фотография двухлетней давности: синяя оградка, серая плита из бетона, в левом углу которой – овальная выпуклая керамическая накладочка. С накладочки смотрит куда-то вдаль, нет, не старик – аксакал, с зачесанной назад седой шевелюрой, впалыми щеками, железными скулами и самое главное – острым, проникающим орлиным взглядом. Аксакал одет в китель, который маленький Егорка разглядывал, отодвинув марлечку.
Егор взглянул на дату, светившуюся в углу экрана, да, он не ошибся. Да, сегодня. Сегодня папка Алексей тряс его сонного за плечо, сегодня, сквозь расплывающийся сон, Егор не с первого раза услышал, что говорил отец.
Егор достал третью сигарету, перегнулся через спинку и потянул к себе кожаный мягкий кейс. Открыл его и вынул белый лист бумаги формата А4.
– Смотри, ерепеса! – сказал Палыч, вертя листок бумаги в руке.– Вот так сгибаешь по диагонали и отрываешь лишнее – получился квадрат. Дальше еще раз по диагонали, потом складываешь пополам, потом в другую сторону пополам.
Егорка следил, чтобы, не дай Бог, не пропустить ни одного движения дедовых рук. Листок бумаги покрывался причудливой последовательностью сгибов.
– А сейчас складываешь вот так, потом перегибаешь, и еще вот так. Сейчас сдесь отогнем и… что получилось? – Палыч смотрел на Егорку хитреньким и веселым своим взглядом.
– Птичка!
– Ага, журавлик, да не простой. Смотри! – Палыч потянул птичку за хвост и она махнула крыльями, потянул еще несколько раз и птичка затрепетала – сейчас полетит.
Егорка от восторга зажмурился! Крыльями машет! А ведь он все сгибы запомнил, все до одного!
Егор подергал журавлика за хвост. Все нормально, птичка махала крыльями.
Телефон задергался снова. Егор глянул на экран и нажал красную телефонную трубку. Затянулся сигаретой и поставил журавлика на автомобильную панель, включил на телефоне камеру и сделал снимок.
Дождь снаружи прекратился и через пару секунд капли на лобовом стекле заблестели, переливаясь радугой. Вышло солнце.
Егор открыл свой аккаунт в Инстаграмме, выложил фотографию журавлика и написал комментарий: «Таких журавликов научил меня делать мой дед, Палыч. Я про него почти ничего не знаю. Нет, конечно же я помню его сутулую фигуру, шевелюру с серебром седины и хриплый смех. Когда я шалил, он называл меня «ерепеса». Еще помню, как мы ловили окуней, косили траву, пили квас с толокном. Помню, что однажды летом дед ввалился к нам с брезентовым рюкзаком и подарил мне мой первый фотоаппарат. Он тогда никого не предупредил о своем приезде, его никто не ждал. Помню, как мы ходили в школьный тир стрелять из мелкашки, как Палыч, мой отец и мой дядька рубили топорами бревна на сруб, а вечером пили водку. Как бабка на них ругалась. Помню, как дед на печи «топил сало», хотя был худым и жилистым, как полено. Помню, как он ходил за пчелами и стриг овец. Помню, как стоял на крыльце, смотрел на закат и курил.
Палыч был сначала солдатом, но про войну никогда не рассказывал, а потом учителем труда и военного дела, самых нужных для мужика умений. И журавлика этого он мне показал на верстаке в мастерской.
Палыча не стало, когда мне было 12 лет. Тридцать лет назад. Давно Палыча нет, а вот журавлик остался. Я его своим детям сейчас делаю. Такие дела»…
Егор сунул телефон в карман, и вырулил со стоянки на дорогу.
«К детям! Успею еще!» – подумал он и прибавил скорости.

