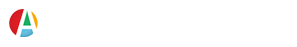Текст альманаха «РЕКА ВРЕМЕНИ» 2 номер 2025 г.
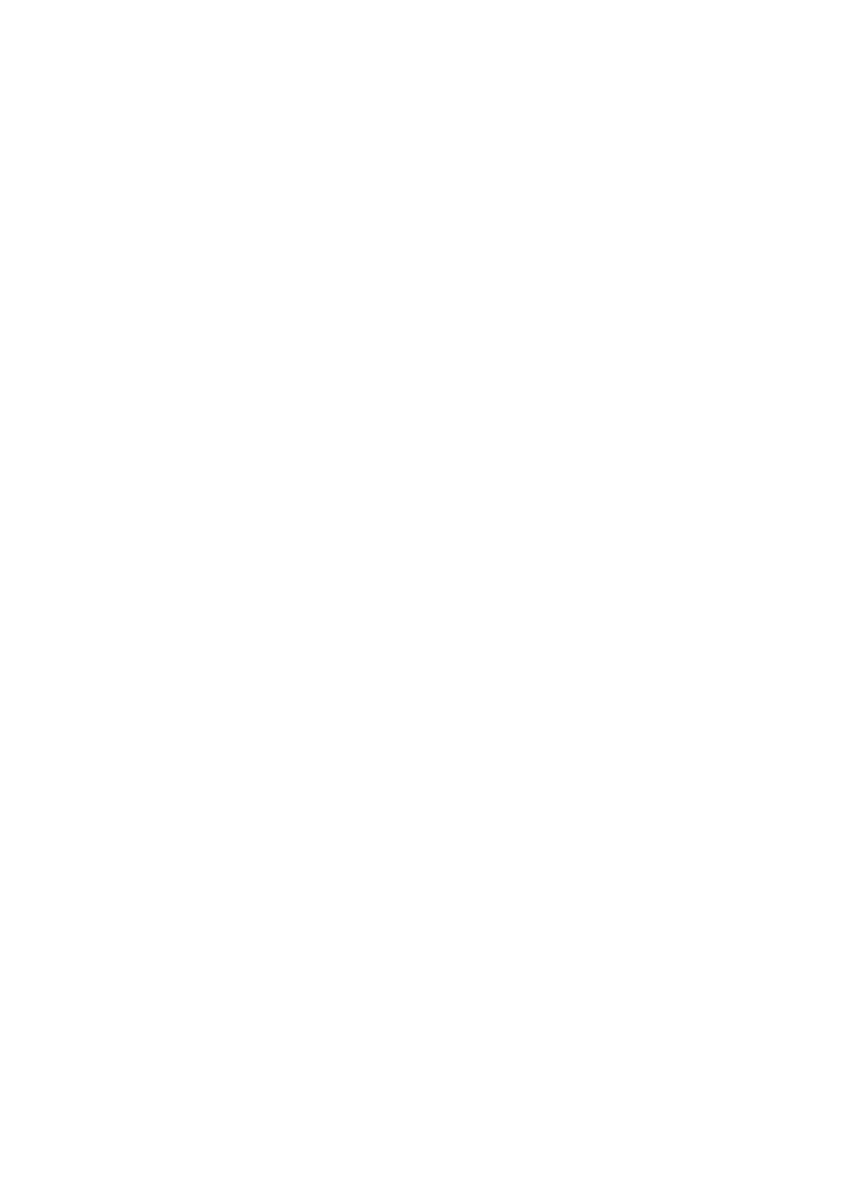
АЛЬМАНАХ «РЕКА ВРЕМЕНИ»
Диана АСНИНА – «Дети войны»
Ольга КАРЕЛИНА - «Судьба человека: кольцевой маршрут любви»
Геннадий БАБКИН - «Дети Порт-Петровска»
Евгения БЕЛОВА - «Домой»
Сергей БЕСПАЛОВ - «Бабуля»
Николай НИБУР - «Сладкий запах стружек»
Валентина ЧЕРНИКОВА - «Встреча на фронте»
Дмитрий ВОСТРЯКОВ - «Зачёт»
Георгий ЗАБЕЛЬЯН - «О, мадам!»
Анна ЗИМА - «Случайности судьбы»
Юся КАРНОВА - «Поганая лохань»
Максим ЛАЗАРЕВ - «Вы были правы, Александр Наумович...»
Владимир ЛОКТЕВ - «Спасибо Грязовцу»
Дмитрий МЕЛЬНИК - «Крыса»
Евгений МЕЛЬЧЕНКО - «Вечерний поезд»
Сергей СЕРГЕЕВ - «Лекарство от стресса»
Валерий ФЕДОСОВ - «Дорога к Храму»
Ольга ТАРСУКОВА - «Летним вечером»
Тамара ТИМОШКИНА - «Сокровище мое - память!»
Юлия ТРУФАНОВА - «Вариация на одиннадцатый аркан», «Остров дышит»
Зоя ФЕДОРЕНКО-СЫТАЯ - «Эвакуация семьи Федоренко из Харькова в Ташкент»
Екатерина ФИЛЮК - «Безымянный»
Диана АСНИНА – «Дети войны»
Ольга КАРЕЛИНА - «Судьба человека: кольцевой маршрут любви»
Геннадий БАБКИН - «Дети Порт-Петровска»
Евгения БЕЛОВА - «Домой»
Сергей БЕСПАЛОВ - «Бабуля»
Николай НИБУР - «Сладкий запах стружек»
Валентина ЧЕРНИКОВА - «Встреча на фронте»
Дмитрий ВОСТРЯКОВ - «Зачёт»
Георгий ЗАБЕЛЬЯН - «О, мадам!»
Анна ЗИМА - «Случайности судьбы»
Юся КАРНОВА - «Поганая лохань»
Максим ЛАЗАРЕВ - «Вы были правы, Александр Наумович...»
Владимир ЛОКТЕВ - «Спасибо Грязовцу»
Дмитрий МЕЛЬНИК - «Крыса»
Евгений МЕЛЬЧЕНКО - «Вечерний поезд»
Сергей СЕРГЕЕВ - «Лекарство от стресса»
Валерий ФЕДОСОВ - «Дорога к Храму»
Ольга ТАРСУКОВА - «Летним вечером»
Тамара ТИМОШКИНА - «Сокровище мое - память!»
Юлия ТРУФАНОВА - «Вариация на одиннадцатый аркан», «Остров дышит»
Зоя ФЕДОРЕНКО-СЫТАЯ - «Эвакуация семьи Федоренко из Харькова в Ташкент»
Екатерина ФИЛЮК - «Безымянный»
АННОТАЦИЯ К 1-му изданию альманаха
Создавая новый литературный сборник, посвященный воспоминаниям и мемуарам, мы не раздумывали долго о его названии. Река всегда символизировала течение жизни, ее необузданность, непокорность и... невозможность остановиться. И еще – река символизирует маленькую частицу нашей жизни, которая растворяясь в большом житейском море, тем не менее несет в него частицу каждого из нас.
Вот про эту «частицу нас и наших близких» – наш новый альманах. На страницах сборника «Река времени» авторы вспоминают своих близких, родных, дедушек, бабушек, интересные истории из своей жизни – и делятся этими воспоминаниями с нашими читателями. Ведь поистине неповторима жизнь каждого, – столько в ней удивительного и яркого, смешного и печального, неожиданного и неповторимого. И выкладывая эти мелкие цветные крупицы воспоминаний, словно огромный и замысловатый Орнамент Жизни, мы тем самым и создаем настоящую Историю. Ведь без наших воспоминаний эта история будет неполной!
Создавая новый литературный сборник, посвященный воспоминаниям и мемуарам, мы не раздумывали долго о его названии. Река всегда символизировала течение жизни, ее необузданность, непокорность и... невозможность остановиться. И еще – река символизирует маленькую частицу нашей жизни, которая растворяясь в большом житейском море, тем не менее несет в него частицу каждого из нас.
Вот про эту «частицу нас и наших близких» – наш новый альманах. На страницах сборника «Река времени» авторы вспоминают своих близких, родных, дедушек, бабушек, интересные истории из своей жизни – и делятся этими воспоминаниями с нашими читателями. Ведь поистине неповторима жизнь каждого, – столько в ней удивительного и яркого, смешного и печального, неожиданного и неповторимого. И выкладывая эти мелкие цветные крупицы воспоминаний, словно огромный и замысловатый Орнамент Жизни, мы тем самым и создаем настоящую Историю. Ведь без наших воспоминаний эта история будет неполной!
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Диана АСНИНА
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение», «Горизонт». Член МГО Союза писателей России. Почётный работник культуры г. Москвы.
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение», «Горизонт». Член МГО Союза писателей России. Почётный работник культуры г. Москвы.
ДЕТИ ВОЙНЫ
– Спасибо Вам за Ваш подвиг в Великой Отечественной войне, за то, что Вы нас спасали, – поздравляет меня ученик второго класса с днем защитника Отечества, – если бы не Ваш героизм, неизвестно, что со всеми нами было бы.
– Мой дорогой, во время войны я была грудным ребенком и не могла еще совершать подвиги. О войне, так же как и вы, я знаю из книг, фильмов, рассказов родителей.
А ведь, по большому счету, мальчик прав: мы, дети войны, тоже были ее участниками и тоже пережили ужасы того времени.
Мне было три года. Мы гостили в Волжске у папиной сестры. Гуляли в лесу. И вдруг провели мимо пленных. Немцы. Лица угрюмые. Взгляд исподлобья. Руки за спиной. Я вцепилась в мамину юбку. Мне было так страшно!
Мы вернулись из эвакуации в Москву. Строили дом. Наши с братом игрушки – опилки, деревянные брусочки. Бабушка из тряпок сделала мне куклу. Мама сшила два марлевых платья
– одно она выкрасила в синьке, другое – в марганцовке, а бабушка из ириса связала мне тапочки. Помню, как ночью какой-то бородатый дядька полез в мою детскую кроватку, и я очень испугалась. Это вернулся с войны мой дядя (он дошел до Берлина), который захотел посмотреть: кто там родился. Подарил он мне кошечку и настоящую немецкую куклу, которая закрывала глаза и говорила: «Мама!», а брату – лошадку, запряженную в арбу. Я их боялась. Куклу я испортила – стала кормить. А лошадка… Мы с Валеркой хотели полюбоваться, как она будет гореть, не понимая, что лошадки больше не будет, что вместо нее останется пепел. Мы с братом засунули в печку обои. Рулон не помещался. Второй его конец лежал на кровати тети Ани. Я по сей день помню выжженную дырку на покрывале. Как не сгорели?
Старшие ребята пошли в школу – тетрадей не было, писали между строчками газет, учебник был один на весь класс, чернильницы-невыливайки, перьевые ручки и т.д. Но как хотелось учиться!
Многие не вернулись с войны. Валерка, мой двоюродный брат, всю жизнь разыскивал отца.
– Почему у всех есть отцы, а у меня нет? Не может человек пропасть без вести! Он что, иголка? – кричал мальчик.
– Мой хороший! Была война. Не все вернулись домой.
– Только не мой папа. Мама, ты же не получала похоронку, только эту бумажку, – не успокаивался мальчик. – Я буду искать и найду отца.
Народ был добрее. Все всё про всех знали, сочувствовали друг другу, помогали. Тетя Аня, Валеркина мама, была очень добрым и отзывчивым человеком. У нее все время жили люди, у которых не было крыши над головой: девочка Тамара, которая в булочной просила милостыню (тетя Аня ее вырастила, выучила, выдала замуж), тетя Эля, бывшая беспризорница, и другие. Тетя Аня купила телевизор КВН с линзой. Его в шутку называли: «Купил, включил – не работает». Приходили соседи смотреть передачи. Ее квартира превратилась в клуб. Мама пекла пирожки и угощала всех детей во дворе.
Какие вкусные были конфеты-подушечки! А мороженое... Две круглые вафельки, на которых выдавлены имена: Ваня, Петя, Маша, Таня... А между вафельками вкуснейшее молочное мороженое.
Дети войны. Матери целыми днями на работе, а ребята предоставлены самим себе. Мы играли в лапту, вышибалы и, конечно же, в войну. Немцами никто не хотел быть.
Теперешние дети имеют все: игрушки, развлечения, играют в совсем другие игры. Пусть они никогда не узнают, что такое война. Но знать и помнить, что пришлось испытать их отцам и дедам, они должны.
Ясли, сад... Помню только, что много болела (почти всеми инфекционными заболеваниями). Рада была, что сидела дома. Играла с братом, который, когда родители уходили, через печку (наши комнаты разделяла печка со сквозными дверцами) перелезал ко мне.
Почему-то начальная школа не оставила в моей памяти следа. Мне было на уроках скучно, неинтересно, тягостно. Может быть, потому что к первому классу я бегло читала, считала и, пока мои одноклассницы по слогам сложат слова, я уже давно все выполнила и не знала, что делать.
Помню только, как мы всем классом плакали, когда умер Сталин. А одна девочка, звали ее Алла Клочкова, ябедничала учительнице, когда кто-то плакать переставал. Бабушка тоже убивалась: «Как мы жить теперь будем?»
Когда я перешла в пятый класс, слили женские и мужские школы, до этого было раздельное обучение. В первый же день, не помню из-за чего, я подралась с соседом по парте. Сенька был хилым парнишкой, и я вышла победителем. На следующий день в школу примчалась его мамаша жаловаться, что девочка побила ее сына. После этой драки меня никто никогда не трогал, а с Сенькой мы подружились. Я была прилежной ученицей, отличницей. Сенька списывал у меня задачки и угощал конфетами, мандаринами – мама его работала в магазине.
В нашем классе учился один мальчик, который все время что-то мастерил. Учиться он не любил. Но голова и руки у него были что надо. Он смастерил звонок, точь-в-точь имитирующий школьный. И вот вдруг в середине урока раздается звонок. Все повскакали с мест и, ничего не понимая, выскочили в коридор. Оказывается, Саньке надоело сидеть на уроке, и он решил прервать его. Естественно, маму вызвали в школу…
Нашу классную руководительницу, Елену Михайловну, мы очень любили. Это была немолодая дама. Да-да, не женщина, а дама – с буклями, в широкополой шляпе. После работы Елена Михайловна ходила по ученикам, знакомясь с семьями, и все про всех знала. Хеля, так мы ее звали, преподавала немецкий язык. Язык мы у нее знали. Помню Первый Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Я, девчонка, гуляла по Красной площади и свободно объяснялась с иностранцами.
Учитель математики, Александр Кузьмич, часто заходил поболтать с Хелей. Нам, глупым, было смешно наблюдать, как Кузя ухаживает за ней. Какой-то «умник» сочинил, и мальчишки распевали:
– Сидит Кузя на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы Хеля на уроке
Не ходила босиком.
(У Елены Михайловны были больные ноги, и она ходила в мягкой обуви «прощай, молодость».)
У Кузи была идефикс: он по всему району набирал себе в класс еврейских мальчиков, считая, что если еврей, то у него обязательно должны быть хорошие математические способности. Так, к нему в класс попали Яша Кац и Юра Шварцман. Но в семье не без урода. Учились ребята плохо. Однажды они так достали Кузю своей тупостью, что он не выдержал: «И это называется евреи? – кричал он, – Великий Ойстрах играл на скрипке, вы бы хоть научились играть на балалайке!» Нечаянно он задел Юркины очки. Очки упали на пол и разбились. Развеселившиеся мальчишки стали бегать вокруг него с криком: «Сломали очки – теперь ставьте тройку!»
Кстати, Кузя неплохо играл на скрипке.
А какие замечательные учителя у меня были в старших классах! Мне кажется, сейчас таких учителей уже нет.
У нас был изумительный директор – бывший детдомовец, умница, красавец, педагог от Бога! На уроках истории, которую он вел, мы слушали его, затаив дыхание. А какой порядок был в школе! Когда Георгий Николаевич шел по коридору, все замирали. «А ну-ка, Анчутка, иди сюда», – подзывал он провинившегося, и тот, втянув голову в плечи, шел к нему «на ковер». Жору все обожали: и ученики, и родители, и учителя.
Какие чудесные были у нас школьные вечера.
И всегда в конце вечера Георгий Николаевич брал гитару и пел. Даже сейчас, спустя столько лет, в ушах звенит его бархатный баритон: «Когда после вахты гитару возьмешь и тронешь струну за струной…» Мы все были в него влюблены. У него был бурный роман с молоденькой хорошенькой учительницей биологии, которая нам очень нравилась, и которую «Жорины три четверти», как мы звали жену Георгия Николаевича, выжила из школы.
Окончив школу, мы каждый год приходили на вечера встречи, и когда все расходились, Жора оставался с нашим (мы были первыми) выпуском, расспрашивал обо всем. И, как всегда, пел…
Много лет спустя еду я в автобусе. Напротив сидит старик с палочкой. Я не могу оторвать от него глаз. До чего хорош! Скольких в молодости женщин сводил он с ума! Когда через остановку мужчина вышел из автобуса, меня вдруг как обухом по голове стукнуло: «Да это же наш Жора!» А я с ним даже не поздоровалась. Стало стыдно и больно. Что годы с нами делают!
Уроки литературы… Их и уроками нельзя было назвать. Это были сплошные дебаты. Мало ли, что написано в учебнике? Мы имеем право на собственное мнение. Валентина Васильевна уважала мнение учеников, она научила нас думать своей головой, а не по шаблону рассуждать.
Когда мы проходили «Евгения Онегина», Валентина Васильевна повела нас еще и на оперу. Дивная музыка Чайковского. А какие голоса!
– Не любила Татьяна Онегина! – кричала я. – Не может женщина отказать любимому, когда и он, наконец, влюбляется в нее. Если бы Татьяна любила Онегина, она бы его простила. И Гремина она не любила. Зачем замуж за него пошла, сделала его, что бы он ни говорил, несчастным? Он же не чурбан какой-то, чувствует, что любви к нему у нее нет. Просто ей захотелось стать светской львицей, и все тут. Пушкин и Чайковский – гении, что они сумели из Татьяны сделать «чистейшей прелести чистейший образец». А Анна Каренина Ваша – просто дрянь! Променяла детей на какого-то мужика… Бросилась, видите ли, под поезд… А детей сиротами оставила, да? И чем это Каренин так плох – содержит ее, воспитывает ее детей?
Как Валентина Васильевна все это выслушивала?
Когда мы проходили «Войну и мир» Толстого, Валентина Васильевна возила нас на экскурсию в Ясную Поляну. Были мы в Мелихово в доме-музее Чехова, в Литературном музее…
Как-то в класс к нам заглядывает наш историк Петр Михайлович. Идет урок литературы. Мы изучаем «Тихий Дон» Шолохова.
– Петр Михайлович, кто Вам больше нравится, Аксинья или Наталья? – спрашиваем мы его.
– Конечно, Аксинья, – отвечает он.
– Аксинья Ваша – распутная баба, – заявляю я ему. – Мужикам такие нравятся. Вот только не пойму, почему.
Петр Михайлович рассмеялся:
– Вырастешь – поймешь.
Петра Михайловича мы очень любили! Историю мы изу-чали не только по учебнику. Пушкинский музей, музей Вооруженных Сил, музей истории войны – где мы только не побывали.
Я очень любила математику, а вот физику, несмотря на то, что у меня стоит пятерка, я плохо знала. Лидия Павловна была нашим классным руководителем, и на уроках физики мы всегда обсуждали поведение Лили Балабан. Чем провинилась Лиля, сказать трудно, но класс ее не любил – списывать не давала. Бедную девочку довели до такого состояния, что за полгода до окончания она перешла в другую школу.
Лидия Павловна была влюблена в дядю нашей одноклас-сницы, который был женат и разводиться со своей женой, как оказалось потом, не собирался. Весь класс, естественно, был в курсе событий и переживал за Лидию Павловну.
Географию я не любила. Учительница была нудная, говорила монотонным голосом, дальше первой парты не заходила. «Виногра-д-ство, скотово-д-ство…» Скука неимоверная. А ведь какой предмет! На ее уроках я писала любовные письма Зинке Емельяновой, которая была влюблена в солдатика, и после того, как он отслужит, а она окончит школу, они должны были пожениться. Письма я писать умела – Валентина Васильевна научила. Кстати, первое задание, которое она нам дала, написать в четырех письмах (он ей, она ему) – целую любовную историю.
Как же я скучала первое время по своей родной школе, учась в институте!
Сегодня все меньше остается в живых участников той страшной войны. Мы – дети войны, последние, кто испытал на себе ее ужасы и последствия.
Вся история человечества – это, в основном, история войн, насилия и страданий. Человек воевал в глубокой древности, он продолжает воевать в наши дни и, по-видимому, будет воевать в будущем. Неужели нельзя решать свои проблемы без войн и насилия?
Так хочется крикнуть:
– Люди, остановитесь! Жизнь человека бесценна. Даже звери не уничтожают себе подобных. Не вы создали жизнь на земле, не вам ее отнимать.
– Спасибо Вам за Ваш подвиг в Великой Отечественной войне, за то, что Вы нас спасали, – поздравляет меня ученик второго класса с днем защитника Отечества, – если бы не Ваш героизм, неизвестно, что со всеми нами было бы.
– Мой дорогой, во время войны я была грудным ребенком и не могла еще совершать подвиги. О войне, так же как и вы, я знаю из книг, фильмов, рассказов родителей.
А ведь, по большому счету, мальчик прав: мы, дети войны, тоже были ее участниками и тоже пережили ужасы того времени.
Мне было три года. Мы гостили в Волжске у папиной сестры. Гуляли в лесу. И вдруг провели мимо пленных. Немцы. Лица угрюмые. Взгляд исподлобья. Руки за спиной. Я вцепилась в мамину юбку. Мне было так страшно!
Мы вернулись из эвакуации в Москву. Строили дом. Наши с братом игрушки – опилки, деревянные брусочки. Бабушка из тряпок сделала мне куклу. Мама сшила два марлевых платья
– одно она выкрасила в синьке, другое – в марганцовке, а бабушка из ириса связала мне тапочки. Помню, как ночью какой-то бородатый дядька полез в мою детскую кроватку, и я очень испугалась. Это вернулся с войны мой дядя (он дошел до Берлина), который захотел посмотреть: кто там родился. Подарил он мне кошечку и настоящую немецкую куклу, которая закрывала глаза и говорила: «Мама!», а брату – лошадку, запряженную в арбу. Я их боялась. Куклу я испортила – стала кормить. А лошадка… Мы с Валеркой хотели полюбоваться, как она будет гореть, не понимая, что лошадки больше не будет, что вместо нее останется пепел. Мы с братом засунули в печку обои. Рулон не помещался. Второй его конец лежал на кровати тети Ани. Я по сей день помню выжженную дырку на покрывале. Как не сгорели?
Старшие ребята пошли в школу – тетрадей не было, писали между строчками газет, учебник был один на весь класс, чернильницы-невыливайки, перьевые ручки и т.д. Но как хотелось учиться!
Многие не вернулись с войны. Валерка, мой двоюродный брат, всю жизнь разыскивал отца.
– Почему у всех есть отцы, а у меня нет? Не может человек пропасть без вести! Он что, иголка? – кричал мальчик.
– Мой хороший! Была война. Не все вернулись домой.
– Только не мой папа. Мама, ты же не получала похоронку, только эту бумажку, – не успокаивался мальчик. – Я буду искать и найду отца.
Народ был добрее. Все всё про всех знали, сочувствовали друг другу, помогали. Тетя Аня, Валеркина мама, была очень добрым и отзывчивым человеком. У нее все время жили люди, у которых не было крыши над головой: девочка Тамара, которая в булочной просила милостыню (тетя Аня ее вырастила, выучила, выдала замуж), тетя Эля, бывшая беспризорница, и другие. Тетя Аня купила телевизор КВН с линзой. Его в шутку называли: «Купил, включил – не работает». Приходили соседи смотреть передачи. Ее квартира превратилась в клуб. Мама пекла пирожки и угощала всех детей во дворе.
Какие вкусные были конфеты-подушечки! А мороженое... Две круглые вафельки, на которых выдавлены имена: Ваня, Петя, Маша, Таня... А между вафельками вкуснейшее молочное мороженое.
Дети войны. Матери целыми днями на работе, а ребята предоставлены самим себе. Мы играли в лапту, вышибалы и, конечно же, в войну. Немцами никто не хотел быть.
Теперешние дети имеют все: игрушки, развлечения, играют в совсем другие игры. Пусть они никогда не узнают, что такое война. Но знать и помнить, что пришлось испытать их отцам и дедам, они должны.
Ясли, сад... Помню только, что много болела (почти всеми инфекционными заболеваниями). Рада была, что сидела дома. Играла с братом, который, когда родители уходили, через печку (наши комнаты разделяла печка со сквозными дверцами) перелезал ко мне.
Почему-то начальная школа не оставила в моей памяти следа. Мне было на уроках скучно, неинтересно, тягостно. Может быть, потому что к первому классу я бегло читала, считала и, пока мои одноклассницы по слогам сложат слова, я уже давно все выполнила и не знала, что делать.
Помню только, как мы всем классом плакали, когда умер Сталин. А одна девочка, звали ее Алла Клочкова, ябедничала учительнице, когда кто-то плакать переставал. Бабушка тоже убивалась: «Как мы жить теперь будем?»
Когда я перешла в пятый класс, слили женские и мужские школы, до этого было раздельное обучение. В первый же день, не помню из-за чего, я подралась с соседом по парте. Сенька был хилым парнишкой, и я вышла победителем. На следующий день в школу примчалась его мамаша жаловаться, что девочка побила ее сына. После этой драки меня никто никогда не трогал, а с Сенькой мы подружились. Я была прилежной ученицей, отличницей. Сенька списывал у меня задачки и угощал конфетами, мандаринами – мама его работала в магазине.
В нашем классе учился один мальчик, который все время что-то мастерил. Учиться он не любил. Но голова и руки у него были что надо. Он смастерил звонок, точь-в-точь имитирующий школьный. И вот вдруг в середине урока раздается звонок. Все повскакали с мест и, ничего не понимая, выскочили в коридор. Оказывается, Саньке надоело сидеть на уроке, и он решил прервать его. Естественно, маму вызвали в школу…
Нашу классную руководительницу, Елену Михайловну, мы очень любили. Это была немолодая дама. Да-да, не женщина, а дама – с буклями, в широкополой шляпе. После работы Елена Михайловна ходила по ученикам, знакомясь с семьями, и все про всех знала. Хеля, так мы ее звали, преподавала немецкий язык. Язык мы у нее знали. Помню Первый Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Я, девчонка, гуляла по Красной площади и свободно объяснялась с иностранцами.
Учитель математики, Александр Кузьмич, часто заходил поболтать с Хелей. Нам, глупым, было смешно наблюдать, как Кузя ухаживает за ней. Какой-то «умник» сочинил, и мальчишки распевали:
– Сидит Кузя на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы Хеля на уроке
Не ходила босиком.
(У Елены Михайловны были больные ноги, и она ходила в мягкой обуви «прощай, молодость».)
У Кузи была идефикс: он по всему району набирал себе в класс еврейских мальчиков, считая, что если еврей, то у него обязательно должны быть хорошие математические способности. Так, к нему в класс попали Яша Кац и Юра Шварцман. Но в семье не без урода. Учились ребята плохо. Однажды они так достали Кузю своей тупостью, что он не выдержал: «И это называется евреи? – кричал он, – Великий Ойстрах играл на скрипке, вы бы хоть научились играть на балалайке!» Нечаянно он задел Юркины очки. Очки упали на пол и разбились. Развеселившиеся мальчишки стали бегать вокруг него с криком: «Сломали очки – теперь ставьте тройку!»
Кстати, Кузя неплохо играл на скрипке.
А какие замечательные учителя у меня были в старших классах! Мне кажется, сейчас таких учителей уже нет.
У нас был изумительный директор – бывший детдомовец, умница, красавец, педагог от Бога! На уроках истории, которую он вел, мы слушали его, затаив дыхание. А какой порядок был в школе! Когда Георгий Николаевич шел по коридору, все замирали. «А ну-ка, Анчутка, иди сюда», – подзывал он провинившегося, и тот, втянув голову в плечи, шел к нему «на ковер». Жору все обожали: и ученики, и родители, и учителя.
Какие чудесные были у нас школьные вечера.
И всегда в конце вечера Георгий Николаевич брал гитару и пел. Даже сейчас, спустя столько лет, в ушах звенит его бархатный баритон: «Когда после вахты гитару возьмешь и тронешь струну за струной…» Мы все были в него влюблены. У него был бурный роман с молоденькой хорошенькой учительницей биологии, которая нам очень нравилась, и которую «Жорины три четверти», как мы звали жену Георгия Николаевича, выжила из школы.
Окончив школу, мы каждый год приходили на вечера встречи, и когда все расходились, Жора оставался с нашим (мы были первыми) выпуском, расспрашивал обо всем. И, как всегда, пел…
Много лет спустя еду я в автобусе. Напротив сидит старик с палочкой. Я не могу оторвать от него глаз. До чего хорош! Скольких в молодости женщин сводил он с ума! Когда через остановку мужчина вышел из автобуса, меня вдруг как обухом по голове стукнуло: «Да это же наш Жора!» А я с ним даже не поздоровалась. Стало стыдно и больно. Что годы с нами делают!
Уроки литературы… Их и уроками нельзя было назвать. Это были сплошные дебаты. Мало ли, что написано в учебнике? Мы имеем право на собственное мнение. Валентина Васильевна уважала мнение учеников, она научила нас думать своей головой, а не по шаблону рассуждать.
Когда мы проходили «Евгения Онегина», Валентина Васильевна повела нас еще и на оперу. Дивная музыка Чайковского. А какие голоса!
– Не любила Татьяна Онегина! – кричала я. – Не может женщина отказать любимому, когда и он, наконец, влюбляется в нее. Если бы Татьяна любила Онегина, она бы его простила. И Гремина она не любила. Зачем замуж за него пошла, сделала его, что бы он ни говорил, несчастным? Он же не чурбан какой-то, чувствует, что любви к нему у нее нет. Просто ей захотелось стать светской львицей, и все тут. Пушкин и Чайковский – гении, что они сумели из Татьяны сделать «чистейшей прелести чистейший образец». А Анна Каренина Ваша – просто дрянь! Променяла детей на какого-то мужика… Бросилась, видите ли, под поезд… А детей сиротами оставила, да? И чем это Каренин так плох – содержит ее, воспитывает ее детей?
Как Валентина Васильевна все это выслушивала?
Когда мы проходили «Войну и мир» Толстого, Валентина Васильевна возила нас на экскурсию в Ясную Поляну. Были мы в Мелихово в доме-музее Чехова, в Литературном музее…
Как-то в класс к нам заглядывает наш историк Петр Михайлович. Идет урок литературы. Мы изучаем «Тихий Дон» Шолохова.
– Петр Михайлович, кто Вам больше нравится, Аксинья или Наталья? – спрашиваем мы его.
– Конечно, Аксинья, – отвечает он.
– Аксинья Ваша – распутная баба, – заявляю я ему. – Мужикам такие нравятся. Вот только не пойму, почему.
Петр Михайлович рассмеялся:
– Вырастешь – поймешь.
Петра Михайловича мы очень любили! Историю мы изу-чали не только по учебнику. Пушкинский музей, музей Вооруженных Сил, музей истории войны – где мы только не побывали.
Я очень любила математику, а вот физику, несмотря на то, что у меня стоит пятерка, я плохо знала. Лидия Павловна была нашим классным руководителем, и на уроках физики мы всегда обсуждали поведение Лили Балабан. Чем провинилась Лиля, сказать трудно, но класс ее не любил – списывать не давала. Бедную девочку довели до такого состояния, что за полгода до окончания она перешла в другую школу.
Лидия Павловна была влюблена в дядю нашей одноклас-сницы, который был женат и разводиться со своей женой, как оказалось потом, не собирался. Весь класс, естественно, был в курсе событий и переживал за Лидию Павловну.
Географию я не любила. Учительница была нудная, говорила монотонным голосом, дальше первой парты не заходила. «Виногра-д-ство, скотово-д-ство…» Скука неимоверная. А ведь какой предмет! На ее уроках я писала любовные письма Зинке Емельяновой, которая была влюблена в солдатика, и после того, как он отслужит, а она окончит школу, они должны были пожениться. Письма я писать умела – Валентина Васильевна научила. Кстати, первое задание, которое она нам дала, написать в четырех письмах (он ей, она ему) – целую любовную историю.
Как же я скучала первое время по своей родной школе, учась в институте!
Сегодня все меньше остается в живых участников той страшной войны. Мы – дети войны, последние, кто испытал на себе ее ужасы и последствия.
Вся история человечества – это, в основном, история войн, насилия и страданий. Человек воевал в глубокой древности, он продолжает воевать в наши дни и, по-видимому, будет воевать в будущем. Неужели нельзя решать свои проблемы без войн и насилия?
Так хочется крикнуть:
– Люди, остановитесь! Жизнь человека бесценна. Даже звери не уничтожают себе подобных. Не вы создали жизнь на земле, не вам ее отнимать.
Предлагаем вашему вниманию книгу Валерия Федосова «Сибирь-Амазонка»
Во втором томе «разнокалиберных хроник» автор продолжает знакомить читателя с историями-новеллами из своей жизни: здесь истории из студенческой жизни, первые серьезные шаги в проектировании крупнейших мировых гидростанций, сложные коллизии международных переговоров и воспоминания, в которых каждый факт биографии не только «буквально прожит», но и прекрасно описан автором. Свои предпочтения автор старался отдавать тому, что отражает явную фантастичность повседневной реальности, отвечает душевной искренности и беспрекословно подчиняется ведению Свыше.
Книгу вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по ссылке
Во втором томе «разнокалиберных хроник» автор продолжает знакомить читателя с историями-новеллами из своей жизни: здесь истории из студенческой жизни, первые серьезные шаги в проектировании крупнейших мировых гидростанций, сложные коллизии международных переговоров и воспоминания, в которых каждый факт биографии не только «буквально прожит», но и прекрасно описан автором. Свои предпочтения автор старался отдавать тому, что отражает явную фантастичность повседневной реальности, отвечает душевной искренности и беспрекословно подчиняется ведению Свыше.
Книгу вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по ссылке
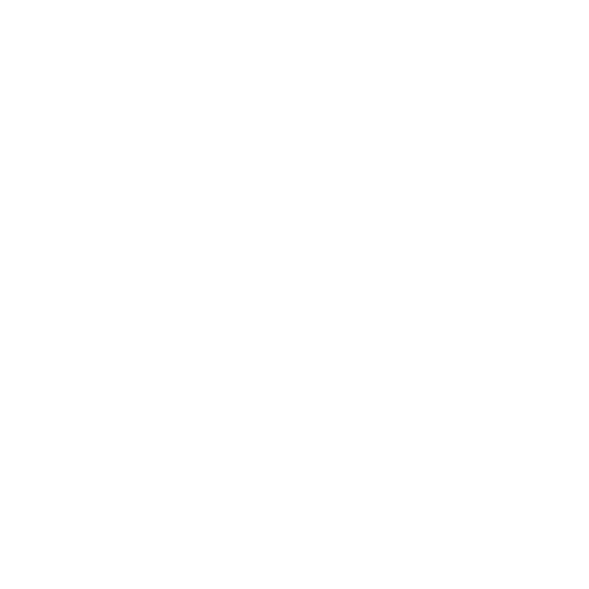
Ольга КАРЕЛИНА
Филолог и педагог из Челябинска. Придерживается мультипотенциального подхода, успешно сочетая профессиональный опыт с интересами в астрологии и квантовой физике. Входит в международное сообщество «Читай. Пиши и издавай», курирует студентов по квантовой физике и ведёт астропсихологические фокус-группы, подтверждая свой междисциплинарный подход и стремление к постоянному развитию.
Филолог и педагог из Челябинска. Придерживается мультипотенциального подхода, успешно сочетая профессиональный опыт с интересами в астрологии и квантовой физике. Входит в международное сообщество «Читай. Пиши и издавай», курирует студентов по квантовой физике и ведёт астропсихологические фокус-группы, подтверждая свой междисциплинарный подход и стремление к постоянному развитию.
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА: КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ ЛЮБВИ
Итак, она звалась Мария, но почти всем представлялась Мариной. Два особенных человека в ее жизни, самые любимые, звали Марийка.
С древних времен существует поверье, что именно имя человека предопределяет его жизненный путь. Что это не просто набор звуков, а мощный тотем, способный защищать и формировать характер. В сочетании с отчеством оно становится уникальным ключом к самоидентификации и отношениям с окружающими.
А как сложится жизнь человека, когда официально зарегистрирован под одним именем, известен окружающим под другим, а близкие люди зовут третьим? Как эти три идентичности переплетаются, создавая уникальную историю – судьбу человека?
Отец Марии, бунтарь, красавец и ловелас Богдан Могилюк, так и не женился на ее матери. Но дочь признал и полюбил с первых мгновений. Черноволосая девочка родилась в городе Кизеле в год завершения кулацкой ссылки для семьи Могилюков.
Новоиспеченный отец ранним июньским утром беспечно и самоуверенно, без согласования с мамой новорожденной зарегистрировал дочку в городском ЗАГСе, записав ее Марией.
Имя ребенка стало очередным камнем преткновения между родителями. Мама Марии, Галина, категорически не согласилась с таким самовольством и наперекор официальному документу с рождения называла дочку Маринкой.
Так у маленького человека одновременно появились два имени. Бабушка по папиной линии, чтобы не разжигать еще больше конфликт и не выбирать чью-то сторону, стала нежно называть внучку Марийкой.
Вскоре после рождения нового члена большой семьи вся родня вернулась из ссылки на родину — в Украину, в Тернопольский район, в родную Слободку. Однако и там все пошло совсем не так, как планировалось.
Что произошло в молодой семье? Почему мама Марии, собрав нехитрые пожитки, забрала ребенка и сделала «фью»? История умалчивает.
Но через пару лет Галина вернулась в Слободку, тогда ей было чуть больше двадцати лет. Вернулась лишь для того, чтобы оставить дочь с отцом и бабушкой. Со словами «пока жизнь не наладится» она исчезла из жизни двухлетней дочери на долгие годы.
К сожалению, и отец вскоре покинул дочь, уехав в другие края, где и оборвалась его жизнь. Несмотря на все горести, свалившиеся на ребенка, годы, проведенные у бабушки Тони в Слободке, стали для девочки самыми беззаботными и счастливыми в ее жизни. В этом уютном доме, наполненном теплом и добротой, Мария ощущала себя словно «у Христа за пазухой». Каждый день был пронизан заботой бабушки, которая делала все возможное, чтобы обеспечить внучке чувство безопасности и любви, заменив ей и мать, и отца. Именно эти годы научили ее ценить простые радости жизни и находить счастье в мелочах. Именно они напоминали ей всю жизнь, насколько драгоценны мгновения тихого счастья, растворенные в простых радостях бытия.
Марийка росла шустрой, улыбчивой и очень красивой девочкой. Вечерами, расчесывая ей волосы, бабушка любовалась ею как картинкой: черные волосы воронова крыла струились по плечам, словно ночное небо, а яркие глаза, «словно голубые блюдца», так говорила бабушка, сияли, не ведая горя.
Жизнь в Слободке текла неторопливо и предсказуемо. Бабушка Тоня вставала рано, до петухов, покрывала свои, некогда густые, но после многолетней ссылки в шахтерском городе, изрядно поредевшие волосы платком, тихонечко шуршала по дому и после, уходила на огород. Каждое утро Марийка просыпалась от аромата свежеприготовленного завтрака: пышных оладушков с яблоками, ленивых вареников или рассыпчатой пшенной каши. Бабушка всегда говорила, что вкусный завтрак — основа счастливого дня. Девочку особо не загружали работой по дому, и, как ветер в поле, она носилась по деревне с подружками, придумывая игры и развлечения.
Есть такое понятие в квантовой физике — точка бифуркации, она же точка невозврата. Это момент, когда происходит событие, перестраивающее линию судьбы и формирующее новую реальность с ее дальнейшим, абсолютно непредсказуемым жизненным сюжетом.
Крутой вираж Судьба сделала в 12 лет Марийки, когда за ней неожиданно приехала ее мама. Бабушка Тоня умоляла оставить внучку, но бесплатные квадратные метры от государства были неумолимо притягательны, и Галина, не поддавшись мольбам бывшей свекрови, увезла дочь.
У решительной и предприимчивой молодой женщины жизнь все эти годы кипела и бурлила: несмотря на жесткие ограничения и репрессии, люди в СССР в 60-х годах стали дышать свободнее и жить веселее. Где и как Галина колесила по стране, история умалчивает. А в 70-х она обосновалась в далекой Сибири, в селе Миндерла Красноярского края, где и «пригодился» ребенок, рожденный тринадцать лет назад – сельсовет бесплатно предоставлял жилье работникам с детьми.
Насколько девочка была обожаема своей бабушкой, настолько же она была нелюбима матерью. И эта эмоциональная травма преследовала ее всю жизнь, тревожила и вызывала страдания даже в зрелом возрасте. Когда мать и дочь начали жить вместе, утро для девочки начиналось не с аромата приготовленного завтрака, а с нахмуренных бровей, придирок и упреков. Истории счастливого воссоединения не случилось, дочка вызывала раздражение у матери просто своим существованием.
– Маринка, почему так рано встала?
– Почему так поздно пришла?
– Маринка, почему полы плохо помыла?
– Маринка, почему кашу пересолила?
– Маринка, где кастрюля? Почему на место не положила?
Все это сопровождалось подзатыльниками и иногда даже побоями.
Отчим, какое-то время наблюдавший со стороны за издевательским отношением к падчерице, в один из дней не выдержал и задержал взметнувшуюся руку Галины с кочергой, приняв удар на себя. Зная крутой нрав жены, он позволил ей выместить бушующую злость на себе, а затем потребовал отстать от девчонки. С Марией у него сложились дружеские отношения, и она всю жизнь была ему благодарна, чувствуя поддержку и защиту... от родной матери.
Жизнь в Миндерле Красноярского края оказалась далеко не радостной, и настоящим спасением в этот темный период жизни стал парнишка с соседней улицы — Славка. По просьбе своей матери, работавшей в школе, он как-то занес учебники для «приезжей девочки».
Переступив порог незнакомого дома, Славка застыл на месте: перед ним стояла «принцесса заморская», о такой он читал в книгах, но никогда не встречал в реальной жизни. Красивая черноволосая девушка с синими глазами смотрела на него тоже с любопытством и легкой настороженностью.
Юная красота Марии покорила сердце Славки. Он почувствовал, как дыхание участилось, когда их взгляды встретились. Девочка возраста Джульетты тоже ощутила это волшебное притяжение и мгновенно поняла, что между ними возникает какая-то особая связь. Улыбнувшись и представившись Марийкой, она завоевала сердце Славки навсегда.
Немудрено, что тринадцатилетняя девчонка при каждом удобном и неудобном случае сбегала из дома к Славке, который смотрел с восхищением, сдувал пылинки, делал за нее уроки и выполнял все просьбы и поручения, лишь бы чаще слышать ее звонкий заливистый смех. Славка очень помогал ей с учебой – после украинской школы Марии было трудно осваивать другую школьную программу. Но мальчишка, будучи отличником, обстоятельно и терпеливо объяснял ей даже сложные темы.
Именно с ним она вновь ощутила такую необходимую для жизни энергию радости и ощущение безопасности. Он был единственным человеком на новом месте, в новой жизни, который называл её так же, как бабушка Тоня. С ним она была счастливой Марийкой.
Со дня знакомства они практически и не расставались. Для всей деревни было очевидно, что вскоре эти неразлучники поженятся.
Больше всего влюблённые обожали бегать на речку: летом лакомиться дикорастущей смородиной и целоваться, а зимой лежать на льду, хохотать, смотреть на звездное небо, ловить ртом снежинки и строить планы на жизнь. Планы, которым, как оказалось, никогда не суждено было сбыться. Смешили дети Бога своими мечтами...
Славка был старше Марийки на два года, и, уходя в армию, он со спокойным сердцем оставлял свою школьницу-хохотушку: в деревне все тихо и размеренно, с мамой у нее отношения более-менее нормализовались, а как вернется, так и сыграют свадьбу.
Но парень не учел, что фраза «куда ты денешься с подводной лодки» в его случае окажется совсем не метафоричной. Славку отправили не просто служить в ближайшую часть, а перебросили на атомную подводную лодку без возможности сообщить родным и отправить письма. Два года от него не было вестей.
Оканчивая восьмой класс и постоянно слыша упреки матери, что она – иждивенка, Марина мечтала только об одном: уйти, уплыть, уехать, улететь из дома и, по возможности, подальше.
Славка не писал; сердце леденело, а страх перед будущим сковывал ее. Когда подружка предложила вместе поехать в Ленинград и поступать в торговый техникум, ей, по большому счету, было все равно.
Все организовывалось быстро и удачно, словно попутный ветер судьбы подгонял события и подкидывал возможности для переезда. Отчим втайне от жены купил падчерице билеты на поезд и дал денег на первое время.
Так Мария-Марина, за компанию, оказалась в огромном городе на Неве, где у нее не было никого — ни одной родной души. Сложно представить, какой страх перед неопределенностью жизни жил в душе шестнадцатилетней девочки. Но для нее даже это состояние было лучше, чем находиться рядом с мамой.
Сложно представить, какой страх перед неопределенностью жизни был в душе у 16-летней девочки. Но для нее даже это состояние было лучше, чем находиться рядом с родной мамой...
Через некоторое время то ли пришло письмо от какой-то одноклассницы, то ли сама подружка приехала в гости и рассказала, что Славка жив‑здоров, вернулся и уже зажигает с другими девчонками. Гордая и резкая Мария навсегда вычеркнула парня из своего сердца и никогда никому о нём не говорила – никогда и никому. Примерно через год после этих событий мама познакомилась с моим папой, они поженились, и вскоре родилась я.
Да-да, Мария, она же Марина и Марийка в одном лице, – это моя мама. Ее уже нет в живых, но история ее жизни — это настоящий гимн преодоления негативных семейных сценариев и великого могущества любви. Провожая ее в последний путь, я пообещала рассказать миру о крутых виражах ее жизненного пути. И это не просто память о ней – это напоминание всем нам о том, что любовь – это не только чувство, эмоция, это мощная сила, способная менять судьбы и создавать настоящие чудеса. И именно эта сила делает нас по-настоящему живыми.
Это надежда на то, что в жизни каждого человека, как бы ни был тернист его путь и заледеневшим сердце, встретится тот, кто озарит и согреет своим светом, вдохновит на радость жизни и великодушие, так необходимое тем, кто рядом.
Итак, судьба моей мамы вновь сделала резкий переход в другую реальность, где никто ее больше не назовет Марийкой. Да и Марией она оставалась только в паспорте. Всем она представлялась как Марина и очень любила строки Цветаевой:
Кто создан из камня, кто создан из глины,
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
К сожалению для меня, союз мамы с папой оказался недолгим.
Папа, добряк-шофер-работяга, искал семейного тепла, спокойствия и уюта. Мама же, молодая яркая жар-птица с заледеневшим сердцем, мечтала о веселье и кураже. Их пути разошлись, когда мне было всего четыре года, оставив за собой эхо из несбывшихся надежд и мечтаний.
Папа почти сразу женился на Лидии, женщине со спокойным нравом и немного печальными глазами, с очень светлой и доброй улыбкой. Их дом стал для меня примером – очагом, где царила доброжелательная атмосфера уюта и аромата пирогов. Вскоре у них родился сын, и я с радостью проводила время у них, нянчась с братом и наслаждаясь ощущением семьи.
Моя мама, яркая и красивая, тоже пыталась устроить свою личную жизнь. Но, похоже, у нее это не очень получалось. Периодически она срывалась на мне, и я испытывала ее гнев, доходивший до физических наказаний — синяки на теле становились привычным делом. Да-да, мне доставалось так же, как когда-то ей.
Она потом говорила, что просто не знала, как иначе меня воспитывать. Я чувствовала, как в ней борются любовь и страх – страх потерять меня. Но в минуты отчаяния и злости, когда нервы натягивались, как струны, она снова и снова повторяла те же ошибки, что были сделаны с ней, уверенная, что делает это ради моего блага: будто закаляет меня для жизни в, по ее мнению, жестоком мире.
Мы, поколение, стремящееся к развитию и осознанности, научились вместо: «Почему так? За что мне это?» задавать вопрос: «Зачем мне это? Для чего?», допуская, что все трудности и беды происходят с нами во благо, чтобы обнаружить глубокий смысл или даже задачу жизни. Я долго размышляла над причинами такого отношения к дочерям, ведь это отношение передавалось из поколения в поколение. Пытаясь найти ответы, я даже оправдывала свою бабушку в неготовности к материнству в девятнадцать лет из-за чудовищного отпечатка военного детства (она родилась в 1938 году и жила в оккупированном немцами Симферополе), а также перекладывала ответственность на тяжелую послевоенную жизнь, когда каждый (особенно в глубинке) выживал как мог.
Оправдывала и маму, которой пришлось пережить и травматичное расставание с любимой бабушкой, и демонстративную нелюбовь собственной матери.
Но самое важное и ценное, что мне удалось разорвать этот передающийся семейный паттерн насилия над личностью, еще будучи ребенком.
В первом классе после какого-то детского проступка мама избила меня, в очередной раз, до синяков. Остро прочувствовав жесткую несправедливость, я собрала вещи и ушла из дома. Понимая, что мама в первую очередь будет искать меня у отца, к нему я не пошла. Ушла я не для того, чтобы возвращаться, разработав свой, но как оказалось, несовершенный план 8-летнего ребенка.
Это событие встряхнуло, напугало и отрезвило мою маму. Она нашла меня, вернула домой, извинилась и больше не позволяла себе воспитывать меня ремнем.
Вскоре мама сошлась с веселым и добрым дядей Сережей, который великолепно играл на гитаре, пел душевные песни и любил ее так, что она смеялась каждый день. А мама любила меня, и мы с ней часто смеялись вместе. Если мама смеялась – значит, все хорошо! Смех – моя самая любимая энергия по жизни. Она всегда мне напоминает счастливую маму. Жизнь наладилась. На несколько лет... Точнее, на три года.
А потом мы переехали в Челябинск.
Почему после какой-то ссоры с дядей Сережей мама решила уехать из Ленинграда, неизвестно. Она никогда не могла рационально обосновать свое решение переехать, называя это судьбой.
Но люди часто называют судьбой то, что сами создают своими действиями, продиктованными импульсами и эмоциями.
Когда начинает дуть ветер перемен, кто-то меняет прическу или перекрашивает волосы, кто-то делает перестановку в квартире, а мама решила кардинально сменить место жительства.
Хотя все вышеперечисленное она также делала: из брюнетки становилась блондинкой, потом рыжей и обратно, а перестановка раз в год у нее была обязательной!
В общем, душа Марии Богдановны потребовала кардинальных перемен и в свой четвертый класс я пошла в городе Ч.
Сожалела ли она о переезде? Думаю, да, хоть и никогда об этом не говорила.
Я училась в школе, мама работала и продолжала весело и активно проводить свободное время, но не со мной. Мы жили какими-то параллельными жизнями, но иногда, нарушая законы геометрии, все же пересекались. Любила ли я ее? Конечно! Любила ли она меня? Конечно! Но я достаточно рано поняла, что любить меня так, как хотела я, мама никогда не сможет. Поэтому уровень принятия реальности у меня был максимальным. Она жила свою жизнь, строила свою судьбу. И заботилась о дочке так, как умела и могла.
В личной жизни у нее, красивой хохотушки, все было в порядке, а к совместной семейной она уже не стремилась. У нее была я – самостоятельная не по годам, и этого было достаточно. Была ли она счастлива в каких-то отношениях? Любила ли кого-то еще? Не знаю. Были романы, влюбленности, страсть, кураж, веселье... То, чего она и хотела. Или думала, что хотела.
Когда я поступила в экономический колледж, мама вошла в фазу «пришла пора, она остепенилась» и сошлась с мужчиной, который ее очень полюбил. С высоты моих тогдашних шестнадцати лет он был очень простой и рядом с мамой каким-то неказистым. Я называла их про себя «Стрекоза и Муравей». Могла ли я предположить тогда, что этот «Муравей Алексей» станет для меня настоящим земным ангелом, помогающим в разные периоды и морально, и материально, крестным отцом моего сына, щедрым дедушкой для дочки, а через тридцать три года я буду провожать его в последний путь, занимаясь организацией похорон?..
С Алексеем Ивановичем они были вместе лет шесть – то сходились, то расходились. Но даже после окончательного расставания смогли сохранить дружбу на всю жизнь. А когда в маминой жизни вновь появился Слава, он стал и ему другом.
Да! Слава (а точнее, Вячеслав Юрьевич) вновь появился в маминой жизни. Он приехал из Миндерлы, где прожил всю жизнь, в Челябинск к своей Марийке. Они встретились через 46 лет.
В благоприятное развитие этой истории в нашей семье не верил никто. Кроме мамы. Но начнем по порядку.
Однажды, придя к маме в гости, я застала ее немного отстраненной, с хитро сверкающими глазами и блуждающей улыбкой. На мои наводящие вопросы о ее состоянии она таинственно улыбалась и вдруг сказала:
– Я сейчас тебе расскажу что-то очень важное.
И замолчала, погрузившись в свой внутренний мир, подбирая слова, чтобы ввести в контекст истории.
– Мне написал в «Одноклассниках» сын моей первой любви. Еще до твоего папы я встречалась с мальчиком, и мы сильно любили друг друга. Его сын по просьбе Славы, так его зовут, давно меня искал в «Одноклассниках». Вот нашел. Просит написать мой номер телефона, чтобы его папа связался со мной.
– В смысле?! Я никогда не слышала ни о каком Славе. Ты никогда не рассказывала.
– У него сейчас трое детей и трое внуков. Старшая дочка – твоя ровесница. С женой он в разводе.
– И что, ты думаешь, он реально приедет?
– Я не думаю. Я знаю. Он приедет. Ко мне.
– Мам, ну это какая-то афера! У него там же вся жизнь – дети-внуки. Как он это все бросит???
– Он просто приедет ко мне.
Сейчас, когда пишу эти строки, заливаюсь слезами. Мама была в для нее неестественном состоянии умиротворения и уверенности. Я была ошарашена – я никогда не видела ее такой. Обычно, когда мы начинали спорить или я была с чем‑то не согласна и требовалась дополнительная информация или убедительные доводы, она заводилась с пол‑оборота, махала рукой и говорила: «Ну все, Оль! Давай тогда каждый при своем». А тут она улыбалась спокойно, ничего мне не доказывая, а констатируя то, в чем была уверена на сто процентов.
Около полугода они созванивались каждый день, воркуя как голубки. Мама слала ему фотографии и хорошела с каждым днем – любовь творила чудеса на наших глазах. Но даже несмотря на это, вся наша семья – мой муж, взрослый сын, сваты – оставалась скептически настроенной и ждала удобного случая, чтобы разоблачить афериста.
– Оля, Слава приедет через неделю. Он все дела завершил, уволился с работы и берет билеты на поезд.
– Мама, он не просит деньги тебя выслать? Пожалуйста, ничего не высылай!!!
Мама улыбалась. И смотрела на меня с нежной насмешкой. Так смотрят на обожаемое дите, которое несет ерунду...
Мама в этот период любила весь мир так, что я физически и эмоционально ощущала ее любовь к себе — нежную, согревающую и внимательную. Казалось, она впервые создавала энергетический купол любви и защищенности для своего ребенка, несмотря на то, что ему уже за 40.
Вячеслав Юрьевич приехал с чемоданом и аккордеоном в мае 2018-го. В феврале 2019-го они поженились. В декабре 2023-го мамы не стало...
Эпилог
Вячеслав Юрьевич влюбил в себя всю нашу семью с первых же дней. Когда он с теплой искренностью смотрел на свою Марийку, в его глазах загорались огоньки, как будто он видел в ней не просто любимую женщину, а целый мир, полный чудес.
В его добродушной улыбке деревенского парня таилась витальная сила, которая притягивала к нему людей, и мы все ощутили, с его появлением в нашей судьбе, прилив жизненной энергии. Вячеслав Юрьевич стал для нас настоящим членом семьи, который смог наполнить маму радостью изнутри.
Смотря на них, мы ощущали, что их любовь была настоящей симфонией двух душ, которые соединились в этом огромном мире. В эти моменты казалось, что даже время замедлилось, позволяя им наслаждаться этой гармонией и счастьем, которые они создавали.
Они вновь, словно попугаи-неразлучники, все делали вместе, слаженно и дружно. Моя мама всю жизнь вспыхивала как спичка при любом несогласии с ней, обижалась как дитя на любое неосторожное слово. И только Вячеслав Юрьевич мог шуткой и мягкой улыбкой останавливать назревающий ураган эмоций, разряжать обстановку и предотвращать извержение вулкана Марии Богдановны.
Нам с мамой никогда не удавалось выстроить ровные отношения, они были сложными и резкими, как американские горки. Но когда она наполнилась любовью, стала более терпимой и по-настоящему счастливой, мы снова, как когда-то в детстве, смеялись до слез, снимали смешные видео для «Тик-Тока», обожали ходить вдвоем в кафе и рестораны и душевно разговаривать глаза в глаза.
Я чувствовала всю глубину ее материнской гордости за меня – свое самое ценное достижение, которое она ласково называла лучшим жизненным проектом.
Мама ушла из жизни слишком рано – всего в шестьдесят шесть лет, оставив за собой историю борьбы с тяжелым диагнозом. Последний год ее жизни был наполнен невыносимой болью. И в эти темные дни рядом был ее Славка, чья любовь, забота и помощь не давали ей сломаться.
Вспоминая один момент, глаза невольно наполняются слезами. Мы ехали по оживленной улице, в салоне тепло, за окном солнечно. Я что-то спросила, а мама не ответила. Я взглянула на нее и увидела в профиле ушедший в себя, уязвимый и сосредоточенный взгляд – как будто она пыталась передать всю необъяснимую тяжесть в душе.
Она вдруг тихо-тихо заплакала, и это плач расплылся по салону и сделал тишину ещё плотнее. Голос дрогнул и губы прошептали: «Об одном только жалею, что со Славкой у нас так мало времени осталось побыть друг с другом...».
Эти слова упали как что-то хрупкое и ценное – и я почувствовал, как внутри все сжалось. До сих пор жалею, что не остановилась и не обняла ее. А продолжала ехать и молчать.
В ту минуту все обычные разговоры потеряли смысл; осталось только понимание, что время – не что-то абстрактное, а горячая, ускользающая материя, которую можно терять, не заметив.
В последние месяцы ее жизни, когда исчезли все желания и ничто не интересовало, единственным смыслом оставался любимый мужчина. Только он вызывал в ней энергию. Когда я приезжала к маме в больницу, первым вопросом был всегда:
– А где Слава? Почему он не приехал?
– Мама, он вчера был. Сегодня я тебя навещаю.
– М-м-м…
Именно он, простой мальчишка, полюбивший ее на заре юности, стал мощным источником силы и единственным смыслом в последние дни жизни.
Эта реальная история – наше семейное сокровище, которое будет передаваться из поколения в поколение как величайшее свидетельство истинной любви: любви, творящей чудеса. Именно она делала маму счастливой даже в болезни, смягчала ее страдания, продлевала жизнь и наполняла смыслом.
Итак, она звалась Мария, но почти всем представлялась Мариной. Два особенных человека в ее жизни, самые любимые, звали Марийка.
С древних времен существует поверье, что именно имя человека предопределяет его жизненный путь. Что это не просто набор звуков, а мощный тотем, способный защищать и формировать характер. В сочетании с отчеством оно становится уникальным ключом к самоидентификации и отношениям с окружающими.
А как сложится жизнь человека, когда официально зарегистрирован под одним именем, известен окружающим под другим, а близкие люди зовут третьим? Как эти три идентичности переплетаются, создавая уникальную историю – судьбу человека?
Отец Марии, бунтарь, красавец и ловелас Богдан Могилюк, так и не женился на ее матери. Но дочь признал и полюбил с первых мгновений. Черноволосая девочка родилась в городе Кизеле в год завершения кулацкой ссылки для семьи Могилюков.
Новоиспеченный отец ранним июньским утром беспечно и самоуверенно, без согласования с мамой новорожденной зарегистрировал дочку в городском ЗАГСе, записав ее Марией.
Имя ребенка стало очередным камнем преткновения между родителями. Мама Марии, Галина, категорически не согласилась с таким самовольством и наперекор официальному документу с рождения называла дочку Маринкой.
Так у маленького человека одновременно появились два имени. Бабушка по папиной линии, чтобы не разжигать еще больше конфликт и не выбирать чью-то сторону, стала нежно называть внучку Марийкой.
Вскоре после рождения нового члена большой семьи вся родня вернулась из ссылки на родину — в Украину, в Тернопольский район, в родную Слободку. Однако и там все пошло совсем не так, как планировалось.
Что произошло в молодой семье? Почему мама Марии, собрав нехитрые пожитки, забрала ребенка и сделала «фью»? История умалчивает.
Но через пару лет Галина вернулась в Слободку, тогда ей было чуть больше двадцати лет. Вернулась лишь для того, чтобы оставить дочь с отцом и бабушкой. Со словами «пока жизнь не наладится» она исчезла из жизни двухлетней дочери на долгие годы.
К сожалению, и отец вскоре покинул дочь, уехав в другие края, где и оборвалась его жизнь. Несмотря на все горести, свалившиеся на ребенка, годы, проведенные у бабушки Тони в Слободке, стали для девочки самыми беззаботными и счастливыми в ее жизни. В этом уютном доме, наполненном теплом и добротой, Мария ощущала себя словно «у Христа за пазухой». Каждый день был пронизан заботой бабушки, которая делала все возможное, чтобы обеспечить внучке чувство безопасности и любви, заменив ей и мать, и отца. Именно эти годы научили ее ценить простые радости жизни и находить счастье в мелочах. Именно они напоминали ей всю жизнь, насколько драгоценны мгновения тихого счастья, растворенные в простых радостях бытия.
Марийка росла шустрой, улыбчивой и очень красивой девочкой. Вечерами, расчесывая ей волосы, бабушка любовалась ею как картинкой: черные волосы воронова крыла струились по плечам, словно ночное небо, а яркие глаза, «словно голубые блюдца», так говорила бабушка, сияли, не ведая горя.
Жизнь в Слободке текла неторопливо и предсказуемо. Бабушка Тоня вставала рано, до петухов, покрывала свои, некогда густые, но после многолетней ссылки в шахтерском городе, изрядно поредевшие волосы платком, тихонечко шуршала по дому и после, уходила на огород. Каждое утро Марийка просыпалась от аромата свежеприготовленного завтрака: пышных оладушков с яблоками, ленивых вареников или рассыпчатой пшенной каши. Бабушка всегда говорила, что вкусный завтрак — основа счастливого дня. Девочку особо не загружали работой по дому, и, как ветер в поле, она носилась по деревне с подружками, придумывая игры и развлечения.
Есть такое понятие в квантовой физике — точка бифуркации, она же точка невозврата. Это момент, когда происходит событие, перестраивающее линию судьбы и формирующее новую реальность с ее дальнейшим, абсолютно непредсказуемым жизненным сюжетом.
Крутой вираж Судьба сделала в 12 лет Марийки, когда за ней неожиданно приехала ее мама. Бабушка Тоня умоляла оставить внучку, но бесплатные квадратные метры от государства были неумолимо притягательны, и Галина, не поддавшись мольбам бывшей свекрови, увезла дочь.
У решительной и предприимчивой молодой женщины жизнь все эти годы кипела и бурлила: несмотря на жесткие ограничения и репрессии, люди в СССР в 60-х годах стали дышать свободнее и жить веселее. Где и как Галина колесила по стране, история умалчивает. А в 70-х она обосновалась в далекой Сибири, в селе Миндерла Красноярского края, где и «пригодился» ребенок, рожденный тринадцать лет назад – сельсовет бесплатно предоставлял жилье работникам с детьми.
Насколько девочка была обожаема своей бабушкой, настолько же она была нелюбима матерью. И эта эмоциональная травма преследовала ее всю жизнь, тревожила и вызывала страдания даже в зрелом возрасте. Когда мать и дочь начали жить вместе, утро для девочки начиналось не с аромата приготовленного завтрака, а с нахмуренных бровей, придирок и упреков. Истории счастливого воссоединения не случилось, дочка вызывала раздражение у матери просто своим существованием.
– Маринка, почему так рано встала?
– Почему так поздно пришла?
– Маринка, почему полы плохо помыла?
– Маринка, почему кашу пересолила?
– Маринка, где кастрюля? Почему на место не положила?
Все это сопровождалось подзатыльниками и иногда даже побоями.
Отчим, какое-то время наблюдавший со стороны за издевательским отношением к падчерице, в один из дней не выдержал и задержал взметнувшуюся руку Галины с кочергой, приняв удар на себя. Зная крутой нрав жены, он позволил ей выместить бушующую злость на себе, а затем потребовал отстать от девчонки. С Марией у него сложились дружеские отношения, и она всю жизнь была ему благодарна, чувствуя поддержку и защиту... от родной матери.
Жизнь в Миндерле Красноярского края оказалась далеко не радостной, и настоящим спасением в этот темный период жизни стал парнишка с соседней улицы — Славка. По просьбе своей матери, работавшей в школе, он как-то занес учебники для «приезжей девочки».
Переступив порог незнакомого дома, Славка застыл на месте: перед ним стояла «принцесса заморская», о такой он читал в книгах, но никогда не встречал в реальной жизни. Красивая черноволосая девушка с синими глазами смотрела на него тоже с любопытством и легкой настороженностью.
Юная красота Марии покорила сердце Славки. Он почувствовал, как дыхание участилось, когда их взгляды встретились. Девочка возраста Джульетты тоже ощутила это волшебное притяжение и мгновенно поняла, что между ними возникает какая-то особая связь. Улыбнувшись и представившись Марийкой, она завоевала сердце Славки навсегда.
Немудрено, что тринадцатилетняя девчонка при каждом удобном и неудобном случае сбегала из дома к Славке, который смотрел с восхищением, сдувал пылинки, делал за нее уроки и выполнял все просьбы и поручения, лишь бы чаще слышать ее звонкий заливистый смех. Славка очень помогал ей с учебой – после украинской школы Марии было трудно осваивать другую школьную программу. Но мальчишка, будучи отличником, обстоятельно и терпеливо объяснял ей даже сложные темы.
Именно с ним она вновь ощутила такую необходимую для жизни энергию радости и ощущение безопасности. Он был единственным человеком на новом месте, в новой жизни, который называл её так же, как бабушка Тоня. С ним она была счастливой Марийкой.
Со дня знакомства они практически и не расставались. Для всей деревни было очевидно, что вскоре эти неразлучники поженятся.
Больше всего влюблённые обожали бегать на речку: летом лакомиться дикорастущей смородиной и целоваться, а зимой лежать на льду, хохотать, смотреть на звездное небо, ловить ртом снежинки и строить планы на жизнь. Планы, которым, как оказалось, никогда не суждено было сбыться. Смешили дети Бога своими мечтами...
Славка был старше Марийки на два года, и, уходя в армию, он со спокойным сердцем оставлял свою школьницу-хохотушку: в деревне все тихо и размеренно, с мамой у нее отношения более-менее нормализовались, а как вернется, так и сыграют свадьбу.
Но парень не учел, что фраза «куда ты денешься с подводной лодки» в его случае окажется совсем не метафоричной. Славку отправили не просто служить в ближайшую часть, а перебросили на атомную подводную лодку без возможности сообщить родным и отправить письма. Два года от него не было вестей.
Оканчивая восьмой класс и постоянно слыша упреки матери, что она – иждивенка, Марина мечтала только об одном: уйти, уплыть, уехать, улететь из дома и, по возможности, подальше.
Славка не писал; сердце леденело, а страх перед будущим сковывал ее. Когда подружка предложила вместе поехать в Ленинград и поступать в торговый техникум, ей, по большому счету, было все равно.
Все организовывалось быстро и удачно, словно попутный ветер судьбы подгонял события и подкидывал возможности для переезда. Отчим втайне от жены купил падчерице билеты на поезд и дал денег на первое время.
Так Мария-Марина, за компанию, оказалась в огромном городе на Неве, где у нее не было никого — ни одной родной души. Сложно представить, какой страх перед неопределенностью жизни жил в душе шестнадцатилетней девочки. Но для нее даже это состояние было лучше, чем находиться рядом с мамой.
Сложно представить, какой страх перед неопределенностью жизни был в душе у 16-летней девочки. Но для нее даже это состояние было лучше, чем находиться рядом с родной мамой...
Через некоторое время то ли пришло письмо от какой-то одноклассницы, то ли сама подружка приехала в гости и рассказала, что Славка жив‑здоров, вернулся и уже зажигает с другими девчонками. Гордая и резкая Мария навсегда вычеркнула парня из своего сердца и никогда никому о нём не говорила – никогда и никому. Примерно через год после этих событий мама познакомилась с моим папой, они поженились, и вскоре родилась я.
Да-да, Мария, она же Марина и Марийка в одном лице, – это моя мама. Ее уже нет в живых, но история ее жизни — это настоящий гимн преодоления негативных семейных сценариев и великого могущества любви. Провожая ее в последний путь, я пообещала рассказать миру о крутых виражах ее жизненного пути. И это не просто память о ней – это напоминание всем нам о том, что любовь – это не только чувство, эмоция, это мощная сила, способная менять судьбы и создавать настоящие чудеса. И именно эта сила делает нас по-настоящему живыми.
Это надежда на то, что в жизни каждого человека, как бы ни был тернист его путь и заледеневшим сердце, встретится тот, кто озарит и согреет своим светом, вдохновит на радость жизни и великодушие, так необходимое тем, кто рядом.
Итак, судьба моей мамы вновь сделала резкий переход в другую реальность, где никто ее больше не назовет Марийкой. Да и Марией она оставалась только в паспорте. Всем она представлялась как Марина и очень любила строки Цветаевой:
Кто создан из камня, кто создан из глины,
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
К сожалению для меня, союз мамы с папой оказался недолгим.
Папа, добряк-шофер-работяга, искал семейного тепла, спокойствия и уюта. Мама же, молодая яркая жар-птица с заледеневшим сердцем, мечтала о веселье и кураже. Их пути разошлись, когда мне было всего четыре года, оставив за собой эхо из несбывшихся надежд и мечтаний.
Папа почти сразу женился на Лидии, женщине со спокойным нравом и немного печальными глазами, с очень светлой и доброй улыбкой. Их дом стал для меня примером – очагом, где царила доброжелательная атмосфера уюта и аромата пирогов. Вскоре у них родился сын, и я с радостью проводила время у них, нянчась с братом и наслаждаясь ощущением семьи.
Моя мама, яркая и красивая, тоже пыталась устроить свою личную жизнь. Но, похоже, у нее это не очень получалось. Периодически она срывалась на мне, и я испытывала ее гнев, доходивший до физических наказаний — синяки на теле становились привычным делом. Да-да, мне доставалось так же, как когда-то ей.
Она потом говорила, что просто не знала, как иначе меня воспитывать. Я чувствовала, как в ней борются любовь и страх – страх потерять меня. Но в минуты отчаяния и злости, когда нервы натягивались, как струны, она снова и снова повторяла те же ошибки, что были сделаны с ней, уверенная, что делает это ради моего блага: будто закаляет меня для жизни в, по ее мнению, жестоком мире.
Мы, поколение, стремящееся к развитию и осознанности, научились вместо: «Почему так? За что мне это?» задавать вопрос: «Зачем мне это? Для чего?», допуская, что все трудности и беды происходят с нами во благо, чтобы обнаружить глубокий смысл или даже задачу жизни. Я долго размышляла над причинами такого отношения к дочерям, ведь это отношение передавалось из поколения в поколение. Пытаясь найти ответы, я даже оправдывала свою бабушку в неготовности к материнству в девятнадцать лет из-за чудовищного отпечатка военного детства (она родилась в 1938 году и жила в оккупированном немцами Симферополе), а также перекладывала ответственность на тяжелую послевоенную жизнь, когда каждый (особенно в глубинке) выживал как мог.
Оправдывала и маму, которой пришлось пережить и травматичное расставание с любимой бабушкой, и демонстративную нелюбовь собственной матери.
Но самое важное и ценное, что мне удалось разорвать этот передающийся семейный паттерн насилия над личностью, еще будучи ребенком.
В первом классе после какого-то детского проступка мама избила меня, в очередной раз, до синяков. Остро прочувствовав жесткую несправедливость, я собрала вещи и ушла из дома. Понимая, что мама в первую очередь будет искать меня у отца, к нему я не пошла. Ушла я не для того, чтобы возвращаться, разработав свой, но как оказалось, несовершенный план 8-летнего ребенка.
Это событие встряхнуло, напугало и отрезвило мою маму. Она нашла меня, вернула домой, извинилась и больше не позволяла себе воспитывать меня ремнем.
Вскоре мама сошлась с веселым и добрым дядей Сережей, который великолепно играл на гитаре, пел душевные песни и любил ее так, что она смеялась каждый день. А мама любила меня, и мы с ней часто смеялись вместе. Если мама смеялась – значит, все хорошо! Смех – моя самая любимая энергия по жизни. Она всегда мне напоминает счастливую маму. Жизнь наладилась. На несколько лет... Точнее, на три года.
А потом мы переехали в Челябинск.
Почему после какой-то ссоры с дядей Сережей мама решила уехать из Ленинграда, неизвестно. Она никогда не могла рационально обосновать свое решение переехать, называя это судьбой.
Но люди часто называют судьбой то, что сами создают своими действиями, продиктованными импульсами и эмоциями.
Когда начинает дуть ветер перемен, кто-то меняет прическу или перекрашивает волосы, кто-то делает перестановку в квартире, а мама решила кардинально сменить место жительства.
Хотя все вышеперечисленное она также делала: из брюнетки становилась блондинкой, потом рыжей и обратно, а перестановка раз в год у нее была обязательной!
В общем, душа Марии Богдановны потребовала кардинальных перемен и в свой четвертый класс я пошла в городе Ч.
Сожалела ли она о переезде? Думаю, да, хоть и никогда об этом не говорила.
Я училась в школе, мама работала и продолжала весело и активно проводить свободное время, но не со мной. Мы жили какими-то параллельными жизнями, но иногда, нарушая законы геометрии, все же пересекались. Любила ли я ее? Конечно! Любила ли она меня? Конечно! Но я достаточно рано поняла, что любить меня так, как хотела я, мама никогда не сможет. Поэтому уровень принятия реальности у меня был максимальным. Она жила свою жизнь, строила свою судьбу. И заботилась о дочке так, как умела и могла.
В личной жизни у нее, красивой хохотушки, все было в порядке, а к совместной семейной она уже не стремилась. У нее была я – самостоятельная не по годам, и этого было достаточно. Была ли она счастлива в каких-то отношениях? Любила ли кого-то еще? Не знаю. Были романы, влюбленности, страсть, кураж, веселье... То, чего она и хотела. Или думала, что хотела.
Когда я поступила в экономический колледж, мама вошла в фазу «пришла пора, она остепенилась» и сошлась с мужчиной, который ее очень полюбил. С высоты моих тогдашних шестнадцати лет он был очень простой и рядом с мамой каким-то неказистым. Я называла их про себя «Стрекоза и Муравей». Могла ли я предположить тогда, что этот «Муравей Алексей» станет для меня настоящим земным ангелом, помогающим в разные периоды и морально, и материально, крестным отцом моего сына, щедрым дедушкой для дочки, а через тридцать три года я буду провожать его в последний путь, занимаясь организацией похорон?..
С Алексеем Ивановичем они были вместе лет шесть – то сходились, то расходились. Но даже после окончательного расставания смогли сохранить дружбу на всю жизнь. А когда в маминой жизни вновь появился Слава, он стал и ему другом.
Да! Слава (а точнее, Вячеслав Юрьевич) вновь появился в маминой жизни. Он приехал из Миндерлы, где прожил всю жизнь, в Челябинск к своей Марийке. Они встретились через 46 лет.
В благоприятное развитие этой истории в нашей семье не верил никто. Кроме мамы. Но начнем по порядку.
Однажды, придя к маме в гости, я застала ее немного отстраненной, с хитро сверкающими глазами и блуждающей улыбкой. На мои наводящие вопросы о ее состоянии она таинственно улыбалась и вдруг сказала:
– Я сейчас тебе расскажу что-то очень важное.
И замолчала, погрузившись в свой внутренний мир, подбирая слова, чтобы ввести в контекст истории.
– Мне написал в «Одноклассниках» сын моей первой любви. Еще до твоего папы я встречалась с мальчиком, и мы сильно любили друг друга. Его сын по просьбе Славы, так его зовут, давно меня искал в «Одноклассниках». Вот нашел. Просит написать мой номер телефона, чтобы его папа связался со мной.
– В смысле?! Я никогда не слышала ни о каком Славе. Ты никогда не рассказывала.
– У него сейчас трое детей и трое внуков. Старшая дочка – твоя ровесница. С женой он в разводе.
– И что, ты думаешь, он реально приедет?
– Я не думаю. Я знаю. Он приедет. Ко мне.
– Мам, ну это какая-то афера! У него там же вся жизнь – дети-внуки. Как он это все бросит???
– Он просто приедет ко мне.
Сейчас, когда пишу эти строки, заливаюсь слезами. Мама была в для нее неестественном состоянии умиротворения и уверенности. Я была ошарашена – я никогда не видела ее такой. Обычно, когда мы начинали спорить или я была с чем‑то не согласна и требовалась дополнительная информация или убедительные доводы, она заводилась с пол‑оборота, махала рукой и говорила: «Ну все, Оль! Давай тогда каждый при своем». А тут она улыбалась спокойно, ничего мне не доказывая, а констатируя то, в чем была уверена на сто процентов.
Около полугода они созванивались каждый день, воркуя как голубки. Мама слала ему фотографии и хорошела с каждым днем – любовь творила чудеса на наших глазах. Но даже несмотря на это, вся наша семья – мой муж, взрослый сын, сваты – оставалась скептически настроенной и ждала удобного случая, чтобы разоблачить афериста.
– Оля, Слава приедет через неделю. Он все дела завершил, уволился с работы и берет билеты на поезд.
– Мама, он не просит деньги тебя выслать? Пожалуйста, ничего не высылай!!!
Мама улыбалась. И смотрела на меня с нежной насмешкой. Так смотрят на обожаемое дите, которое несет ерунду...
Мама в этот период любила весь мир так, что я физически и эмоционально ощущала ее любовь к себе — нежную, согревающую и внимательную. Казалось, она впервые создавала энергетический купол любви и защищенности для своего ребенка, несмотря на то, что ему уже за 40.
Вячеслав Юрьевич приехал с чемоданом и аккордеоном в мае 2018-го. В феврале 2019-го они поженились. В декабре 2023-го мамы не стало...
Эпилог
Вячеслав Юрьевич влюбил в себя всю нашу семью с первых же дней. Когда он с теплой искренностью смотрел на свою Марийку, в его глазах загорались огоньки, как будто он видел в ней не просто любимую женщину, а целый мир, полный чудес.
В его добродушной улыбке деревенского парня таилась витальная сила, которая притягивала к нему людей, и мы все ощутили, с его появлением в нашей судьбе, прилив жизненной энергии. Вячеслав Юрьевич стал для нас настоящим членом семьи, который смог наполнить маму радостью изнутри.
Смотря на них, мы ощущали, что их любовь была настоящей симфонией двух душ, которые соединились в этом огромном мире. В эти моменты казалось, что даже время замедлилось, позволяя им наслаждаться этой гармонией и счастьем, которые они создавали.
Они вновь, словно попугаи-неразлучники, все делали вместе, слаженно и дружно. Моя мама всю жизнь вспыхивала как спичка при любом несогласии с ней, обижалась как дитя на любое неосторожное слово. И только Вячеслав Юрьевич мог шуткой и мягкой улыбкой останавливать назревающий ураган эмоций, разряжать обстановку и предотвращать извержение вулкана Марии Богдановны.
Нам с мамой никогда не удавалось выстроить ровные отношения, они были сложными и резкими, как американские горки. Но когда она наполнилась любовью, стала более терпимой и по-настоящему счастливой, мы снова, как когда-то в детстве, смеялись до слез, снимали смешные видео для «Тик-Тока», обожали ходить вдвоем в кафе и рестораны и душевно разговаривать глаза в глаза.
Я чувствовала всю глубину ее материнской гордости за меня – свое самое ценное достижение, которое она ласково называла лучшим жизненным проектом.
Мама ушла из жизни слишком рано – всего в шестьдесят шесть лет, оставив за собой историю борьбы с тяжелым диагнозом. Последний год ее жизни был наполнен невыносимой болью. И в эти темные дни рядом был ее Славка, чья любовь, забота и помощь не давали ей сломаться.
Вспоминая один момент, глаза невольно наполняются слезами. Мы ехали по оживленной улице, в салоне тепло, за окном солнечно. Я что-то спросила, а мама не ответила. Я взглянула на нее и увидела в профиле ушедший в себя, уязвимый и сосредоточенный взгляд – как будто она пыталась передать всю необъяснимую тяжесть в душе.
Она вдруг тихо-тихо заплакала, и это плач расплылся по салону и сделал тишину ещё плотнее. Голос дрогнул и губы прошептали: «Об одном только жалею, что со Славкой у нас так мало времени осталось побыть друг с другом...».
Эти слова упали как что-то хрупкое и ценное – и я почувствовал, как внутри все сжалось. До сих пор жалею, что не остановилась и не обняла ее. А продолжала ехать и молчать.
В ту минуту все обычные разговоры потеряли смысл; осталось только понимание, что время – не что-то абстрактное, а горячая, ускользающая материя, которую можно терять, не заметив.
В последние месяцы ее жизни, когда исчезли все желания и ничто не интересовало, единственным смыслом оставался любимый мужчина. Только он вызывал в ней энергию. Когда я приезжала к маме в больницу, первым вопросом был всегда:
– А где Слава? Почему он не приехал?
– Мама, он вчера был. Сегодня я тебя навещаю.
– М-м-м…
Именно он, простой мальчишка, полюбивший ее на заре юности, стал мощным источником силы и единственным смыслом в последние дни жизни.
Эта реальная история – наше семейное сокровище, которое будет передаваться из поколения в поколение как величайшее свидетельство истинной любви: любви, творящей чудеса. Именно она делала маму счастливой даже в болезни, смягчала ее страдания, продлевала жизнь и наполняла смыслом.
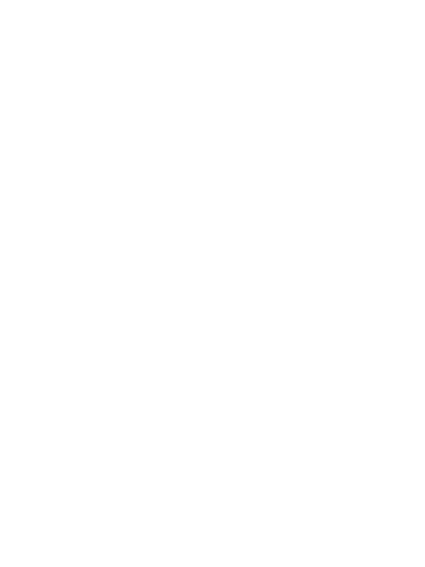
Геннадий БАБКИН
Родился в 1959 г. в Азербайджанской ССР, член Российского союза писателей, награжден медалями: М. Цветаевой, А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя, А.Блока (2022-2025 гг.) за вклад в развитие современной российской литературы. Финалист литературных конкурсов 2021- 2025 гг. «Есть только музыка одна», «Герои Великой Победы», «Классики и современники», «Мы и наши маленькие волшебники». Лауреат Международного литературного конкурса «Славянское слово». Номинант национальной литературной премии «Писатель года». Публикации в «Литературной газете», журналах «Молоко», «Крымское приключение», «Союз писателей», «Вторник», «Русское поле», альманахах Российского союза писателей.
Авторство книг: роман «Дети Порт-Петровска» (2025 г.), повесть «По следам Алкмеона», сборники рассказов: «Небо – это тоже земля» (2019 г.), «Степная рапсодия» (2022 г.), «|Один билет до конечной» (2024 г.).
Родился в 1959 г. в Азербайджанской ССР, член Российского союза писателей, награжден медалями: М. Цветаевой, А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Гоголя, А.Блока (2022-2025 гг.) за вклад в развитие современной российской литературы. Финалист литературных конкурсов 2021- 2025 гг. «Есть только музыка одна», «Герои Великой Победы», «Классики и современники», «Мы и наши маленькие волшебники». Лауреат Международного литературного конкурса «Славянское слово». Номинант национальной литературной премии «Писатель года». Публикации в «Литературной газете», журналах «Молоко», «Крымское приключение», «Союз писателей», «Вторник», «Русское поле», альманахах Российского союза писателей.
Авторство книг: роман «Дети Порт-Петровска» (2025 г.), повесть «По следам Алкмеона», сборники рассказов: «Небо – это тоже земля» (2019 г.), «Степная рапсодия» (2022 г.), «|Один билет до конечной» (2024 г.).
ДЕТИ ПОРТ-ПЕТРОВСКА
Главы из романа
Осознавать и запоминать увиденное я начал рано. Едва перевалив за четырехлетний рубеж, я с достоверной точностью описывал взрослым эпизоды из моего недавнего младенчества, а они удивлялись и не верили, утверждая, что все это было заимствовано мной из их же рассказов. Наивные, скучные взрослые! В моей памяти и сейчас осталось немало ярких моментов из раннего прошлого, которые не стерли ни крутые повороты судьбы, ни суровое военное детство, ни безжалостная старость.
– А-гу! А-гу!
Я вижу, как меня подбрасывает над собой рослый мужчина, а я закатываюсь смехом и тяну руки к мальчику, играющему с машинками на полу. Это мой старший братик Юра. Он одет в коричневую курточку и не разрешает мне трогать его любимую картинку – вырезку из коробки конфет «Серый волк и семеро козлят».
Я много раз задавал себе вопрос, почему именно этот обрывок глубже других врезался мне в память, и не находил на него ответа. Может быть, потому что с братиком нас разлучили родители, когда развелись, и вскоре после этого он умер? А может, потому что тот высокий, статный мужчина и есть мой родной отец, который в одночасье так запросто исчез из моей жизни, что я всегда думал, что он обязательно вернется, и продолжал надеяться на это и ждать его вплоть до появления седины на висках.
Я хорошо помню поездку моих родителей из Махачкалы в Нальчик. Это было до 1938 года, потому что тогда еще не было моей младшей сестры, Светы, она родилась немного позже. Перед посадкой в вагон мне купили в буфете шоколадный паровоз, который я потом вспоминал всю войну. Это лакомство долгое время оставалось для меня эталоном счастья, вершиной желаний, с которым не сравнятся никакие другие наслаждения в жизни. Хотя в поездке их было тоже не мало. Например, чего только стоило наблюдение из окна. В начале пути поезд проходил вдоль берега моря, где на пристанях стояло огромное количество лодок. Большие и маленькие, новые и совсем уже ветхие, казалось, они не кончатся никогда. Меня захватила мысль, как они все помещаются в море? Я думал об этом всю дорогу и под конец решил, что лодки плавают строго по очереди.
В Нальчике мне запомнился зелёный деревянный забор в частном доме, где мы жили. Когда я уже повзрослел и ходил по улицам родной Махачкалы, то, увидев похожую ограду, всегда останавливался и вспоминал ту мою первую удивительную поездку, которая, кстати сказать, оказалась для меня знаковой. Вечером в день приезда я сделал свои первые шаги. Может быть, этот эпизод и остался бы незамеченным в моей памяти, но, когда я пошёл, родственники подняли такой переполох, шум и гвалт, что мне пришлось отметить в голове это событие. Впрочем, честно сказать, я не очень-то этому удивился. Все окружавшие меня взрослые и их дети ходили, а значит, рано или поздно это должно было свершиться со мной. Способность анализировать я приобрел гораздо раньше, чем встал на ноги. Что бы со мной ни случилось, какое бы событие ни произошло, я всегда пытался понять суть, найти причину, а потом уже думать, как реагировать. Это помогало мне в жизни всегда. Конечно, я еще не мог объяснить, откуда у меня так много родственников, и почему мы все живем в одном дворе, но я вместе со всеми вдыхал чадящий смрад от печки, пил ледяную воду из колонки и бегал в отхожее место одно на всех в дальний угол двора. Мой мир в силу моего возраста ограничивался территорией, огороженной нашим забором, но я уже тогда знал, что там, за воротами, существует совсем другой мир, совершенно не похожий на тот, что меня окружает: огромный, шумный город с его многолюдными улицами, высокими зданиями и широкими площадями. Я увидел его, когда меня водили к дяде Азику, брату моего отца. Он встретил нас на пороге, долго молчал, щурился и рассматривал меня из-под кустистых бровей, а потом, вдруг весело подмигнув, стал угощать разными сладостями. Я хорошо запомнил дорогую скатерть на столе, сверкающие, разноцветные рюмки и огромный, до потолка, полированный комод. У нас в доме такой красоты, конечно, не было, а размышлять об этом мне не хотелось, потому что в обеих руках я держал по леденцу, на столе пряно пахла халва, а рядом с ней серебристой фольгой сверкала поломанная на дольки шоколадка.
Дальнейшие события моей начинающейся жизни не оставили у меня заметного следа, кроме одного случая, который запомнился мне на всю жизнь, и которому я так и не смог найти объяснений. Тот день был совсем обычным и не примечательным, я тихо играл во дворе, как вдруг за забором на улице что-то сильно прогрохотало. Отложив в сторону свои кубики, я выглянул за ворота. По дороге, поднимая пыль, и, дымя выхлопными газами, ехала машина. Громко переговариваясь, шли на учебу школьники. На углу стояла очередь за керосином. Сделав вывод, что вокруг нет ничего страшного, и все интересно, я с трудом открыл калитку и шагнул за ворота. Вкусив первый глоток свободы, я начал смелеть, и в моей головёнке, словно фигурки из кубиков, стали складываться грандиозные планы.
Во-первых, надо было дойти до угла и заглянуть, что там находиться. Во-вторых, мой свежий ум мне подсказывал, что оно произойдет только тогда, когда случится во-первых. И, долго не думая, я отправился в путь. Благополучно дойдя до угла, и, заглянув за него, я убедился, что и там тоже нет никаких опасностей, а улица шире и еще интересней: по обеим ее сторонам стояли высокие здания, по дороге ехали грузовики, а по тротуарам шли нарядные люди. Не успев все это хорошенько рассмотреть, у меня в голове молнией сверкнула мысль: дядя Азик! И сразу же перед глазами замаячила распотрошенная на дольки шоколадка. Я решительно шагнул за угол и уже не сомневался, что надо идти именно туда.
Один квартал, другой... я шел по Комсомольской улице, разглядывая ворота, и никак не мог найти знакомое место. Тогда это было слишком сложно для меня, но я продолжал идти, и мне все время казалось, что следующий дом будет тот, что мне нужен. Всю дорогу навстречу мне попадались прохожие. Некоторые из них обращали на меня внимание, останавливались и что-то мне говорили, но я их не слушал и настойчиво продвигался вперед.
Вдруг передо мной открылось огромное пространство: я дошел до центральной площади. Сделав по инерции несколько шагов, остановился и обомлел. Ничего подобного я никогда еще не видел. Как завороженный, я не мог оторвать глаз от открывшейся передо мной грандиозной панорамы. Неохватная ширина территории и внушительность зданий поражали. Легковые машины на другом конце площади казались игрушечными, а люди – маленькими человечками. У самого красивого дома возвышалось бетонное сооружение, на котором стоял огромный памятник.
Мне вдруг стало так интересно, что я сразу забыл и про дядю Азика, и про его дом с железными воротами, и даже про сладкую шоколадку. Перейдя площадь, я остановился и задрал голову вверх. Передо мной высилась гигантская фигура Сталина. Я его сразу узнал, потому что видел повсюду: на газетах, которые приносили, на почетных грамотах дяди Володи, на настенном портрете в комнате дедушки. О Сталине в нашем дворе говорили много. Это имя слышалось чаще других, но что-либо понять из разговоров у меня не получалось, и я тогда решил, что раз взрослые его не ругают, значит он хороший. Я еще раз осмотрел памятник. Сталин протягивал руки вперед и пристально вглядывался в меня. Его лицо было спокойным, но мне показалось, что он все-таки чем-то недоволен. Интересно, чем? Я решил поразмышлять об этом, как вдруг вспомнил, что еще с обеда ушел из дому, нахожусь неизвестно где, солнце уже спряталось за горизонт, а с моря веет вечерней прохладой.
Ледяным обручем меня сковал страх. Я стоял и не мог сдвинуться с места. Это продолжалось совсем недолго, потому что следом меня обуяла паника. Я ринулся бежать, но тут же остановился. Куда? Я вертел головой по сторонам и не мог вспомнить, откуда я пришел. Мне стало страшно. Я решил громко заплакать, чтоб меня услышали и стал оглядываться по сторонам. Но возле меня никого не оказалось. Один только Сталин. Не знаю почему, я развернулся к нем лицом и поднял голову. Все изменилось. Теперь его взгляд был направлен не на меня, а совсем в другую сторону. Я машинально повернулся и посмотрел туда же.
– Ух ты!
Вот он, сквер, мимо которого я шел, там – угол аптеки, чуть дальше – здание милиции, а вот и сам дядя милиционер...
В районном отделении сильно пахло табачным дымом, ваксой и еще чем-то очень неприятным.
– Ну, и хто ты такий?
Моложавый милиционер в белой гимнастерке и редкими, прилизанными волосами выпятил на меня бесцветные глаза.
– Э-э! Пилипчук! Зачем пугать, малчик?
Второй милиционер, постарше, с треугольничками на петлицах, посадил меня на стол и протянул мне ириску.
– Салам! Как зовут?
Я решил конфету не брать и спрятал руки за спину.
– Бери, вкусный конфет, не бойся!
Старший милиционер положил ириску на стол. Я сидел и не шевелился. Сегодня так много всего свалилось на мою голову, что я просто не успевал на это реагировать. Впрочем, этот милиционер был совсем не страшный, к тому же еще и угощал меня конфетами.
– Товарищу старшина, дывытесь, вин ни трохи не злякался. Як звирок очамы зыркае!
Пилипчук засмеялся, обнажив редкие зубы. Не знаю почему, но он мне сразу не понравился. И даже не потому, что зажилил конфету, какая-то отталкивающая нехорошесть присутствовала во всем его теле. Мне, конечно, было трудно это объяснить, но он мне показался похожим на ящерицу, верткую, скользкую и противную. Не знаю, что было бы дальше, но в этот момент в дежурное помещение влетела моя мама и со слезами бросилась ко мне.
Когда все успокоилось, маму посадили за стол и стали составлять протокол.
Старшина курил у окна, а Пилипчук задавал вопросы и записывал. Ириску я все-таки съел, и от нечего делать сидел и, навострив уши, прислушивался к допросу.
– Хвамилия? – Пилипчук обмакнул ручку в чернильницу.
– Балкина Анна, – Мама достала носовой платок.
– По батьке?
– Дмитриевна.
– Дивоча хвамилия?
– Эльсон... – Мама опустила голову.
Пилипчук дернулся и поставил кляксу на лист.
– Ой, гралыся гуси! Товарищу старшина, знову жидрихи!
– Молчать! – Старшнина стукнул кулаком по столу.
– Як скажете, – Пилипчук пожал плечами, почесал затылок, придвинул ближе чернильницу. – Муж хто?
– Балкин Леонид, парикмахер, – Мама сжала платочек в комок.
– Це ни Фимы-скорняка сын? – Пилипчук снова показал кривые зубы.
– Он, – Мама отвернулась.
Пилипчук взял в руки протокол, поднялся, подошел к старшине.
– Шо писать? Там цило кодло...
– Дай! – Старшина выхватил из рук Пилипчука протокол и, сверкнув глазами, разорвал его пополам. Затем взял меня за руку и подвел к маме, – Иди, женщина, малчик кушать пора! Иди!
Перед сном я спросил маму, кто такие жидрихи, но она мне не ответила. Такого с ней не случалось никогда. Усталая, нездоровая, занятая, она никогда мне раньше не отказывала, а, усадив перед собой, объясняла, показывала на пальцах, даже рисовала. Теперь же ее было не узнать: плечи сгорблены, пальцы сжаты, а лицо печально и насторожено. Позже я стал замечать, что и моя бабушка, и дядя Володя, и дед, ведут себя не так, как раньше: по вечерам они собирались на кухне, рассаживались по углам и вели неторопливые беседы. Я изо всех сил старался не спать, прислушивался к их голосам, и все чаще до моих ушей стало доноситься слово «война».
Приближение войны чувствовалось во всем: в приглушенных разговорах взрослых, в бравурных маршах по радио, в подозрительных взглядах посторонних людей. Квартальные собрания жителей стали чаще. Я тоже туда ходил и, сидя на скамейке рядом с дедушкой или дядей Володей, внимательно слушал про противогазы, зажигательные бомбы, затемнения и коварных шпионов.
Про шпионов было особенно интересно. Мне казалось, что они повсюду, только их очень трудно распознать. Я перестал играть с кубиками и не находил себе места, размышляя, как можно их вычислить. То, что у них огромные уши, как на плакате, я отверг сразу, потому что тогда бы их всех сразу обнаружили и поймали. Бинокль в руках – тоже слишком заметный предмет, и я решил, что шпионы – это те, кто все время следит и много спрашивает. Сделав подобное умозаключение, я решил поделиться этим со своим приятелем, Борькой Либерманом, во время игр в детском саду.
– А еще у них, как у милиционеров, есть наган, – Я поднял руку и изобразил, что держу в ней пистолет.
– Ты их знаешь? – Борька перестал рисовать и прищурил глаза.
– Знаю! – Я сделал серьезное лицо.
– Кто шпион?
Борька замер. Он раньше болел свинкой, был слегка глуховат и поэтому все старились с ним говорить громко. Я с шумом набрал в себя воздух и принял важную позу.
– Тимошенко!
Конечно же, я и представить себе не мог, что Тимошенко – это недавно назначенный нарком Обороны и вполне естественно, что это имя чаще других произносилось взрослыми. Поэтому я и решил, что раз о нем так часто говорят, значит речь идет о шпионе. Как назло, в тот момент в игровой комнате находился директор детского сада и воспитательница, и совсем скоро моим родителям пришла повестка из НКВД.
Вернулись они под вечер. Мама молчала, а отец завел меня в комнату и долго кричал. Я услышал от него много новых и непонятных слов, и хоть я не знал, что они означают, но догадывался, что случилось нечто плохое, и в том целиком и полностью моя вина, привычка лезть куда не надо и совать свой нос куда нельзя. С этого дня дверь в моей комнате родители стали плотно прикрывать, но я все равно продолжал подслушивать и узнал, что следователь, который их вызывал, раньше работал в милиции, и фамилия у него – Пилипчук.
– Поймал!
– И я!
– А у меня – богомол!
Я любил ловить кузнечиков. В этом деле зевать было нельзя, требовалась быстрота реакции и сноровка. В детском саду я приобрел себе много новых друзей, и мы часто выходили в поле, за ограду, и соревновались, кто из нас больше наловит этих насекомых. Борька Либерман был самым прытким, и в его коробке всегда было кузнечиков больше, чем у других. Хорошо ловил и его брат, Вениамин, которого все звали Веней. У меня тоже неплохо получалось. Хуже дело обстояло у Чивика, мальчика из армянского двора. У него была парализована правая сторона, но он все равно всегда старался поспевать за нами. Иногда с ним случались припадки, и мы его держали за руки и за ноги до тех пор, пока судороги не прекращались.
– Амба! – Борька хлопнул в ладоши. Мы присели на корточки и стали показывать свои трофеи.
– У меня больше! – Веня открыл свою коробку.
– Нет, у меня!
Борька победно поднял руку вверх. Я оглядел свой улов. Мне сегодня везло, и я поймал их довольно много. Вдруг я услышал тихое всхлипывание. Чивик уронил свою коробку в траву, и его кузнечики разбежались. Он уже начинал трястись, но я успел схватить его за руку.
– На, возьми у меня половину! – Я протянул ему свою коробочку.
Чивик посмотрел на меня, успокоился, но кузнечиков не взял. Он поднялся с земли и вытянул здоровую руку в сторону дороги.
– Машина!
Это были солдаты. На наше поле стали часто привозить новобранцев. Они ставили ружья шалашиками, садились на землю, и дядя командир им что-то долго рассказывал. Потом они брали ружья, по очереди подходили к пучку соломы на деревянных ногах и по команде «коли!» прыгали вперёд и протыкали штыком солому. Ах, если бы у нас были такие ружья, мы бы тоже так смогли!
Выпустив кузнечиков, мы подбежали поближе и спрятались за кустами. Дальше было еще интересней. Солдаты выстроились лицом к лицу парами и стали махать и отбивать друг у друга ружья, а их командир ходил вокруг и тыкал огромной палкой каждого то в плечо, то в грудь, то в ноги.
Вдруг со стороны города подъехала легковая машина.
– Эмка!
Борька Либерман хлопнул меня по плечу. Я отодвинул ветки и, чтобы лучше было видно, выглянул из-за куста. Из легковушки вышли трое военных. Один офицер и двое солдат. Форма у них была не такая, как у новобранцев: защитные гимнастерки, синие шаровары и фуражки с малиновым околышком. Офицер был опоясан ремнями с кобурой, а солдаты в руках держали очень короткие ружья.
– Автоматы! – Борька восхищенно ахнул.
– Что? – Я не понял.
– Ружья такие. Они стреляют, как пулемет, – Борька изобразил очередь.
– Откуда знаешь? – Я почему-то ему не поверил. Борька был большой придумщик и мог запросто соврать.
– Мне дядя Миша рассказывал, – Борька вытаращил глаза. – Он на своей полуторке тоже солдат возит.
Между тем командир уже построил свой отряд и стоял на вытяжку перед приехавшим офицером. Тот ему что-то сказал и пошел вдоль строя, осматривая стоящих по стойке смирно новобранцев. Чуть сзади за ним следовали солдаты с автоматами. Дойдя почти до конца, офицер остановился напротив невысокого, сутулого новобранца и ткнул его пальцем в грудь. Когда тот вышел из строя, я его узнал. Это был дядя Азик, брат моего отца, который угощал меня недавно сладостями. Я очень обрадовался и решил уже бежать к ним, как в этот момент офицер ударил дядю Азика кулаком по лицу. Тотчас солдаты его подхватили и поволокли в машину. Я рванулся из зарослей сказать, что я его знаю, но Веня с Борькой схватили меня за рубашку.
– Стой! Куда?
– А-а-а!
Это Чивик от увиденного упал на землю и сильно затрясся. Борька и Веня схватили его за руки, а мне пришлось сесть и придавить ему ноги. Когда Чивик успокоился, я снова выглянул из-за веток. Дяди Азика нигде не было, скорее всего он вместе с солдатами уже сидел в машине, а офицер с папиросой во рту шел прямо на нас. Мы замерли и не шевелились, стараясь даже не дышать. Офицер остановился прямо перед нашим кустом и стал расстегивать ширинку на своем галифе. И тут я его узнал. Пилипчук! В своей новой форме он еще больше стал похож на ящерицу. Увидев нас, Пилипчук схватился за кобуру, но тут же засмеялся, показав полный рот кривых зубов.
– Жидрихи! Усюду жидрихи!
Он смачно сплюнул, отошел немного в сторону и помочился на соседний куст.
В тот день я до самого вечера слонялся по двору и никому ничего не рассказал. Мешали две картинки, застывшие у меня в голове: солдаты, волочившие дядю Азика по земле и оскалившееся в улыбке лицо Пилипчука. Жидрихи. Я так и не узнал, что значит это слово, хотя уже дважды слышал это от него. Кроме бабушки, никого во дворе больше не было, и я решил дожидаться мамы, чтобы она мне все объяснила. У нее сегодня была репетиция в клубе, и она обычно приходила позже других. Иногда мама брала меня с собой, и это было для меня поистине настоящим праздником. Сначала она неторопливо собиралась, гладила свое любимое платье, а потом долго стояла перед зеркалом, слюнявила карандаш и рисовала себе брови на лице.
– Прям артистка!
Бабушка всегда приходила с кухни на нее посмотреть. Прижав к груди полотенце и склонив голову, она стояла в дверях и с восхищением наблюдала, как мама расчесывает свои густые, каштановые кудри. Мне это интереса не представляло, и я с нетерпением караулил ее у калитки. Было одно условие: что я буду тихо сидеть на одном месте и никуда не стану уходить, но я все равно украдкой обошел здание и все узнал. В клубе было много разных кружков и спортивных секций, а там, где репетировала мама, называлось «театр».
Вся семья собралась, когда уже совсем стемнело. Мама пришла последней и сразу повела меня на кухню. Ужин уже заканчивался, и едва я сел за стол, как с улицы послышался громкий крик: «Знамение!» Мама, отец, дедушка, дядя Володя, все как один, побросали ложки и выскочили во двор. Я едва успел за ними. Один за другим, мы вышли на улицу из калитки. Повсюду группами стояли люди и смотрели в небо. Я тоже поднял голову: на верхнем роге у месяца горела яркая звезда.
До поздней ночи взрослые всем двором обсуждали увиденное. Я ловил каждое слово, особенно когда говорили о Гитлере. Я многое не понимал, но одно уловил точно, что скоро будет война, и этот самый Гитлер хочет на нас напасть и всех до одного погубить. Ночью, когда меня уложили спать, я долго не мог заснуть и представлял себе Гитлера. Это слово мне виделось человеком, у которого много рук, а вместо головы – фонарь из матового стекла, закрытого толстой, проволочной решёткой.
Время шло, и я продолжал ходить в детский сад. Теперь вместо кузнечиков мы с друзьями стали смотреть на пролетающие в небе самолеты. Раньше над нами лишь изредка пролетали кукурузники, и мы хором пели: «Эроплан, эроплан, посади меня в карман!» Новые самолёты были огромные, громко ревели моторами и шли один за другим до самого подножья горы, а потом, отвернув в море, медленно скрывались в облаках.
В один из воскресных дней, собравшись на репетицию, мама сказала, что возьмет меня с собой, только если я вымою руки и лицо. Не успел я включить колонку, как, грохоча сапогами, во двор ворвался целый отряд солдат. Двое остались у входа, несколько человек встали у домов, а остальные растянулись цепью у забора. Последним за ними вошел Пилипчук. Он приказал всем мужчинам построиться в центре двора, а женщинам и детям встать поодаль и не мешать.
– Швидче! Швидче!
Главы из романа
Осознавать и запоминать увиденное я начал рано. Едва перевалив за четырехлетний рубеж, я с достоверной точностью описывал взрослым эпизоды из моего недавнего младенчества, а они удивлялись и не верили, утверждая, что все это было заимствовано мной из их же рассказов. Наивные, скучные взрослые! В моей памяти и сейчас осталось немало ярких моментов из раннего прошлого, которые не стерли ни крутые повороты судьбы, ни суровое военное детство, ни безжалостная старость.
– А-гу! А-гу!
Я вижу, как меня подбрасывает над собой рослый мужчина, а я закатываюсь смехом и тяну руки к мальчику, играющему с машинками на полу. Это мой старший братик Юра. Он одет в коричневую курточку и не разрешает мне трогать его любимую картинку – вырезку из коробки конфет «Серый волк и семеро козлят».
Я много раз задавал себе вопрос, почему именно этот обрывок глубже других врезался мне в память, и не находил на него ответа. Может быть, потому что с братиком нас разлучили родители, когда развелись, и вскоре после этого он умер? А может, потому что тот высокий, статный мужчина и есть мой родной отец, который в одночасье так запросто исчез из моей жизни, что я всегда думал, что он обязательно вернется, и продолжал надеяться на это и ждать его вплоть до появления седины на висках.
Я хорошо помню поездку моих родителей из Махачкалы в Нальчик. Это было до 1938 года, потому что тогда еще не было моей младшей сестры, Светы, она родилась немного позже. Перед посадкой в вагон мне купили в буфете шоколадный паровоз, который я потом вспоминал всю войну. Это лакомство долгое время оставалось для меня эталоном счастья, вершиной желаний, с которым не сравнятся никакие другие наслаждения в жизни. Хотя в поездке их было тоже не мало. Например, чего только стоило наблюдение из окна. В начале пути поезд проходил вдоль берега моря, где на пристанях стояло огромное количество лодок. Большие и маленькие, новые и совсем уже ветхие, казалось, они не кончатся никогда. Меня захватила мысль, как они все помещаются в море? Я думал об этом всю дорогу и под конец решил, что лодки плавают строго по очереди.
В Нальчике мне запомнился зелёный деревянный забор в частном доме, где мы жили. Когда я уже повзрослел и ходил по улицам родной Махачкалы, то, увидев похожую ограду, всегда останавливался и вспоминал ту мою первую удивительную поездку, которая, кстати сказать, оказалась для меня знаковой. Вечером в день приезда я сделал свои первые шаги. Может быть, этот эпизод и остался бы незамеченным в моей памяти, но, когда я пошёл, родственники подняли такой переполох, шум и гвалт, что мне пришлось отметить в голове это событие. Впрочем, честно сказать, я не очень-то этому удивился. Все окружавшие меня взрослые и их дети ходили, а значит, рано или поздно это должно было свершиться со мной. Способность анализировать я приобрел гораздо раньше, чем встал на ноги. Что бы со мной ни случилось, какое бы событие ни произошло, я всегда пытался понять суть, найти причину, а потом уже думать, как реагировать. Это помогало мне в жизни всегда. Конечно, я еще не мог объяснить, откуда у меня так много родственников, и почему мы все живем в одном дворе, но я вместе со всеми вдыхал чадящий смрад от печки, пил ледяную воду из колонки и бегал в отхожее место одно на всех в дальний угол двора. Мой мир в силу моего возраста ограничивался территорией, огороженной нашим забором, но я уже тогда знал, что там, за воротами, существует совсем другой мир, совершенно не похожий на тот, что меня окружает: огромный, шумный город с его многолюдными улицами, высокими зданиями и широкими площадями. Я увидел его, когда меня водили к дяде Азику, брату моего отца. Он встретил нас на пороге, долго молчал, щурился и рассматривал меня из-под кустистых бровей, а потом, вдруг весело подмигнув, стал угощать разными сладостями. Я хорошо запомнил дорогую скатерть на столе, сверкающие, разноцветные рюмки и огромный, до потолка, полированный комод. У нас в доме такой красоты, конечно, не было, а размышлять об этом мне не хотелось, потому что в обеих руках я держал по леденцу, на столе пряно пахла халва, а рядом с ней серебристой фольгой сверкала поломанная на дольки шоколадка.
Дальнейшие события моей начинающейся жизни не оставили у меня заметного следа, кроме одного случая, который запомнился мне на всю жизнь, и которому я так и не смог найти объяснений. Тот день был совсем обычным и не примечательным, я тихо играл во дворе, как вдруг за забором на улице что-то сильно прогрохотало. Отложив в сторону свои кубики, я выглянул за ворота. По дороге, поднимая пыль, и, дымя выхлопными газами, ехала машина. Громко переговариваясь, шли на учебу школьники. На углу стояла очередь за керосином. Сделав вывод, что вокруг нет ничего страшного, и все интересно, я с трудом открыл калитку и шагнул за ворота. Вкусив первый глоток свободы, я начал смелеть, и в моей головёнке, словно фигурки из кубиков, стали складываться грандиозные планы.
Во-первых, надо было дойти до угла и заглянуть, что там находиться. Во-вторых, мой свежий ум мне подсказывал, что оно произойдет только тогда, когда случится во-первых. И, долго не думая, я отправился в путь. Благополучно дойдя до угла, и, заглянув за него, я убедился, что и там тоже нет никаких опасностей, а улица шире и еще интересней: по обеим ее сторонам стояли высокие здания, по дороге ехали грузовики, а по тротуарам шли нарядные люди. Не успев все это хорошенько рассмотреть, у меня в голове молнией сверкнула мысль: дядя Азик! И сразу же перед глазами замаячила распотрошенная на дольки шоколадка. Я решительно шагнул за угол и уже не сомневался, что надо идти именно туда.
Один квартал, другой... я шел по Комсомольской улице, разглядывая ворота, и никак не мог найти знакомое место. Тогда это было слишком сложно для меня, но я продолжал идти, и мне все время казалось, что следующий дом будет тот, что мне нужен. Всю дорогу навстречу мне попадались прохожие. Некоторые из них обращали на меня внимание, останавливались и что-то мне говорили, но я их не слушал и настойчиво продвигался вперед.
Вдруг передо мной открылось огромное пространство: я дошел до центральной площади. Сделав по инерции несколько шагов, остановился и обомлел. Ничего подобного я никогда еще не видел. Как завороженный, я не мог оторвать глаз от открывшейся передо мной грандиозной панорамы. Неохватная ширина территории и внушительность зданий поражали. Легковые машины на другом конце площади казались игрушечными, а люди – маленькими человечками. У самого красивого дома возвышалось бетонное сооружение, на котором стоял огромный памятник.
Мне вдруг стало так интересно, что я сразу забыл и про дядю Азика, и про его дом с железными воротами, и даже про сладкую шоколадку. Перейдя площадь, я остановился и задрал голову вверх. Передо мной высилась гигантская фигура Сталина. Я его сразу узнал, потому что видел повсюду: на газетах, которые приносили, на почетных грамотах дяди Володи, на настенном портрете в комнате дедушки. О Сталине в нашем дворе говорили много. Это имя слышалось чаще других, но что-либо понять из разговоров у меня не получалось, и я тогда решил, что раз взрослые его не ругают, значит он хороший. Я еще раз осмотрел памятник. Сталин протягивал руки вперед и пристально вглядывался в меня. Его лицо было спокойным, но мне показалось, что он все-таки чем-то недоволен. Интересно, чем? Я решил поразмышлять об этом, как вдруг вспомнил, что еще с обеда ушел из дому, нахожусь неизвестно где, солнце уже спряталось за горизонт, а с моря веет вечерней прохладой.
Ледяным обручем меня сковал страх. Я стоял и не мог сдвинуться с места. Это продолжалось совсем недолго, потому что следом меня обуяла паника. Я ринулся бежать, но тут же остановился. Куда? Я вертел головой по сторонам и не мог вспомнить, откуда я пришел. Мне стало страшно. Я решил громко заплакать, чтоб меня услышали и стал оглядываться по сторонам. Но возле меня никого не оказалось. Один только Сталин. Не знаю почему, я развернулся к нем лицом и поднял голову. Все изменилось. Теперь его взгляд был направлен не на меня, а совсем в другую сторону. Я машинально повернулся и посмотрел туда же.
– Ух ты!
Вот он, сквер, мимо которого я шел, там – угол аптеки, чуть дальше – здание милиции, а вот и сам дядя милиционер...
В районном отделении сильно пахло табачным дымом, ваксой и еще чем-то очень неприятным.
– Ну, и хто ты такий?
Моложавый милиционер в белой гимнастерке и редкими, прилизанными волосами выпятил на меня бесцветные глаза.
– Э-э! Пилипчук! Зачем пугать, малчик?
Второй милиционер, постарше, с треугольничками на петлицах, посадил меня на стол и протянул мне ириску.
– Салам! Как зовут?
Я решил конфету не брать и спрятал руки за спину.
– Бери, вкусный конфет, не бойся!
Старший милиционер положил ириску на стол. Я сидел и не шевелился. Сегодня так много всего свалилось на мою голову, что я просто не успевал на это реагировать. Впрочем, этот милиционер был совсем не страшный, к тому же еще и угощал меня конфетами.
– Товарищу старшина, дывытесь, вин ни трохи не злякался. Як звирок очамы зыркае!
Пилипчук засмеялся, обнажив редкие зубы. Не знаю почему, но он мне сразу не понравился. И даже не потому, что зажилил конфету, какая-то отталкивающая нехорошесть присутствовала во всем его теле. Мне, конечно, было трудно это объяснить, но он мне показался похожим на ящерицу, верткую, скользкую и противную. Не знаю, что было бы дальше, но в этот момент в дежурное помещение влетела моя мама и со слезами бросилась ко мне.
Когда все успокоилось, маму посадили за стол и стали составлять протокол.
Старшина курил у окна, а Пилипчук задавал вопросы и записывал. Ириску я все-таки съел, и от нечего делать сидел и, навострив уши, прислушивался к допросу.
– Хвамилия? – Пилипчук обмакнул ручку в чернильницу.
– Балкина Анна, – Мама достала носовой платок.
– По батьке?
– Дмитриевна.
– Дивоча хвамилия?
– Эльсон... – Мама опустила голову.
Пилипчук дернулся и поставил кляксу на лист.
– Ой, гралыся гуси! Товарищу старшина, знову жидрихи!
– Молчать! – Старшнина стукнул кулаком по столу.
– Як скажете, – Пилипчук пожал плечами, почесал затылок, придвинул ближе чернильницу. – Муж хто?
– Балкин Леонид, парикмахер, – Мама сжала платочек в комок.
– Це ни Фимы-скорняка сын? – Пилипчук снова показал кривые зубы.
– Он, – Мама отвернулась.
Пилипчук взял в руки протокол, поднялся, подошел к старшине.
– Шо писать? Там цило кодло...
– Дай! – Старшина выхватил из рук Пилипчука протокол и, сверкнув глазами, разорвал его пополам. Затем взял меня за руку и подвел к маме, – Иди, женщина, малчик кушать пора! Иди!
Перед сном я спросил маму, кто такие жидрихи, но она мне не ответила. Такого с ней не случалось никогда. Усталая, нездоровая, занятая, она никогда мне раньше не отказывала, а, усадив перед собой, объясняла, показывала на пальцах, даже рисовала. Теперь же ее было не узнать: плечи сгорблены, пальцы сжаты, а лицо печально и насторожено. Позже я стал замечать, что и моя бабушка, и дядя Володя, и дед, ведут себя не так, как раньше: по вечерам они собирались на кухне, рассаживались по углам и вели неторопливые беседы. Я изо всех сил старался не спать, прислушивался к их голосам, и все чаще до моих ушей стало доноситься слово «война».
Приближение войны чувствовалось во всем: в приглушенных разговорах взрослых, в бравурных маршах по радио, в подозрительных взглядах посторонних людей. Квартальные собрания жителей стали чаще. Я тоже туда ходил и, сидя на скамейке рядом с дедушкой или дядей Володей, внимательно слушал про противогазы, зажигательные бомбы, затемнения и коварных шпионов.
Про шпионов было особенно интересно. Мне казалось, что они повсюду, только их очень трудно распознать. Я перестал играть с кубиками и не находил себе места, размышляя, как можно их вычислить. То, что у них огромные уши, как на плакате, я отверг сразу, потому что тогда бы их всех сразу обнаружили и поймали. Бинокль в руках – тоже слишком заметный предмет, и я решил, что шпионы – это те, кто все время следит и много спрашивает. Сделав подобное умозаключение, я решил поделиться этим со своим приятелем, Борькой Либерманом, во время игр в детском саду.
– А еще у них, как у милиционеров, есть наган, – Я поднял руку и изобразил, что держу в ней пистолет.
– Ты их знаешь? – Борька перестал рисовать и прищурил глаза.
– Знаю! – Я сделал серьезное лицо.
– Кто шпион?
Борька замер. Он раньше болел свинкой, был слегка глуховат и поэтому все старились с ним говорить громко. Я с шумом набрал в себя воздух и принял важную позу.
– Тимошенко!
Конечно же, я и представить себе не мог, что Тимошенко – это недавно назначенный нарком Обороны и вполне естественно, что это имя чаще других произносилось взрослыми. Поэтому я и решил, что раз о нем так часто говорят, значит речь идет о шпионе. Как назло, в тот момент в игровой комнате находился директор детского сада и воспитательница, и совсем скоро моим родителям пришла повестка из НКВД.
Вернулись они под вечер. Мама молчала, а отец завел меня в комнату и долго кричал. Я услышал от него много новых и непонятных слов, и хоть я не знал, что они означают, но догадывался, что случилось нечто плохое, и в том целиком и полностью моя вина, привычка лезть куда не надо и совать свой нос куда нельзя. С этого дня дверь в моей комнате родители стали плотно прикрывать, но я все равно продолжал подслушивать и узнал, что следователь, который их вызывал, раньше работал в милиции, и фамилия у него – Пилипчук.
– Поймал!
– И я!
– А у меня – богомол!
Я любил ловить кузнечиков. В этом деле зевать было нельзя, требовалась быстрота реакции и сноровка. В детском саду я приобрел себе много новых друзей, и мы часто выходили в поле, за ограду, и соревновались, кто из нас больше наловит этих насекомых. Борька Либерман был самым прытким, и в его коробке всегда было кузнечиков больше, чем у других. Хорошо ловил и его брат, Вениамин, которого все звали Веней. У меня тоже неплохо получалось. Хуже дело обстояло у Чивика, мальчика из армянского двора. У него была парализована правая сторона, но он все равно всегда старался поспевать за нами. Иногда с ним случались припадки, и мы его держали за руки и за ноги до тех пор, пока судороги не прекращались.
– Амба! – Борька хлопнул в ладоши. Мы присели на корточки и стали показывать свои трофеи.
– У меня больше! – Веня открыл свою коробку.
– Нет, у меня!
Борька победно поднял руку вверх. Я оглядел свой улов. Мне сегодня везло, и я поймал их довольно много. Вдруг я услышал тихое всхлипывание. Чивик уронил свою коробку в траву, и его кузнечики разбежались. Он уже начинал трястись, но я успел схватить его за руку.
– На, возьми у меня половину! – Я протянул ему свою коробочку.
Чивик посмотрел на меня, успокоился, но кузнечиков не взял. Он поднялся с земли и вытянул здоровую руку в сторону дороги.
– Машина!
Это были солдаты. На наше поле стали часто привозить новобранцев. Они ставили ружья шалашиками, садились на землю, и дядя командир им что-то долго рассказывал. Потом они брали ружья, по очереди подходили к пучку соломы на деревянных ногах и по команде «коли!» прыгали вперёд и протыкали штыком солому. Ах, если бы у нас были такие ружья, мы бы тоже так смогли!
Выпустив кузнечиков, мы подбежали поближе и спрятались за кустами. Дальше было еще интересней. Солдаты выстроились лицом к лицу парами и стали махать и отбивать друг у друга ружья, а их командир ходил вокруг и тыкал огромной палкой каждого то в плечо, то в грудь, то в ноги.
Вдруг со стороны города подъехала легковая машина.
– Эмка!
Борька Либерман хлопнул меня по плечу. Я отодвинул ветки и, чтобы лучше было видно, выглянул из-за куста. Из легковушки вышли трое военных. Один офицер и двое солдат. Форма у них была не такая, как у новобранцев: защитные гимнастерки, синие шаровары и фуражки с малиновым околышком. Офицер был опоясан ремнями с кобурой, а солдаты в руках держали очень короткие ружья.
– Автоматы! – Борька восхищенно ахнул.
– Что? – Я не понял.
– Ружья такие. Они стреляют, как пулемет, – Борька изобразил очередь.
– Откуда знаешь? – Я почему-то ему не поверил. Борька был большой придумщик и мог запросто соврать.
– Мне дядя Миша рассказывал, – Борька вытаращил глаза. – Он на своей полуторке тоже солдат возит.
Между тем командир уже построил свой отряд и стоял на вытяжку перед приехавшим офицером. Тот ему что-то сказал и пошел вдоль строя, осматривая стоящих по стойке смирно новобранцев. Чуть сзади за ним следовали солдаты с автоматами. Дойдя почти до конца, офицер остановился напротив невысокого, сутулого новобранца и ткнул его пальцем в грудь. Когда тот вышел из строя, я его узнал. Это был дядя Азик, брат моего отца, который угощал меня недавно сладостями. Я очень обрадовался и решил уже бежать к ним, как в этот момент офицер ударил дядю Азика кулаком по лицу. Тотчас солдаты его подхватили и поволокли в машину. Я рванулся из зарослей сказать, что я его знаю, но Веня с Борькой схватили меня за рубашку.
– Стой! Куда?
– А-а-а!
Это Чивик от увиденного упал на землю и сильно затрясся. Борька и Веня схватили его за руки, а мне пришлось сесть и придавить ему ноги. Когда Чивик успокоился, я снова выглянул из-за веток. Дяди Азика нигде не было, скорее всего он вместе с солдатами уже сидел в машине, а офицер с папиросой во рту шел прямо на нас. Мы замерли и не шевелились, стараясь даже не дышать. Офицер остановился прямо перед нашим кустом и стал расстегивать ширинку на своем галифе. И тут я его узнал. Пилипчук! В своей новой форме он еще больше стал похож на ящерицу. Увидев нас, Пилипчук схватился за кобуру, но тут же засмеялся, показав полный рот кривых зубов.
– Жидрихи! Усюду жидрихи!
Он смачно сплюнул, отошел немного в сторону и помочился на соседний куст.
В тот день я до самого вечера слонялся по двору и никому ничего не рассказал. Мешали две картинки, застывшие у меня в голове: солдаты, волочившие дядю Азика по земле и оскалившееся в улыбке лицо Пилипчука. Жидрихи. Я так и не узнал, что значит это слово, хотя уже дважды слышал это от него. Кроме бабушки, никого во дворе больше не было, и я решил дожидаться мамы, чтобы она мне все объяснила. У нее сегодня была репетиция в клубе, и она обычно приходила позже других. Иногда мама брала меня с собой, и это было для меня поистине настоящим праздником. Сначала она неторопливо собиралась, гладила свое любимое платье, а потом долго стояла перед зеркалом, слюнявила карандаш и рисовала себе брови на лице.
– Прям артистка!
Бабушка всегда приходила с кухни на нее посмотреть. Прижав к груди полотенце и склонив голову, она стояла в дверях и с восхищением наблюдала, как мама расчесывает свои густые, каштановые кудри. Мне это интереса не представляло, и я с нетерпением караулил ее у калитки. Было одно условие: что я буду тихо сидеть на одном месте и никуда не стану уходить, но я все равно украдкой обошел здание и все узнал. В клубе было много разных кружков и спортивных секций, а там, где репетировала мама, называлось «театр».
Вся семья собралась, когда уже совсем стемнело. Мама пришла последней и сразу повела меня на кухню. Ужин уже заканчивался, и едва я сел за стол, как с улицы послышался громкий крик: «Знамение!» Мама, отец, дедушка, дядя Володя, все как один, побросали ложки и выскочили во двор. Я едва успел за ними. Один за другим, мы вышли на улицу из калитки. Повсюду группами стояли люди и смотрели в небо. Я тоже поднял голову: на верхнем роге у месяца горела яркая звезда.
До поздней ночи взрослые всем двором обсуждали увиденное. Я ловил каждое слово, особенно когда говорили о Гитлере. Я многое не понимал, но одно уловил точно, что скоро будет война, и этот самый Гитлер хочет на нас напасть и всех до одного погубить. Ночью, когда меня уложили спать, я долго не мог заснуть и представлял себе Гитлера. Это слово мне виделось человеком, у которого много рук, а вместо головы – фонарь из матового стекла, закрытого толстой, проволочной решёткой.
Время шло, и я продолжал ходить в детский сад. Теперь вместо кузнечиков мы с друзьями стали смотреть на пролетающие в небе самолеты. Раньше над нами лишь изредка пролетали кукурузники, и мы хором пели: «Эроплан, эроплан, посади меня в карман!» Новые самолёты были огромные, громко ревели моторами и шли один за другим до самого подножья горы, а потом, отвернув в море, медленно скрывались в облаках.
В один из воскресных дней, собравшись на репетицию, мама сказала, что возьмет меня с собой, только если я вымою руки и лицо. Не успел я включить колонку, как, грохоча сапогами, во двор ворвался целый отряд солдат. Двое остались у входа, несколько человек встали у домов, а остальные растянулись цепью у забора. Последним за ними вошел Пилипчук. Он приказал всем мужчинам построиться в центре двора, а женщинам и детям встать поодаль и не мешать.
– Швидче! Швидче!
Он прохаживался по дорожке и похлопывал рукой по расстегнутой кобуре. Когда все вышли, Пилипчук велел показать документы. Отец, дядя Володя и дед полезли в карманы и стали доставать паспорта. Пилипчук шагнул было к ним, но, увидев нарядную маму, развернулся и пошел к ней.
– Мне тоже показать документы? – Мама раскрыла свою театральную сумочку.
– Не треба! – Пилипчук бесцеремонно оглядел ее с головы до ног. – Розумна Парася ко всему сдалася...
Он снял фуражку и пригладил потные волосы. Мама насторожилась.
– Не поняла...
– Ступай, пока...
Пилипчук достал папиросы. Он стал шарить по карманам в поисках спичек, но не нашел, развернулся к солдатам, и вдруг увидел самодельную зажигалку, забытую дядей Володей на столе.
– Дай ие сюды! – Показал он мне пальцем.
– Пойди, принеси! – Мама легонько подтолкнула меня в спину. Я уже собрался выполнить ее просьбу, но, вспомнив про дядю Азика, остался стоять на месте.
– Тоби що казали, га?
Пилипчук выкатил свои бесцветные глаза. Мне стало страшно, как тогда в милиции, но что-то удерживало меня, заставляя стоять и не двигаться.
– Я принесу! – Мама подалась было к столу, но после громкого окрика вернулась на место. Мужчины заволновались, отец шагнул вперед, достал из кармана спички.
– Вот, возьмите!
– Всим стоять! – Пилипчук выхватил пистолет из кобуры. – Нехай, сам несе!
Я так сильно испугался, что даже боялся заплакать. Ноги у меня тряслись, и если б я даже захотел, то не смог бы сделать и шага. Во дворе повисла гнетущая тишина. Было слышно, как жужжат пчелы над абрикосом. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не появился еще один солдат. Это был посыльный с красной повязкой на рукаве. Он подбежал к Пилипчуку и протянул ему пакет. Тот, не спуская с меня глаз, всунул пистолет в кобуру, разорвал бумагу и, прочитав написанное, махнул солдатам рукой. Когда весь отряд вышел за ворота, он обернулся и пригрозил мне пальцем.
– До устричи, крысеныш!
Уже на следующей неделе отцу пришла повестка, и он пошел в армию. Сначала его долго не было, и я не знал, как это воспринимать, но потом решил, что это здорово, потому что когда он приходил, я сразу надевал его пилотку и ходил по двору, как настоящий солдат. Жаль только, что пилотка сильно пахла потом, да и случалась это довольно редко. А еще отец приносил нам солдатский хлеб, но он мне не нравился, потому что был твердый, чёрный и кислый. Один раз он приехал на телеге и покатал меня по городу. Мы заехали к какой-то тётеньке, и она мне подарила пачку цветных карандашей. Они немного поговорили и ушли в соседнюю комнату, а я остался за столом и рисовал самолеты, которые видел над горой.
Как её ни ждали, а война пришла неожиданно. Был тёплый, летний день, воскресный выходной, потому что мама была дома. Она набрала полное корыто воды и посадила меня в него. Такое бывало не часто, и, визжа от восторга, я хлюпался вволю. Мама смеялась надо мной, но вдруг стала серьёзной, и, выпустив из рук мочалку, бросилась к окну слушать радио. Эти мгновения были последними секундами моего беззаботного, озорного детства, потому что с этого дня в него бесцеремонно вмешалась война.
Что было потом? Совсем другая жизнь. Не только моя мама, все люди вокруг стали очень серьёзными, часто плакали, особенно когда провожали своих близких на фронт. Проводы проходили повсюду. С нашего двора ушел мой крестный, у близняшек напротив – отец и дед, а у соседей – почти все сыновья. У нас больше никого не забрали, потому что дедушка был старый, а дядя Володя числился знатным стахановцем и работал на заводе имени Гаджиева. По приказу квартального они вырыли у нас во дворе просторное бомбоубежище между абрикосом и вишнями, в котором по сигналу воздушной тревоги мы прятались всей семьей.
– Раз-два, раз-два!
По нашей улице стали часто ходить солдаты. Город тоже менялся с каждым днём. В парке, где раньше по выходным мы с родителями гуляли и веселились, выкопали окопы и поставили зенитки. Они каждый день стреляли по «колбасе», которую таскал за собой над морем самолет. На высоких домах большими буквами написали «бомбоубежище», а в центральной гостинице организовали госпиталь. Потом под госпитали заняли большинство городских школ.
До учебы мне было еще далеко, поэтому я был предоставлен самому себе. Отвадив от себя подросшую сестренку Светку, я бежал помогать чинить полуторку. Вторую неделю, как на нашей улице расположился автобатальон, и машин стало не счесть. Они все стояли под высокими деревьями, а штаб и мастерские находились в соседнем большом дворе. Шофер-солдат, черный от грязи, сутками не вылезал из-под машины, а я подавал ему ключи и мыл их в ведре с бензином. За это он мне дал подержать настоящую гранату, которая лежала у него под сидением.
– Эй, Герка!
Я поднялся с земли, вытер руки и оглянулся. Оба брата Либермана сидели на заборе и махали мне руками. Я подошел ближе.
– Посуду тащи, скоро печка приедет!
Борька блеснул алюминиевой миской. У Вени тоже был с собой примятый ковшик. Я махнул им в ответ и направился домой взять что-нибудь на кухне, но, услышав цоканье копыт, вышел посмотреть за ворота. На обочине стояла лошадь, запряженная в огромный бак с трубой на колесах. В белой куртке солдат-повар огромным черпаком раскладывал пшенную кашу по котелкам стоящих в очереди солдат. Когда крайний боец отошел от печки, повар повернулся к нам лицом.
– Пацаны! Подходи по одному!
Борька Либерман, как всегда, проскользнул первым. Получив полную миску пахучего пшена, он сразу помчался домой. Следом за ним кашей разжился Веня, потом подошли два брата-близнеца, за ними прихромал Чивик. Я стоял и не знал, что делать. Повар уже выскребывал из бака остатки, а у меня не было посуды с собой. А каша так вкусно пахла! Я старался не вдыхать этот запах, но у меня совсем не получалось, наоборот, в животе сильно забурчало, рот наполнился слюной, а из глаз сами по себе потекли слезы.
– Иди сюда, парень!
Повар нагнулся под брезент и протянул мне наполненный кашей зеленый солдатский котелок. Не веря своим глазам, я взял его двумя руками и не уходил.
– Беги, беги! – Повар хлопнул меня по плечу и засмеялся. – В следущий раз с ним приходи!
Голод набирал обороты. С едой стало совсем плохо, а мне, как назло, все время хотелось есть. Хлеб в магазине давали по карточкам. На всех его не хватало, и бабушка пекла лепешки из кукурузной муки. Однажды дедушка принёс с работы буханку, но, как только он положил ее на стол, она вся сразу рассыпалась на крошки. Бабушка их все собрала, и, замесив на воде, испекла вкусные оладушки. По карточкам еще можно было получить ржавую селёдку и даже жидкое мыло. Это мыло было красно-коричневого цвета, и бабушка налила его в банку, в которой до войны у нас было варенье. Мама зачем-то полезла на полку и, увидев эту банку, зачерпнула из нее и отправила прямо в рот. Хорошо, что рядом было ведро с водой!
Один раз подобное приключилось и со мной. Бабушка принесла с базара маленькую наволочку жаренной кукурузной муки и спрятала ее в шифоньер, под одежду. Запах сразу распространился по всему дому, и когда мы со Светкой остались одни, я запустил пятерню в мешок и набил себе мукой полный рот. С голодухи я так спешил, что часть ее попала мне в дыхательное горло. Увидев мои выпученные глаза, Светка заорала, как сирена воздушной тревоги, и только внушительные хлопки бабушки по спине вернули мне способность дышать.
За последнее время я заметно вырос, но веса набрал мало и был очень худой. Как-то к нам в гости пришла крестная, и, увидев меня, сказала, чтобы я приходил к ней в госпиталь на обеды. Я некоторое время ходил туда с задней двери, где была кухня, и повариха наливала мне полную миску борща. Я ел его с солдатским хлебом, и теперь он мне казался необычайно мягким и вкусным.
Не одни мы, все семьи выживали, как могли. Близнецов родители кормили лепешками на тюленьем жире, поэтому от них постоянно воняло рыбой, Либерманы собирали на борщ лебеду, а Чивик ел кашу из отрубей. Наш дедушка починил старую лодку и ловил в море бычков. Он их продавал на базаре, а на вырученные деньги покупал постное масло и фасоль. Иногда он посылал меня за керосином, и я, зажав деньги в кулаке, на всех парах бежал в магазин, чувствуя себя по-настоящему нужным и взрослым.
Как раз в тот день в городском саду стреляли зенитки, и мне пришлось обходить через площадь. Теперь я ее знал, как свою ладонь: по периметру были расставлены ежи из рельсов, возле зданий – укрытия из мешков с песком, а возле памятника Сталину постоянно дежурили милиционеры. Там я и остановился. Статуя мне показалась не такой уж большой, как прежде. Я подошел поближе к постаменту и потрогал мешок с песком. Мне очень захотелось узнать, насколько он твердый, раз может задержать пулю. Мешок оказался довольно мягким. Может, другой будет жестче? Я принялся ощупывать все мешки, пока не обнаружил, что денег в руке нет. Холодок пробежал по всему моему телу, я бросился их искать, но найти не смог. Безуспешно прокружив вокруг статуи, я остановился и сел. Теперь то уж мне точно попадет. Но меня угнетало не предстоящее наказание, а то, что я не смог выполнить простейшего поручения. Я видел, как с утра до ночи хлопочет бабушка, как много работает мама, в любую погоду в море пропадает дед, а тут такая беда.
Настроение у меня совсем испортилось, я изо всех сил сдерживал слезы, как вдруг вспомнил тот свой случай, когда я заблудился и не смог найти дорогу домой. Тогда Сталин указал мне взглядом путь. Может, получится и сейчас? Покажет, где деньги лежат? Я вскочил с постамента и задрал голову вверх. Лицо Сталина было безучастным. Наверное, он устал или ему было некогда, ведь у него очень много дел. Война, например. Ему сейчас точно не до меня. От этой мысли у меня опять намокли глаза. Я принялся вытирать их рукавом, как вдруг почувствовал тяжелую руку на плече.
– Что случился, малчик?
Я повернулся и увидел перед собой милицейского старшину. Того самого, который в отделении угостил меня ириской. Он был в той же форме, но теперь вместо треугольничков у него в петлицах были шпалы.
Я хотел ему рассказать про деньги и керосин, но вместо этого просто заплакал.
– Э-э, так не пойдет! – Старшина вытер мне лицо платком. – Мужчины не должен плакать.
– Никогда-никогда? – Я начал успокаиваться.
– Никогда!
Как ни странно, он меня тоже узнал. Милиционер еще немного поспрашивал, где живем, как мама, кто у меня друзья, и, услышав, что я потерял деньги, покопался в кармане и протянул мне купюру.
– На, бери. Я нашел.
Я так обрадовался, что сразу ее схватил и стал запихивать в свой единственный карман. Но у меня это не получалось: карман был маленький, и я решил свернуть купюру трубочкой. Я начал ее сворачивать, но сразу остановился. Деньги были не те. Я еще не знал чисел и не разбирался в номиналах банкнот, но хорошо запомнил, что на моей был нарисован солдат с ружьем, а на этой был летчик с парашютом.
– Я не возьму. Это не мои!
Я протянул старшине деньги обратно. Тот сначала нахмурился, потом улыбнулся, вздохнул и погладил меня по голове.
– Бери! Это подарок, – и, не дожидаясь, сложил денежку квадратиком и положил мне в карман. – Болше не теряй!
Не успел я как следует обрадоваться, как к нам подошли еще два милиционера.
– Товарищ капитан! Разрешите обратиться?
– Ух ты!
Я едва не подпрыгнул на месте. Старшина уже капитан! Не зря у него в петлицах шпалы. Милиционеры о чем-то ему громко докладывали, а я стоял и был на седьмом небе от счастья. У меня есть знакомый офицер!
– Передайте, что Гасанов приказал!
Капитан поправил фуражку и нахмурился. Милиционеры сказали «есть!» и ушли. Я тоже ждать не стал. Во-первых, надо было успеть купить керосин, а во-вторых, мне опять повезло: я узнал, как зовут капитана. И крикнув ему на ходу «пасиба», я уже через секунду во весь дух бежал в лабаз.
Первое военное лето заканчивалось, а жить становилось все труднее. В доме всем заправляла бабушка. Она ходила на базар, умудрялась из всего, чего можно, готовить нам еду, шила одежду на зиму и ещё успевала выстоять очередь в собесе, чтобы выхлопотать пособие на нас, детей фронтовика. И откуда у нее было столько сил? Мама все время пропадала на работе и, когда возвращалась, то вместо клуба шла на рытье окопов, после чего не могла даже шевельнуть пальцем. Она уже не стояла перед зеркалом, как раньше, а смотрела на свои руки и сильно вздыхала.
Дедушка был все время или на работе, или на рыбалке.
Один раз я пошел его встречать. Было уже довольно холодно, к воде я не подходил и остался стоять на песке, чтобы посмотреть, как приплывали рыбацкие баркасы. Пляж был увешан сетями, пахло рыбой, в нескольких котлах кипел тюлений жир. Дедушки еще не было, и я задержался у только что причалившего судна. Рыбак большим сачком набирал пойманную кильку и вываливал ее в огромные плетёные корзины, стоящие рядом на песке. Увидев мои босые ноги, он набрал немного кильки в черпак и поманил меня пальцем.
– Подставляй что-нибудь!
Я вспомнил котелок с кашей и не растерялся: снял с головы кепку и подставил ее рыбаку. Тот наполнил ее до самых краев. Подобрав с песка упавших рыбок, я не стал дожидаться дедушку и отнес кильку домой.
– Ты где взял? – Бабушка остановила меня на пороге. Я не ожидал такого приема и не мог вымолвить ни слова. – Украл?
Бабушка сделала страшные глаза. Вот теперь я все понял. Ничего не говоря, я прошел мимо и высыпал кильку прямо на стол.
– Это с баркасов. Рыбаки дали.
Вечером вся семья ела рыбные котлеты. Мама, дедушка, дядя Володя их нахваливали, а я сидел с непринужденным видом и чувствовал себя равным среди них.
Приближалась первая военная зима, и к постоянному голоду прибавился ещё и холод. Наша хата отапливалась печкой, которую нужно было топить дровами, а лучше углём. Дрова продавались на базаре вязанками в несколько поленьев и стоили дорого. Зимой люди вместе с продуктами обязательно несли на плечах охапку дров. Нашей семье это было не по карману, потому что деньги тратились еще на лигроин для примусов и керосиновых ламп.
Лигроин – это среднее между керосином и бензином, и чтобы лампы не вспыхивали, в них обязательно сыпали соль.
Наш дедушка служил в молодости кочегаром на броненосце Потёмкин. Он на работе сделал горелку, работающую на нефти, и установил её в нашу печку. Нефть он набирал в только ему известном месте, когда шёл с работы домой. Чтобы удобнее было нести, он сделал себе ведро – узкое и высокое. Благодаря этому в нашей хате всегда было тепло, из одного бачка капала нефть, из другого – вода, горелка жутко ревела, но раскаляла печку до красна. Когда было особенно трудно, дедушка починял соседям всё, что ему приносили: примусы, кастрюли, керосинки, вставлял днища в вёдра, и за это соседи благодарили его, чем могли. Это, конечно, было неплохим подспорьем, но в корне проблему не решало, и на семейном совете было решено потесниться и пустить к себе в дом квартирантов.
– Далеко собрался? – Бабушка перегородила мне путь на улицу.
– Погулять!
– Смотри, вовремя приходи. Чай будем пить, – бабушка сделала таинственное лицо.
– С сахаром? – Я открыл калитку и остановился.
– Где ж его взять, с мамалыгой...
Дальше я ее уже не слышал, потому что спешил за угол, на улицу Леваневского. Вчера в самом конце квартала в открытые ворота я увидел мальчика в лётном шлеме, который держал в руках большой руль от машины. Я его не знал и раньше никогда не видел, поэтому нужно было обязательно с ним познакомиться.
Добежав до тех самых ворот, я остановился и присел на скамейку, чтобы отдышаться. Из-за забора на всю улицу гремела перепалка.
– Здравствуйте, вам здесь! И где этот хлеб? Он что, по-твоему, испарился?
– Смешно сказать, но я не знаю.
– А тебе не кажется, что его просто съели?
– Мамой клянусь, я здесь совершенно ни при чем.
– Оставь маму в покое, не дай бог приедет.
– Дура!
– Сам дурак!
Громко звякнула разбитая посудина, а следом послышались слова и выражения, которых я не знал, но понял, что лучше отложить свой визит и заглянуть сюда в другой раз. Я поднялся с лавки и не успел сделать шаг, как калитка открылась, и из нее вышел мальчик в летном шлеме на голове. Он внимательно оглядел мои панчохи, вздохнул и протянул мне руку.
– Буся Парижер. Шлем довоенный. Поносить не дам.
Потом он завел меня во двор и стал показывать, где они живут. Домик у них был маленький, а двор огромный, заваленный множеством всяких интересных вещей: ржавых железок, дырявых бочек и истертых автомобильных колес. Но как только мы стали копаться в этом хламе, как Бусю позвали в дом. Он положил на землю замасленный подшипник, вытер руки о штаны и повел меня к воротам. По дороге выяснилось, что он знает Борьку и Веню Либерманов.
– Жидрихи! – Буся сорвал сосульку с подоконника.
– Почему жидрихи? – Я услышал знакомое слово. Буся нахмурился и сунул сосульку в рот.
– Их все так называют.
– Кто? – Я тоже отломил себе сосульку.
– Все взрослые, – Буся открыл калитку. – Мама и бабушка, ну и дядя Мулик, когда пьяный.
Мы оба вышли на улицу.
– А что это значит?
Я выплюнул ледышку изо рта. Вместо ответа Буся вздохнул и пожал плечами. В этот момент его снова позвали, на этот раз довольно грозно, и он, виновато улыбнувшись, махнул мне рукой и резво побежал в дом.
– Мне тоже показать документы? – Мама раскрыла свою театральную сумочку.
– Не треба! – Пилипчук бесцеремонно оглядел ее с головы до ног. – Розумна Парася ко всему сдалася...
Он снял фуражку и пригладил потные волосы. Мама насторожилась.
– Не поняла...
– Ступай, пока...
Пилипчук достал папиросы. Он стал шарить по карманам в поисках спичек, но не нашел, развернулся к солдатам, и вдруг увидел самодельную зажигалку, забытую дядей Володей на столе.
– Дай ие сюды! – Показал он мне пальцем.
– Пойди, принеси! – Мама легонько подтолкнула меня в спину. Я уже собрался выполнить ее просьбу, но, вспомнив про дядю Азика, остался стоять на месте.
– Тоби що казали, га?
Пилипчук выкатил свои бесцветные глаза. Мне стало страшно, как тогда в милиции, но что-то удерживало меня, заставляя стоять и не двигаться.
– Я принесу! – Мама подалась было к столу, но после громкого окрика вернулась на место. Мужчины заволновались, отец шагнул вперед, достал из кармана спички.
– Вот, возьмите!
– Всим стоять! – Пилипчук выхватил пистолет из кобуры. – Нехай, сам несе!
Я так сильно испугался, что даже боялся заплакать. Ноги у меня тряслись, и если б я даже захотел, то не смог бы сделать и шага. Во дворе повисла гнетущая тишина. Было слышно, как жужжат пчелы над абрикосом. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не появился еще один солдат. Это был посыльный с красной повязкой на рукаве. Он подбежал к Пилипчуку и протянул ему пакет. Тот, не спуская с меня глаз, всунул пистолет в кобуру, разорвал бумагу и, прочитав написанное, махнул солдатам рукой. Когда весь отряд вышел за ворота, он обернулся и пригрозил мне пальцем.
– До устричи, крысеныш!
Уже на следующей неделе отцу пришла повестка, и он пошел в армию. Сначала его долго не было, и я не знал, как это воспринимать, но потом решил, что это здорово, потому что когда он приходил, я сразу надевал его пилотку и ходил по двору, как настоящий солдат. Жаль только, что пилотка сильно пахла потом, да и случалась это довольно редко. А еще отец приносил нам солдатский хлеб, но он мне не нравился, потому что был твердый, чёрный и кислый. Один раз он приехал на телеге и покатал меня по городу. Мы заехали к какой-то тётеньке, и она мне подарила пачку цветных карандашей. Они немного поговорили и ушли в соседнюю комнату, а я остался за столом и рисовал самолеты, которые видел над горой.
Как её ни ждали, а война пришла неожиданно. Был тёплый, летний день, воскресный выходной, потому что мама была дома. Она набрала полное корыто воды и посадила меня в него. Такое бывало не часто, и, визжа от восторга, я хлюпался вволю. Мама смеялась надо мной, но вдруг стала серьёзной, и, выпустив из рук мочалку, бросилась к окну слушать радио. Эти мгновения были последними секундами моего беззаботного, озорного детства, потому что с этого дня в него бесцеремонно вмешалась война.
Что было потом? Совсем другая жизнь. Не только моя мама, все люди вокруг стали очень серьёзными, часто плакали, особенно когда провожали своих близких на фронт. Проводы проходили повсюду. С нашего двора ушел мой крестный, у близняшек напротив – отец и дед, а у соседей – почти все сыновья. У нас больше никого не забрали, потому что дедушка был старый, а дядя Володя числился знатным стахановцем и работал на заводе имени Гаджиева. По приказу квартального они вырыли у нас во дворе просторное бомбоубежище между абрикосом и вишнями, в котором по сигналу воздушной тревоги мы прятались всей семьей.
– Раз-два, раз-два!
По нашей улице стали часто ходить солдаты. Город тоже менялся с каждым днём. В парке, где раньше по выходным мы с родителями гуляли и веселились, выкопали окопы и поставили зенитки. Они каждый день стреляли по «колбасе», которую таскал за собой над морем самолет. На высоких домах большими буквами написали «бомбоубежище», а в центральной гостинице организовали госпиталь. Потом под госпитали заняли большинство городских школ.
До учебы мне было еще далеко, поэтому я был предоставлен самому себе. Отвадив от себя подросшую сестренку Светку, я бежал помогать чинить полуторку. Вторую неделю, как на нашей улице расположился автобатальон, и машин стало не счесть. Они все стояли под высокими деревьями, а штаб и мастерские находились в соседнем большом дворе. Шофер-солдат, черный от грязи, сутками не вылезал из-под машины, а я подавал ему ключи и мыл их в ведре с бензином. За это он мне дал подержать настоящую гранату, которая лежала у него под сидением.
– Эй, Герка!
Я поднялся с земли, вытер руки и оглянулся. Оба брата Либермана сидели на заборе и махали мне руками. Я подошел ближе.
– Посуду тащи, скоро печка приедет!
Борька блеснул алюминиевой миской. У Вени тоже был с собой примятый ковшик. Я махнул им в ответ и направился домой взять что-нибудь на кухне, но, услышав цоканье копыт, вышел посмотреть за ворота. На обочине стояла лошадь, запряженная в огромный бак с трубой на колесах. В белой куртке солдат-повар огромным черпаком раскладывал пшенную кашу по котелкам стоящих в очереди солдат. Когда крайний боец отошел от печки, повар повернулся к нам лицом.
– Пацаны! Подходи по одному!
Борька Либерман, как всегда, проскользнул первым. Получив полную миску пахучего пшена, он сразу помчался домой. Следом за ним кашей разжился Веня, потом подошли два брата-близнеца, за ними прихромал Чивик. Я стоял и не знал, что делать. Повар уже выскребывал из бака остатки, а у меня не было посуды с собой. А каша так вкусно пахла! Я старался не вдыхать этот запах, но у меня совсем не получалось, наоборот, в животе сильно забурчало, рот наполнился слюной, а из глаз сами по себе потекли слезы.
– Иди сюда, парень!
Повар нагнулся под брезент и протянул мне наполненный кашей зеленый солдатский котелок. Не веря своим глазам, я взял его двумя руками и не уходил.
– Беги, беги! – Повар хлопнул меня по плечу и засмеялся. – В следущий раз с ним приходи!
Голод набирал обороты. С едой стало совсем плохо, а мне, как назло, все время хотелось есть. Хлеб в магазине давали по карточкам. На всех его не хватало, и бабушка пекла лепешки из кукурузной муки. Однажды дедушка принёс с работы буханку, но, как только он положил ее на стол, она вся сразу рассыпалась на крошки. Бабушка их все собрала, и, замесив на воде, испекла вкусные оладушки. По карточкам еще можно было получить ржавую селёдку и даже жидкое мыло. Это мыло было красно-коричневого цвета, и бабушка налила его в банку, в которой до войны у нас было варенье. Мама зачем-то полезла на полку и, увидев эту банку, зачерпнула из нее и отправила прямо в рот. Хорошо, что рядом было ведро с водой!
Один раз подобное приключилось и со мной. Бабушка принесла с базара маленькую наволочку жаренной кукурузной муки и спрятала ее в шифоньер, под одежду. Запах сразу распространился по всему дому, и когда мы со Светкой остались одни, я запустил пятерню в мешок и набил себе мукой полный рот. С голодухи я так спешил, что часть ее попала мне в дыхательное горло. Увидев мои выпученные глаза, Светка заорала, как сирена воздушной тревоги, и только внушительные хлопки бабушки по спине вернули мне способность дышать.
За последнее время я заметно вырос, но веса набрал мало и был очень худой. Как-то к нам в гости пришла крестная, и, увидев меня, сказала, чтобы я приходил к ней в госпиталь на обеды. Я некоторое время ходил туда с задней двери, где была кухня, и повариха наливала мне полную миску борща. Я ел его с солдатским хлебом, и теперь он мне казался необычайно мягким и вкусным.
Не одни мы, все семьи выживали, как могли. Близнецов родители кормили лепешками на тюленьем жире, поэтому от них постоянно воняло рыбой, Либерманы собирали на борщ лебеду, а Чивик ел кашу из отрубей. Наш дедушка починил старую лодку и ловил в море бычков. Он их продавал на базаре, а на вырученные деньги покупал постное масло и фасоль. Иногда он посылал меня за керосином, и я, зажав деньги в кулаке, на всех парах бежал в магазин, чувствуя себя по-настоящему нужным и взрослым.
Как раз в тот день в городском саду стреляли зенитки, и мне пришлось обходить через площадь. Теперь я ее знал, как свою ладонь: по периметру были расставлены ежи из рельсов, возле зданий – укрытия из мешков с песком, а возле памятника Сталину постоянно дежурили милиционеры. Там я и остановился. Статуя мне показалась не такой уж большой, как прежде. Я подошел поближе к постаменту и потрогал мешок с песком. Мне очень захотелось узнать, насколько он твердый, раз может задержать пулю. Мешок оказался довольно мягким. Может, другой будет жестче? Я принялся ощупывать все мешки, пока не обнаружил, что денег в руке нет. Холодок пробежал по всему моему телу, я бросился их искать, но найти не смог. Безуспешно прокружив вокруг статуи, я остановился и сел. Теперь то уж мне точно попадет. Но меня угнетало не предстоящее наказание, а то, что я не смог выполнить простейшего поручения. Я видел, как с утра до ночи хлопочет бабушка, как много работает мама, в любую погоду в море пропадает дед, а тут такая беда.
Настроение у меня совсем испортилось, я изо всех сил сдерживал слезы, как вдруг вспомнил тот свой случай, когда я заблудился и не смог найти дорогу домой. Тогда Сталин указал мне взглядом путь. Может, получится и сейчас? Покажет, где деньги лежат? Я вскочил с постамента и задрал голову вверх. Лицо Сталина было безучастным. Наверное, он устал или ему было некогда, ведь у него очень много дел. Война, например. Ему сейчас точно не до меня. От этой мысли у меня опять намокли глаза. Я принялся вытирать их рукавом, как вдруг почувствовал тяжелую руку на плече.
– Что случился, малчик?
Я повернулся и увидел перед собой милицейского старшину. Того самого, который в отделении угостил меня ириской. Он был в той же форме, но теперь вместо треугольничков у него в петлицах были шпалы.
Я хотел ему рассказать про деньги и керосин, но вместо этого просто заплакал.
– Э-э, так не пойдет! – Старшина вытер мне лицо платком. – Мужчины не должен плакать.
– Никогда-никогда? – Я начал успокаиваться.
– Никогда!
Как ни странно, он меня тоже узнал. Милиционер еще немного поспрашивал, где живем, как мама, кто у меня друзья, и, услышав, что я потерял деньги, покопался в кармане и протянул мне купюру.
– На, бери. Я нашел.
Я так обрадовался, что сразу ее схватил и стал запихивать в свой единственный карман. Но у меня это не получалось: карман был маленький, и я решил свернуть купюру трубочкой. Я начал ее сворачивать, но сразу остановился. Деньги были не те. Я еще не знал чисел и не разбирался в номиналах банкнот, но хорошо запомнил, что на моей был нарисован солдат с ружьем, а на этой был летчик с парашютом.
– Я не возьму. Это не мои!
Я протянул старшине деньги обратно. Тот сначала нахмурился, потом улыбнулся, вздохнул и погладил меня по голове.
– Бери! Это подарок, – и, не дожидаясь, сложил денежку квадратиком и положил мне в карман. – Болше не теряй!
Не успел я как следует обрадоваться, как к нам подошли еще два милиционера.
– Товарищ капитан! Разрешите обратиться?
– Ух ты!
Я едва не подпрыгнул на месте. Старшина уже капитан! Не зря у него в петлицах шпалы. Милиционеры о чем-то ему громко докладывали, а я стоял и был на седьмом небе от счастья. У меня есть знакомый офицер!
– Передайте, что Гасанов приказал!
Капитан поправил фуражку и нахмурился. Милиционеры сказали «есть!» и ушли. Я тоже ждать не стал. Во-первых, надо было успеть купить керосин, а во-вторых, мне опять повезло: я узнал, как зовут капитана. И крикнув ему на ходу «пасиба», я уже через секунду во весь дух бежал в лабаз.
Первое военное лето заканчивалось, а жить становилось все труднее. В доме всем заправляла бабушка. Она ходила на базар, умудрялась из всего, чего можно, готовить нам еду, шила одежду на зиму и ещё успевала выстоять очередь в собесе, чтобы выхлопотать пособие на нас, детей фронтовика. И откуда у нее было столько сил? Мама все время пропадала на работе и, когда возвращалась, то вместо клуба шла на рытье окопов, после чего не могла даже шевельнуть пальцем. Она уже не стояла перед зеркалом, как раньше, а смотрела на свои руки и сильно вздыхала.
Дедушка был все время или на работе, или на рыбалке.
Один раз я пошел его встречать. Было уже довольно холодно, к воде я не подходил и остался стоять на песке, чтобы посмотреть, как приплывали рыбацкие баркасы. Пляж был увешан сетями, пахло рыбой, в нескольких котлах кипел тюлений жир. Дедушки еще не было, и я задержался у только что причалившего судна. Рыбак большим сачком набирал пойманную кильку и вываливал ее в огромные плетёные корзины, стоящие рядом на песке. Увидев мои босые ноги, он набрал немного кильки в черпак и поманил меня пальцем.
– Подставляй что-нибудь!
Я вспомнил котелок с кашей и не растерялся: снял с головы кепку и подставил ее рыбаку. Тот наполнил ее до самых краев. Подобрав с песка упавших рыбок, я не стал дожидаться дедушку и отнес кильку домой.
– Ты где взял? – Бабушка остановила меня на пороге. Я не ожидал такого приема и не мог вымолвить ни слова. – Украл?
Бабушка сделала страшные глаза. Вот теперь я все понял. Ничего не говоря, я прошел мимо и высыпал кильку прямо на стол.
– Это с баркасов. Рыбаки дали.
Вечером вся семья ела рыбные котлеты. Мама, дедушка, дядя Володя их нахваливали, а я сидел с непринужденным видом и чувствовал себя равным среди них.
Приближалась первая военная зима, и к постоянному голоду прибавился ещё и холод. Наша хата отапливалась печкой, которую нужно было топить дровами, а лучше углём. Дрова продавались на базаре вязанками в несколько поленьев и стоили дорого. Зимой люди вместе с продуктами обязательно несли на плечах охапку дров. Нашей семье это было не по карману, потому что деньги тратились еще на лигроин для примусов и керосиновых ламп.
Лигроин – это среднее между керосином и бензином, и чтобы лампы не вспыхивали, в них обязательно сыпали соль.
Наш дедушка служил в молодости кочегаром на броненосце Потёмкин. Он на работе сделал горелку, работающую на нефти, и установил её в нашу печку. Нефть он набирал в только ему известном месте, когда шёл с работы домой. Чтобы удобнее было нести, он сделал себе ведро – узкое и высокое. Благодаря этому в нашей хате всегда было тепло, из одного бачка капала нефть, из другого – вода, горелка жутко ревела, но раскаляла печку до красна. Когда было особенно трудно, дедушка починял соседям всё, что ему приносили: примусы, кастрюли, керосинки, вставлял днища в вёдра, и за это соседи благодарили его, чем могли. Это, конечно, было неплохим подспорьем, но в корне проблему не решало, и на семейном совете было решено потесниться и пустить к себе в дом квартирантов.
– Далеко собрался? – Бабушка перегородила мне путь на улицу.
– Погулять!
– Смотри, вовремя приходи. Чай будем пить, – бабушка сделала таинственное лицо.
– С сахаром? – Я открыл калитку и остановился.
– Где ж его взять, с мамалыгой...
Дальше я ее уже не слышал, потому что спешил за угол, на улицу Леваневского. Вчера в самом конце квартала в открытые ворота я увидел мальчика в лётном шлеме, который держал в руках большой руль от машины. Я его не знал и раньше никогда не видел, поэтому нужно было обязательно с ним познакомиться.
Добежав до тех самых ворот, я остановился и присел на скамейку, чтобы отдышаться. Из-за забора на всю улицу гремела перепалка.
– Здравствуйте, вам здесь! И где этот хлеб? Он что, по-твоему, испарился?
– Смешно сказать, но я не знаю.
– А тебе не кажется, что его просто съели?
– Мамой клянусь, я здесь совершенно ни при чем.
– Оставь маму в покое, не дай бог приедет.
– Дура!
– Сам дурак!
Громко звякнула разбитая посудина, а следом послышались слова и выражения, которых я не знал, но понял, что лучше отложить свой визит и заглянуть сюда в другой раз. Я поднялся с лавки и не успел сделать шаг, как калитка открылась, и из нее вышел мальчик в летном шлеме на голове. Он внимательно оглядел мои панчохи, вздохнул и протянул мне руку.
– Буся Парижер. Шлем довоенный. Поносить не дам.
Потом он завел меня во двор и стал показывать, где они живут. Домик у них был маленький, а двор огромный, заваленный множеством всяких интересных вещей: ржавых железок, дырявых бочек и истертых автомобильных колес. Но как только мы стали копаться в этом хламе, как Бусю позвали в дом. Он положил на землю замасленный подшипник, вытер руки о штаны и повел меня к воротам. По дороге выяснилось, что он знает Борьку и Веню Либерманов.
– Жидрихи! – Буся сорвал сосульку с подоконника.
– Почему жидрихи? – Я услышал знакомое слово. Буся нахмурился и сунул сосульку в рот.
– Их все так называют.
– Кто? – Я тоже отломил себе сосульку.
– Все взрослые, – Буся открыл калитку. – Мама и бабушка, ну и дядя Мулик, когда пьяный.
Мы оба вышли на улицу.
– А что это значит?
Я выплюнул ледышку изо рта. Вместо ответа Буся вздохнул и пожал плечами. В этот момент его снова позвали, на этот раз довольно грозно, и он, виновато улыбнувшись, махнул мне рукой и резво побежал в дом.

Евгения БЕЛОВА
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г. Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2022». Член Московского союза литераторов.
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г. Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2022». Член Московского союза литераторов.
ДОМОЙ
Памяти член-корр. АМН Гуськовой Татьяны Анатольевны
Шла вторая неделя после капитуляции Германии. Берлин был разгромлен. В воздухе стояла напряжённая тишина. Среди развалин ходили одинокие старики, выискивая то ли свои вещи, то ли случайные крохи хлеба, ещё не подобранные крысами. Глаза многих из них предпочитали не встречаться с глазами красноармейцев, но в них не было ненависти. Были только бесконечная печаль и растерянность, усталость и равнодушие. Они шли, спотыкаясь, молча, даже если были родственниками или хорошо знакомы между собой, и в этом молчании слышались скорбь и покорность. Они ничего не просили, не отшатывались от встречных русских солдат и шли мимо, как сквозь невидимую стену.
Город перестал быть городом. Те, кто в него пришёл, мечтали поскорее вернуться на родную землю, а те, кто там оставался, с ужасом думал о будущем.
Пехотинец Анатолий Клочков ходил по Берлину в надежде найти попутный транспорт в сторону далёкого дома. Несмотря на то, что улицы стояли в руинах, автомобильное движение по ним было достаточно оживлённое. На бесконечных машинах и бронетранспортёрах в разных направлениях перемещались войска. На каждом перекрёстке стояли регулировщицы. Они хорошо знали, куда направить поток машин. Кого-то задерживали, кого-то безоговорочно пропускали, кого-то заворачивали обратно, и машины послушно теснились или рвались вперёд, и те, кто сидел в них, махали регулировщицам рукой, что-то кричали, но девушки молча и отточенно взмахивали своими флажками, умело разгружая дорогу.
– Прямо как стрелочник стрелки переводит, – с восхищением думал солдат. – Эх! Где наши стрелки? Сейчас бы на поезд и вперёд.
Но поезда были переполнены, шли крайне нерегулярно. Целые составы по многу дней стояли под немецким небом, лязгая иногда сцепами, но оставаясь неподвижными. Дни проходили за днями. Город жил двойной жизнью. Никто не спешил его восстанавливать. Обломки зданий громоздились огромными глыбами среди чудом уцелевших домов, и чёрно-красные кучи битого кирпича неестественно чередовались порой с блестящими витринами булочных и аптек. Но и в этих уцелевших очагах жизни по-настоящему не наблюдалось. Там не было ни одного покупателя. Напротив, огромные очереди с судками и бидонами стояли у советских комендатур в ожидании своих порций горячей пищи. Всё словно поменялось местами и до боли напоминало то, во что превратилась за годы войны Россия. Длинные молчаливые очереди состояли из женщин в платках, детей в недетских одеждах, стариков, старающихся держаться прямо и независимо. Голод и разруха объединяли всех. Город молчал. На фоне гула бесконечных машин, их сигналов не было слышно немецких голосов. Население жило в подавленном состоянии, в очередях не переговаривались, тревожно оглядывались, и, получив пайку, люди бежали куда-то, скрываясь в развалинах, как крысы в норе. Но и родного языка Анатолий почти не слышал.
Лишь однажды, проходя мимо пункта сбора советских граждан для отправки на родину, он вдруг услышал оживлённый женский разговор.
– Девоньки, давайте знакомиться. Я Гретхэн. Ой, что я говорю? Не Гретхэн, конечно, Глаша, Глафира я. Совсем уж с ними онемечилась. Я из-под Пскова, с Острову. Знаете? Они меня, черти, в Миттенвальд послали. Коров ихних пасти. Ну чего им не хватало? Коровы-то у них чистенькие. Все рыжие, блестят на солнце, а вымя – во! Я, конечно, к коровам ихним хорошо относилась. При чём тут коровы? Ни при чём. Но сами-то… Два года у них жила, а всё никак не могу привыкнуть. Не по-нашему у них. Вот смотрите, домики маленькие, сплошь отштукатуренные, на стенах, которые на улицу смотрят, картинки всякие. Да-а… Нарисованные. Ну, там кони всякие, принцы с принцессами. И все эти немцы такие чистенькие. Мужики так в кожаных штанах ходят коротких, и подтяжки у них с цветочками. В жизни таких не видела. И все с хлыстиками в руке. Без хлыстиков никуда. А фрау ихние в передничках. Ну чисто, как в нашем детском саде. Только не дети они – звери. Мне эта фрау всё время перед дойкой велела руки показывать, ногти смотрела, кожу. Это чтобы я её коров не заразила. А потом стал её сын приходить. Смотрел, чтобы я молоко не пила. Не поверите, я за это время, пока с коровами жила, молоко пробовала только когда после дойки руки облизывала. Стоит такой противный, глаза пялит и хлыстиком себя по ляжкам пошлёпывает. Ну а потом… Как вспомню его, рыжего, волосатого, все руки и ноги в волосах, так тошно становится. А мне и деться-то некуда. Пробовала фрау, значит, пожаловаться, а она как будто не понимает. Ну потом, когда она велела мне в свои обноски немецкие одеваться с передничком, значит, я поняла, что она только за сыночка рада своего рыжего гадину. Пусть, мол, мальчик побалуется. А потом у меня на руках какие-то пятна пошли, вот, – и она протянула вперёд руки, – тут меня сразу и выгнали. Дорогу строить. Ой, девоньки, и не знаю, что лучше. Надорвалась я на ихней дороге. Слава богу, хоть выродка немецкого там скинула. Хорошо, что наши приближались, а то бы и в живых не осталась. Теперь уж домой, к мамке, если жива…
Много повидал Анатолий на войне. Много чего наслушался. Но не зачерствел, всё глубоко принимал сердцем.
– Сволочи! – пробормотал он и двинулся дальше.
Анатолий стоял перед последним оплотом фашистов до самого начала мая. Собственно то, что он перед собой видел, оплотом уже назвать было трудно, но толстенные стены железобетонных бункеров, ушедших глубоко под землю, где прятались напоследок нацисты, впечатляли своей шириной, превышающей два метра. Зоосад был малодоступен, несмотря на то, что уже два года назад подвергся первой бомбардировке англичанами. Но ни с неба, ни с земли уничтожить немцев долго не могли. Зоосад был обнесен железобетонным забором, в котором зияли множественные проломы и пробоины, давшиеся красногвардейцам с великим трудом. На крыше командного пункта всё ещё стояли, ощетинившись, зенитки. С болью смотрел солдат на неубранные тела совсем ещё мальчиков из гитлерюнга, защищающих до конца апреля своих взрослых фанатиков-нацистов.
– Гады последние, – выругался Анатолий, – до последнего за детей и зверей прятались!
Зоосад был разгромлен. Кое-где лежали мёртвые туши животных хищных и почти домашних. Они были исковерканы снарядами, так же, как каменные слоны в воротах зоопарка. Лишь несколько обезьян и какие-то редкие птицы, не улетевшие из-за подрезанных в мирное время крыльев, ковыляли по руинам. Около бассейна с посеченными берегами солдат с удивлением увидел бегемота. Шкура его была покрыта ранами и пятнами ожогов и, очевидно, сильно зудела, потому что бегемот всё время тёрся боками о громадный гранитный камень, который тоже не пощадили снаряды.
– Толя! Клочков!
Анатолий обернулся. На куче щебня стоял пожилой человек в гимнастёрке с орденом и медалями и махал ему рукой.
– Иван Михалыч, это вы?
– Я, я, Толя, – проходя, проговорил Иван Михайлович с улыбкой. – Ты как здесь оказался?
– Да я давно их зоопарк хотел увидеть. С нашим сравнить. А сравнивать-то уже и нечего. Можно сказать, сравняли полностью.
– Я не про зоопарк. В Берлине как? По железке?
– Нет, я в пехоте всю войну.
– Это как же так, в пехоте? Да ты дела-то своего не забыл?
– С вами и сто лет не забудешь. Как вы меня муштровали-то, Иван Михалыч! Вот бы сейчас по железке домой вернуться. Небось, живее до дома докатил бы…
– Так в чём же дело? Иди опять ко мне в помощники. Я тебя знаю. Ты человек работящий, лучшего не найдёшь. Тут формируют сейчас состав… девушек наших, человек шестьсот. Домой доставить надо. Пойдёшь, а? Груз-то какой деликатный. Обзавидуешься.
– Вот это удача! Что, прямо в Москву? Вот это да! О чём спрашивать-то? Считайте, что я уже в вашем подчинении.
– Я знал, что ты согласишься. Ну, айда в комендатуру документы оформлять!
Иван Михайлович и Клочков наблюдали, прохаживаясь по платформе, за погрузкой возвращающихся на родину женщин, угнанных в Германию. Сотни размещались почти в таких же вагонах, в каких несколько лет назад их везли на запад. Однако сейчас в вагонах уже были дощатые двухэтажные нары, маленькая печка «буржуйка», бак с водой и одним на всех ковшиком. В стенах вагона, на уровне человеческих глаз, изредка вместо окон встречались узкие вырезы высотой с ширину доски. Вагонов было семь, в каждом из шести – по сто женщин, а седьмой – для охраны и технических нужд. Охранников с оружием полагалось по два человека на вагон. Руководил ими и был начальником поезда капитан Васильцев Иван Кириллович.
– Одолеют, – говорил Васильцев машинистам, – столько баб и за всякую отвечать надо. Одна надежда, что добровольно. Поскорей бы уж доставить под расписку.
Анатолия крайне поражала противоречивость пассажирок. Общая масса преимущественно состояла из бедно и рвано одетых со спутанными тусклыми волосами, огрубевшими на строительстве руками, угрюмые и печальные, редко улыбающиеся и создающие впечатление забитых и утративших способность бороться за себя, женщин. Они несли жалкие узелки и занимали без спора те места, на которые им указывали более бойкие женщины. Но были среди пассажирок и другие. Они несли в руках и на плечах огромные тюки на перевязи. Головы их были аккуратно причёсаны, манеры развязны, голос резкий, командный. Женщины были преимущественно молодые, однако у одних эта молодость давно поблекла, а у других, наоборот, как будто помогала выжить.
Погрузка с бесконечной проверкой документов продолжалась долго, часто с длинными перерывами в ожидании новой партии. Иван Михайлович, получив сигнал об отправлении, дал длинный свисток и с облегчением сказал:
– Ну всё. Теперь при хорошем раскладе дня через три-четыре до Москвы доберёмся. В нашу-то сторону приоритет должны давать. Живой груз как-никак.
– А мои, наверное, ждут не дождутся. Вот я им, как снег на голову, свалюсь. Как здорово, Иван Михалыч, что я вас встретил. Не верится даже. Меня ведь там дочка ждёт. Танюшка. Я когда на фронт уходил, она совсем маленькая была. Но красивая уже. Завитушечки такие… беленькие. Крикунья ужасная. Я ей соску везу немецкую.
– Совсем ты, Толя, на войне одичал. Какую соску? Она у тебя уже невеста, поди. Ты бы о женихе или кукле, на худой конец, подумал.
– Куклу я тоже везу. Смотрите, Иван Михалыч, как нам зелёную улицу-то дают!
Но «зелёная улица» длилась не долго. Вскоре начались ограничения. Состав медленно шёл в ночи из-за частых вынужденных остановок перед запрещающими знаками, говорящими об идущих впереди ремонтных работах. На одном перегоне они простояли три часа. Утро встретило их хмуро. Над дорогой стоял густой туман, сквозь который был еле виден цвет светофора. А светофор почему-то загорался то и дело красным. По сторонам от дороги было безлюдно, станции и дома посёлков разрушены, леса всё ещё догорали и тлели после недавних бомбёжек. Сама дорога тоже выглядела пустынной. Дорожные указатели были свёрнуты, погнуты и висели, глядя в землю. Ни попутных, ни встречных поездов не наблюдалось.
– Не нравится мне всё это, – ворчал Иван Михайлович, – неживое вокруг. Война-то, вроде, кончилась. Кто-то же расставляет знаки эти о ремонте. Кто-то же ремонтирует, значит. А людей, когда участок проезжаешь, не видно ни одного. Нет, не нравится. Не кончена она – война, Толя, не кончена. Вот чего боюсь.
В помещение машинистов пробрался Васильцев.
– Иван Михалыч, остановиться надо бы… Тут в третьем вагоне одна померла. Изголодалась, видать. Где-то украла целую буханку и одна её съела всухомятку. Потом ночью животом маялась. Ну и… померла. Хоронить надо. Остановись где-нибудь. Похороним, дальше поедем. А то мне отписаться надо.
– Остановись! Да как же я среди дороги остановлюсь? За нами, поди, какой-нибудь поезд идёт, может, санитарный. Там и вовсе люди каждый день мрут. Ведь не останавливается же, вперёд идёт. А мы как нарушим?
– Санитарный – другое дело. Он для этого и приспособлен. А как я мёртвое тело, да на такой жаре, в жилом вагоне оставлю, подумал? Остановись, очень тебя прошу, Иван Михалыч. У какой-нибудь полянки.
– У поля-янки! Да вы видите, гарь везде. Всё пожжено вокруг.
Однако поезд стал замедлять ход и у открытого пространства, ещё похожего чем-то на летнюю лесную поляну, остановился.
– Вот под той берёзой, которая в центре, и похороните. Только быстро. Нельзя нам здесь без разрешения.
– Вот так вот, Толя, – мрачно сказал Иван Михайлович, когда поезд вновь тронулся. – Кончилась война, а люди всё равно от неё помирают. Когда ещё счастье-то наступит…
Между тем становилось совсем жарко. Женщины в душных вагонах изнывали от жажды. Все запасы питьевой воды были исчерпаны. Женщины требовали от Васильцева санитарной остановки, но капитан был непреклонен, и поезд больше не останавливался. Шли вторые сутки пути. Иван Михайлович и Анатолий сменяли друг друга и помогали кочегару. Запасы угля истощались, перспективы запастись им на ближайших станциях таяли, как весенний снег.
– На дрова переходить придётся. Васильцеву сообщить надо.
– Да нет у меня, – кричал капитан, – людей деревья валить. Дело охраны – ружьё в руках держать, а не топор. А вдруг засада?
– Оно и так получается вроде засады. Второй день идём – ни одного человека. На станциях пусто. Никаких дежурных. Прочесть название невозможно, всё посшиблено. Останемся без топлива, вообще станем, хоть в упор расстреливай. Может, женщины помогут? Они привычные.
– Не имею я права их заставлять. Они свободные. Я им не начальник, охранник только.
– Ну и охраняйте! – рассердился Иван Михайлович. – Хоть целый месяц в чистом поле. Сами как-нибудь.
Однако многие женщины вышли добровольно помогать. Поезд стоял у места, где деревья были повалены бомбёжкой, уже подсохшие. Их не надо было валить. Мужчины распиливали стволы и рубили их на дрова, а женщины, нагрузившись поклажей, с трудом преодолевали преграду из поваленных деревьев и торчащих из земли острых кольев. Они добирались до паровоза, сбрасывали груз и возвращались обратно. Наконец удалось набить целый тендер. Обессиленные женщины вернулись в вагоны только под ночь. Уставший Иван Михайлович попросил Анатолия вести состав и тут же крепко заснул.
– Иван Михалыч, – услышал он, когда открыл глаза, – тут вообще не понятно, что творится.
– Ну что ещё?
– Да солнце совсем не с той стороны взошло, что вчера. Куда мы идем?
– Теперь и я не знаю. Что это за обходные пути такие? Кого-то всё-таки надо перехватить на станции. Давай, сбегай за Васильцевым. Как у нас с водой дела?
– Надо бы уже набрать. Так и так дежурного прихватить стоит.
Часа через два поезд приблизился к станции, которая опять была безлюдна и со сбитым названием. В конце платформы стояла водозаборная колонка, а справа от неё, метрах в ста от полотна железной дороги, водонапорная башня, из которой сверху под большим напором хлестала вода. Она гремела, обрушиваясь всей своей тяжестью, кипела у основания стены, яростно пробивая себе путь в сухой земле, и хищно вгрызалась в малейшие рытвины и канавки, змеями шипела в песчаной насыпи, пробираясь к железнодорожному полотну. Увидев потоки воды, подобные водопаду, женщины заволновались, стали выпрыгивать из вагонов и бежать в сторону башни. Многие на ходу раздевались.
Раздался выстрел.
– Стоять! – кричал Васильцев, с трудом обогнав толпу. – Стоять!
Толпа невольно остановилась, готовая вновь бежать к воде в ближайшую минуту.
– Стоять! – хрипло кричал капитан. – Куда вы, дуры? Сверху не меньше пяти тонн падает. Расплющит к чёртовой матери! А ну, по вагонам! Живо!
Толпа медленно и покорно развернулась.
И только тут Иван Михайлович понял, что не пройдёт и десяти минут, как дорогу размоет, и они потеряют всякую надежду уйти со станции.
– Быстрей! Быстрей! – закричал он в толпу. – Бегом! – и с силой потянул рычаг свистка.
Поезд благополучно ушёл, но Иван Михайлович возбуждённо говорил Васильцеву.
– Кто-то нас пасёт, ей богу. Колонка была доступна – невиданное дело, – без дежурного по станции. Вода у них через край хлещет, а ни одного человека. И потом… это солнце… оно не даёт мне покоя. Мы явно идём не на восток.
– Ну да, – подтвердил Анатолий, – я сначала думал, что мне показалось, но мы точно вчера проезжали ту поляну, на которой женщину хоронили.
– Свяжитесь с командованием, товарищ капитан. Как бы в какую ловушку не угодили. По кругу ходим. Точно.
– Рябина, рябина, я сосна, – кричал в передатчик капитан, – четыреста шестнадцатый потерял путь. Похоже, нас водят по кругу и уничтожают все координаты. Люди не встречаются. Нет, выстрелов не слышно, но поезд скован. Есть, самостоятельно перевести стрелки на восток!
– Хорошо сказать, – пробурчал Иван Михайлович. – Они что, не знают, что для этого курбель нужен?
– Какой ещё курбель?
– Ну штука такая. Хранится у дежурного по станции.
– Ну так и выбьем этот курбель на ближайшей станции. Делов-то!
– Не знаю. У кого выбивать? Ни одного человека.
– Плевать! Нам же не люди нужны, а курбель этот, чтоб его черти взяли. Тормози на ближайшей станции и за курбелем!
На станции, как и чувствовал с тревогой в сердце Иван Михайлович, ящик, где хранится курбель, был взломан и пуст.
Ещё сутки поезд кружил по уже знакомой дороге. К удивлению бригады, вода из водонапорной башни уже не хлестала. Пути были в приличном состоянии. Это укрепило уверенность в том, что маршрут поезда находится под тщательным контролем. Не ясна была только цель, с которой это проделывалось. Однако все опасались, что цель была не из мирных. Бригада была вымотана. Полусырые дрова не слишком разгорались. Котёл работал плохо. Бессилие от невозможности что-то изменить, ответственность за жизнь женщин, задыхающихся и голодающих в недрах замкнутых товарных вагонов, неясность ситуации, бессонные ночи охватили волю машинистов, которые подчинялись навязанному им порядку перемещения. И вдруг с очередным наступлением тьмы всё внезапно изменилось. Паровоз явно шёл другим путём, практически не останавливаясь. Дорога вела под уклон, что увеличивало скорость паровоза.
– Тормози! – закричал Иван Михайлович.
Анатолий с силой нажал на ручку тормоза, но поезд продолжал движение и ударился в путевой упор. Раздался сильный скрежет. Вагоны с разбегу наползали друг на друга и валились набок. Раздался взрыв, и поезд взлетел в воздух.
Памяти член-корр. АМН Гуськовой Татьяны Анатольевны
Шла вторая неделя после капитуляции Германии. Берлин был разгромлен. В воздухе стояла напряжённая тишина. Среди развалин ходили одинокие старики, выискивая то ли свои вещи, то ли случайные крохи хлеба, ещё не подобранные крысами. Глаза многих из них предпочитали не встречаться с глазами красноармейцев, но в них не было ненависти. Были только бесконечная печаль и растерянность, усталость и равнодушие. Они шли, спотыкаясь, молча, даже если были родственниками или хорошо знакомы между собой, и в этом молчании слышались скорбь и покорность. Они ничего не просили, не отшатывались от встречных русских солдат и шли мимо, как сквозь невидимую стену.
Город перестал быть городом. Те, кто в него пришёл, мечтали поскорее вернуться на родную землю, а те, кто там оставался, с ужасом думал о будущем.
Пехотинец Анатолий Клочков ходил по Берлину в надежде найти попутный транспорт в сторону далёкого дома. Несмотря на то, что улицы стояли в руинах, автомобильное движение по ним было достаточно оживлённое. На бесконечных машинах и бронетранспортёрах в разных направлениях перемещались войска. На каждом перекрёстке стояли регулировщицы. Они хорошо знали, куда направить поток машин. Кого-то задерживали, кого-то безоговорочно пропускали, кого-то заворачивали обратно, и машины послушно теснились или рвались вперёд, и те, кто сидел в них, махали регулировщицам рукой, что-то кричали, но девушки молча и отточенно взмахивали своими флажками, умело разгружая дорогу.
– Прямо как стрелочник стрелки переводит, – с восхищением думал солдат. – Эх! Где наши стрелки? Сейчас бы на поезд и вперёд.
Но поезда были переполнены, шли крайне нерегулярно. Целые составы по многу дней стояли под немецким небом, лязгая иногда сцепами, но оставаясь неподвижными. Дни проходили за днями. Город жил двойной жизнью. Никто не спешил его восстанавливать. Обломки зданий громоздились огромными глыбами среди чудом уцелевших домов, и чёрно-красные кучи битого кирпича неестественно чередовались порой с блестящими витринами булочных и аптек. Но и в этих уцелевших очагах жизни по-настоящему не наблюдалось. Там не было ни одного покупателя. Напротив, огромные очереди с судками и бидонами стояли у советских комендатур в ожидании своих порций горячей пищи. Всё словно поменялось местами и до боли напоминало то, во что превратилась за годы войны Россия. Длинные молчаливые очереди состояли из женщин в платках, детей в недетских одеждах, стариков, старающихся держаться прямо и независимо. Голод и разруха объединяли всех. Город молчал. На фоне гула бесконечных машин, их сигналов не было слышно немецких голосов. Население жило в подавленном состоянии, в очередях не переговаривались, тревожно оглядывались, и, получив пайку, люди бежали куда-то, скрываясь в развалинах, как крысы в норе. Но и родного языка Анатолий почти не слышал.
Лишь однажды, проходя мимо пункта сбора советских граждан для отправки на родину, он вдруг услышал оживлённый женский разговор.
– Девоньки, давайте знакомиться. Я Гретхэн. Ой, что я говорю? Не Гретхэн, конечно, Глаша, Глафира я. Совсем уж с ними онемечилась. Я из-под Пскова, с Острову. Знаете? Они меня, черти, в Миттенвальд послали. Коров ихних пасти. Ну чего им не хватало? Коровы-то у них чистенькие. Все рыжие, блестят на солнце, а вымя – во! Я, конечно, к коровам ихним хорошо относилась. При чём тут коровы? Ни при чём. Но сами-то… Два года у них жила, а всё никак не могу привыкнуть. Не по-нашему у них. Вот смотрите, домики маленькие, сплошь отштукатуренные, на стенах, которые на улицу смотрят, картинки всякие. Да-а… Нарисованные. Ну, там кони всякие, принцы с принцессами. И все эти немцы такие чистенькие. Мужики так в кожаных штанах ходят коротких, и подтяжки у них с цветочками. В жизни таких не видела. И все с хлыстиками в руке. Без хлыстиков никуда. А фрау ихние в передничках. Ну чисто, как в нашем детском саде. Только не дети они – звери. Мне эта фрау всё время перед дойкой велела руки показывать, ногти смотрела, кожу. Это чтобы я её коров не заразила. А потом стал её сын приходить. Смотрел, чтобы я молоко не пила. Не поверите, я за это время, пока с коровами жила, молоко пробовала только когда после дойки руки облизывала. Стоит такой противный, глаза пялит и хлыстиком себя по ляжкам пошлёпывает. Ну а потом… Как вспомню его, рыжего, волосатого, все руки и ноги в волосах, так тошно становится. А мне и деться-то некуда. Пробовала фрау, значит, пожаловаться, а она как будто не понимает. Ну потом, когда она велела мне в свои обноски немецкие одеваться с передничком, значит, я поняла, что она только за сыночка рада своего рыжего гадину. Пусть, мол, мальчик побалуется. А потом у меня на руках какие-то пятна пошли, вот, – и она протянула вперёд руки, – тут меня сразу и выгнали. Дорогу строить. Ой, девоньки, и не знаю, что лучше. Надорвалась я на ихней дороге. Слава богу, хоть выродка немецкого там скинула. Хорошо, что наши приближались, а то бы и в живых не осталась. Теперь уж домой, к мамке, если жива…
Много повидал Анатолий на войне. Много чего наслушался. Но не зачерствел, всё глубоко принимал сердцем.
– Сволочи! – пробормотал он и двинулся дальше.
Анатолий стоял перед последним оплотом фашистов до самого начала мая. Собственно то, что он перед собой видел, оплотом уже назвать было трудно, но толстенные стены железобетонных бункеров, ушедших глубоко под землю, где прятались напоследок нацисты, впечатляли своей шириной, превышающей два метра. Зоосад был малодоступен, несмотря на то, что уже два года назад подвергся первой бомбардировке англичанами. Но ни с неба, ни с земли уничтожить немцев долго не могли. Зоосад был обнесен железобетонным забором, в котором зияли множественные проломы и пробоины, давшиеся красногвардейцам с великим трудом. На крыше командного пункта всё ещё стояли, ощетинившись, зенитки. С болью смотрел солдат на неубранные тела совсем ещё мальчиков из гитлерюнга, защищающих до конца апреля своих взрослых фанатиков-нацистов.
– Гады последние, – выругался Анатолий, – до последнего за детей и зверей прятались!
Зоосад был разгромлен. Кое-где лежали мёртвые туши животных хищных и почти домашних. Они были исковерканы снарядами, так же, как каменные слоны в воротах зоопарка. Лишь несколько обезьян и какие-то редкие птицы, не улетевшие из-за подрезанных в мирное время крыльев, ковыляли по руинам. Около бассейна с посеченными берегами солдат с удивлением увидел бегемота. Шкура его была покрыта ранами и пятнами ожогов и, очевидно, сильно зудела, потому что бегемот всё время тёрся боками о громадный гранитный камень, который тоже не пощадили снаряды.
– Толя! Клочков!
Анатолий обернулся. На куче щебня стоял пожилой человек в гимнастёрке с орденом и медалями и махал ему рукой.
– Иван Михалыч, это вы?
– Я, я, Толя, – проходя, проговорил Иван Михайлович с улыбкой. – Ты как здесь оказался?
– Да я давно их зоопарк хотел увидеть. С нашим сравнить. А сравнивать-то уже и нечего. Можно сказать, сравняли полностью.
– Я не про зоопарк. В Берлине как? По железке?
– Нет, я в пехоте всю войну.
– Это как же так, в пехоте? Да ты дела-то своего не забыл?
– С вами и сто лет не забудешь. Как вы меня муштровали-то, Иван Михалыч! Вот бы сейчас по железке домой вернуться. Небось, живее до дома докатил бы…
– Так в чём же дело? Иди опять ко мне в помощники. Я тебя знаю. Ты человек работящий, лучшего не найдёшь. Тут формируют сейчас состав… девушек наших, человек шестьсот. Домой доставить надо. Пойдёшь, а? Груз-то какой деликатный. Обзавидуешься.
– Вот это удача! Что, прямо в Москву? Вот это да! О чём спрашивать-то? Считайте, что я уже в вашем подчинении.
– Я знал, что ты согласишься. Ну, айда в комендатуру документы оформлять!
Иван Михайлович и Клочков наблюдали, прохаживаясь по платформе, за погрузкой возвращающихся на родину женщин, угнанных в Германию. Сотни размещались почти в таких же вагонах, в каких несколько лет назад их везли на запад. Однако сейчас в вагонах уже были дощатые двухэтажные нары, маленькая печка «буржуйка», бак с водой и одним на всех ковшиком. В стенах вагона, на уровне человеческих глаз, изредка вместо окон встречались узкие вырезы высотой с ширину доски. Вагонов было семь, в каждом из шести – по сто женщин, а седьмой – для охраны и технических нужд. Охранников с оружием полагалось по два человека на вагон. Руководил ими и был начальником поезда капитан Васильцев Иван Кириллович.
– Одолеют, – говорил Васильцев машинистам, – столько баб и за всякую отвечать надо. Одна надежда, что добровольно. Поскорей бы уж доставить под расписку.
Анатолия крайне поражала противоречивость пассажирок. Общая масса преимущественно состояла из бедно и рвано одетых со спутанными тусклыми волосами, огрубевшими на строительстве руками, угрюмые и печальные, редко улыбающиеся и создающие впечатление забитых и утративших способность бороться за себя, женщин. Они несли жалкие узелки и занимали без спора те места, на которые им указывали более бойкие женщины. Но были среди пассажирок и другие. Они несли в руках и на плечах огромные тюки на перевязи. Головы их были аккуратно причёсаны, манеры развязны, голос резкий, командный. Женщины были преимущественно молодые, однако у одних эта молодость давно поблекла, а у других, наоборот, как будто помогала выжить.
Погрузка с бесконечной проверкой документов продолжалась долго, часто с длинными перерывами в ожидании новой партии. Иван Михайлович, получив сигнал об отправлении, дал длинный свисток и с облегчением сказал:
– Ну всё. Теперь при хорошем раскладе дня через три-четыре до Москвы доберёмся. В нашу-то сторону приоритет должны давать. Живой груз как-никак.
– А мои, наверное, ждут не дождутся. Вот я им, как снег на голову, свалюсь. Как здорово, Иван Михалыч, что я вас встретил. Не верится даже. Меня ведь там дочка ждёт. Танюшка. Я когда на фронт уходил, она совсем маленькая была. Но красивая уже. Завитушечки такие… беленькие. Крикунья ужасная. Я ей соску везу немецкую.
– Совсем ты, Толя, на войне одичал. Какую соску? Она у тебя уже невеста, поди. Ты бы о женихе или кукле, на худой конец, подумал.
– Куклу я тоже везу. Смотрите, Иван Михалыч, как нам зелёную улицу-то дают!
Но «зелёная улица» длилась не долго. Вскоре начались ограничения. Состав медленно шёл в ночи из-за частых вынужденных остановок перед запрещающими знаками, говорящими об идущих впереди ремонтных работах. На одном перегоне они простояли три часа. Утро встретило их хмуро. Над дорогой стоял густой туман, сквозь который был еле виден цвет светофора. А светофор почему-то загорался то и дело красным. По сторонам от дороги было безлюдно, станции и дома посёлков разрушены, леса всё ещё догорали и тлели после недавних бомбёжек. Сама дорога тоже выглядела пустынной. Дорожные указатели были свёрнуты, погнуты и висели, глядя в землю. Ни попутных, ни встречных поездов не наблюдалось.
– Не нравится мне всё это, – ворчал Иван Михайлович, – неживое вокруг. Война-то, вроде, кончилась. Кто-то же расставляет знаки эти о ремонте. Кто-то же ремонтирует, значит. А людей, когда участок проезжаешь, не видно ни одного. Нет, не нравится. Не кончена она – война, Толя, не кончена. Вот чего боюсь.
В помещение машинистов пробрался Васильцев.
– Иван Михалыч, остановиться надо бы… Тут в третьем вагоне одна померла. Изголодалась, видать. Где-то украла целую буханку и одна её съела всухомятку. Потом ночью животом маялась. Ну и… померла. Хоронить надо. Остановись где-нибудь. Похороним, дальше поедем. А то мне отписаться надо.
– Остановись! Да как же я среди дороги остановлюсь? За нами, поди, какой-нибудь поезд идёт, может, санитарный. Там и вовсе люди каждый день мрут. Ведь не останавливается же, вперёд идёт. А мы как нарушим?
– Санитарный – другое дело. Он для этого и приспособлен. А как я мёртвое тело, да на такой жаре, в жилом вагоне оставлю, подумал? Остановись, очень тебя прошу, Иван Михалыч. У какой-нибудь полянки.
– У поля-янки! Да вы видите, гарь везде. Всё пожжено вокруг.
Однако поезд стал замедлять ход и у открытого пространства, ещё похожего чем-то на летнюю лесную поляну, остановился.
– Вот под той берёзой, которая в центре, и похороните. Только быстро. Нельзя нам здесь без разрешения.
– Вот так вот, Толя, – мрачно сказал Иван Михайлович, когда поезд вновь тронулся. – Кончилась война, а люди всё равно от неё помирают. Когда ещё счастье-то наступит…
Между тем становилось совсем жарко. Женщины в душных вагонах изнывали от жажды. Все запасы питьевой воды были исчерпаны. Женщины требовали от Васильцева санитарной остановки, но капитан был непреклонен, и поезд больше не останавливался. Шли вторые сутки пути. Иван Михайлович и Анатолий сменяли друг друга и помогали кочегару. Запасы угля истощались, перспективы запастись им на ближайших станциях таяли, как весенний снег.
– На дрова переходить придётся. Васильцеву сообщить надо.
– Да нет у меня, – кричал капитан, – людей деревья валить. Дело охраны – ружьё в руках держать, а не топор. А вдруг засада?
– Оно и так получается вроде засады. Второй день идём – ни одного человека. На станциях пусто. Никаких дежурных. Прочесть название невозможно, всё посшиблено. Останемся без топлива, вообще станем, хоть в упор расстреливай. Может, женщины помогут? Они привычные.
– Не имею я права их заставлять. Они свободные. Я им не начальник, охранник только.
– Ну и охраняйте! – рассердился Иван Михайлович. – Хоть целый месяц в чистом поле. Сами как-нибудь.
Однако многие женщины вышли добровольно помогать. Поезд стоял у места, где деревья были повалены бомбёжкой, уже подсохшие. Их не надо было валить. Мужчины распиливали стволы и рубили их на дрова, а женщины, нагрузившись поклажей, с трудом преодолевали преграду из поваленных деревьев и торчащих из земли острых кольев. Они добирались до паровоза, сбрасывали груз и возвращались обратно. Наконец удалось набить целый тендер. Обессиленные женщины вернулись в вагоны только под ночь. Уставший Иван Михайлович попросил Анатолия вести состав и тут же крепко заснул.
– Иван Михалыч, – услышал он, когда открыл глаза, – тут вообще не понятно, что творится.
– Ну что ещё?
– Да солнце совсем не с той стороны взошло, что вчера. Куда мы идем?
– Теперь и я не знаю. Что это за обходные пути такие? Кого-то всё-таки надо перехватить на станции. Давай, сбегай за Васильцевым. Как у нас с водой дела?
– Надо бы уже набрать. Так и так дежурного прихватить стоит.
Часа через два поезд приблизился к станции, которая опять была безлюдна и со сбитым названием. В конце платформы стояла водозаборная колонка, а справа от неё, метрах в ста от полотна железной дороги, водонапорная башня, из которой сверху под большим напором хлестала вода. Она гремела, обрушиваясь всей своей тяжестью, кипела у основания стены, яростно пробивая себе путь в сухой земле, и хищно вгрызалась в малейшие рытвины и канавки, змеями шипела в песчаной насыпи, пробираясь к железнодорожному полотну. Увидев потоки воды, подобные водопаду, женщины заволновались, стали выпрыгивать из вагонов и бежать в сторону башни. Многие на ходу раздевались.
Раздался выстрел.
– Стоять! – кричал Васильцев, с трудом обогнав толпу. – Стоять!
Толпа невольно остановилась, готовая вновь бежать к воде в ближайшую минуту.
– Стоять! – хрипло кричал капитан. – Куда вы, дуры? Сверху не меньше пяти тонн падает. Расплющит к чёртовой матери! А ну, по вагонам! Живо!
Толпа медленно и покорно развернулась.
И только тут Иван Михайлович понял, что не пройдёт и десяти минут, как дорогу размоет, и они потеряют всякую надежду уйти со станции.
– Быстрей! Быстрей! – закричал он в толпу. – Бегом! – и с силой потянул рычаг свистка.
Поезд благополучно ушёл, но Иван Михайлович возбуждённо говорил Васильцеву.
– Кто-то нас пасёт, ей богу. Колонка была доступна – невиданное дело, – без дежурного по станции. Вода у них через край хлещет, а ни одного человека. И потом… это солнце… оно не даёт мне покоя. Мы явно идём не на восток.
– Ну да, – подтвердил Анатолий, – я сначала думал, что мне показалось, но мы точно вчера проезжали ту поляну, на которой женщину хоронили.
– Свяжитесь с командованием, товарищ капитан. Как бы в какую ловушку не угодили. По кругу ходим. Точно.
– Рябина, рябина, я сосна, – кричал в передатчик капитан, – четыреста шестнадцатый потерял путь. Похоже, нас водят по кругу и уничтожают все координаты. Люди не встречаются. Нет, выстрелов не слышно, но поезд скован. Есть, самостоятельно перевести стрелки на восток!
– Хорошо сказать, – пробурчал Иван Михайлович. – Они что, не знают, что для этого курбель нужен?
– Какой ещё курбель?
– Ну штука такая. Хранится у дежурного по станции.
– Ну так и выбьем этот курбель на ближайшей станции. Делов-то!
– Не знаю. У кого выбивать? Ни одного человека.
– Плевать! Нам же не люди нужны, а курбель этот, чтоб его черти взяли. Тормози на ближайшей станции и за курбелем!
На станции, как и чувствовал с тревогой в сердце Иван Михайлович, ящик, где хранится курбель, был взломан и пуст.
Ещё сутки поезд кружил по уже знакомой дороге. К удивлению бригады, вода из водонапорной башни уже не хлестала. Пути были в приличном состоянии. Это укрепило уверенность в том, что маршрут поезда находится под тщательным контролем. Не ясна была только цель, с которой это проделывалось. Однако все опасались, что цель была не из мирных. Бригада была вымотана. Полусырые дрова не слишком разгорались. Котёл работал плохо. Бессилие от невозможности что-то изменить, ответственность за жизнь женщин, задыхающихся и голодающих в недрах замкнутых товарных вагонов, неясность ситуации, бессонные ночи охватили волю машинистов, которые подчинялись навязанному им порядку перемещения. И вдруг с очередным наступлением тьмы всё внезапно изменилось. Паровоз явно шёл другим путём, практически не останавливаясь. Дорога вела под уклон, что увеличивало скорость паровоза.
– Тормози! – закричал Иван Михайлович.
Анатолий с силой нажал на ручку тормоза, но поезд продолжал движение и ударился в путевой упор. Раздался сильный скрежет. Вагоны с разбегу наползали друг на друга и валились набок. Раздался взрыв, и поезд взлетел в воздух.
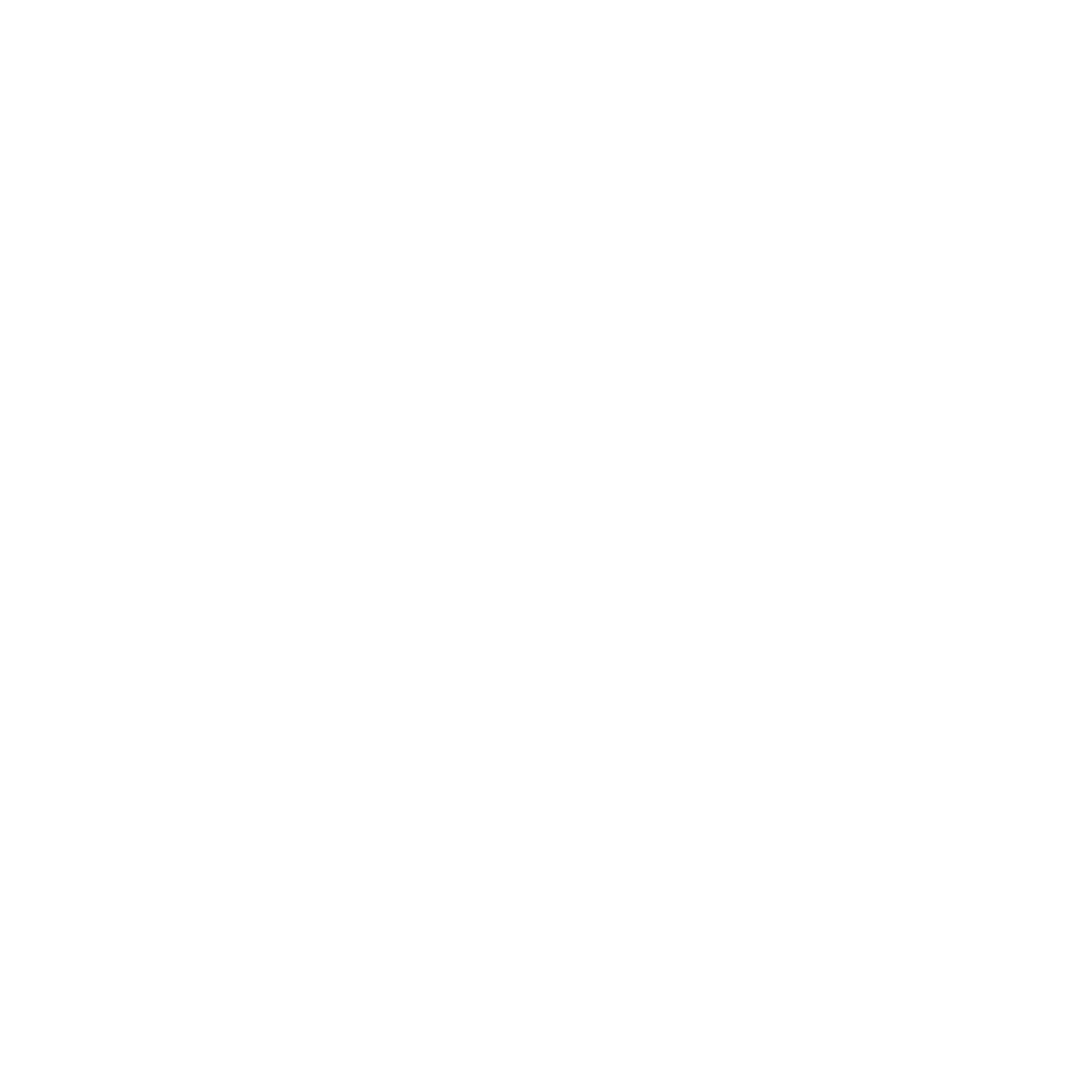
Сергей БЕСПАЛОВ
Родился в 1972 году в Калининградской области, в городе Гвардейске (во времена Восточной Пруссии этот городок назывался Тапиау). В 1989 году поехал в Ленинград поступать в Можайку (Военно-инженерный институт им. А.Ф. Можайского). Поступил, но не закончил: в конце второго курса ушел по собственному желанию, разочаровался в военной карьере. После армии перевелся в Калининградский государственный университет, который в 1995 году закончил, получив диплом инженера-радиофизика. «Писать начал сравнительно недавно, чуть больше года тому назад. Накопилось много интересных историй из жизни, вот и решил написать сборник рассказов для своих сыновей с рабочим названием «Папины рассказы». В настоящее время живет и работает в Москве.
Родился в 1972 году в Калининградской области, в городе Гвардейске (во времена Восточной Пруссии этот городок назывался Тапиау). В 1989 году поехал в Ленинград поступать в Можайку (Военно-инженерный институт им. А.Ф. Можайского). Поступил, но не закончил: в конце второго курса ушел по собственному желанию, разочаровался в военной карьере. После армии перевелся в Калининградский государственный университет, который в 1995 году закончил, получив диплом инженера-радиофизика. «Писать начал сравнительно недавно, чуть больше года тому назад. Накопилось много интересных историй из жизни, вот и решил написать сборник рассказов для своих сыновей с рабочим названием «Папины рассказы». В настоящее время живет и работает в Москве.
БАБУЛЯ
В 1992 году, под конец второго курса университета, я досрочно сдал летнюю сессию: часть зачётов и экзаменов мне зачли благодаря академической справке, полученной мной при отчислении из Можайки. В результате, уже в середине мая учёба для меня закончилась, и я был совершенно свободен. Встал резонный вопрос: что делать? Не валять же дурака всё лето, сидя на шее у родителей.
Пойти работать проводником на железную дорогу мне посоветовала соседка, которая в то время заканчивала аспирантуру юридического факультета нашего университета.
– Я два года летом работала проводником на «железке», – как-то, разговорившись со мной, рассказала она, – отличное было время! Работа сложная, но интересная, – продолжала агитировать меня соседка, – новые города, новые люди, ну и зарабатывали мы тогда, скажу я тебе, очень неплохо. Бывало, только на сдаче пустых бутылок и «зайцах» можно было за рейс половину месячной зарплаты привезти.
– С бутылками всё понятно, особенно летом, – сдал и получил деньги. А «зайцы» – это что за звери? – задал я наивный вопрос, не понимая профессионального сленга.
– «Зайцы» – это безбилетные пассажиры. В летний период их особенно много бывает, все едут в отпуска, билетов в кассах как обычно нет, а у тебя в вагоне места свободные. Почему бы не подвезти за скромное вознаграждение? – пояснила соседка, продемонстрировав знание предмета. – Только делать это надо с умом, так, чтобы ревизоры не прихватили. У нас получалось.
– Интересно… – задумчиво произнёс я. – А на чём вы ещё зарабатывали? – заинтересовавшись денежной перспективой, задал я соседке провокационный вопрос. Недолго думая, она с улыбкой ответила:
– Поработаешь проводником – узнаешь!
* * *
«Страну посмотреть, с новыми людьми познакомиться, да ещё и денег заработать – неплохой вариант трудоустройства для бедного студента», – подумал я и, не откладывая в долгий ящик, отыскал в справочнике телефон дирекции по обслуживанию пассажиров Калининградского управления железной дороги. Позвонив туда, я выяснил все детали трудоустройства: надо было пройти медкомиссию и двухнедельное обучение, сдать зачёты и выполнить первый рейс в качестве стажёра под присмотром опытного наставника или наставницы, учитывая, что проводниками, как правило, работали женщины. И всё – ты «дипломированный» проводник, можешь самостоятельно отправляться в рейс в составе поездной бригады.
Зайдя как-то в университет, я встретил однокурсника Андрюху, шатающегося по коридорам в поисках преподавателя чтобы договориться о сдаче какого-то очередного «хвоста».
– Привет! Ты летом поработать не думал? – спросил я его. – Мне напарник нужен, составишь компанию?
– А что, тема есть? – зевнув, равнодушно поинтересовался Андрюха.
– Есть, и, говорят, денежная, – я взглянул на него в ожидании реакции, – только сначала надо две недели отучиться и сдать зачёты, чтобы получить допуск.
– О! Да ну нафиг, опять учиться и что-то сдавать надо, – разочарованно произнёс Андрюха и махнул рукой, – у меня этих зачётов несданных и без того вагон и маленькая тележка.
– Кстати, по поводу вагонов, – зацепился я за произнесённое им слово, – работа как раз с ними связана.
– Ты предлагаешь вагоны разгружать? – ехидно поинтересовался Андрюха. – Хватай больше, кидай дальше, а пока летит – отдыхай.
Я смотрел на него и ждал, что он ещё скажет.
– Ну, нет, это без меня. Мы сотрудники интеллектуальной сферы. Вагоны разгружать я не готов.
– Не надо ничего разгружать, что за стереотипы! – возразил я. – Почему, если вагоны, то их обязательно надо разгружать? Я предлагаю нам с тобой проводниками поработать. Улавливаешь разницу? – спросил я и добавил: – Ты меня послушай, прежде чем отказываться.
Я рассказал ему детали моего разговора с соседкой и того, что мне сообщили по телефону.
– А ездить-то куда будем? – с наметившимся интересом спросил Андрюха.
– Точно не знаю, но думаю, что основные рейсы будут в Москву и обратно. Лето всё-таки, через Москву все в отпуска едут, это массовое направление, – предположил я.
– И когда начинать? – без особого энтузиазма спросил Андрюха.
– Курсы начинаются через три дня, как обычно, с понедельника, – ответил я и уточнил: – Так что, ты согласен?
– Ладно, поехали, – как-то обречённо ответил Андрюха и отправился на поиски преподавателя.
Через две недели, отучившись на курсах проводников, мы успешно сдали зачёты, выполнили свой первый рейс в качестве стажёров и были зачислены в поездную бригаду к Петру Петровичу Карнаускасу, который уже много лет работал начальником поезда и, кстати, был выпускником географического факультета нашего университета.
Так началась наша с Андрюхой кочевая жизнь, а вагон, без преувеличения, стал нашим домом на ближайшие полгода.
* * *
Уже пару месяцев мы колесили из Калининграда в Москву и обратно двумя разными маршрутами: прямым и быстрым – через Каунас, Вильнюс, Минск, Смоленск и Вязьму; и окружным, который по времени занимал без малого сутки, – через Советск, Шауляй, Даугавпилс, Полоцк, Витебск, и, заезжая в Смоленск и Вязьму, поезд наконец-то прибывал в Москву.
Сделав за это время уже десятка полтора рейсов и изучив все нюансы и хитрости профессии, мы стали опытными проводниками. В дороге случалось всякое.
Бывало, кто-то из пассажиров напивался, и нам приходилось вместе с представителями правоохранительных органов утихомиривать пьяного пассажира, а иногда – снимать его с рейса и высаживать на ближайшей станции.
Случались и массовые пьянки, например, когда компания уволившихся из армии «дембелей» возвращалась домой. Приходилось действовать по обстоятельствам. Мне, например, помогало моё армейское прошлое: в большинстве случаев удавалось найти с дебоширами общий язык и договориться о соблюдении принципов добрососедства на период следования до пункта назначения. Однако, получалось это не всегда. В таких случаях мы действовали по инструкции: основного дебошира общими усилиями закрывали в туалете, затем сообщали о происшествии бригадиру, а тот по рации вызывал наряд милиции, и на ближайшей станции перебравшего «дембеля» сдавали в руки правоохранителей.
А ещё вспоминается рейс, когда в Москве к нам в вагон «заселили» вчерашних зеков, амнистированных в честь очередной годовщины Великой победы. Ехали они до Черняховска, который расположен всего лишь в двух часах езды от Калининграда. Путешествие в такой «приятной» компании доставило много хлопот не только нам, проводникам, но и пассажирам, которым «повезло» оказаться в одном вагоне с таким контингентом. Бессонная ночь тогда была у всей поездной бригады: никто не сомкнул глаз, все были начеку. Как говорил герой одного фильма: «народ там с душком, очков не носит».
А однажды у нас в вагоне какой-то парень из-за ссоры со своей возлюбленной вскрыл себе вены у неё на глазах. Это был особый случай, и в тот момент мы думали только об одном: как этого горе-любовника живым довезти до ближайшей станции и передать медикам.
Короче говоря, в рейсах мы не скучали!
* * *
Очередной рейс был на редкость спокойным, я бы даже сказал – скучным. Всё шло штатно, без происшествий. Мы благополучно докатили до Москвы. Высадив пассажиров, Андрюха с видом главнокомандующего привычно направился к шеренге бомжей, выстроившихся на перроне к прибытию поезда. Осмотрев строй, он тщательно отобрал трёх человек относительно приличного вида и запустил их в вагон для выполнения уборки. Не скрою, иногда для экономии собственного времени между рейсами мы практиковали наёмный труд.
– Итак, слушай боевую задачу, – командным голосом начал Андрюха, – вы находитесь в плацкартном вагоне, в котором имеются пятьдесят четыре спальных места плюс два тамбура и два туалета, расположенных в противоположных концах вагона.
Бомжи внимательно следили за Андрюхой, который прохаживался между спальными полками, засунув руки в карманы джинсов.
– Силами трёх человек вам предстоит в течение часа навести в вагоне идеальный порядок, – чётко, по-военному, он продолжал давать бомжам ценные указания, – а именно: собрать и сложить в пакеты мусор, подмести и вымыть пол, отдраить туалеты и тамбуры, вытряхнуть мусорные баки и пепельницы, а также аккуратно сложить на третьи полки матрацы, подушки и одеяла.
С этими словами Андрюха внимательно посмотрел на бомжей и строго добавил:
– И не дай вам Бог, мужики, если я чего-то не досчитаюсь, когда вернусь – пеняйте на себя!
Всё это время я стоял в дверях служебного купе и, не вмешиваясь в процесс, наблюдал за этим спектаклем. С обязанностью отобрать более-менее приличных бомжей, которых в то время на вокзалах Москвы было во множестве, и организовать уборку вагона Андрюха справлялся блестяще. Было забавно наблюдать, как он, не отличавшийся атлетическим телосложением, нагонял на бомжей трепет, действуя на них гипнотически. Они же, в предвкушении относительно лёгкого заработка, стояли и ловили каждое его слово.
– Если всё будет сделано, как я сказал, Родина вас не забудет, – с этими словами Андрюха поднял по очереди несколько нижних полок, показывая бомжам сложенные под ними пустые бутылки, которых за рейс накапливалось иногда сотни полторы. В дороге мы аккуратно собирали их по вагону и складывали под нижние полки купе, а по приезде в Москву использовали как платёжное средство для расчётов с бомжами.
– И ещё, – продолжал Андрюха, – сейчас мы уйдём и закроем вагон, – в этот момент он показал специальный трёхгранный ключ, который был у каждого проводника, – не пугайтесь, состав увезут в депо, а мы вернёмся через час-полтора. К этому времени всё должно быть готово.
Под занавес этого спектакля Андрюха, глядя на бомжей, строго спросил:
– Вопросы есть? – и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Вопросов нет! Вот и отлично!
Заперев вагон, мы, как обычно, направились за сосисками, свежим багетом и пивом. Надо сказать, что сосисочная на Белорусском вокзале в то время была знатная, и то ли мы были настолько голодные, то ли действительно в ней продавали качественные сосиски, но только ничего вкуснее за всё время наших поездок я не ел.
* * *
Был поздний вечер, город остывал после жаркого летнего дня. Поезд Москва – Калининград отправлялся в двадцать три тридцать с первого пути Белорусского вокзала. За полчаса до отправления состав подали к перрону, и мы привычно начали посадку: стоя у вагона, проверяли билеты и отмечали в блокноте номера занятых мест.
Вокруг царила обычная вокзальная суета: гремели своими тележками носильщики, на посадку спешили люди, обвешанные детьми и чемоданами, вдоль состава сновали продавцы всякой снеди и напитков, какие-то люди пытались с поездом передать посылки в Калининград, а кто-то договаривался с проводниками о том, чтобы самому уехать «зайцем».
До отправления оставалось минут двадцать, когда я обратил внимание на молодую пару, стоящую неподалёку. Симпатичная девушка и высокий, статный парень довольно громко и раздражённо разговаривали друг с другом. Девушка плакала, вытирая слёзы платком, и что-то эмоционально пыталась объяснить парню. Он же раздражённо отвечал ей, размахивая руками. Со стороны это было похоже на скандал. Всё это время рядом с ними стояла пожилая женщина в цветастом платке, маленького роста, щуплая, очень скромно одетая, с небольшим деревянным чемоданом в руках. Она как-то растерянно и, в то же время, очень нежно смотрела то на девушку, то на парня, а те, увлечённые своими разборками, не обращали на неё никакого внимания. Видимо, она пыталась их успокоить и примирить, но ей не удавалось этого сделать. В какой-то момент я услышал слова парня, обращённые к ней:
– Мать, да отстань ты! Не лезь! Мы сами разберёмся, ты давай, иди в вагон и езжай, с проводником я договорился! – прикрикнул он на бабулю и, повернувшись к девушке, продолжил неприятный разговор с ней.
Старушка притихла, поправила на голове платок, покорно отошла на пару шагов в сторону, но продолжала смотреть на молодую пару. Было заметно, что она очень переживает за них, от бессилия у неё на глазах выступили слёзы.
В следующий момент я отвлёкся: надо было разобраться с билетами очередных подошедших к вагону пассажиров. Спустя несколько минут я опять обратил внимание на них. Парня уже не было рядом, вместе с девушкой стояла только старушка, гладила её по руке и что-то говорила. До меня доносились лишь отдельные фразы:
– Танечка, доченька, не сердись ты на него, пожалуйста, – говорила старушка, ласково глядя на девушку снизу вверх, – он вспыльчивый, отойдёт, прости ты его Христа ради. Я так переживаю за вас, – старушка вытирала слёзы уголком платка.
– Мама, ну почему вы постоянно лезете к нам! – раздражённо реагировала девушка, – мы сами разберёмся, это не ваше дело.
Она прикурила сигарету и нервно затянулась, глядя в сторону вдоль перрона. Старушка обречённо отошла на несколько шагов в сторону, присела на чемодан, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Спустя несколько минут, девушка выбросила в урну недокуренную сигарету, подошла к сидящей на чемодане старушке и сказала:
– Мама, вот ваш вагон, – она показала в направлении состава, – идите, вам пора, скоро отправление.
Старушка посмотрела на неё заплаканными глазами и, видимо, хотела что-то сказать, но не успела: девушка резко повернулась и, не сказав больше ни слова, быстрым шагом направилась к зданию вокзала. В этот момент меня позвал Андрюха:
– Серёга, давай заходи, через две минуты отправление.
Я посмотрел вслед уходящей девушке, заскочил в вагон, опустил площадку, взял фонарь и сумку с флажками и, выглянув из вагона, посмотрел туда, где на чемодане сидела старушка. На перроне её уже не было. «Видимо, зашла в соседний вагон», – подумал я.
Лязгнули вагонные сцепки, поезд тронулся и стал медленно набирать скорость. Когда мимо нашего вагона промелькнул торец вокзального перрона, я закрыл тамбурную дверь, и мы с Андрюхой приступили к выполнению своих служебных обязанностей. Началась привычная вагонная суета: Андрюха, как всегда, колдовал около титана – это было его любимым занятием, а я пошёл собирать билеты и деньги за постельное бельё, потом заполнил «лушку» и отправился с ней в штабной вагон.
Состав потряхивало на стрелках, скрежетали и постукивали колеса, за тёмными окнами мелькали огни, пассажиры раскладывали полки и стелили постельное бельё, все готовились ко сну.
* * *
Вернувшись из штабного вагона, я спросил у Андрюхи:
– Ты видел, что у нас в нерабочем тамбуре окно выбито, и свет не горит? Темень – глаз коли, и ветер гуляет, как на Балтике.
– Конечно, видел, – равнодушно ответил Андрюха, наливая в стаканы кипяток, – ты спал, это ночью случилось, в мою смену.
– А что произошло? Камень прилетел? – пытался я выяснить причину.
– Если бы! – ухмыльнулся Андрюха. – Ты помнишь, по дороге в Москву два типа в третьем купе ехали? Так вот, они всю ночь квасили, как не в себя, правда делали это тихо. Я, как ни пройду мимо, – у них на столе очередная бутылка стоит.
– Ну, пили, и что с того? Спать легли, наутро проспались, – не понимал я, к чему Андрюха клонит, – а стекло кто выбил?
– Так вот, – неторопливо продолжал Андрюха, заваривая чай, – в какой-то момент они вышли в тамбур покурить, ну и, видимо, что-то там не поделили: один другому морду набил, да так, что мне пришлось даже аптечку доставать. В потасовке один из них локтем выбил стекло в двери, а второй головой лампочку разбил, – закончил он свой рассказ.
– Однако! – присвистнул я. – И что, ты их так просто отпустил, дескать, «простите, пожалуйста, мы нечаянно»? Не поверю, – я хитро посмотрел на Андрюху.
– Ага, щас! Они, значит, стёкла в казённом вагоне будут бить, а мы с тобой за них убытки возмещать с зарплаты. Ты ж меня знаешь – на мне, где сядешь, там и слезешь, – с ухмылкой произнёс Андрюха.
– Так, и что было дальше? – поинтересовался я.
– А что дальше? Я им на выбор два варианта предложил: либо я вызываю наряд милиции, и на следующей станции мы с ними прощаемся, либо они думают, как сделать так, чтобы я об этом забыл.
– Очень интересно! – улыбаясь, я посмотрел на Андрюху и спросил: – И во сколько им обошлась твоя амнезия?
– Нормально обошлась, моя амнезия – диагноз не из дешёвых, – отшутился он и спросил: – Ты, когда спать ложился, просил меня сделать тебе подарок утром? Я постарался: твоя доля у тебя на верхней полке под подушкой лежит. Такой случай подвернулся – я свой шанс не упустил. Правда, мы с ними только раза с третьего договорились.
Андрюха разлил чай по стаканам и, занося их осторожно в служебное купе, сказал: – Хорош болтать, давай чай пить, а то мне ещё всю ночь дежурить.
Несмотря на то, что и я, и Андрюха по хронотипу были «совами», моя смена была дневная, а Андрюха любил работать ночью. Как-то так само собой сложилось, я не возражал. Ночью спать надо, а не по вагонам бегать.
* * *
Мы допивали чай, когда дверь с грохотом открылась, и в купе заглянула Ленка, проводница из купейного вагона, тоже студентка, как и мы.
– Ну, и чего сидим? – громко спросила она с порога.
– А что нам надо сделать? Подпрыгнуть, что ли, при виде тебя? – огрызнулся Андрюха, а потом, улыбаясь, спросил: – Вы, девушка, из какого вагона будете? Может чайку с нами, или чего покрепче?
Но Ленка, не обращая внимания на слова Андрюхи, продолжила:
– Не слышали? Карнаускас у себя всех собирает. Сказал, чтобы через пять минут все у него были, – с этими словами она продолжила движение по направлению к штабному вагону.
– Вот тебе на! Гроза, да к ночи, – заворчал Андрюха, – что-то меня ломает тащиться в штабной вагон на ночь глядя. Мне ещё всю ночь туда бегать после каждой станции.
Он вышел в коридор, повернулся и посмотрел на меня:
– Серёга, а давай ты к Карнаускасу сходишь, а я пока в печку угля подкину, – попросил меня Андрюха, – а ты как вернёшься, ляжешь спать.
– Да не вопрос! – я допил чай, вышел из купе и быстрым шагом направился в сторону штабного вагона.
Был второй час ночи, когда производственное совещание у начальника поезда закончилось. Большинство пассажиров уже спали. Проводники разошлись по своим вагонам, я тоже отправился восвояси.
Проскочив последний переход между вагонами, я с силой захлопнул металлическую дверь и оказался в тёмном тамбуре нашего вагона. Как всегда, здесь было сильно накурено, а через выбитое окно со свистом врывался ветер. Несмотря на тёплую летнюю ночь, в тамбуре было прохладно, и находиться в нём, тем более в темноте, было неприятно.
Заходя внутрь вагона, я вдруг заметил, что в правом углу тамбура кто-то сидит. Всматриваясь в темноту, я чиркнул зажигалкой: в углу, на чемодане, сидела женщина, в которой я узнал ту самую бабулю с перрона Белорусского вокзала. Я почувствовал, как у меня заколотилось сердце, а на лбу выступила испарина.
На коленях у неё была постелена белая салфетка, на которой лежал спичечный коробок с солью, кусок ржаного хлеба, а она аккуратно чистила куриное яйцо и складывала на салфетку скорлупу.
– Что вы здесь делаете? – удивлённо и растерянно спросил я. – Вы из какого вагона? Как вы здесь оказались?
Бабуля испуганно посмотрела на меня и запричитала:
– Сынок, не сердись, пожалуйста, я же никому не мешаю, я тут посижу, мне недолго ехать, скоро уже выходить. – Старушка вжалась в угол и продолжала испуганно смотреть на меня.
Я подошёл ближе, присел напротив неё и как можно спокойнее сказал:
– Вы, пожалуйста, меня не бойтесь, я проводник в этом вагоне. Вы мне скажите, вы из какого вагона, и на какой станции вам выходить?
Бабуля немного успокоилась и ответила:
– Меня сын с невесткой в Москве провожали, они договорились с проводницей соседнего вагона, – она показала куда-то назад, за стенку тамбура, – что меня до Смоленска довезут. Я ей заплатила, не обидела… Смоленск уже совсем скоро, под утро.
По расписанию поезд действительно прибывал в Смоленск рано утром, в шесть тридцать. Но из-за частых остановок на перегонах мы уже опаздывали как минимум на час, и догнать расписание шансов было мало: продолжая кланяться каждому столбу, мы больше стояли, чем ехали. Такими темпами до Смоленска мы доберёмся не раньше семи часов утра, а то и позже.
– Понятно, а здесь вы как оказались, почему вы не спите на своём месте в соседнем вагоне? – продолжал я расспрашивать старушку.
– Я не знаю, сынок, – развела она руками, – мне проводница сказала, что у неё в вагоне сейчас нет мест, говорит, иди в тамбур и жди там, может что-то освободится. Вот я и присела здесь… Я же никому не мешаю, сынок, – удивительно спокойно, с покорностью в голосе говорила старушка, – вот, решила перекусить, проголодалась я.
С этими словами она торопливо достала из стоящего на полу пакета варёное яйцо, кусок хлеба и протянула мне:
– Вот, возьми, сынок, перекуси, поди, тоже проголодался.
– Спасибо, я не голоден, – отказался я, а сам подумал: «Всё ясно – это дело рук нашей коллеги, матёрой проводницы из соседнего вагона, одной из представительниц «старой гвардии», которых в нашей бригаде было примерно половина».
Впервые с такими «ударницами социалистического труда» мы с Андрюхой столкнулись, когда поехали в свой первый рейс в качестве стажёров. Эти любительницы подзаработать на всём, в том числе и на «зайцах», были настолько жадные до денег, насколько же и недалёкие. Вместо того, чтобы оформить на «зайца» билет у бригадира и определить его на свободное место в своём вагоне, они нагло брали деньги с безбилетных пассажиров, а потом отправляли их «гулять» по составу или в вагон-ресторан. Так они прикрывали себя: в этом случае внезапно нагрянувшие с проверкой ревизоры практически не имели шансов обнаружить безбилетного пассажира.
Проводники новой формации, в том числе и мы с Андрюхой, тоже святыми не были и брали «зайцев» за умеренную плату, но делали это с умом и никогда не жадничали: бригадир поезда по нашей просьбе оформлял на «зайца» билет (у бригадира было такое право), а мы отдавали ему небольшой процент с каждого безбилетника, остальное клали себе в карман. В результате, такой пассажир ехал до пункта назначения с официальным билетом, был учтён в «лушке» и имел своё законное место согласно «купленному» билету. В этом случае ревизоры ничего не могли нам предъявить – количество пассажиров, находящихся в вагоне, совпадало с количеством билетов и сведениями в «лушке». Одним словом, не докопаться!
За расспросами старушки я просидел в тамбуре около получаса. Поезд наконец-то набрал приличную скорость и мчался сквозь ночь. Выбитое окно давало о себе знать – в тамбуре стало совсем холодно.
– Вставайте и давайте мне ваш чемодан, – решительно сказал я, – идите за мной, тут нельзя больше находиться.
– Куда, сынок, зачем? Я тут посижу, пожалуйста, не выгоняй меня, – взмолилась женщина, опять испуганно посмотрев на меня и вжавшись в угол.
– В вагон пойдём, я вас чаем напою и спать уложу, – уже спокойно сказал я, – тут холодно, простудиться можно.
Я помог ей подняться, взял чемодан и направился в вагон, старушка покорно последовала за мной.
Андрюха, увидев меня с чемоданом в руках, за словом в карман не полез:
– О, я смотрю, ты где-то барахлишком разжился. Чего принёс? – шутливо спросил он меня.
– Старик, мне не до шуток сейчас. Скажи лучше, где у нас места свободные есть? – серьёзно спросил я его.
Андрюха посмотрел в «лушку» и ответил:
– В первом купе все четыре места свободны, а ещё пара боковых полок не заняты. А что случилось? – спросил он, немного растерянно глядя на меня.
– Старик, помоги мне, пожалуйста, надо пару вопросов решить, но позже. Я сейчас постель постелю, а ты пока сделай стаканчик чая горячего. Лады?
– Конечно, – ответил Андрюха и стал доставать стакан и подстаканник с полки, пока не очень понимая, что происходит, но не задавал мне лишних вопросов.
Бабуля сидела на боковом месте и терпеливо ждала меня. Я убрал её чемодан под полку, достал смотанный матрац, и, быстро надел на подушку наволочку, раскатал на полке матрац и постелил простыню, положил одеяло. В это время Андрюха принёс стакан чая и молча поставил его на столик, положил несколько пакетиков сахара и поставил рядом тарелку с печеньем.
– Выпейте, пожалуйста, чаю и ложитесь спать, – сказал я бабуле, – за полчаса до Смоленска я вас разбужу.
– Ой, мальчики, спасибо вам большое, дай вам Бог здоровья! Господи, есть же на свете добрые люди ещё, – бабуля начала благодарить нас, но я прервал её:
– Не теряйте, пожалуйста, время, пейте чай и ложитесь спать. Уже очень поздно, поспите до Смоленска хотя бы несколько часов.
Андрюха стоял рядом, и в его взгляде читались сплошные вопросы. Я завёл его в служебное купе, коротко ввёл его в курс дела и попросил:
– Старик, сегодня ночью я подежурю, а ты спать ложись, только сначала сделай, пожалуйста, два дела. Во-первых, сходи к Карнаускасу, пусть он оформит на бабушку билет до Смоленска, – я достал несколько купюр и протянул ему, – этого должно хватить.
– А что во-вторых? – спросил Андрюха.
– Ты на обратном пути, пожалуйста, навести нашу коллегу из соседнего вагона и сделай ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Ну, как ты умеешь, – я посмотрел на Андрюху: по его взгляду было видно, что он меня понял.
Андрюха направился в штабной вагон, а я заглянул в купе, куда нами была определена старушка. На столе стоял нетронутый стакан чая, а бабуля, укрывшись одеялом, уже спала. «Ну и слава Богу», – подумал я, и пошёл в тамбур открывать дверь: поезд замедлял ход, мы подъезжали к Вязьме.
* * *
Минут через тридцать, когда я домывал стаканы, вернулся Андрюха.
– Ну что, какие дела? – спросил я. – Всё сделал?
– Да, всё, – он положил на стол билет, – и вот, забрал, не забудь отдать, когда в Смоленске будем. – Андрюха достал из кармана деньги и положил рядом с билетом. Потом, посмотрев в тёмное окно, произнёс: – Нам ещё больше часа ехать, только к Сафоново подъезжаем.
Я вытер руки и, повернувшись к Андрюхе, сказал:
– Предлагаю пойти покурить.
Мы вышли в тёмный и холодный тамбур, закурили, и Андрюха, подойдя к разбитому окну, задумчиво произнёс:
– Скажи мне, Серёга, вот почему у некоторых людей ничего святого в жизни нет? Всё у таких только деньгами измеряется. Вот она старушку посадила в Москве «зайцем», денег с неё взяла не хило, а потом отправила её на всю ночь холодный тамбур сторожить. Кстати, я выяснил, что старушка у неё сегодня не единственной была: она, зараза такая, ещё трёх парней до Ярцево взяла, и так же без мест. Но те молодые, денег ей дали и в ресторан ушли, – Андрюха затушил в пепельнице окурок, достал новую сигарету, прикурил и продолжил, – я к этой «ударнице труда» по пути из штабного вагона зашёл и спрашиваю, совесть есть у тебя, что ж ты с человека денег взяла и кинула? Неужели, говорю, у тебя внутри ничего не ёкнуло, когда ты старушку на ночь в заплёванный тамбур отправляла? Противно! – Андрюха с досадой махнул рукой. – У таких, как она, уже давно камень в груди, а не сердце, – он замолчал и отвернулся к окну.
Я тоже молча курил и думал: «Что тут скажешь: с проявлением человеческого равнодушия, чёрствости и подлости мы в рейсах встречались далеко не первый раз. И ладно проводница, с неё взятки гладки – она, в конце концов, чужой человек для этой старушки, видит её первый и последний раз. Но её же на вокзале в Москве сын родной с невесткой провожали – вот к ним у меня много вопросов. Это какой же бездушной скотиной надо быть, чтобы родную мать посадить на поезд, не убедившись, что она поедет в человеческих условиях? Но, помнится, на перроне этому сыночку было не до матери – он был занят разборками со своей женщиной».
– Андрюха, а деньги ты у этой «ударницы» как забрал? – тихо спросил я.
– Да как забрал? Сказал ей пару ласковых слов, используя ненормативную лексику, ну и вид у меня, наверное, был такой злобный, что она решили мне не перечить: молча достала деньги и отдала. Я знаю – такие, как она, только со старушками и смелые, а надави на них слегка – они и сдулись… – как-то грустно, но со знанием дела, сказал Андрюха, и добавил: – Ладно, Серёга, я спать пошёл, устал, – он осторожно открыл дверь в вагон, – а ты смотри, Смоленск уже скоро, бабулю не забудь разбудить.
– Не забуду, – ответил я и тоже вышел из тамбура вслед за Андрюхой.
* * *
Кроме старушки, из нашего вагона в Смоленске выходили ещё два человека, которые уже проснулись. Летом светает рано, в вагон пробивались первые лучи солнца. За окнами на полях местами стелился туман. Я посмотрел на часы: до прибытия в Смоленск оставалось тридцать минут. «Пора будить», – подумал я и вышел из служебного купе.
Подойдя к крепко спящей бабуле, я осторожно потряс её за плечо. Она открыла глаза и с улыбкой посмотрела на меня:
– Что, сынок, уже Смоленск? – спросонья спросила она.
– Да, через полчаса прибываем. Вы, пожалуйста, поднимайтесь, а я вам чай сейчас принесу.
Минут через десять я вернулся со стаканом чая в руке. Постельное бельё было собрано и аккуратно сложено на полке рядом со смотанным матрацем. Бабуля сидела у окна, держала в руках свой деревянный чемодан и тихо плакала, вытирая слёзы кончиками своего платка. Я поставил стакан на стол, присел рядом с ней и спросил:
– Что опять случилось? Почему вы плачете?
– Я ключ от чемодана не могу найти, – сквозь слёзы ответила старушка.
– А вам что-то срочно надо достать из него? Через десять минут мы прибываем.
– Да, надо… Хотела тебя, сынок, отблагодарить: иконку Николая Чудотворца и крестик подарить тебе… Да, видимо, не судьба…
Старушка вздохнула и виновато посмотрела на меня. У меня к горлу подкатил ком, и я с трудом произнёс:
– Спасибо большое, но я не крещён.
– Это ничего, сынок, – тихо ответила бабуля, – ты хороший человек, у тебя сердце доброе, в нём Господь у тебя живёт… Поверь, я знаю, – она продолжала смотреть на меня своими добрыми, полными слёз глазами. Поезд резко замедлил ход, мы подъезжали к Смоленску. Надо было идти в тамбур, готовиться к высадке пассажиров.
– Нам пора, – вставая, произнёс я, взял чемодан и направился к выходу из вагона. Старушка, осмотрев напоследок купе, последовала за мной.
Состав подкатил к перрону смоленского вокзала, я открыл дверь тамбура, вытер тряпкой поручни и вышел на платформу, держа в руке чемодан старушки. Она вышла вслед за мной.
– Вот вы и дома, всего вам доброго! До свидания, и берегите себя, – попрощался я со старушкой.
– Сынок, – обратилась она ко мне, – спасибо тебе большое, храни тебя Господь! С этими словами она перекрестила меня, повернулась и медленно зашагала по перрону в сторону вокзала. Вдруг меня как током ударило.
– Ой! Постойте! Подождите, пожалуйста, – я подбежал к старушке, сунул руку в карман и протянул ей деньги, – забыл отдать, это ваши, возьмите, пожалуйста.
Старушка с удивлением смотрела то на меня, то на деньги.
– Сынок, а что это за деньги? – растерянно спросила она.
– Берите, берите, это ваши деньги, их проводница отдала, которая вас в Москве в поезд посадила.
– Сынок, да как же это? Я же ей за поездку заплатила… – дрожащим голосом произнесла старушка, и её глаза опять наполнились слезами.
Вдруг, посмотрев на меня, старушка сказала:
– Сынок, а ты возьми себе эти деньги, прошу тебя!
– Нет, я не возьму, это не обсуждается, – с этими словами я взял её руку и вложил в неё купюры, – вам они нужнее. Прощайте и берегите себя, – я повернулся и быстрым шагом направился к вагону.
До отправки поезда оставалось несколько минут. Запрыгнув в тамбур, я повернулся и увидел, как старушка медленно шла к зданию вокзала. Вдруг, она остановилась, повернулась и, глядя в сторону стоящего у перрона железнодорожного состава, подняла руку и перекрестила его.
Поезд тронулся и начал медленно набирать скорость. Я закрыл дверь вагона и, зайдя в служебное купе, присел на сиденье у окна. «Как удивительно, но спустя много лет случай опять привёл меня в Смоленск», – подумал я.
* * *
В детстве в Смоленске я бывал много раз. Каждый год, летом, по дороге в деревню, на малую родину моего отца, мы из Калининграда ехали до Смоленска, куда поезд прибывал около десяти часов утра. Там мы делали пересадку на поезд Смоленск – Мичуринск, который отправлялся вечером того же дня, около двадцати одного часа. У нас был целый день для прогулок по городу.
Не знаю почему, но каждый раз, бывая проездом в Смоленске, мы с отцом посещали Свято-Успенский кафедральный собор, расположенный в центре города на высоком берегу Днепра. Я не помню случая, когда бы мы не побывали там в очередной наш приезд. Это огромный, старинный храм, очень красивый как снаружи, так и внутри. Его золочёные купола видны практически с любой точки города. Особенно красиво они выглядят в солнечную погоду.
Тогда я этого не чувствовал в силу возраста, а сейчас понимаю – в этом храме было по-настоящему намолено. Заходя с отцом внутрь, я молча стоял и смотрел, как заворожённый, на потрясающей красоты иконостас, возвышавшийся под своды храма, слушал чтение молитв, пение церковного хора и думал: «Интересно, почему люди становятся священниками или принимают постриг и уходят в монахи, посвящая всю свою жизнь служению Богу? Что ищут они в этом служении, что ими движет, когда делают такой жизненный выбор?»
Однажды, поднимаясь по длинной лестнице, ведущей к собору, мы повстречали священника, который шёл нам навстречу. Отец обратился к нему:
– Добрый день, батюшка, простите, а нам можно в храм зайти?
– Добрый день! – поздоровался священник. – А почему ж нельзя, конечно, можно! Даже нужно! Идите, пожалуйста, там как раз служба начинается.
– Дело в том, что сын у меня не крещён, – пояснил отец, положив мне руку на плечо, – а я не помню, крестили меня в детстве или нет. Да и не верующий я.
Батюшка улыбнулся и тихо ответил:
– Идите в храм. Не важно, что вы некрещёные и в Бога не веруете. Другое важно – чтобы Господь в вашем сердце поселился.
В 1992 году, под конец второго курса университета, я досрочно сдал летнюю сессию: часть зачётов и экзаменов мне зачли благодаря академической справке, полученной мной при отчислении из Можайки. В результате, уже в середине мая учёба для меня закончилась, и я был совершенно свободен. Встал резонный вопрос: что делать? Не валять же дурака всё лето, сидя на шее у родителей.
Пойти работать проводником на железную дорогу мне посоветовала соседка, которая в то время заканчивала аспирантуру юридического факультета нашего университета.
– Я два года летом работала проводником на «железке», – как-то, разговорившись со мной, рассказала она, – отличное было время! Работа сложная, но интересная, – продолжала агитировать меня соседка, – новые города, новые люди, ну и зарабатывали мы тогда, скажу я тебе, очень неплохо. Бывало, только на сдаче пустых бутылок и «зайцах» можно было за рейс половину месячной зарплаты привезти.
– С бутылками всё понятно, особенно летом, – сдал и получил деньги. А «зайцы» – это что за звери? – задал я наивный вопрос, не понимая профессионального сленга.
– «Зайцы» – это безбилетные пассажиры. В летний период их особенно много бывает, все едут в отпуска, билетов в кассах как обычно нет, а у тебя в вагоне места свободные. Почему бы не подвезти за скромное вознаграждение? – пояснила соседка, продемонстрировав знание предмета. – Только делать это надо с умом, так, чтобы ревизоры не прихватили. У нас получалось.
– Интересно… – задумчиво произнёс я. – А на чём вы ещё зарабатывали? – заинтересовавшись денежной перспективой, задал я соседке провокационный вопрос. Недолго думая, она с улыбкой ответила:
– Поработаешь проводником – узнаешь!
* * *
«Страну посмотреть, с новыми людьми познакомиться, да ещё и денег заработать – неплохой вариант трудоустройства для бедного студента», – подумал я и, не откладывая в долгий ящик, отыскал в справочнике телефон дирекции по обслуживанию пассажиров Калининградского управления железной дороги. Позвонив туда, я выяснил все детали трудоустройства: надо было пройти медкомиссию и двухнедельное обучение, сдать зачёты и выполнить первый рейс в качестве стажёра под присмотром опытного наставника или наставницы, учитывая, что проводниками, как правило, работали женщины. И всё – ты «дипломированный» проводник, можешь самостоятельно отправляться в рейс в составе поездной бригады.
Зайдя как-то в университет, я встретил однокурсника Андрюху, шатающегося по коридорам в поисках преподавателя чтобы договориться о сдаче какого-то очередного «хвоста».
– Привет! Ты летом поработать не думал? – спросил я его. – Мне напарник нужен, составишь компанию?
– А что, тема есть? – зевнув, равнодушно поинтересовался Андрюха.
– Есть, и, говорят, денежная, – я взглянул на него в ожидании реакции, – только сначала надо две недели отучиться и сдать зачёты, чтобы получить допуск.
– О! Да ну нафиг, опять учиться и что-то сдавать надо, – разочарованно произнёс Андрюха и махнул рукой, – у меня этих зачётов несданных и без того вагон и маленькая тележка.
– Кстати, по поводу вагонов, – зацепился я за произнесённое им слово, – работа как раз с ними связана.
– Ты предлагаешь вагоны разгружать? – ехидно поинтересовался Андрюха. – Хватай больше, кидай дальше, а пока летит – отдыхай.
Я смотрел на него и ждал, что он ещё скажет.
– Ну, нет, это без меня. Мы сотрудники интеллектуальной сферы. Вагоны разгружать я не готов.
– Не надо ничего разгружать, что за стереотипы! – возразил я. – Почему, если вагоны, то их обязательно надо разгружать? Я предлагаю нам с тобой проводниками поработать. Улавливаешь разницу? – спросил я и добавил: – Ты меня послушай, прежде чем отказываться.
Я рассказал ему детали моего разговора с соседкой и того, что мне сообщили по телефону.
– А ездить-то куда будем? – с наметившимся интересом спросил Андрюха.
– Точно не знаю, но думаю, что основные рейсы будут в Москву и обратно. Лето всё-таки, через Москву все в отпуска едут, это массовое направление, – предположил я.
– И когда начинать? – без особого энтузиазма спросил Андрюха.
– Курсы начинаются через три дня, как обычно, с понедельника, – ответил я и уточнил: – Так что, ты согласен?
– Ладно, поехали, – как-то обречённо ответил Андрюха и отправился на поиски преподавателя.
Через две недели, отучившись на курсах проводников, мы успешно сдали зачёты, выполнили свой первый рейс в качестве стажёров и были зачислены в поездную бригаду к Петру Петровичу Карнаускасу, который уже много лет работал начальником поезда и, кстати, был выпускником географического факультета нашего университета.
Так началась наша с Андрюхой кочевая жизнь, а вагон, без преувеличения, стал нашим домом на ближайшие полгода.
* * *
Уже пару месяцев мы колесили из Калининграда в Москву и обратно двумя разными маршрутами: прямым и быстрым – через Каунас, Вильнюс, Минск, Смоленск и Вязьму; и окружным, который по времени занимал без малого сутки, – через Советск, Шауляй, Даугавпилс, Полоцк, Витебск, и, заезжая в Смоленск и Вязьму, поезд наконец-то прибывал в Москву.
Сделав за это время уже десятка полтора рейсов и изучив все нюансы и хитрости профессии, мы стали опытными проводниками. В дороге случалось всякое.
Бывало, кто-то из пассажиров напивался, и нам приходилось вместе с представителями правоохранительных органов утихомиривать пьяного пассажира, а иногда – снимать его с рейса и высаживать на ближайшей станции.
Случались и массовые пьянки, например, когда компания уволившихся из армии «дембелей» возвращалась домой. Приходилось действовать по обстоятельствам. Мне, например, помогало моё армейское прошлое: в большинстве случаев удавалось найти с дебоширами общий язык и договориться о соблюдении принципов добрососедства на период следования до пункта назначения. Однако, получалось это не всегда. В таких случаях мы действовали по инструкции: основного дебошира общими усилиями закрывали в туалете, затем сообщали о происшествии бригадиру, а тот по рации вызывал наряд милиции, и на ближайшей станции перебравшего «дембеля» сдавали в руки правоохранителей.
А ещё вспоминается рейс, когда в Москве к нам в вагон «заселили» вчерашних зеков, амнистированных в честь очередной годовщины Великой победы. Ехали они до Черняховска, который расположен всего лишь в двух часах езды от Калининграда. Путешествие в такой «приятной» компании доставило много хлопот не только нам, проводникам, но и пассажирам, которым «повезло» оказаться в одном вагоне с таким контингентом. Бессонная ночь тогда была у всей поездной бригады: никто не сомкнул глаз, все были начеку. Как говорил герой одного фильма: «народ там с душком, очков не носит».
А однажды у нас в вагоне какой-то парень из-за ссоры со своей возлюбленной вскрыл себе вены у неё на глазах. Это был особый случай, и в тот момент мы думали только об одном: как этого горе-любовника живым довезти до ближайшей станции и передать медикам.
Короче говоря, в рейсах мы не скучали!
* * *
Очередной рейс был на редкость спокойным, я бы даже сказал – скучным. Всё шло штатно, без происшествий. Мы благополучно докатили до Москвы. Высадив пассажиров, Андрюха с видом главнокомандующего привычно направился к шеренге бомжей, выстроившихся на перроне к прибытию поезда. Осмотрев строй, он тщательно отобрал трёх человек относительно приличного вида и запустил их в вагон для выполнения уборки. Не скрою, иногда для экономии собственного времени между рейсами мы практиковали наёмный труд.
– Итак, слушай боевую задачу, – командным голосом начал Андрюха, – вы находитесь в плацкартном вагоне, в котором имеются пятьдесят четыре спальных места плюс два тамбура и два туалета, расположенных в противоположных концах вагона.
Бомжи внимательно следили за Андрюхой, который прохаживался между спальными полками, засунув руки в карманы джинсов.
– Силами трёх человек вам предстоит в течение часа навести в вагоне идеальный порядок, – чётко, по-военному, он продолжал давать бомжам ценные указания, – а именно: собрать и сложить в пакеты мусор, подмести и вымыть пол, отдраить туалеты и тамбуры, вытряхнуть мусорные баки и пепельницы, а также аккуратно сложить на третьи полки матрацы, подушки и одеяла.
С этими словами Андрюха внимательно посмотрел на бомжей и строго добавил:
– И не дай вам Бог, мужики, если я чего-то не досчитаюсь, когда вернусь – пеняйте на себя!
Всё это время я стоял в дверях служебного купе и, не вмешиваясь в процесс, наблюдал за этим спектаклем. С обязанностью отобрать более-менее приличных бомжей, которых в то время на вокзалах Москвы было во множестве, и организовать уборку вагона Андрюха справлялся блестяще. Было забавно наблюдать, как он, не отличавшийся атлетическим телосложением, нагонял на бомжей трепет, действуя на них гипнотически. Они же, в предвкушении относительно лёгкого заработка, стояли и ловили каждое его слово.
– Если всё будет сделано, как я сказал, Родина вас не забудет, – с этими словами Андрюха поднял по очереди несколько нижних полок, показывая бомжам сложенные под ними пустые бутылки, которых за рейс накапливалось иногда сотни полторы. В дороге мы аккуратно собирали их по вагону и складывали под нижние полки купе, а по приезде в Москву использовали как платёжное средство для расчётов с бомжами.
– И ещё, – продолжал Андрюха, – сейчас мы уйдём и закроем вагон, – в этот момент он показал специальный трёхгранный ключ, который был у каждого проводника, – не пугайтесь, состав увезут в депо, а мы вернёмся через час-полтора. К этому времени всё должно быть готово.
Под занавес этого спектакля Андрюха, глядя на бомжей, строго спросил:
– Вопросы есть? – и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Вопросов нет! Вот и отлично!
Заперев вагон, мы, как обычно, направились за сосисками, свежим багетом и пивом. Надо сказать, что сосисочная на Белорусском вокзале в то время была знатная, и то ли мы были настолько голодные, то ли действительно в ней продавали качественные сосиски, но только ничего вкуснее за всё время наших поездок я не ел.
* * *
Был поздний вечер, город остывал после жаркого летнего дня. Поезд Москва – Калининград отправлялся в двадцать три тридцать с первого пути Белорусского вокзала. За полчаса до отправления состав подали к перрону, и мы привычно начали посадку: стоя у вагона, проверяли билеты и отмечали в блокноте номера занятых мест.
Вокруг царила обычная вокзальная суета: гремели своими тележками носильщики, на посадку спешили люди, обвешанные детьми и чемоданами, вдоль состава сновали продавцы всякой снеди и напитков, какие-то люди пытались с поездом передать посылки в Калининград, а кто-то договаривался с проводниками о том, чтобы самому уехать «зайцем».
До отправления оставалось минут двадцать, когда я обратил внимание на молодую пару, стоящую неподалёку. Симпатичная девушка и высокий, статный парень довольно громко и раздражённо разговаривали друг с другом. Девушка плакала, вытирая слёзы платком, и что-то эмоционально пыталась объяснить парню. Он же раздражённо отвечал ей, размахивая руками. Со стороны это было похоже на скандал. Всё это время рядом с ними стояла пожилая женщина в цветастом платке, маленького роста, щуплая, очень скромно одетая, с небольшим деревянным чемоданом в руках. Она как-то растерянно и, в то же время, очень нежно смотрела то на девушку, то на парня, а те, увлечённые своими разборками, не обращали на неё никакого внимания. Видимо, она пыталась их успокоить и примирить, но ей не удавалось этого сделать. В какой-то момент я услышал слова парня, обращённые к ней:
– Мать, да отстань ты! Не лезь! Мы сами разберёмся, ты давай, иди в вагон и езжай, с проводником я договорился! – прикрикнул он на бабулю и, повернувшись к девушке, продолжил неприятный разговор с ней.
Старушка притихла, поправила на голове платок, покорно отошла на пару шагов в сторону, но продолжала смотреть на молодую пару. Было заметно, что она очень переживает за них, от бессилия у неё на глазах выступили слёзы.
В следующий момент я отвлёкся: надо было разобраться с билетами очередных подошедших к вагону пассажиров. Спустя несколько минут я опять обратил внимание на них. Парня уже не было рядом, вместе с девушкой стояла только старушка, гладила её по руке и что-то говорила. До меня доносились лишь отдельные фразы:
– Танечка, доченька, не сердись ты на него, пожалуйста, – говорила старушка, ласково глядя на девушку снизу вверх, – он вспыльчивый, отойдёт, прости ты его Христа ради. Я так переживаю за вас, – старушка вытирала слёзы уголком платка.
– Мама, ну почему вы постоянно лезете к нам! – раздражённо реагировала девушка, – мы сами разберёмся, это не ваше дело.
Она прикурила сигарету и нервно затянулась, глядя в сторону вдоль перрона. Старушка обречённо отошла на несколько шагов в сторону, присела на чемодан, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Спустя несколько минут, девушка выбросила в урну недокуренную сигарету, подошла к сидящей на чемодане старушке и сказала:
– Мама, вот ваш вагон, – она показала в направлении состава, – идите, вам пора, скоро отправление.
Старушка посмотрела на неё заплаканными глазами и, видимо, хотела что-то сказать, но не успела: девушка резко повернулась и, не сказав больше ни слова, быстрым шагом направилась к зданию вокзала. В этот момент меня позвал Андрюха:
– Серёга, давай заходи, через две минуты отправление.
Я посмотрел вслед уходящей девушке, заскочил в вагон, опустил площадку, взял фонарь и сумку с флажками и, выглянув из вагона, посмотрел туда, где на чемодане сидела старушка. На перроне её уже не было. «Видимо, зашла в соседний вагон», – подумал я.
Лязгнули вагонные сцепки, поезд тронулся и стал медленно набирать скорость. Когда мимо нашего вагона промелькнул торец вокзального перрона, я закрыл тамбурную дверь, и мы с Андрюхой приступили к выполнению своих служебных обязанностей. Началась привычная вагонная суета: Андрюха, как всегда, колдовал около титана – это было его любимым занятием, а я пошёл собирать билеты и деньги за постельное бельё, потом заполнил «лушку» и отправился с ней в штабной вагон.
Состав потряхивало на стрелках, скрежетали и постукивали колеса, за тёмными окнами мелькали огни, пассажиры раскладывали полки и стелили постельное бельё, все готовились ко сну.
* * *
Вернувшись из штабного вагона, я спросил у Андрюхи:
– Ты видел, что у нас в нерабочем тамбуре окно выбито, и свет не горит? Темень – глаз коли, и ветер гуляет, как на Балтике.
– Конечно, видел, – равнодушно ответил Андрюха, наливая в стаканы кипяток, – ты спал, это ночью случилось, в мою смену.
– А что произошло? Камень прилетел? – пытался я выяснить причину.
– Если бы! – ухмыльнулся Андрюха. – Ты помнишь, по дороге в Москву два типа в третьем купе ехали? Так вот, они всю ночь квасили, как не в себя, правда делали это тихо. Я, как ни пройду мимо, – у них на столе очередная бутылка стоит.
– Ну, пили, и что с того? Спать легли, наутро проспались, – не понимал я, к чему Андрюха клонит, – а стекло кто выбил?
– Так вот, – неторопливо продолжал Андрюха, заваривая чай, – в какой-то момент они вышли в тамбур покурить, ну и, видимо, что-то там не поделили: один другому морду набил, да так, что мне пришлось даже аптечку доставать. В потасовке один из них локтем выбил стекло в двери, а второй головой лампочку разбил, – закончил он свой рассказ.
– Однако! – присвистнул я. – И что, ты их так просто отпустил, дескать, «простите, пожалуйста, мы нечаянно»? Не поверю, – я хитро посмотрел на Андрюху.
– Ага, щас! Они, значит, стёкла в казённом вагоне будут бить, а мы с тобой за них убытки возмещать с зарплаты. Ты ж меня знаешь – на мне, где сядешь, там и слезешь, – с ухмылкой произнёс Андрюха.
– Так, и что было дальше? – поинтересовался я.
– А что дальше? Я им на выбор два варианта предложил: либо я вызываю наряд милиции, и на следующей станции мы с ними прощаемся, либо они думают, как сделать так, чтобы я об этом забыл.
– Очень интересно! – улыбаясь, я посмотрел на Андрюху и спросил: – И во сколько им обошлась твоя амнезия?
– Нормально обошлась, моя амнезия – диагноз не из дешёвых, – отшутился он и спросил: – Ты, когда спать ложился, просил меня сделать тебе подарок утром? Я постарался: твоя доля у тебя на верхней полке под подушкой лежит. Такой случай подвернулся – я свой шанс не упустил. Правда, мы с ними только раза с третьего договорились.
Андрюха разлил чай по стаканам и, занося их осторожно в служебное купе, сказал: – Хорош болтать, давай чай пить, а то мне ещё всю ночь дежурить.
Несмотря на то, что и я, и Андрюха по хронотипу были «совами», моя смена была дневная, а Андрюха любил работать ночью. Как-то так само собой сложилось, я не возражал. Ночью спать надо, а не по вагонам бегать.
* * *
Мы допивали чай, когда дверь с грохотом открылась, и в купе заглянула Ленка, проводница из купейного вагона, тоже студентка, как и мы.
– Ну, и чего сидим? – громко спросила она с порога.
– А что нам надо сделать? Подпрыгнуть, что ли, при виде тебя? – огрызнулся Андрюха, а потом, улыбаясь, спросил: – Вы, девушка, из какого вагона будете? Может чайку с нами, или чего покрепче?
Но Ленка, не обращая внимания на слова Андрюхи, продолжила:
– Не слышали? Карнаускас у себя всех собирает. Сказал, чтобы через пять минут все у него были, – с этими словами она продолжила движение по направлению к штабному вагону.
– Вот тебе на! Гроза, да к ночи, – заворчал Андрюха, – что-то меня ломает тащиться в штабной вагон на ночь глядя. Мне ещё всю ночь туда бегать после каждой станции.
Он вышел в коридор, повернулся и посмотрел на меня:
– Серёга, а давай ты к Карнаускасу сходишь, а я пока в печку угля подкину, – попросил меня Андрюха, – а ты как вернёшься, ляжешь спать.
– Да не вопрос! – я допил чай, вышел из купе и быстрым шагом направился в сторону штабного вагона.
Был второй час ночи, когда производственное совещание у начальника поезда закончилось. Большинство пассажиров уже спали. Проводники разошлись по своим вагонам, я тоже отправился восвояси.
Проскочив последний переход между вагонами, я с силой захлопнул металлическую дверь и оказался в тёмном тамбуре нашего вагона. Как всегда, здесь было сильно накурено, а через выбитое окно со свистом врывался ветер. Несмотря на тёплую летнюю ночь, в тамбуре было прохладно, и находиться в нём, тем более в темноте, было неприятно.
Заходя внутрь вагона, я вдруг заметил, что в правом углу тамбура кто-то сидит. Всматриваясь в темноту, я чиркнул зажигалкой: в углу, на чемодане, сидела женщина, в которой я узнал ту самую бабулю с перрона Белорусского вокзала. Я почувствовал, как у меня заколотилось сердце, а на лбу выступила испарина.
На коленях у неё была постелена белая салфетка, на которой лежал спичечный коробок с солью, кусок ржаного хлеба, а она аккуратно чистила куриное яйцо и складывала на салфетку скорлупу.
– Что вы здесь делаете? – удивлённо и растерянно спросил я. – Вы из какого вагона? Как вы здесь оказались?
Бабуля испуганно посмотрела на меня и запричитала:
– Сынок, не сердись, пожалуйста, я же никому не мешаю, я тут посижу, мне недолго ехать, скоро уже выходить. – Старушка вжалась в угол и продолжала испуганно смотреть на меня.
Я подошёл ближе, присел напротив неё и как можно спокойнее сказал:
– Вы, пожалуйста, меня не бойтесь, я проводник в этом вагоне. Вы мне скажите, вы из какого вагона, и на какой станции вам выходить?
Бабуля немного успокоилась и ответила:
– Меня сын с невесткой в Москве провожали, они договорились с проводницей соседнего вагона, – она показала куда-то назад, за стенку тамбура, – что меня до Смоленска довезут. Я ей заплатила, не обидела… Смоленск уже совсем скоро, под утро.
По расписанию поезд действительно прибывал в Смоленск рано утром, в шесть тридцать. Но из-за частых остановок на перегонах мы уже опаздывали как минимум на час, и догнать расписание шансов было мало: продолжая кланяться каждому столбу, мы больше стояли, чем ехали. Такими темпами до Смоленска мы доберёмся не раньше семи часов утра, а то и позже.
– Понятно, а здесь вы как оказались, почему вы не спите на своём месте в соседнем вагоне? – продолжал я расспрашивать старушку.
– Я не знаю, сынок, – развела она руками, – мне проводница сказала, что у неё в вагоне сейчас нет мест, говорит, иди в тамбур и жди там, может что-то освободится. Вот я и присела здесь… Я же никому не мешаю, сынок, – удивительно спокойно, с покорностью в голосе говорила старушка, – вот, решила перекусить, проголодалась я.
С этими словами она торопливо достала из стоящего на полу пакета варёное яйцо, кусок хлеба и протянула мне:
– Вот, возьми, сынок, перекуси, поди, тоже проголодался.
– Спасибо, я не голоден, – отказался я, а сам подумал: «Всё ясно – это дело рук нашей коллеги, матёрой проводницы из соседнего вагона, одной из представительниц «старой гвардии», которых в нашей бригаде было примерно половина».
Впервые с такими «ударницами социалистического труда» мы с Андрюхой столкнулись, когда поехали в свой первый рейс в качестве стажёров. Эти любительницы подзаработать на всём, в том числе и на «зайцах», были настолько жадные до денег, насколько же и недалёкие. Вместо того, чтобы оформить на «зайца» билет у бригадира и определить его на свободное место в своём вагоне, они нагло брали деньги с безбилетных пассажиров, а потом отправляли их «гулять» по составу или в вагон-ресторан. Так они прикрывали себя: в этом случае внезапно нагрянувшие с проверкой ревизоры практически не имели шансов обнаружить безбилетного пассажира.
Проводники новой формации, в том числе и мы с Андрюхой, тоже святыми не были и брали «зайцев» за умеренную плату, но делали это с умом и никогда не жадничали: бригадир поезда по нашей просьбе оформлял на «зайца» билет (у бригадира было такое право), а мы отдавали ему небольшой процент с каждого безбилетника, остальное клали себе в карман. В результате, такой пассажир ехал до пункта назначения с официальным билетом, был учтён в «лушке» и имел своё законное место согласно «купленному» билету. В этом случае ревизоры ничего не могли нам предъявить – количество пассажиров, находящихся в вагоне, совпадало с количеством билетов и сведениями в «лушке». Одним словом, не докопаться!
За расспросами старушки я просидел в тамбуре около получаса. Поезд наконец-то набрал приличную скорость и мчался сквозь ночь. Выбитое окно давало о себе знать – в тамбуре стало совсем холодно.
– Вставайте и давайте мне ваш чемодан, – решительно сказал я, – идите за мной, тут нельзя больше находиться.
– Куда, сынок, зачем? Я тут посижу, пожалуйста, не выгоняй меня, – взмолилась женщина, опять испуганно посмотрев на меня и вжавшись в угол.
– В вагон пойдём, я вас чаем напою и спать уложу, – уже спокойно сказал я, – тут холодно, простудиться можно.
Я помог ей подняться, взял чемодан и направился в вагон, старушка покорно последовала за мной.
Андрюха, увидев меня с чемоданом в руках, за словом в карман не полез:
– О, я смотрю, ты где-то барахлишком разжился. Чего принёс? – шутливо спросил он меня.
– Старик, мне не до шуток сейчас. Скажи лучше, где у нас места свободные есть? – серьёзно спросил я его.
Андрюха посмотрел в «лушку» и ответил:
– В первом купе все четыре места свободны, а ещё пара боковых полок не заняты. А что случилось? – спросил он, немного растерянно глядя на меня.
– Старик, помоги мне, пожалуйста, надо пару вопросов решить, но позже. Я сейчас постель постелю, а ты пока сделай стаканчик чая горячего. Лады?
– Конечно, – ответил Андрюха и стал доставать стакан и подстаканник с полки, пока не очень понимая, что происходит, но не задавал мне лишних вопросов.
Бабуля сидела на боковом месте и терпеливо ждала меня. Я убрал её чемодан под полку, достал смотанный матрац, и, быстро надел на подушку наволочку, раскатал на полке матрац и постелил простыню, положил одеяло. В это время Андрюха принёс стакан чая и молча поставил его на столик, положил несколько пакетиков сахара и поставил рядом тарелку с печеньем.
– Выпейте, пожалуйста, чаю и ложитесь спать, – сказал я бабуле, – за полчаса до Смоленска я вас разбужу.
– Ой, мальчики, спасибо вам большое, дай вам Бог здоровья! Господи, есть же на свете добрые люди ещё, – бабуля начала благодарить нас, но я прервал её:
– Не теряйте, пожалуйста, время, пейте чай и ложитесь спать. Уже очень поздно, поспите до Смоленска хотя бы несколько часов.
Андрюха стоял рядом, и в его взгляде читались сплошные вопросы. Я завёл его в служебное купе, коротко ввёл его в курс дела и попросил:
– Старик, сегодня ночью я подежурю, а ты спать ложись, только сначала сделай, пожалуйста, два дела. Во-первых, сходи к Карнаускасу, пусть он оформит на бабушку билет до Смоленска, – я достал несколько купюр и протянул ему, – этого должно хватить.
– А что во-вторых? – спросил Андрюха.
– Ты на обратном пути, пожалуйста, навести нашу коллегу из соседнего вагона и сделай ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Ну, как ты умеешь, – я посмотрел на Андрюху: по его взгляду было видно, что он меня понял.
Андрюха направился в штабной вагон, а я заглянул в купе, куда нами была определена старушка. На столе стоял нетронутый стакан чая, а бабуля, укрывшись одеялом, уже спала. «Ну и слава Богу», – подумал я, и пошёл в тамбур открывать дверь: поезд замедлял ход, мы подъезжали к Вязьме.
* * *
Минут через тридцать, когда я домывал стаканы, вернулся Андрюха.
– Ну что, какие дела? – спросил я. – Всё сделал?
– Да, всё, – он положил на стол билет, – и вот, забрал, не забудь отдать, когда в Смоленске будем. – Андрюха достал из кармана деньги и положил рядом с билетом. Потом, посмотрев в тёмное окно, произнёс: – Нам ещё больше часа ехать, только к Сафоново подъезжаем.
Я вытер руки и, повернувшись к Андрюхе, сказал:
– Предлагаю пойти покурить.
Мы вышли в тёмный и холодный тамбур, закурили, и Андрюха, подойдя к разбитому окну, задумчиво произнёс:
– Скажи мне, Серёга, вот почему у некоторых людей ничего святого в жизни нет? Всё у таких только деньгами измеряется. Вот она старушку посадила в Москве «зайцем», денег с неё взяла не хило, а потом отправила её на всю ночь холодный тамбур сторожить. Кстати, я выяснил, что старушка у неё сегодня не единственной была: она, зараза такая, ещё трёх парней до Ярцево взяла, и так же без мест. Но те молодые, денег ей дали и в ресторан ушли, – Андрюха затушил в пепельнице окурок, достал новую сигарету, прикурил и продолжил, – я к этой «ударнице труда» по пути из штабного вагона зашёл и спрашиваю, совесть есть у тебя, что ж ты с человека денег взяла и кинула? Неужели, говорю, у тебя внутри ничего не ёкнуло, когда ты старушку на ночь в заплёванный тамбур отправляла? Противно! – Андрюха с досадой махнул рукой. – У таких, как она, уже давно камень в груди, а не сердце, – он замолчал и отвернулся к окну.
Я тоже молча курил и думал: «Что тут скажешь: с проявлением человеческого равнодушия, чёрствости и подлости мы в рейсах встречались далеко не первый раз. И ладно проводница, с неё взятки гладки – она, в конце концов, чужой человек для этой старушки, видит её первый и последний раз. Но её же на вокзале в Москве сын родной с невесткой провожали – вот к ним у меня много вопросов. Это какой же бездушной скотиной надо быть, чтобы родную мать посадить на поезд, не убедившись, что она поедет в человеческих условиях? Но, помнится, на перроне этому сыночку было не до матери – он был занят разборками со своей женщиной».
– Андрюха, а деньги ты у этой «ударницы» как забрал? – тихо спросил я.
– Да как забрал? Сказал ей пару ласковых слов, используя ненормативную лексику, ну и вид у меня, наверное, был такой злобный, что она решили мне не перечить: молча достала деньги и отдала. Я знаю – такие, как она, только со старушками и смелые, а надави на них слегка – они и сдулись… – как-то грустно, но со знанием дела, сказал Андрюха, и добавил: – Ладно, Серёга, я спать пошёл, устал, – он осторожно открыл дверь в вагон, – а ты смотри, Смоленск уже скоро, бабулю не забудь разбудить.
– Не забуду, – ответил я и тоже вышел из тамбура вслед за Андрюхой.
* * *
Кроме старушки, из нашего вагона в Смоленске выходили ещё два человека, которые уже проснулись. Летом светает рано, в вагон пробивались первые лучи солнца. За окнами на полях местами стелился туман. Я посмотрел на часы: до прибытия в Смоленск оставалось тридцать минут. «Пора будить», – подумал я и вышел из служебного купе.
Подойдя к крепко спящей бабуле, я осторожно потряс её за плечо. Она открыла глаза и с улыбкой посмотрела на меня:
– Что, сынок, уже Смоленск? – спросонья спросила она.
– Да, через полчаса прибываем. Вы, пожалуйста, поднимайтесь, а я вам чай сейчас принесу.
Минут через десять я вернулся со стаканом чая в руке. Постельное бельё было собрано и аккуратно сложено на полке рядом со смотанным матрацем. Бабуля сидела у окна, держала в руках свой деревянный чемодан и тихо плакала, вытирая слёзы кончиками своего платка. Я поставил стакан на стол, присел рядом с ней и спросил:
– Что опять случилось? Почему вы плачете?
– Я ключ от чемодана не могу найти, – сквозь слёзы ответила старушка.
– А вам что-то срочно надо достать из него? Через десять минут мы прибываем.
– Да, надо… Хотела тебя, сынок, отблагодарить: иконку Николая Чудотворца и крестик подарить тебе… Да, видимо, не судьба…
Старушка вздохнула и виновато посмотрела на меня. У меня к горлу подкатил ком, и я с трудом произнёс:
– Спасибо большое, но я не крещён.
– Это ничего, сынок, – тихо ответила бабуля, – ты хороший человек, у тебя сердце доброе, в нём Господь у тебя живёт… Поверь, я знаю, – она продолжала смотреть на меня своими добрыми, полными слёз глазами. Поезд резко замедлил ход, мы подъезжали к Смоленску. Надо было идти в тамбур, готовиться к высадке пассажиров.
– Нам пора, – вставая, произнёс я, взял чемодан и направился к выходу из вагона. Старушка, осмотрев напоследок купе, последовала за мной.
Состав подкатил к перрону смоленского вокзала, я открыл дверь тамбура, вытер тряпкой поручни и вышел на платформу, держа в руке чемодан старушки. Она вышла вслед за мной.
– Вот вы и дома, всего вам доброго! До свидания, и берегите себя, – попрощался я со старушкой.
– Сынок, – обратилась она ко мне, – спасибо тебе большое, храни тебя Господь! С этими словами она перекрестила меня, повернулась и медленно зашагала по перрону в сторону вокзала. Вдруг меня как током ударило.
– Ой! Постойте! Подождите, пожалуйста, – я подбежал к старушке, сунул руку в карман и протянул ей деньги, – забыл отдать, это ваши, возьмите, пожалуйста.
Старушка с удивлением смотрела то на меня, то на деньги.
– Сынок, а что это за деньги? – растерянно спросила она.
– Берите, берите, это ваши деньги, их проводница отдала, которая вас в Москве в поезд посадила.
– Сынок, да как же это? Я же ей за поездку заплатила… – дрожащим голосом произнесла старушка, и её глаза опять наполнились слезами.
Вдруг, посмотрев на меня, старушка сказала:
– Сынок, а ты возьми себе эти деньги, прошу тебя!
– Нет, я не возьму, это не обсуждается, – с этими словами я взял её руку и вложил в неё купюры, – вам они нужнее. Прощайте и берегите себя, – я повернулся и быстрым шагом направился к вагону.
До отправки поезда оставалось несколько минут. Запрыгнув в тамбур, я повернулся и увидел, как старушка медленно шла к зданию вокзала. Вдруг, она остановилась, повернулась и, глядя в сторону стоящего у перрона железнодорожного состава, подняла руку и перекрестила его.
Поезд тронулся и начал медленно набирать скорость. Я закрыл дверь вагона и, зайдя в служебное купе, присел на сиденье у окна. «Как удивительно, но спустя много лет случай опять привёл меня в Смоленск», – подумал я.
* * *
В детстве в Смоленске я бывал много раз. Каждый год, летом, по дороге в деревню, на малую родину моего отца, мы из Калининграда ехали до Смоленска, куда поезд прибывал около десяти часов утра. Там мы делали пересадку на поезд Смоленск – Мичуринск, который отправлялся вечером того же дня, около двадцати одного часа. У нас был целый день для прогулок по городу.
Не знаю почему, но каждый раз, бывая проездом в Смоленске, мы с отцом посещали Свято-Успенский кафедральный собор, расположенный в центре города на высоком берегу Днепра. Я не помню случая, когда бы мы не побывали там в очередной наш приезд. Это огромный, старинный храм, очень красивый как снаружи, так и внутри. Его золочёные купола видны практически с любой точки города. Особенно красиво они выглядят в солнечную погоду.
Тогда я этого не чувствовал в силу возраста, а сейчас понимаю – в этом храме было по-настоящему намолено. Заходя с отцом внутрь, я молча стоял и смотрел, как заворожённый, на потрясающей красоты иконостас, возвышавшийся под своды храма, слушал чтение молитв, пение церковного хора и думал: «Интересно, почему люди становятся священниками или принимают постриг и уходят в монахи, посвящая всю свою жизнь служению Богу? Что ищут они в этом служении, что ими движет, когда делают такой жизненный выбор?»
Однажды, поднимаясь по длинной лестнице, ведущей к собору, мы повстречали священника, который шёл нам навстречу. Отец обратился к нему:
– Добрый день, батюшка, простите, а нам можно в храм зайти?
– Добрый день! – поздоровался священник. – А почему ж нельзя, конечно, можно! Даже нужно! Идите, пожалуйста, там как раз служба начинается.
– Дело в том, что сын у меня не крещён, – пояснил отец, положив мне руку на плечо, – а я не помню, крестили меня в детстве или нет. Да и не верующий я.
Батюшка улыбнулся и тихо ответил:
– Идите в храм. Не важно, что вы некрещёные и в Бога не веруете. Другое важно – чтобы Господь в вашем сердце поселился.
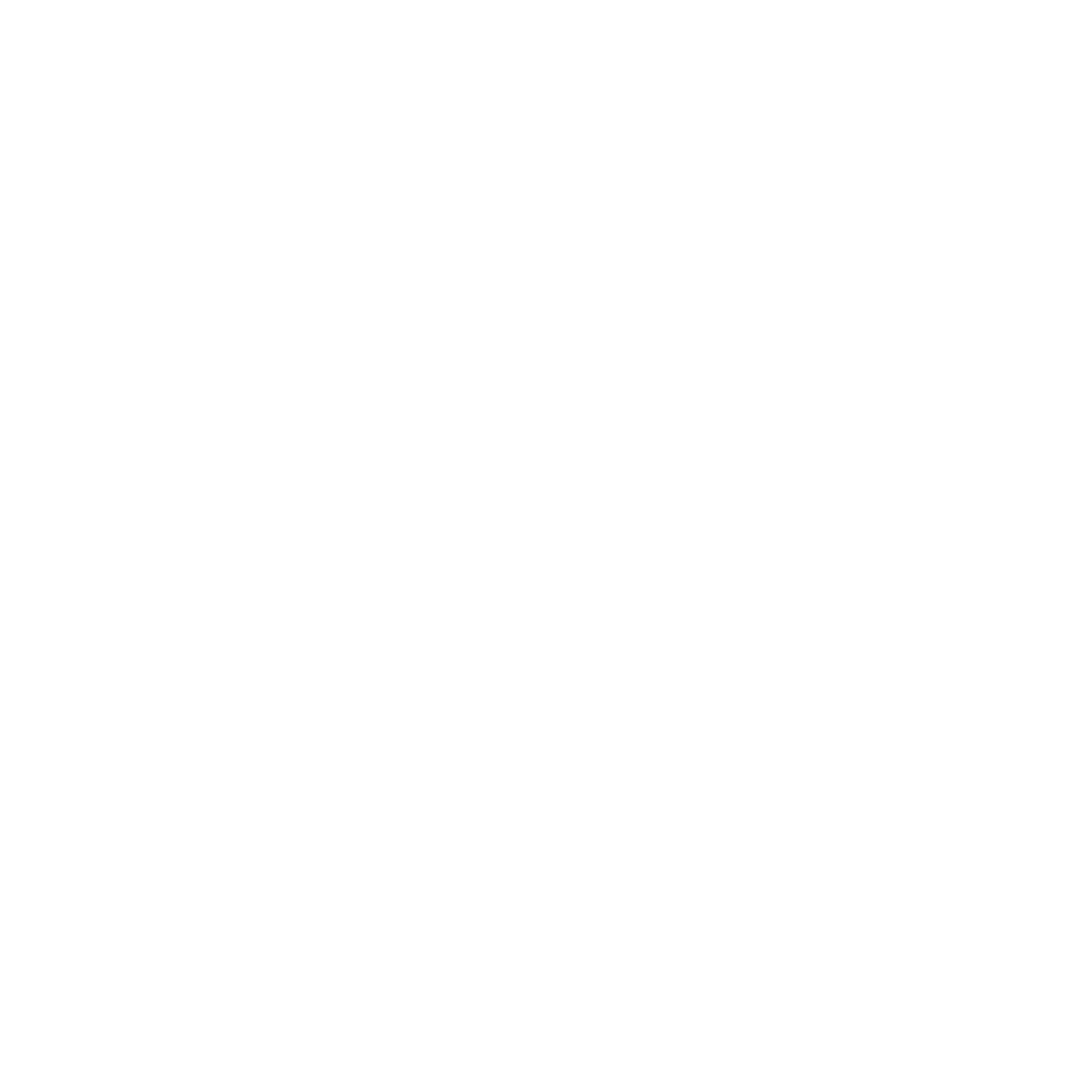
Николай НИБУР
Автор десятка книг самой различной направленности: политический детектив, пост-апокалиптические фантазии, историко-краеведческие изыскания, рассказы о нелегком периоде экономических реформ в России и о простом человеческом общежитии в согласии с окружающей природой. Все эти произведения объединяет тема извечной борьбы Добра и Зла. Член Союза писателей с 2018 года.
Автор десятка книг самой различной направленности: политический детектив, пост-апокалиптические фантазии, историко-краеведческие изыскания, рассказы о нелегком периоде экономических реформ в России и о простом человеческом общежитии в согласии с окружающей природой. Все эти произведения объединяет тема извечной борьбы Добра и Зла. Член Союза писателей с 2018 года.
СЛАДКИЙ ЗАПАХ СТРУЖЕК
Моя родина – ближайшее Подмосковье. Земля здесь малоплодородная, не черноземы. Климат холодный, зима длится семь месяцев в году. В этих непростых природных условиях прокормиться одним крестьянским трудом просто невозможно. Поэтому в наших местах традиционно развивались самые различные ремесла. Мастеровой труд в сочетании с тяжелыми земледельческими работами помогал жителям выжить в трудных условиях сельской жизни.
За века изобретательный русский народ придумал и наладил самые различные кустарные производства. Так в нашей местности большое распространение получил столярный промысел. Этим занимались оба моих деда еще в дореволюционные времена. Они на дому изготавливали нехитрую мебель на продажу: столы, стулья, гардеробы, буфеты. Как не воспользоваться наличием обширного потребительского рынка столицы, находящегося прямо под боком?
По сохранившимся семейным преданиям, столярную профессию деды освоили от своих родителей, моих прадедов. Может быть, родословная традиция тянется и дальше, вглубь веков.
Во всяком случае, мой отец в двадцатые годы прошлого века, будучи подростком, также перенял у своего родителя столярное мастерство. Уже после окончания четырех классов начальной школы он встал к верстаку. И в четырнадцать лет сумел полностью самостоятельно сделать первую значительную работу: раздвижной обеденный стол. Такое мебельное изделие одинаково хорошо подходило и для горницы большого сельского дома, и для столовой или гостиной комнаты в городской квартире состоятельного советского чиновника довоенного времени. А о молодом еще парнишке с этого момента уже можно было говорить как о состоявшемся столярном мастере.
Позже его профессиональная деятельность взрослого человека сложилась по-другому. Он прошел всю войну, с первого до последнего дня, и одним из немногих вернулся домой живым. Поэтому ему была уготована судьба стать небольшим сельским руководителем: председателем сельсовета, председателем колхоза. Хотя на самом деле он наравне с рядовыми колхозниками работал в поле: на посевной, на покосе и на жатве. Все по той же причине: мужиков на селе осталось – раз-два и обчелся!
Но столярное дело отец не забыл. Это ремесло здорово помогало ему в дальнейшей жизни. Особенно много отцу приходилось работать за верстаком в тяжелый период послевоенного времени. В колхозах, как известно, зарплату не платили. А семья была многодетная. Ей, как говорится, только давай! Вот и приходилось ее главе после рабочего дня в поле, на ферме, не покладая рук, ночами неустанно трудиться дома за верстаком, изготавливать домашнюю мебель, чтобы немного заработать, покрыть затраты на самые необходимые домашние нужды.
Это был изнуряющий режим труда. Завершая работу над очередным изделием, отец у столярного верстака проводил без сна две ночи подряд. Чтобы не уснуть, он выкуривал по две пачке самых дешевых папирос – «Север» или «Прибой».
К утру под верстаком скапливались древесные отходы от ночной работы отца: опилки, стружки, чурки. Поднимаясь еще затемно, наша мама использовала их для растопки домашней печи.
А у меня, младшего в семье, это было любимое место для детских утренних игр. Прежде всего меня интересовали обрезки, получающиеся при изготовлении шиповых замков, связывающих деревянные бруски в раму, предназначенную для дверцы шкафа или для крышки обеденного стола. Эти чурочки из-под рук столяра выходили ровными, прямоугольными. И из них можно было сделать какое-нибудь свое детское мебельное изделие. Например, с помощью молотка и самых маленьких гвоздиков «десятка» (размером десять миллиметров) сколотить коробочку. Фантазируя, можно каждый раз сконструировать что-нибудь новое: маленький стол, целый детский шкаф или даже грузовой автомобиль.
Увлекшись в ожидании маминого завтрака прямо здесь, в теплых мягких стружках под верстаком, я мог и заснуть.
И это неудивительно!
В последнее время в профессиональном медицинском сообществе растет признание терапевтических свойств аромата древесных стружек. Как выясняется, этот запах обладает целительной пользой для физического и психического благополучия. Он приносит массу оздоровительных результатов: улучшение настроения и когнитивных функций, снижение стресса и тревоги, противовоспалительные свойства, улучшение сна, антибактериальную и противовирусную активность.
И даже в парфюмерии (!) считается, что ароматы с нотой «Древесная стружка» обладают экзотическим интригующим характером.
Вот, оказывается, почему сладкий запах стружек сохранился в моей памяти как одно из самых ярких воспоминаний детства! И собранные в этом сборнике материалы я назвал «стружками», потому что они мне так же дороги, как те тёплые столярные стружки.
Родной дуб
Однажды весной мои дети под соседским дубом нашли в засохшей листве прошлогодний желудь с уже проклюнувшимся ростком. Мы его посадили на нашем огороде и заботливо огородили палочками-метками, чтобы ненароком не затоптать. В том же году дубок взошел и распустился тремя листочками.
Был он невысокий, тоненький, но если потрогать основание ростка, то вдруг почувствуешь сильный корень. Так бывает, когда найдёшь в лесу маленький, чуть показавший свою шапочку гриб и, выковыривая его, вдруг чувствуешь крепкую толстую ножку. Белый! От радости даже перехватывает дыхание.
Весной следующего года после схода снега мы наблюдали трогательную картину листопада вокруг нашего маленького дубочка. На три стороны от прутика ствола на земле ровно лежали три прошлогодних высохших маленьких дубовых листочка.
На этот раз наш дубок распустился уже пятью листиками. И точно такой же умиляющий листопад мы увидели еще через год.
Дуб рос медленно, крепчал. Через несколько лет его ствол уже не получалось охватить одной рукой. А в возрасте восьми лет он ростом перегнал моих сыновей.
Когда мы приходим на огород, мои ребята первым делом спешат к дубу. Как он, подрос? Кто знает, может быть, и он без них скучает, ждет своих родителей, подаривших ему жизнь?
Нет худа без добра
В воспоминаниях детства осталось удивительное многообразие птиц в наших местах. За ними можно было неустанно наблюдать с утра до вечера.
В полях среди колосьев снуют перепелки. Заметить их всегда очень трудно, можно только услышать, как они убегают из-под ног, шурша засыхающими колосьями. На травяных лугах вечером резко кричат птицы коростели, мы их звали дергачами. Этих и вовсе трудно увидеть. Вот, кажется, тихо подкрался к тому месту, где он только что неустанно скрипел свое «дерг-дерг», наклоняешься пониже, чтобы наконец рассмотреть скрытного хитреца… Нет, опять ускользнул незамеченным!
Высоко в небе висит, заливается жаворонок. Слышно его хорошо, а найти глазами маленькую точку в бескрайней синеве очень трудно. А уж если посчастливится застать взлет жаворонка со своего гнезда, скрытно обустроенного в траве прямо на земле, получишь незабываемое впечатление! Птица не такая уж крупная, но размах крыльев довольно внушительный. Неустанно работая, он вертикально поднимается все выше и выше, чтобы там начать свою песню.
На электрических проводах в цепочку рассаживаются стрижи и ласточки. Сейчас эти птицы очень похожи друг на друга. Но стоит им полететь, как вдруг они становятся совершенно различными. Стриж летает, своими серповидными крыльями выписывая в воздухе круги, а полет ласточки – быстрый, прерывистый, с постоянной резкой сменой направления. И голос у них совершенно разный. Стрижи кричат свое громкое «стрри-и-и-и-и», а ласточки негромко щебечут. Но охота у них похожая: они в воздухе широко открывают рот и таким образом ловят маленьких летающих насекомых.
В сады из ближнего перелеска прилетают небольшие синицы, снегири и птицы покрупнее – сороки, дрозды, свиристели. В огороде на вскопанной земле снуют скворцы, трясогузки, собирают жучков-червячков. Перед крыльцом дома суетятся воробьи. Над полями парят, выглядывая мышей, ястребы. Иной раз они наведываются и на подворья, норовя утащить оставленного без присмотра цыпленка.
В самом лесу ведет свой отсчет кукушка, гулким эхом отдается дробь дятла. В гуще листвы обитают клесты, поползни, выписывают невероятно разнообразные песенные трели синички, гаечки и прочая многочисленная мелочь. В оврагах весной соловьи поют свои любовные песни. В дальних полях человека вопросами встречают и вовсе диковинные хохлатые чибисы. Мимо нашего дома, расположенного на окраине поселка, возвращаются охотники с добычей. К их поясу привязаны утки, а иногда и редкая удача – серые тетерева или огромные иссиня-черные глухари с яркими красными пятнами на голове.
Такая природная идиллическая картина царила в ближайшем Подмосковье еще в шестидесятые годы двадцатого века. Но наступило время масштабной индустриализации. Этот неизбежный процесс развития человеческого общества, к сожалению, безжалостен к природе.
И к восьмидесятым годам ситуация резко изменилась. Повсеместно во множестве развелись надоедливые вороны и галки. Они огромными стаями кружили над жильем, вычищая все, что может пригодиться в пищу. И картина резко изменилась. Вороны своим количеством подавили остальных птиц. В лесах еще что-то сохранилось, а в полях, садах и на огородах стало пустынно. Пропали даже вездесущие воробьи, дружно собирающиеся в густых кустах в шумные чирикающие стайки.
Причин тому было несколько. И все они связаны с губительной деятельностью человека.
В городе в мусорных баках стало полным-полно продуктовых отходов, даже хлеб выбрасывается целыми батонами, и тут воронам – раздолье. На полях – обилие удобрений, пестицидов, от которых погибли насекомые, являющиеся кормом для мелких птиц. В разросшемся Наукограде получила мощное развитие микроэлектронная промышленность с таким обилием химикатов, что их вредное воздействие на людей и на природу просто ещё никто не удосужился изучить. А тут, пожалуй, присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева.
Какая птица вынесет все эти напасти? Противостоять губительному наступлению цивилизации по силам только во всем неприхотливым воронам. Вот они и стали главенствовать в птичьем мире.
Как будто в помощь им за короткий срок в ближнем Подмосковье было построено несколько крупных птицефабрик, на которых всегда можно было прокормиться целым полчищам этих ненасытных созданий.
Однако в человеческом обществе нет постоянства, наступили годы девяностые. Перестройка резко повернула в сторону разрушительных рыночных реформ, и наша жизнь кардинально поменялась. Поля не распахиваются, и удобрений тоже не стало. Остановились не только промышленные предприятия. Птицефабрики теперь тоже работают на десятую часть былой мощности, потому что население всей нашей страны переведено на «ножки Буша».
И – вот уж, воистину, нет худа без добра! – ситуация с оскудением мира пернатых начинает выправляться. Ворон становится значительно меньше. Зато во множестве появились скворцы, синички, трясогузки, воробьи. С каждым годом маленьких птичек все больше и больше. А этой весной увидел даже ласточку. Встретил пару сорок, тоже ставших редкостью в последнее время. А осенью в стае воробушков на глаза попалась и вовсе незнакомая мне птичка. Однажды увидел яркую разноцветную птаху в красной шапочке. Дома по картинке в энциклопедии определил, что это щегол. До чего же красивая птичка!
Еще одно обнадеживающее наблюдение. В детстве мы до черноты на зубах объедались полудикой ягодой иргой. Но в последние годы ее не удавалось даже попробовать: всю ягоду еще недозревшей склевывали голодные птицы. Но вот в этом году картина поменялась, и ирга успела вызреть. Наверное, потому что стало больше насекомых: жуков, кузнечиков, стрекоз, бабочек. Птичкам перепадает все больше мелкой живности, а растительная пища служит лишь вкусной приправой к более питательному для них корму.
Интересно открывать забавные подробности жизни птиц.
Вот, к примеру, маленькая зеленоватая пичуга (не знаю ее названия) кормится мелкими семенами трав, распускающихся метелками. Но высокая былинка, на которой они растут, очень тонкая. Птичке на ней не удержаться. Как быть? Птаха находит решение. С лету садясь на колышущуюся под ветром травяную ниву, она каждой лапкой захватывает сразу три-четыре стоящих рядом стебелька, таким образом успешно закрепляется и начинает клевать семена. Какой же мощный управляющий компьютер сидит в такой маленькой головке! Этот биологический процессор за долю секунды позволяет птичке скоординировать сложное раздельное движение двух маленьких цепких лапок. Ну не чудо ли это?!
Еще одна любопытная картина. На широко раскинувшем свои ветви дереве, стоящем на высоком берегу Истринского водохранилища, устроили свое гнездо ястребы. Птенцы как раз подросли, и родители с шумом выталкивали их наружу, чтобы те учились летать. Слабые еще малыши сделают наспех небольшой круг и возвращаются отдыхать. Но через некоторое время в доме опять поднимается беспорядочный гвалт. Это родители снова не дают детям расслабиться, заставляют их летать все больше и дальше.
Так непрестанно я созерцаю живой мир пернатых и не устаю славить его. Любуясь природой, отдыхаешь душой.
Старое дерево
В лесопарке за кинотеатром растет старая-престарая сосна. Ей, как утверждают специалисты, около двухсот лет. Об этом дереве, слава Богу, мало кто знает. Почему так? Дело в том, что несколько лет назад рядом с этим уникальным представителем местной флоры сотрудники леспромхоза установили табличку с указанием почтенного возраста. И сразу местные вандалы набросились на беззащитное дерево. Стали вырезать на нем надписи, поджигать смолистую кору. Табличку догадались убрать, и вскоре многострадальную жертву оставили в покое. Но следы того нашествия еще видны на теле видавшего виды ветерана.
Высота сосны небольшая, но ствол мощный. Необычно толстые суховатые сучья образуют редкую, но раскидистую крону. Видно, что верхушку старого дерева не раз ломали бури-ураганы, но оно снова принималось расти вверх из боковых побегов.
Весь вид сосны напоминает узловатую, с деформированными больными суставами, большую и сильную руку старой вдовой крестьянки. Руку, которой пришлось много лет держать и косу, и топор вместо не вернувшегося с войны мужа.
Лес плохо переживает соседство с городом. Болеет, гибнет. Падают растущие рядом с реликтовой сосной молодые еще деревья, которые с рождения видели ее все такой же неизменно согбенной, но крепкой старухой. За свою долгую жизнь она пережила своих ровесников, а потом детей, внуков и правнуков.
Почему же древняя бабушка все еще жива?
Может быть, ее мать-сосна наделила одно свое семечко такой необычной силой, что оно проросло быстрее других, и сильный росток уже в первый год своей жизни укоренился шире и глубже своих собратьев? Или земля в этом месте хранит заветную жилку? Или просто: сосна живая, и бог дал ей душу? Сильную, непокорную?!
Частенько хожу к той сосне. Постою рядом, прикрыв глаза. Как будто сил от нее набираюсь.
Лечебная тишина
Наша городская жизнь урбанизирована. Мы постоянно куда-то спешим, некогда остановиться, передохнуть. Живем и не замечаем, что пространство вокруг нас наполнено постоянным шумом. Мы настолько привыкли к этому звуковому фону, что вечером, выключив телевизор, полагаем себя находящимися в тишине. Но стоит только закрыть глаза и попытаться приготовиться ко сну, как услышишь пролетающий самолет, проезжающую внизу по улице машину, неисправную автомобильную сигнализацию в соседнем дворе, работающий телевизор у соседа за стеной, музыку из квартиры где-то на шестом этаже, отголоски пьяной ссоры в пятиэтажке напротив, топот ребенка, живущего этажом выше, урчанье крана в квартире сбоку, шум работающего на кухне холодильника… Все это сливается в единый гул, который не дает полноценного отдыха человеку ни днем, ни ночью.
Как-то раз в летний выходной день, до нервного срыва уставший от постоянного шума, я пошел отдохнуть в лес за Ленинградское шоссе. Ушел подальше, спустился в низину. Гуляет ветер в вершинах деревьев, чирикают птички. Присел на упавшее дерево. Расслабиться бы, но!.. И здесь покоя нет! Мешают один за другим взлетающие в Шереметьево самолеты. Не успеет затихнуть гул от одного улетевшего лайнера, как с ревом поднимается следующий. Так и вернулся домой в состоянии сильнейшего психического стресса.
Но однажды мне все-таки довелось послушать настоящую тишину! Вот как это случилось.
В позднюю осеннюю пору, когда еще стоят последние деньки относительно теплой сухой погоды, брат взял меня с собой в дальний поход за клюквой. У туристов-клюквенников этот сложный, с пересадками маршрут отлажен. Отъезд – поездом дальнего следования с Ленинградского вокзала вечером после работы в пятницу. Первая ночь проходит в плацкартном вагоне, два дня с одной ночевкой прямо на месте отводятся на сбор клюквы на болоте, последняя (третья) ночь снова протекает в поезде. Возвращение домой – в понедельник рано утром. И сразу – на работу.
В группе нас было трое: сам брат, его почти уже взрослый сын и я. Наш вагон был необычный, прицепной. Ночью, пока мы спали, на железнодорожном узле в Бологое его отцепили, а потом проходящий навстречу поезд из Ленинграда подцепил его себе и повез в сторону Селигера. Здесь утром мы и сошли на станции Горовастица. Поезд стоял всего пару минут, за это время из него выгрузили привозной хлеб для местных жителей. Из прибывших пассажиров оказались только одни мы. Состав ушел, мы огляделись. Небольшой тихий полустанок, рядом –станционный поселок в несколько домов. Пассажирский рейс – один раз рано утром в одну сторону, а поздно вечером – в другую; вот и вся связь с цивилизацией. По железной дороге осуществляется продовольственное снабжение и (не приведи Бог!) оказывается медицинская помощь. Автомобильных дорог нет. Вокруг – лес, болота.
Дальше мы прошли вдоль железной дороги километр-другой и свернули в лес. Еще полчаса ходьбы, и мы вышли к большому болоту. Переобулись в высокие резиновые сапоги и пошли по трясине в направлении видного вдалеке острова, поросшего высокими деревьями и окруженного редким перелеском. Глубина болота – выше колен, как раз по размеру болотных сапог. Идем цепочкой: впереди брат, за ним его сын, потом я. Все с длинными шестами, проверяем дорогу впереди, остерегаемся глубокой ямы. Вожак ведет нас, выбирая, куда ступить следующим шагом. Он ориентируется на редкие кустики, деревца и на другие, одному ему известные признаки. Идти тяжело, ноги устают. Брат привычный к походам, сын его крепыш, а мне, типичному представителю офисного планктона, приходится тяжко.
Крупные редкие ягоды клюквы стали попадаться прямо на трясине болота. Но мы не останавливаемся, идем вперед.
Глубина постепенно стала уменьшаться, пошли трава, кочки, небольшие хилые деревца подлеска. И ягода пошла. Сначала понемногу, затем стали попадаться и удачные кочки, осыпанные красными капельками. И мы приступили к сбору.
Порядок наших действий следующий. Остановимся около дерева повыше, разгрузимся от поклажи, заметим место, разбредемся в разные стороны и начинаем сбор ягоды. На шею вешаем посудину для клюквы на веревочке, чтобы можно было работать двумя руками. У нас это стеклянные банки, у брата – обыкновенный походный котелок, предназначенный для приготовления пищи. Это его принципиальный выбор. Для настоящего туриста использование предметов по двойному назначению – главный признак профессионализма. Да и собирать в широкий котелок довольно удобно.
От своей поклажи мы далеко не уходим, у брата в одном из прошлых походов здесь чуть не украли все вещи местные жители.
Оберем ягоды вокруг стоянки, затем собираемся и переезжаем на новое место. Тут надо сказать, что сборщики клюквы измеряют свою добычу литрами.
– Сколько литров набрал? – спрашивают они друг друга.
Или по-другому:
– Сколько литров набирал в час?
Высокое значение этого показателя характеризует удачное место. Если клюква крупная, и попадаются кочки, усыпанные ягодой, то в час можно набрать до трех литров.
Урожай клюквы в том году оказался не очень удачным, но мало-помалу мы все-таки набрали по нескольку литров.
А тем временем короткий осенний день стал клониться к вечеру, начало темнеть. Пришло время позаботиться о ночлеге. Мы снова собрались и пошли на намеченный нашим предводителем остров, расположенный посреди бескрайнего болота. Выбрались на него уже в сумерках. Остров большой, поросший в основном старыми елями. Брат стал налаживать костер, племянник ловко поставил палатку, мне поручена заготовка дров. С этим проблем не было, кругом полно упавших засохших деревьев. Для меня, привыкшего к тому, что дрова в лес чуть ли не с собой привозить надо, это оказалось приятной неожиданностью. Только обустроились, как совсем стемнело. Но костер уже успел набрать силу, у брата график похода четко рассчитан.
Быстро сварился ужин. Воды для него набрали болотной, целебной. Не спеша, поели, мы с братом с устатку выпили по паре рюмок из припасенной фляжки. Поставили чайный котелок с той же болотной водой, но не на рогульки, а прямо на угли с краю костра. Откинулись, стали потягивать быстро поспевший чай. Поговорили о том-о сем и стали слушать ТИШИНУ. Костер прогорел и уже не трещит. Правда, еловые дрова – не березовые: прогорают быстро и горячих углей не оставляют. Приходится периодически подкидывать новую охапку толстых веток. Огонь недолго пошумит, захватывая новую добычу, и снова тихо… Хорошо!
Вот где-то далеко-далеко залаяла собачонка. Но звук доносится не от станционного поселка, а с другой стороны. Брат знает, что ближе пяти километров в этом направлении других селений нет. И вот этот дальний лай мы слышим запросто, потому что звук вдоль открытой ровной поверхности болота распространяется беспрепятственно. Стихла собачка, и опять – полная тишина. Никак не наслушаемся. А воздух чистый-чистый, никак не надышимся.
Долго так мы подремывали, поддерживая огонь. Прямо-таки напитывались тишиной. Наконец, умиротворенные, легли спать. Расстегнули два спальных мешка, соединили их вместе, упаковались и уснули.
Ночью я проснулся от холода. Все-таки втроем в двойном мешке тесновато, и с моего края наш составной спальник расстегнулся. Я осторожно потеснил спящих, обустроился потеплее, но уснуть сразу не получилось. Да и с непривычки сна на свежем воздухе почти выспался. Полежал, прислушался. Вокруг палатки много звуков. Шебуршится какая-то живность; это, наверное, мышки. Какой-то зверек побольше бегает, фырчит около костра. Звуков все больше, ночная жизнь набирает силу. Громко захлопали крылья прилетевшей птицы и стихли. Вдруг: «У-у-ух!» Жуткий крик прямо над головой. Сердце зашлось от страха. Кто это?! Филин? Я эту птицу раньше не встречал. Через некоторое время опять громкое: «У-у-ух!» И у костра шум тоже усиливается. «Хрр-Хрр!» – ворчит и топочет уже не зверек, а, пожалуй, вепрь страшный. Брат с племянником спят, а мне уже не до сна. Может быть, разбудить их?! А за тентом палатки наступает какой-то лесной разгул: «У-у-ух! Хр-р-Хр-р! У-у-ух! Хр-р-Хр-р!» И шорохи копошащихся мышек (или кто это там?) слышны уже со всех сторон, подбираются под самую нашу палатку. Ох и натерпелся я!
Но ночь заканчивается, стихают и шумы ночной жизни. Под утро я наконец-то уснул.
Утром брат посмеивался над моими ночными страхами. Когда-то и он впервые пережил такое.
– Была у меня похожая история, – рассказывает он. – Тоже, помню, проснулся ночью и слышу, что кто-то топочет. Да так громко! Ну, не меньше, чем медведь! Все ближе и ближе! Я не выдержал, взял топор, осторожно вылезаю из палатки… а это ежик! В ночной тишине каждый шорох гипертрофируется в грохот. И сегодняшние твои ночные ужасы на самом деле – ерунда. Это, поди, какие-нибудь мышки бегали.
Наверное, он был прав. Однако, осмотревшись, мы увидели невдалеке в мокрой траве уходящую с острова по краю болота строчку следов, видимо, кабаньих. Да и филин-то ухал настоящий!
Мы наскоро позавтракали и принялись опять собирать ягоды. Приноровились, стали находить клюкву покрупней в траве, а не на болотных кочках, как обычно. Худо-бедно, но набрали литров по десять-пятнадцать. Наши рюкзаки значительно потяжелели. День к концу. Пора закругляться и выбираться из болота.
Мы окончательно собрались и пошли на выход примерно в том же направлении, которым и пришли сюда. Немного, наверное, отклонились в сторону. Стало темнеть, а до спасительного леса еще далеко. Идти по глубокому болоту да еще с тяжелой ношей – вдвойне тяжелей. Мне, малотренированному, особенно трудно. Стало страшновато! Вот-вот упадет непроглядная тьма, и нам уже точно не выбраться. Неужели придется ночевать прямо в болотной топи? Но на последнем дыхании, уже почти в полной темноте мы все же успели ступить ногой на твердую сушу берега. Здесь немного передохнули, освободились от тяжелой обуви и пошли ночным лесом к недалекой железнодорожной насыпи. Через час-полтора были уже на станции, спустя еще пару часов прибыл наш поезд.
Обратный путь тоже непростой, но и он туристами отлажен. На вечернем Ленинградском поезде от остановки Горовастица добрались до узловой станции Бологое. Там пересели на другой пассажирский состав, следующий из Ленинграда в Крым. Он идет окольным путем без захода в Москву, и мы успели поспать несколько часов до того, как нас разбудил проводник. Посреди ночи мы вышли в Твери, тогда еще Калинине. Здесь в здании вокзала дождались первой электрички на Москву, на которой рано утром в понедельник прибыли домой. И без задержки отправились на работу!
С того похода прошло много лет. Много событий произошло в жизни. И брата вот уже нет с нами… Но та пронзительная тишина помнится до сих пор! Мне даже кажется, что накопленный тогда запас безмятежного умиротворения у костра еще до конца не израсходован и сейчас порой поддерживает меня в минуты стрессов. Накроюсь одеялом с головой, чтобы ничего не слышать, вспомню те страшные звуки «У-у-ух! Хр-р-Хр-р!», и сон быстро сморит…
Моя родина – ближайшее Подмосковье. Земля здесь малоплодородная, не черноземы. Климат холодный, зима длится семь месяцев в году. В этих непростых природных условиях прокормиться одним крестьянским трудом просто невозможно. Поэтому в наших местах традиционно развивались самые различные ремесла. Мастеровой труд в сочетании с тяжелыми земледельческими работами помогал жителям выжить в трудных условиях сельской жизни.
За века изобретательный русский народ придумал и наладил самые различные кустарные производства. Так в нашей местности большое распространение получил столярный промысел. Этим занимались оба моих деда еще в дореволюционные времена. Они на дому изготавливали нехитрую мебель на продажу: столы, стулья, гардеробы, буфеты. Как не воспользоваться наличием обширного потребительского рынка столицы, находящегося прямо под боком?
По сохранившимся семейным преданиям, столярную профессию деды освоили от своих родителей, моих прадедов. Может быть, родословная традиция тянется и дальше, вглубь веков.
Во всяком случае, мой отец в двадцатые годы прошлого века, будучи подростком, также перенял у своего родителя столярное мастерство. Уже после окончания четырех классов начальной школы он встал к верстаку. И в четырнадцать лет сумел полностью самостоятельно сделать первую значительную работу: раздвижной обеденный стол. Такое мебельное изделие одинаково хорошо подходило и для горницы большого сельского дома, и для столовой или гостиной комнаты в городской квартире состоятельного советского чиновника довоенного времени. А о молодом еще парнишке с этого момента уже можно было говорить как о состоявшемся столярном мастере.
Позже его профессиональная деятельность взрослого человека сложилась по-другому. Он прошел всю войну, с первого до последнего дня, и одним из немногих вернулся домой живым. Поэтому ему была уготована судьба стать небольшим сельским руководителем: председателем сельсовета, председателем колхоза. Хотя на самом деле он наравне с рядовыми колхозниками работал в поле: на посевной, на покосе и на жатве. Все по той же причине: мужиков на селе осталось – раз-два и обчелся!
Но столярное дело отец не забыл. Это ремесло здорово помогало ему в дальнейшей жизни. Особенно много отцу приходилось работать за верстаком в тяжелый период послевоенного времени. В колхозах, как известно, зарплату не платили. А семья была многодетная. Ей, как говорится, только давай! Вот и приходилось ее главе после рабочего дня в поле, на ферме, не покладая рук, ночами неустанно трудиться дома за верстаком, изготавливать домашнюю мебель, чтобы немного заработать, покрыть затраты на самые необходимые домашние нужды.
Это был изнуряющий режим труда. Завершая работу над очередным изделием, отец у столярного верстака проводил без сна две ночи подряд. Чтобы не уснуть, он выкуривал по две пачке самых дешевых папирос – «Север» или «Прибой».
К утру под верстаком скапливались древесные отходы от ночной работы отца: опилки, стружки, чурки. Поднимаясь еще затемно, наша мама использовала их для растопки домашней печи.
А у меня, младшего в семье, это было любимое место для детских утренних игр. Прежде всего меня интересовали обрезки, получающиеся при изготовлении шиповых замков, связывающих деревянные бруски в раму, предназначенную для дверцы шкафа или для крышки обеденного стола. Эти чурочки из-под рук столяра выходили ровными, прямоугольными. И из них можно было сделать какое-нибудь свое детское мебельное изделие. Например, с помощью молотка и самых маленьких гвоздиков «десятка» (размером десять миллиметров) сколотить коробочку. Фантазируя, можно каждый раз сконструировать что-нибудь новое: маленький стол, целый детский шкаф или даже грузовой автомобиль.
Увлекшись в ожидании маминого завтрака прямо здесь, в теплых мягких стружках под верстаком, я мог и заснуть.
И это неудивительно!
В последнее время в профессиональном медицинском сообществе растет признание терапевтических свойств аромата древесных стружек. Как выясняется, этот запах обладает целительной пользой для физического и психического благополучия. Он приносит массу оздоровительных результатов: улучшение настроения и когнитивных функций, снижение стресса и тревоги, противовоспалительные свойства, улучшение сна, антибактериальную и противовирусную активность.
И даже в парфюмерии (!) считается, что ароматы с нотой «Древесная стружка» обладают экзотическим интригующим характером.
Вот, оказывается, почему сладкий запах стружек сохранился в моей памяти как одно из самых ярких воспоминаний детства! И собранные в этом сборнике материалы я назвал «стружками», потому что они мне так же дороги, как те тёплые столярные стружки.
Родной дуб
Однажды весной мои дети под соседским дубом нашли в засохшей листве прошлогодний желудь с уже проклюнувшимся ростком. Мы его посадили на нашем огороде и заботливо огородили палочками-метками, чтобы ненароком не затоптать. В том же году дубок взошел и распустился тремя листочками.
Был он невысокий, тоненький, но если потрогать основание ростка, то вдруг почувствуешь сильный корень. Так бывает, когда найдёшь в лесу маленький, чуть показавший свою шапочку гриб и, выковыривая его, вдруг чувствуешь крепкую толстую ножку. Белый! От радости даже перехватывает дыхание.
Весной следующего года после схода снега мы наблюдали трогательную картину листопада вокруг нашего маленького дубочка. На три стороны от прутика ствола на земле ровно лежали три прошлогодних высохших маленьких дубовых листочка.
На этот раз наш дубок распустился уже пятью листиками. И точно такой же умиляющий листопад мы увидели еще через год.
Дуб рос медленно, крепчал. Через несколько лет его ствол уже не получалось охватить одной рукой. А в возрасте восьми лет он ростом перегнал моих сыновей.
Когда мы приходим на огород, мои ребята первым делом спешат к дубу. Как он, подрос? Кто знает, может быть, и он без них скучает, ждет своих родителей, подаривших ему жизнь?
Нет худа без добра
В воспоминаниях детства осталось удивительное многообразие птиц в наших местах. За ними можно было неустанно наблюдать с утра до вечера.
В полях среди колосьев снуют перепелки. Заметить их всегда очень трудно, можно только услышать, как они убегают из-под ног, шурша засыхающими колосьями. На травяных лугах вечером резко кричат птицы коростели, мы их звали дергачами. Этих и вовсе трудно увидеть. Вот, кажется, тихо подкрался к тому месту, где он только что неустанно скрипел свое «дерг-дерг», наклоняешься пониже, чтобы наконец рассмотреть скрытного хитреца… Нет, опять ускользнул незамеченным!
Высоко в небе висит, заливается жаворонок. Слышно его хорошо, а найти глазами маленькую точку в бескрайней синеве очень трудно. А уж если посчастливится застать взлет жаворонка со своего гнезда, скрытно обустроенного в траве прямо на земле, получишь незабываемое впечатление! Птица не такая уж крупная, но размах крыльев довольно внушительный. Неустанно работая, он вертикально поднимается все выше и выше, чтобы там начать свою песню.
На электрических проводах в цепочку рассаживаются стрижи и ласточки. Сейчас эти птицы очень похожи друг на друга. Но стоит им полететь, как вдруг они становятся совершенно различными. Стриж летает, своими серповидными крыльями выписывая в воздухе круги, а полет ласточки – быстрый, прерывистый, с постоянной резкой сменой направления. И голос у них совершенно разный. Стрижи кричат свое громкое «стрри-и-и-и-и», а ласточки негромко щебечут. Но охота у них похожая: они в воздухе широко открывают рот и таким образом ловят маленьких летающих насекомых.
В сады из ближнего перелеска прилетают небольшие синицы, снегири и птицы покрупнее – сороки, дрозды, свиристели. В огороде на вскопанной земле снуют скворцы, трясогузки, собирают жучков-червячков. Перед крыльцом дома суетятся воробьи. Над полями парят, выглядывая мышей, ястребы. Иной раз они наведываются и на подворья, норовя утащить оставленного без присмотра цыпленка.
В самом лесу ведет свой отсчет кукушка, гулким эхом отдается дробь дятла. В гуще листвы обитают клесты, поползни, выписывают невероятно разнообразные песенные трели синички, гаечки и прочая многочисленная мелочь. В оврагах весной соловьи поют свои любовные песни. В дальних полях человека вопросами встречают и вовсе диковинные хохлатые чибисы. Мимо нашего дома, расположенного на окраине поселка, возвращаются охотники с добычей. К их поясу привязаны утки, а иногда и редкая удача – серые тетерева или огромные иссиня-черные глухари с яркими красными пятнами на голове.
Такая природная идиллическая картина царила в ближайшем Подмосковье еще в шестидесятые годы двадцатого века. Но наступило время масштабной индустриализации. Этот неизбежный процесс развития человеческого общества, к сожалению, безжалостен к природе.
И к восьмидесятым годам ситуация резко изменилась. Повсеместно во множестве развелись надоедливые вороны и галки. Они огромными стаями кружили над жильем, вычищая все, что может пригодиться в пищу. И картина резко изменилась. Вороны своим количеством подавили остальных птиц. В лесах еще что-то сохранилось, а в полях, садах и на огородах стало пустынно. Пропали даже вездесущие воробьи, дружно собирающиеся в густых кустах в шумные чирикающие стайки.
Причин тому было несколько. И все они связаны с губительной деятельностью человека.
В городе в мусорных баках стало полным-полно продуктовых отходов, даже хлеб выбрасывается целыми батонами, и тут воронам – раздолье. На полях – обилие удобрений, пестицидов, от которых погибли насекомые, являющиеся кормом для мелких птиц. В разросшемся Наукограде получила мощное развитие микроэлектронная промышленность с таким обилием химикатов, что их вредное воздействие на людей и на природу просто ещё никто не удосужился изучить. А тут, пожалуй, присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева.
Какая птица вынесет все эти напасти? Противостоять губительному наступлению цивилизации по силам только во всем неприхотливым воронам. Вот они и стали главенствовать в птичьем мире.
Как будто в помощь им за короткий срок в ближнем Подмосковье было построено несколько крупных птицефабрик, на которых всегда можно было прокормиться целым полчищам этих ненасытных созданий.
Однако в человеческом обществе нет постоянства, наступили годы девяностые. Перестройка резко повернула в сторону разрушительных рыночных реформ, и наша жизнь кардинально поменялась. Поля не распахиваются, и удобрений тоже не стало. Остановились не только промышленные предприятия. Птицефабрики теперь тоже работают на десятую часть былой мощности, потому что население всей нашей страны переведено на «ножки Буша».
И – вот уж, воистину, нет худа без добра! – ситуация с оскудением мира пернатых начинает выправляться. Ворон становится значительно меньше. Зато во множестве появились скворцы, синички, трясогузки, воробьи. С каждым годом маленьких птичек все больше и больше. А этой весной увидел даже ласточку. Встретил пару сорок, тоже ставших редкостью в последнее время. А осенью в стае воробушков на глаза попалась и вовсе незнакомая мне птичка. Однажды увидел яркую разноцветную птаху в красной шапочке. Дома по картинке в энциклопедии определил, что это щегол. До чего же красивая птичка!
Еще одно обнадеживающее наблюдение. В детстве мы до черноты на зубах объедались полудикой ягодой иргой. Но в последние годы ее не удавалось даже попробовать: всю ягоду еще недозревшей склевывали голодные птицы. Но вот в этом году картина поменялась, и ирга успела вызреть. Наверное, потому что стало больше насекомых: жуков, кузнечиков, стрекоз, бабочек. Птичкам перепадает все больше мелкой живности, а растительная пища служит лишь вкусной приправой к более питательному для них корму.
Интересно открывать забавные подробности жизни птиц.
Вот, к примеру, маленькая зеленоватая пичуга (не знаю ее названия) кормится мелкими семенами трав, распускающихся метелками. Но высокая былинка, на которой они растут, очень тонкая. Птичке на ней не удержаться. Как быть? Птаха находит решение. С лету садясь на колышущуюся под ветром травяную ниву, она каждой лапкой захватывает сразу три-четыре стоящих рядом стебелька, таким образом успешно закрепляется и начинает клевать семена. Какой же мощный управляющий компьютер сидит в такой маленькой головке! Этот биологический процессор за долю секунды позволяет птичке скоординировать сложное раздельное движение двух маленьких цепких лапок. Ну не чудо ли это?!
Еще одна любопытная картина. На широко раскинувшем свои ветви дереве, стоящем на высоком берегу Истринского водохранилища, устроили свое гнездо ястребы. Птенцы как раз подросли, и родители с шумом выталкивали их наружу, чтобы те учились летать. Слабые еще малыши сделают наспех небольшой круг и возвращаются отдыхать. Но через некоторое время в доме опять поднимается беспорядочный гвалт. Это родители снова не дают детям расслабиться, заставляют их летать все больше и дальше.
Так непрестанно я созерцаю живой мир пернатых и не устаю славить его. Любуясь природой, отдыхаешь душой.
Старое дерево
В лесопарке за кинотеатром растет старая-престарая сосна. Ей, как утверждают специалисты, около двухсот лет. Об этом дереве, слава Богу, мало кто знает. Почему так? Дело в том, что несколько лет назад рядом с этим уникальным представителем местной флоры сотрудники леспромхоза установили табличку с указанием почтенного возраста. И сразу местные вандалы набросились на беззащитное дерево. Стали вырезать на нем надписи, поджигать смолистую кору. Табличку догадались убрать, и вскоре многострадальную жертву оставили в покое. Но следы того нашествия еще видны на теле видавшего виды ветерана.
Высота сосны небольшая, но ствол мощный. Необычно толстые суховатые сучья образуют редкую, но раскидистую крону. Видно, что верхушку старого дерева не раз ломали бури-ураганы, но оно снова принималось расти вверх из боковых побегов.
Весь вид сосны напоминает узловатую, с деформированными больными суставами, большую и сильную руку старой вдовой крестьянки. Руку, которой пришлось много лет держать и косу, и топор вместо не вернувшегося с войны мужа.
Лес плохо переживает соседство с городом. Болеет, гибнет. Падают растущие рядом с реликтовой сосной молодые еще деревья, которые с рождения видели ее все такой же неизменно согбенной, но крепкой старухой. За свою долгую жизнь она пережила своих ровесников, а потом детей, внуков и правнуков.
Почему же древняя бабушка все еще жива?
Может быть, ее мать-сосна наделила одно свое семечко такой необычной силой, что оно проросло быстрее других, и сильный росток уже в первый год своей жизни укоренился шире и глубже своих собратьев? Или земля в этом месте хранит заветную жилку? Или просто: сосна живая, и бог дал ей душу? Сильную, непокорную?!
Частенько хожу к той сосне. Постою рядом, прикрыв глаза. Как будто сил от нее набираюсь.
Лечебная тишина
Наша городская жизнь урбанизирована. Мы постоянно куда-то спешим, некогда остановиться, передохнуть. Живем и не замечаем, что пространство вокруг нас наполнено постоянным шумом. Мы настолько привыкли к этому звуковому фону, что вечером, выключив телевизор, полагаем себя находящимися в тишине. Но стоит только закрыть глаза и попытаться приготовиться ко сну, как услышишь пролетающий самолет, проезжающую внизу по улице машину, неисправную автомобильную сигнализацию в соседнем дворе, работающий телевизор у соседа за стеной, музыку из квартиры где-то на шестом этаже, отголоски пьяной ссоры в пятиэтажке напротив, топот ребенка, живущего этажом выше, урчанье крана в квартире сбоку, шум работающего на кухне холодильника… Все это сливается в единый гул, который не дает полноценного отдыха человеку ни днем, ни ночью.
Как-то раз в летний выходной день, до нервного срыва уставший от постоянного шума, я пошел отдохнуть в лес за Ленинградское шоссе. Ушел подальше, спустился в низину. Гуляет ветер в вершинах деревьев, чирикают птички. Присел на упавшее дерево. Расслабиться бы, но!.. И здесь покоя нет! Мешают один за другим взлетающие в Шереметьево самолеты. Не успеет затихнуть гул от одного улетевшего лайнера, как с ревом поднимается следующий. Так и вернулся домой в состоянии сильнейшего психического стресса.
Но однажды мне все-таки довелось послушать настоящую тишину! Вот как это случилось.
В позднюю осеннюю пору, когда еще стоят последние деньки относительно теплой сухой погоды, брат взял меня с собой в дальний поход за клюквой. У туристов-клюквенников этот сложный, с пересадками маршрут отлажен. Отъезд – поездом дальнего следования с Ленинградского вокзала вечером после работы в пятницу. Первая ночь проходит в плацкартном вагоне, два дня с одной ночевкой прямо на месте отводятся на сбор клюквы на болоте, последняя (третья) ночь снова протекает в поезде. Возвращение домой – в понедельник рано утром. И сразу – на работу.
В группе нас было трое: сам брат, его почти уже взрослый сын и я. Наш вагон был необычный, прицепной. Ночью, пока мы спали, на железнодорожном узле в Бологое его отцепили, а потом проходящий навстречу поезд из Ленинграда подцепил его себе и повез в сторону Селигера. Здесь утром мы и сошли на станции Горовастица. Поезд стоял всего пару минут, за это время из него выгрузили привозной хлеб для местных жителей. Из прибывших пассажиров оказались только одни мы. Состав ушел, мы огляделись. Небольшой тихий полустанок, рядом –станционный поселок в несколько домов. Пассажирский рейс – один раз рано утром в одну сторону, а поздно вечером – в другую; вот и вся связь с цивилизацией. По железной дороге осуществляется продовольственное снабжение и (не приведи Бог!) оказывается медицинская помощь. Автомобильных дорог нет. Вокруг – лес, болота.
Дальше мы прошли вдоль железной дороги километр-другой и свернули в лес. Еще полчаса ходьбы, и мы вышли к большому болоту. Переобулись в высокие резиновые сапоги и пошли по трясине в направлении видного вдалеке острова, поросшего высокими деревьями и окруженного редким перелеском. Глубина болота – выше колен, как раз по размеру болотных сапог. Идем цепочкой: впереди брат, за ним его сын, потом я. Все с длинными шестами, проверяем дорогу впереди, остерегаемся глубокой ямы. Вожак ведет нас, выбирая, куда ступить следующим шагом. Он ориентируется на редкие кустики, деревца и на другие, одному ему известные признаки. Идти тяжело, ноги устают. Брат привычный к походам, сын его крепыш, а мне, типичному представителю офисного планктона, приходится тяжко.
Крупные редкие ягоды клюквы стали попадаться прямо на трясине болота. Но мы не останавливаемся, идем вперед.
Глубина постепенно стала уменьшаться, пошли трава, кочки, небольшие хилые деревца подлеска. И ягода пошла. Сначала понемногу, затем стали попадаться и удачные кочки, осыпанные красными капельками. И мы приступили к сбору.
Порядок наших действий следующий. Остановимся около дерева повыше, разгрузимся от поклажи, заметим место, разбредемся в разные стороны и начинаем сбор ягоды. На шею вешаем посудину для клюквы на веревочке, чтобы можно было работать двумя руками. У нас это стеклянные банки, у брата – обыкновенный походный котелок, предназначенный для приготовления пищи. Это его принципиальный выбор. Для настоящего туриста использование предметов по двойному назначению – главный признак профессионализма. Да и собирать в широкий котелок довольно удобно.
От своей поклажи мы далеко не уходим, у брата в одном из прошлых походов здесь чуть не украли все вещи местные жители.
Оберем ягоды вокруг стоянки, затем собираемся и переезжаем на новое место. Тут надо сказать, что сборщики клюквы измеряют свою добычу литрами.
– Сколько литров набрал? – спрашивают они друг друга.
Или по-другому:
– Сколько литров набирал в час?
Высокое значение этого показателя характеризует удачное место. Если клюква крупная, и попадаются кочки, усыпанные ягодой, то в час можно набрать до трех литров.
Урожай клюквы в том году оказался не очень удачным, но мало-помалу мы все-таки набрали по нескольку литров.
А тем временем короткий осенний день стал клониться к вечеру, начало темнеть. Пришло время позаботиться о ночлеге. Мы снова собрались и пошли на намеченный нашим предводителем остров, расположенный посреди бескрайнего болота. Выбрались на него уже в сумерках. Остров большой, поросший в основном старыми елями. Брат стал налаживать костер, племянник ловко поставил палатку, мне поручена заготовка дров. С этим проблем не было, кругом полно упавших засохших деревьев. Для меня, привыкшего к тому, что дрова в лес чуть ли не с собой привозить надо, это оказалось приятной неожиданностью. Только обустроились, как совсем стемнело. Но костер уже успел набрать силу, у брата график похода четко рассчитан.
Быстро сварился ужин. Воды для него набрали болотной, целебной. Не спеша, поели, мы с братом с устатку выпили по паре рюмок из припасенной фляжки. Поставили чайный котелок с той же болотной водой, но не на рогульки, а прямо на угли с краю костра. Откинулись, стали потягивать быстро поспевший чай. Поговорили о том-о сем и стали слушать ТИШИНУ. Костер прогорел и уже не трещит. Правда, еловые дрова – не березовые: прогорают быстро и горячих углей не оставляют. Приходится периодически подкидывать новую охапку толстых веток. Огонь недолго пошумит, захватывая новую добычу, и снова тихо… Хорошо!
Вот где-то далеко-далеко залаяла собачонка. Но звук доносится не от станционного поселка, а с другой стороны. Брат знает, что ближе пяти километров в этом направлении других селений нет. И вот этот дальний лай мы слышим запросто, потому что звук вдоль открытой ровной поверхности болота распространяется беспрепятственно. Стихла собачка, и опять – полная тишина. Никак не наслушаемся. А воздух чистый-чистый, никак не надышимся.
Долго так мы подремывали, поддерживая огонь. Прямо-таки напитывались тишиной. Наконец, умиротворенные, легли спать. Расстегнули два спальных мешка, соединили их вместе, упаковались и уснули.
Ночью я проснулся от холода. Все-таки втроем в двойном мешке тесновато, и с моего края наш составной спальник расстегнулся. Я осторожно потеснил спящих, обустроился потеплее, но уснуть сразу не получилось. Да и с непривычки сна на свежем воздухе почти выспался. Полежал, прислушался. Вокруг палатки много звуков. Шебуршится какая-то живность; это, наверное, мышки. Какой-то зверек побольше бегает, фырчит около костра. Звуков все больше, ночная жизнь набирает силу. Громко захлопали крылья прилетевшей птицы и стихли. Вдруг: «У-у-ух!» Жуткий крик прямо над головой. Сердце зашлось от страха. Кто это?! Филин? Я эту птицу раньше не встречал. Через некоторое время опять громкое: «У-у-ух!» И у костра шум тоже усиливается. «Хрр-Хрр!» – ворчит и топочет уже не зверек, а, пожалуй, вепрь страшный. Брат с племянником спят, а мне уже не до сна. Может быть, разбудить их?! А за тентом палатки наступает какой-то лесной разгул: «У-у-ух! Хр-р-Хр-р! У-у-ух! Хр-р-Хр-р!» И шорохи копошащихся мышек (или кто это там?) слышны уже со всех сторон, подбираются под самую нашу палатку. Ох и натерпелся я!
Но ночь заканчивается, стихают и шумы ночной жизни. Под утро я наконец-то уснул.
Утром брат посмеивался над моими ночными страхами. Когда-то и он впервые пережил такое.
– Была у меня похожая история, – рассказывает он. – Тоже, помню, проснулся ночью и слышу, что кто-то топочет. Да так громко! Ну, не меньше, чем медведь! Все ближе и ближе! Я не выдержал, взял топор, осторожно вылезаю из палатки… а это ежик! В ночной тишине каждый шорох гипертрофируется в грохот. И сегодняшние твои ночные ужасы на самом деле – ерунда. Это, поди, какие-нибудь мышки бегали.
Наверное, он был прав. Однако, осмотревшись, мы увидели невдалеке в мокрой траве уходящую с острова по краю болота строчку следов, видимо, кабаньих. Да и филин-то ухал настоящий!
Мы наскоро позавтракали и принялись опять собирать ягоды. Приноровились, стали находить клюкву покрупней в траве, а не на болотных кочках, как обычно. Худо-бедно, но набрали литров по десять-пятнадцать. Наши рюкзаки значительно потяжелели. День к концу. Пора закругляться и выбираться из болота.
Мы окончательно собрались и пошли на выход примерно в том же направлении, которым и пришли сюда. Немного, наверное, отклонились в сторону. Стало темнеть, а до спасительного леса еще далеко. Идти по глубокому болоту да еще с тяжелой ношей – вдвойне тяжелей. Мне, малотренированному, особенно трудно. Стало страшновато! Вот-вот упадет непроглядная тьма, и нам уже точно не выбраться. Неужели придется ночевать прямо в болотной топи? Но на последнем дыхании, уже почти в полной темноте мы все же успели ступить ногой на твердую сушу берега. Здесь немного передохнули, освободились от тяжелой обуви и пошли ночным лесом к недалекой железнодорожной насыпи. Через час-полтора были уже на станции, спустя еще пару часов прибыл наш поезд.
Обратный путь тоже непростой, но и он туристами отлажен. На вечернем Ленинградском поезде от остановки Горовастица добрались до узловой станции Бологое. Там пересели на другой пассажирский состав, следующий из Ленинграда в Крым. Он идет окольным путем без захода в Москву, и мы успели поспать несколько часов до того, как нас разбудил проводник. Посреди ночи мы вышли в Твери, тогда еще Калинине. Здесь в здании вокзала дождались первой электрички на Москву, на которой рано утром в понедельник прибыли домой. И без задержки отправились на работу!
С того похода прошло много лет. Много событий произошло в жизни. И брата вот уже нет с нами… Но та пронзительная тишина помнится до сих пор! Мне даже кажется, что накопленный тогда запас безмятежного умиротворения у костра еще до конца не израсходован и сейчас порой поддерживает меня в минуты стрессов. Накроюсь одеялом с головой, чтобы ничего не слышать, вспомню те страшные звуки «У-у-ух! Хр-р-Хр-р!», и сон быстро сморит…

Валентина ЧЕРНИКОВА
Родилась в 1926 (!!!) году. После окончания 1-го Ленинградского медицинского института была направлена молодым специалистом для работы на Крайний Север, где и проработала 35 лет. Заслуженный врач РФ, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Встречи с замечательными людьми – геологами, строителями, дорожниками, коллегами-врачами, аборигенами, любовь к природе оставили интересные и неизгладимые воспоминания, хотелось не один раз взяться за перо. Но писать начала поздно, выйдя на пенсию и закончив свою профессиональную карьеру. Первый рассказ воспоминаний о войне был напечатан в 2016 г. в вестнике «Невские берега». А в 2020 г. стала призером в городском литературном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в ВОВ. Рассказ «Далекое и близкое» включен в книгу «Бессмертный полк Ленинграда».
Родилась в 1926 (!!!) году. После окончания 1-го Ленинградского медицинского института была направлена молодым специалистом для работы на Крайний Север, где и проработала 35 лет. Заслуженный врач РФ, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Встречи с замечательными людьми – геологами, строителями, дорожниками, коллегами-врачами, аборигенами, любовь к природе оставили интересные и неизгладимые воспоминания, хотелось не один раз взяться за перо. Но писать начала поздно, выйдя на пенсию и закончив свою профессиональную карьеру. Первый рассказ воспоминаний о войне был напечатан в 2016 г. в вестнике «Невские берега». А в 2020 г. стала призером в городском литературном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в ВОВ. Рассказ «Далекое и близкое» включен в книгу «Бессмертный полк Ленинграда».
ВСТРЕЧА НА ФРОНТЕ
В нашей семье участниками ВОВ были мой отец – Башмаков Сергей Гаврилович, отец моего мужа – Черников Никита Михайлович и старший брат мужа – Володя Черников.
Черников Никита Михайлович, 1902 года рождения. До войны жил и работал в торговой сети п. Лиски, крупного железнодорожного узла. В семье было трое детей: сын Владимир, 1924 г.р., дочь Мария, 1923 г.р. и сын Алексей, 1928 года рождения. В молодости Никита Михайлович служил на флоте. Когда началась ВОВ, в июне 1941 года был мобилизован и всю войну прослужил на флоте.
С первого дня службы и до победы он прошёл войну старшиной торпедного катера. Его путь отмечен по всем рекам России до Сталинграда и рекам Европы до Берлина. Принимал участие в тяжёлых боях, вплоть до рукопашных.
За боевые заслуги награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией».
В августе 1941 года Никита Михайлович был мобилизован, и Володя, его старший сын, который работал токарем в ремонтном цехе Лискинского железнодорожного узла, ушёл на фронт добровольцем, несмотря на то, что имел бронь. Служил в пехоте Воронежского фронта и участвовал в тяжёлых оборонительных боях фронта, в наступательных боях на подступах к Сталинграду.
В январе 1943 года полк Володи был переброшен в Сталинград, где шли тяжёлые, кровопролитные бои по его освобождению. И в пылающем огнём Сталинграде произошло событие, которое не может не волновать.
Торпедный катер, на котором служил Никита Михайлович, стоял на берегу Волги и принимал участие в обороне города. В один из дней он был направлен в центр города с донесением в штаб армии. Поднявшись с берега на прибрежную улицу, Никита Михайлович увидел шагающий пехотный полк. Усталые солдаты шли вразброд, не обращая внимания на горящие вокруг здания, перестрелку, грохот взрывов. И вдруг он увидел Володю, который шёл, как все его товарищи, очень тяжело.
Никита Михайлович закричал, Володя услышал родной голос отца. Остановились все солдаты, которые шли рядом с сыном. Бросились друг к другу, обнялись. Встреча не обошлась без слёз.
Но фронтовая жизнь неумолима и живёт по своим законам. Полк продолжал движение к месту дислокации. Никита Михайлович шёл рядом с сыном и из его сбивчивого рассказа понял, что после тяжёлых боёв под Сталинградом полк без отдыха, с боями, почти двое суток идёт в город. Усталые солдаты еле держались на ногах.
Сколько мог, шёл рядом с полком Никита Михайлович, который сам немало пережил на войне.
Комок в горле, набежавшие слёзы он пытался скрыть от сына, но жалость к солдатам пехоты сжимала сердце. Подошло время прощаться. Никита Михайлович обнял сына, прижал к своей груди, гадая, свидятся ли они еще.
Он чувствовал себя счастливым, что в пекле боёв неожиданно увидел родного человека, что он жив, но чувство тревоги за сына не покидало его. Володя в Сталинградской битве через несколько дней был тяжело ранен в грудную клетку с повреждением лёгкого. Пролежал несколько месяцев в разных госпиталях был комиссован из армии как инвалид. Но, несмотря на проведённые операции, состояние его здоровья прогрессивно ухудшалось. Он вернулся домой в Лиски к маме и через 2 месяца умер от последствий ранения. О ранении сына и его смерти отец узнал значительно позднее. Так оборвалась жизнь одного из многих защитников нашей родины.
Память о встрече отца и сына в Сталинграде всегда волнует. Это не только память о редкой неожиданности на войне, но и память обо всех солдатах, отдавших жизнь за нас, живущих не только в России, но и во всём мире. Праздник дня Победы является самым великим, и спасибо Бессмертным полкам, которые напоминают миру о погибших в ВОВ и необходимости беречь мир.
В нашей семье участниками ВОВ были мой отец – Башмаков Сергей Гаврилович, отец моего мужа – Черников Никита Михайлович и старший брат мужа – Володя Черников.
Черников Никита Михайлович, 1902 года рождения. До войны жил и работал в торговой сети п. Лиски, крупного железнодорожного узла. В семье было трое детей: сын Владимир, 1924 г.р., дочь Мария, 1923 г.р. и сын Алексей, 1928 года рождения. В молодости Никита Михайлович служил на флоте. Когда началась ВОВ, в июне 1941 года был мобилизован и всю войну прослужил на флоте.
С первого дня службы и до победы он прошёл войну старшиной торпедного катера. Его путь отмечен по всем рекам России до Сталинграда и рекам Европы до Берлина. Принимал участие в тяжёлых боях, вплоть до рукопашных.
За боевые заслуги награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией».
В августе 1941 года Никита Михайлович был мобилизован, и Володя, его старший сын, который работал токарем в ремонтном цехе Лискинского железнодорожного узла, ушёл на фронт добровольцем, несмотря на то, что имел бронь. Служил в пехоте Воронежского фронта и участвовал в тяжёлых оборонительных боях фронта, в наступательных боях на подступах к Сталинграду.
В январе 1943 года полк Володи был переброшен в Сталинград, где шли тяжёлые, кровопролитные бои по его освобождению. И в пылающем огнём Сталинграде произошло событие, которое не может не волновать.
Торпедный катер, на котором служил Никита Михайлович, стоял на берегу Волги и принимал участие в обороне города. В один из дней он был направлен в центр города с донесением в штаб армии. Поднявшись с берега на прибрежную улицу, Никита Михайлович увидел шагающий пехотный полк. Усталые солдаты шли вразброд, не обращая внимания на горящие вокруг здания, перестрелку, грохот взрывов. И вдруг он увидел Володю, который шёл, как все его товарищи, очень тяжело.
Никита Михайлович закричал, Володя услышал родной голос отца. Остановились все солдаты, которые шли рядом с сыном. Бросились друг к другу, обнялись. Встреча не обошлась без слёз.
Но фронтовая жизнь неумолима и живёт по своим законам. Полк продолжал движение к месту дислокации. Никита Михайлович шёл рядом с сыном и из его сбивчивого рассказа понял, что после тяжёлых боёв под Сталинградом полк без отдыха, с боями, почти двое суток идёт в город. Усталые солдаты еле держались на ногах.
Сколько мог, шёл рядом с полком Никита Михайлович, который сам немало пережил на войне.
Комок в горле, набежавшие слёзы он пытался скрыть от сына, но жалость к солдатам пехоты сжимала сердце. Подошло время прощаться. Никита Михайлович обнял сына, прижал к своей груди, гадая, свидятся ли они еще.
Он чувствовал себя счастливым, что в пекле боёв неожиданно увидел родного человека, что он жив, но чувство тревоги за сына не покидало его. Володя в Сталинградской битве через несколько дней был тяжело ранен в грудную клетку с повреждением лёгкого. Пролежал несколько месяцев в разных госпиталях был комиссован из армии как инвалид. Но, несмотря на проведённые операции, состояние его здоровья прогрессивно ухудшалось. Он вернулся домой в Лиски к маме и через 2 месяца умер от последствий ранения. О ранении сына и его смерти отец узнал значительно позднее. Так оборвалась жизнь одного из многих защитников нашей родины.
Память о встрече отца и сына в Сталинграде всегда волнует. Это не только память о редкой неожиданности на войне, но и память обо всех солдатах, отдавших жизнь за нас, живущих не только в России, но и во всём мире. Праздник дня Победы является самым великим, и спасибо Бессмертным полкам, которые напоминают миру о погибших в ВОВ и необходимости беречь мир.
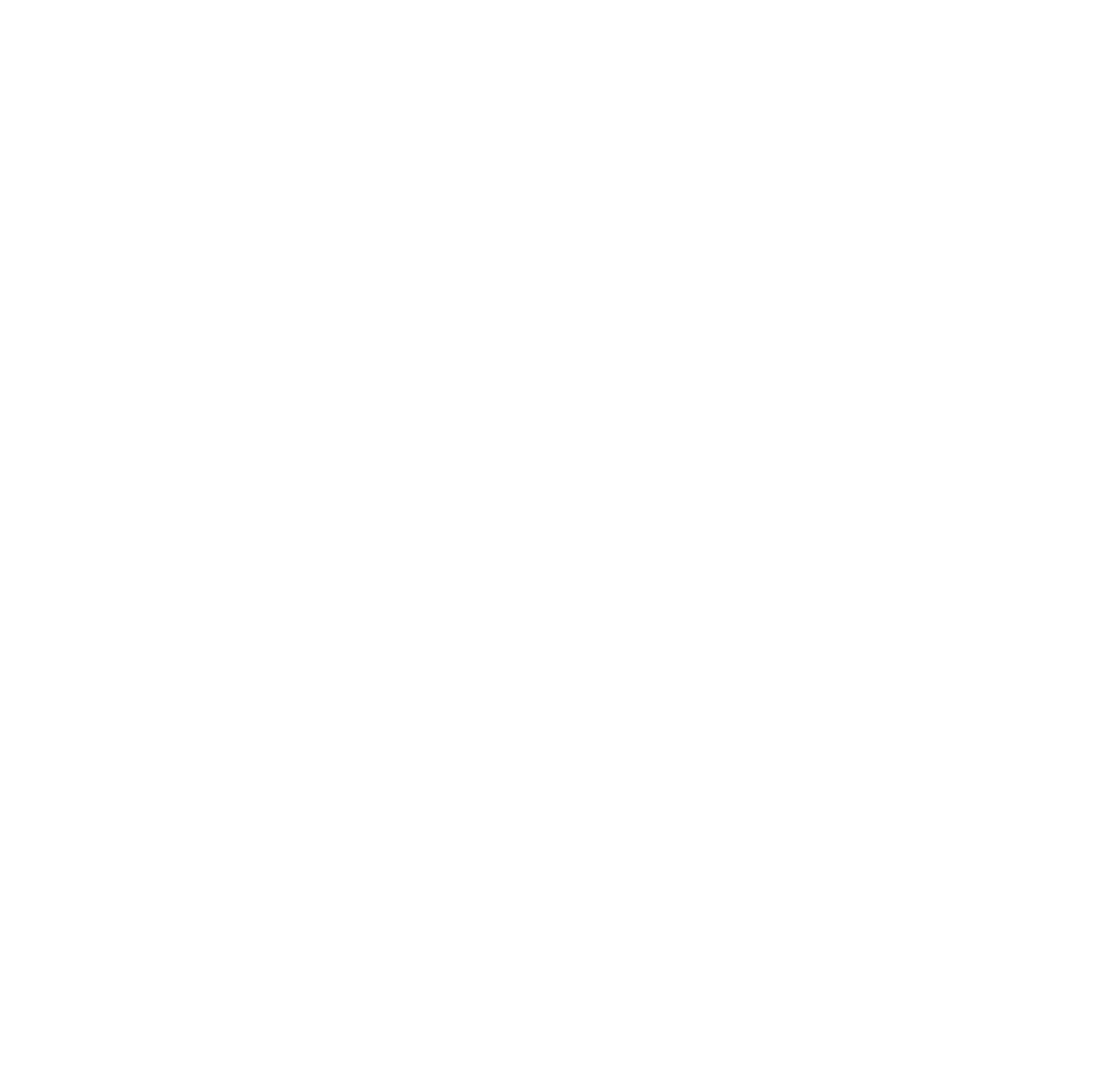
Дмитрий ВОСТРЯКОВ
Родился 7 января 1972 года в г. Балахна Горьковской (ныне Нижегородской) области. В настоящее время живу в г. Коломна Московской области. Образование высшее техническое. Работаю инженером по подготовке производства. В свободное от работы время увлекаюсь литературным творчеством, туризмом, садоводством. Семейное положение – разведён. Опубликовано два моих рассказа в альманахе «Рассказ-25» издательства «Новое слово».
Родился 7 января 1972 года в г. Балахна Горьковской (ныне Нижегородской) области. В настоящее время живу в г. Коломна Московской области. Образование высшее техническое. Работаю инженером по подготовке производства. В свободное от работы время увлекаюсь литературным творчеством, туризмом, садоводством. Семейное положение – разведён. Опубликовано два моих рассказа в альманахе «Рассказ-25» издательства «Новое слово».
ЗАЧЁТ
Октябрь 1995 года. По стране твёрдой поступью идёт капитализм. Как грибы после дождя, вырастают казино, ночные клубы, рестораны. Периодически происходят кровавые разборки «новых хозяев жизни». То тут, то там на стихийных рынках простой народ пытается продать своё добро, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Часть предприятий уже закрылась, часть работает, но не выплачивает по несколько месяцев своим сотрудникам заработную плату. Студент-второкурсник заочного отделения одного из московских ВУЗов из-за хронического безденежья рассчитывается с Коломенским тепловозостроительным заводом и устраивается на работу в Москву, в локомотивное депо, слесарем по ремонту подвижного состава по графику: три рабочих дня с 8 до 20 часов, три выходных дня с неплохим социальным пакетом – своевременная выплата заработной платы, выплата тринадцатой зарплаты, через год выплата выслуги лет, бесплатный проезд на электропоезде до места проживания и обратно, бесплатный проезд раз в год по железной дороге к месту проведения отпуска и обратно, а так же медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике. По меркам того времени это был действительно очень хороший вариант трудоустройства, да ещё и с большим количеством свободного времени, которое использовалось весьма продуктивно: заданные во время сессии в институте задания нужно было выполнять, а набранные за время работы на заводе долги – погашать. А чтобы это выполнять быстрее и менее болезненно, приходилось в выходные дни торговать на рынке в Москве сельхозпродуктами со своего дачного участка, а также сельхозпродуктами с открытых с октября совхозных полей. Благо дело, что октябрь выдался теплым и сухим, что бывает крайне редко в средней полосе России. В один из выпавших выходных дней студент-заочник, выспавшись после трудовой трёхдневки, идёт привычным маршрутом на открытое совхозное картофельное поле, чтобы набрать мешок картошки для последующей продажи на рынке в Москве. Но перед его глазами предстаёт неожиданная картина: на окраине поля стоит УАЗ соответствующей раскраски с мигалкой, в котором бдительно несут службу доблестные сотрудники правоохранительных органов. И нет на поле ни единого человека. Наш герой не может понять, что же всё-таки случилось: неужели в последний момент передумали открывать поле, и неубранные комбайнами остатки урожая будут ждать мороза в земле. Дабы не смущать сотрудников правоохранительных органов своим нежелательным присутствием, студент, не доходя пары сотен метров до УАЗика, сворачивает влево к ближайшему небольшому озеру, находящемуся в длинном не слишком глубоком овраге. И здесь перед его глазами предстаёт другая картина, от которой хочется не то плакать, не то смеяться: человек двадцать, кто сидя, а кто лёжа, оккупировали берег озера со стороны картофельного поля и внимательно наблюдают за происходящим, как из окопа, чуть-чуть высовывая свои головы из оврага. Рядом с тружениками полей находились сумки-тележки. Кое у кого около самой воды стояли мотоциклы. Студент, пополнив ряды «картофельных партизан», прилёг недалеко от худощавого мужичка лет пятидесяти пяти, внимательно наблюдавшего за обстановкой на поле и комментировавшего происходящее русским народным языком. Примерно через час, послышался звук заводящегося автомобильного двигателя. УАЗ вздрогнул, тронулся и, сделав круг почёта по пустынному картофельному полю, удалился. «Пора!» – громко сказал мужичок. «Партизанский отряд» высыпал из своего укрытия на поле, расчехлил лопаты и стал копать с утроенной энергией оставшуюся после уборки комбайном картошку. Через некоторое время народ стал покидать поле с мешками, наполненными картошкой, кто пешком, катя за собой сумку-тележку с урожаем, а кто на мотоцикле с привязанным к багажнику ценным грузом. Студент, наполнив урожаем джутовый мешок, привязал его к складной тележке и покатил в сторону дома, до которого оставалось идти километра четыре. Дойдя до места назначения, добытчик занёс мешок картошки домой, немного отдохнул, пообедал и стал готовиться к зачёту по теории линейных электрических цепей, который должен был состояться завтра во второй половине дня.
Наутро студент и его отец, находившийся в отпуске, с мешком картошки на складной тележке и наполненным в погребе рюкзаком с морковью и парой десятков головок чеснока, на трамвае доехали до железнодорожной станции Голутвин. Вскоре подъехала электричка, и пассажиры, со своим скарбом пройдя в вагон, начали двухчасовое путешествие в столицу нашей Родины. Очень повезло с ревизорами – их в тот день не было ни туда, ни обратно, что позволило сэкономить некоторую сумму денег (турникеты в те времена ещё не были установлены на железнодорожных станциях). В вагоне помимо двух торговцев сельхозпродукцией ехали ещё шесть человек с теми же целями и аналогичными товарами. За повторением учебного материала и разговорами время пролетело незаметно, и вот уже показались первые московские многоэтажки района Жулебино. Решили ехать до конечной станции Москва-Пассажирская-Казанская, дабы оттуда было ближе добираться до заветного стихийного рынка около станции метро «Аэропорт». Примерно через полчаса двое торговцев с поклажей вышли из метро на площадь Эрнста Тельмана, на которой располагался стихийный рынок сельхозпродукции. Торговля вовсю кипела. Продавцы с разных городов Московской и прилегающих к ней областей, уже неплохо знавшие друг друга, расположились по обеим сторонам тротуара, ведущего к памятнику вождю немецкого пролетариата. Нашим героям тоже нашлось место среди кормильцев многомиллионного мегаполиса. Разложив товар и достав безмен, студент и его родитель начали свой трудовой выходной. Реализация товара шла неплохо. Особенно быстро разобрали чеснок. «Надо было три гряды сажать!» – ворчал отец, реализовав очередную головку чеснока. Спустя три часа две трети товара было уже продано. Студент оставил своего родителя реализовывать остатки продукции, а сам пошёл в институт на Часовую улицу сдавать зачёт по довольно-таки сложному предмету. Чувствовалась некоторая нервозность, но он успокаивал себя тем, что более-менее успел подготовиться к столь серьёзному мероприятию и этот зачёт просто обязан сдать.
Зайдя в аудиторию, получатель знаний увидел в полном составе свою группу, ожидавшую преподавателя. Народ уткнулся в конспекты и учебники в надежде запомнить ещё немного ценной и полезной информации. Минут через пять появился преподаватель – невысокого роста, седовласый мужичок лет семидесяти в костюме тёмно-коричневого цвета. Оглядев присутствующих строгим взглядом и хитро улыбнувшись, Сергей Александрович произнёс: «Ну что, разбойнички, начнём! Опять ничего не выучили!?»
Зачёт длился больше двух часов. Профессор внимательно слушал ответы подопечных на свои вопросы, разжёвывал непонятливым все тонкости своего замысловатого предмета и никого не завалил в итоге. Перед окончанием зачёта была небольшая лекция о продлении срока службы автомобильных аккумуляторов, что вызвало неподдельный интерес у студентов, владевших автомобилями. В районе половины шестого вечера процесс был завершён, студенты на радостях пошли пить пиво в сквер у кинотеатра «Баку» и вскоре разъехались по домам. Наш герой пошёл на площадь Тельмана, где его уже ждал распродавший весь урожай, утомлённый отец, сидевший на лавочке. В ногах у него стоял рюкзак, в который была убрана складная тележка и джутовый мешок. Услышав долгожданную короткую фразу из уст сына «Сдал», он улыбнулся и произнёс: «Ну, слава Богу!».
Спустя пять минут двое участников рыночного процесса спустились в метро и поехали в обратном направлении. Вечерняя электричка была битком набита народом, возвращавшимся с работы домой. Некоторые из пассажиров, успевших занять свободные места, выпивали и обсуждали между собой вчерашний кулачный бой ревизора Валентины Карловны – богатырского телосложения женщины – с Михалычем – неисправимым безбилетником и редким хамом, – кое-кто дремал, пытаясь восполнить недостаток ночного сна. Наши герои так же успели занять сидячие места и, жуя купленные на вокзале чебуреки, рассказывали друг другу о событиях, произошедших с ними во второй половине дня. Вскоре по вагону пошли представители поездной торговли. Сначала прошёл торговец газетами и журналами. Минут через десять – торговка пирожками со всевозможными начинками. А вслед за ней – местная достопримечательность, наполовину сумасшедшая баба Маня – старушка, в видавшем виды тёмно-синем пальтишке, лет восьмидесяти. Войдя в вагон и внимательно осмотрев пассажиров, бабушка с интонацией предыдущей торговки пирожками бойко затараторила «Ган..ны, ган..ны, ган..ны (Презервативы, презервативы, презервативы!)».
Народ грохнул оглушительным хохотом!
И продолжал ещё долго смеяться после того, как баба Маня удалилась в соседний вагон. За полчаса до прибытия электрички на конечную станцию в вагон вошёл местный бард и запел так популярную в те годы песню «Как упоительны в России вечера». Кто-то из пассажиров, хорошо принявших горячительного, подхватил этот хит. Кто-то засмеялся! И ведь действительно упоительны в России вечера: за весь день можно столько всего успеть, а вечером в хорошей компании послушать замечательную песню, подпеть немного её слова, узнать новости разнополого боксёрского поединка и посмеяться от души над реализацией противозачаточных средств!
Октябрь 1995 года. По стране твёрдой поступью идёт капитализм. Как грибы после дождя, вырастают казино, ночные клубы, рестораны. Периодически происходят кровавые разборки «новых хозяев жизни». То тут, то там на стихийных рынках простой народ пытается продать своё добро, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Часть предприятий уже закрылась, часть работает, но не выплачивает по несколько месяцев своим сотрудникам заработную плату. Студент-второкурсник заочного отделения одного из московских ВУЗов из-за хронического безденежья рассчитывается с Коломенским тепловозостроительным заводом и устраивается на работу в Москву, в локомотивное депо, слесарем по ремонту подвижного состава по графику: три рабочих дня с 8 до 20 часов, три выходных дня с неплохим социальным пакетом – своевременная выплата заработной платы, выплата тринадцатой зарплаты, через год выплата выслуги лет, бесплатный проезд на электропоезде до места проживания и обратно, бесплатный проезд раз в год по железной дороге к месту проведения отпуска и обратно, а так же медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике. По меркам того времени это был действительно очень хороший вариант трудоустройства, да ещё и с большим количеством свободного времени, которое использовалось весьма продуктивно: заданные во время сессии в институте задания нужно было выполнять, а набранные за время работы на заводе долги – погашать. А чтобы это выполнять быстрее и менее болезненно, приходилось в выходные дни торговать на рынке в Москве сельхозпродуктами со своего дачного участка, а также сельхозпродуктами с открытых с октября совхозных полей. Благо дело, что октябрь выдался теплым и сухим, что бывает крайне редко в средней полосе России. В один из выпавших выходных дней студент-заочник, выспавшись после трудовой трёхдневки, идёт привычным маршрутом на открытое совхозное картофельное поле, чтобы набрать мешок картошки для последующей продажи на рынке в Москве. Но перед его глазами предстаёт неожиданная картина: на окраине поля стоит УАЗ соответствующей раскраски с мигалкой, в котором бдительно несут службу доблестные сотрудники правоохранительных органов. И нет на поле ни единого человека. Наш герой не может понять, что же всё-таки случилось: неужели в последний момент передумали открывать поле, и неубранные комбайнами остатки урожая будут ждать мороза в земле. Дабы не смущать сотрудников правоохранительных органов своим нежелательным присутствием, студент, не доходя пары сотен метров до УАЗика, сворачивает влево к ближайшему небольшому озеру, находящемуся в длинном не слишком глубоком овраге. И здесь перед его глазами предстаёт другая картина, от которой хочется не то плакать, не то смеяться: человек двадцать, кто сидя, а кто лёжа, оккупировали берег озера со стороны картофельного поля и внимательно наблюдают за происходящим, как из окопа, чуть-чуть высовывая свои головы из оврага. Рядом с тружениками полей находились сумки-тележки. Кое у кого около самой воды стояли мотоциклы. Студент, пополнив ряды «картофельных партизан», прилёг недалеко от худощавого мужичка лет пятидесяти пяти, внимательно наблюдавшего за обстановкой на поле и комментировавшего происходящее русским народным языком. Примерно через час, послышался звук заводящегося автомобильного двигателя. УАЗ вздрогнул, тронулся и, сделав круг почёта по пустынному картофельному полю, удалился. «Пора!» – громко сказал мужичок. «Партизанский отряд» высыпал из своего укрытия на поле, расчехлил лопаты и стал копать с утроенной энергией оставшуюся после уборки комбайном картошку. Через некоторое время народ стал покидать поле с мешками, наполненными картошкой, кто пешком, катя за собой сумку-тележку с урожаем, а кто на мотоцикле с привязанным к багажнику ценным грузом. Студент, наполнив урожаем джутовый мешок, привязал его к складной тележке и покатил в сторону дома, до которого оставалось идти километра четыре. Дойдя до места назначения, добытчик занёс мешок картошки домой, немного отдохнул, пообедал и стал готовиться к зачёту по теории линейных электрических цепей, который должен был состояться завтра во второй половине дня.
Наутро студент и его отец, находившийся в отпуске, с мешком картошки на складной тележке и наполненным в погребе рюкзаком с морковью и парой десятков головок чеснока, на трамвае доехали до железнодорожной станции Голутвин. Вскоре подъехала электричка, и пассажиры, со своим скарбом пройдя в вагон, начали двухчасовое путешествие в столицу нашей Родины. Очень повезло с ревизорами – их в тот день не было ни туда, ни обратно, что позволило сэкономить некоторую сумму денег (турникеты в те времена ещё не были установлены на железнодорожных станциях). В вагоне помимо двух торговцев сельхозпродукцией ехали ещё шесть человек с теми же целями и аналогичными товарами. За повторением учебного материала и разговорами время пролетело незаметно, и вот уже показались первые московские многоэтажки района Жулебино. Решили ехать до конечной станции Москва-Пассажирская-Казанская, дабы оттуда было ближе добираться до заветного стихийного рынка около станции метро «Аэропорт». Примерно через полчаса двое торговцев с поклажей вышли из метро на площадь Эрнста Тельмана, на которой располагался стихийный рынок сельхозпродукции. Торговля вовсю кипела. Продавцы с разных городов Московской и прилегающих к ней областей, уже неплохо знавшие друг друга, расположились по обеим сторонам тротуара, ведущего к памятнику вождю немецкого пролетариата. Нашим героям тоже нашлось место среди кормильцев многомиллионного мегаполиса. Разложив товар и достав безмен, студент и его родитель начали свой трудовой выходной. Реализация товара шла неплохо. Особенно быстро разобрали чеснок. «Надо было три гряды сажать!» – ворчал отец, реализовав очередную головку чеснока. Спустя три часа две трети товара было уже продано. Студент оставил своего родителя реализовывать остатки продукции, а сам пошёл в институт на Часовую улицу сдавать зачёт по довольно-таки сложному предмету. Чувствовалась некоторая нервозность, но он успокаивал себя тем, что более-менее успел подготовиться к столь серьёзному мероприятию и этот зачёт просто обязан сдать.
Зайдя в аудиторию, получатель знаний увидел в полном составе свою группу, ожидавшую преподавателя. Народ уткнулся в конспекты и учебники в надежде запомнить ещё немного ценной и полезной информации. Минут через пять появился преподаватель – невысокого роста, седовласый мужичок лет семидесяти в костюме тёмно-коричневого цвета. Оглядев присутствующих строгим взглядом и хитро улыбнувшись, Сергей Александрович произнёс: «Ну что, разбойнички, начнём! Опять ничего не выучили!?»
Зачёт длился больше двух часов. Профессор внимательно слушал ответы подопечных на свои вопросы, разжёвывал непонятливым все тонкости своего замысловатого предмета и никого не завалил в итоге. Перед окончанием зачёта была небольшая лекция о продлении срока службы автомобильных аккумуляторов, что вызвало неподдельный интерес у студентов, владевших автомобилями. В районе половины шестого вечера процесс был завершён, студенты на радостях пошли пить пиво в сквер у кинотеатра «Баку» и вскоре разъехались по домам. Наш герой пошёл на площадь Тельмана, где его уже ждал распродавший весь урожай, утомлённый отец, сидевший на лавочке. В ногах у него стоял рюкзак, в который была убрана складная тележка и джутовый мешок. Услышав долгожданную короткую фразу из уст сына «Сдал», он улыбнулся и произнёс: «Ну, слава Богу!».
Спустя пять минут двое участников рыночного процесса спустились в метро и поехали в обратном направлении. Вечерняя электричка была битком набита народом, возвращавшимся с работы домой. Некоторые из пассажиров, успевших занять свободные места, выпивали и обсуждали между собой вчерашний кулачный бой ревизора Валентины Карловны – богатырского телосложения женщины – с Михалычем – неисправимым безбилетником и редким хамом, – кое-кто дремал, пытаясь восполнить недостаток ночного сна. Наши герои так же успели занять сидячие места и, жуя купленные на вокзале чебуреки, рассказывали друг другу о событиях, произошедших с ними во второй половине дня. Вскоре по вагону пошли представители поездной торговли. Сначала прошёл торговец газетами и журналами. Минут через десять – торговка пирожками со всевозможными начинками. А вслед за ней – местная достопримечательность, наполовину сумасшедшая баба Маня – старушка, в видавшем виды тёмно-синем пальтишке, лет восьмидесяти. Войдя в вагон и внимательно осмотрев пассажиров, бабушка с интонацией предыдущей торговки пирожками бойко затараторила «Ган..ны, ган..ны, ган..ны (Презервативы, презервативы, презервативы!)».
Народ грохнул оглушительным хохотом!
И продолжал ещё долго смеяться после того, как баба Маня удалилась в соседний вагон. За полчаса до прибытия электрички на конечную станцию в вагон вошёл местный бард и запел так популярную в те годы песню «Как упоительны в России вечера». Кто-то из пассажиров, хорошо принявших горячительного, подхватил этот хит. Кто-то засмеялся! И ведь действительно упоительны в России вечера: за весь день можно столько всего успеть, а вечером в хорошей компании послушать замечательную песню, подпеть немного её слова, узнать новости разнополого боксёрского поединка и посмеяться от души над реализацией противозачаточных средств!
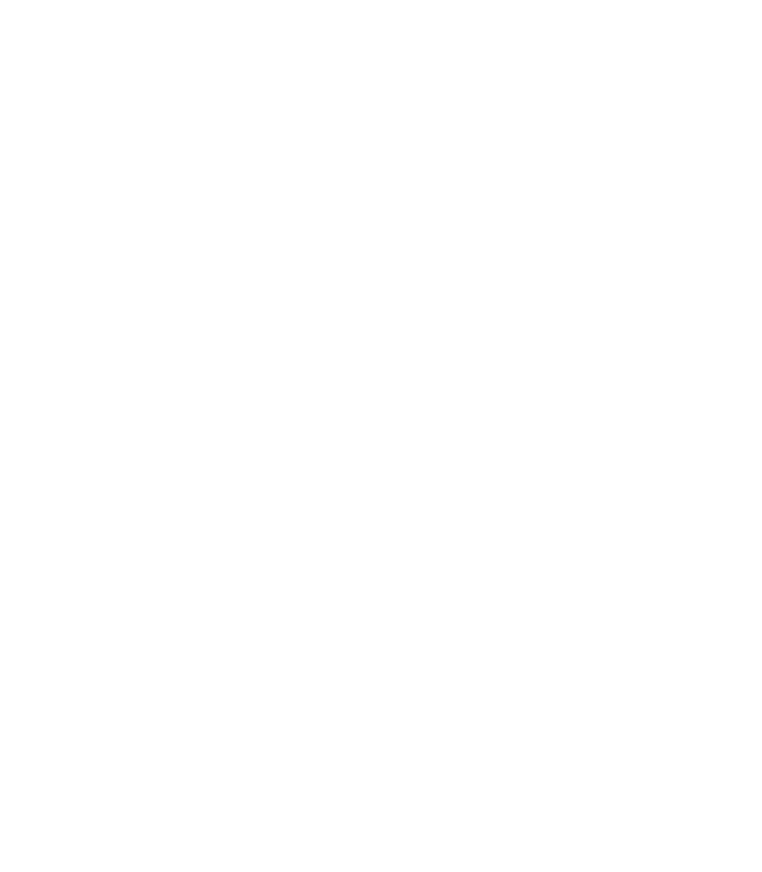
Георгий ЗАБЕЛЬЯН
Родился на Кубани в 1958 году. Выпускник МГУ им. М.В.Ломоносова, 1980 год, Публикации в альманахах и сборниках «Новое Слово», «Падал белый снег», ежегоднике 2024-2025 МСРП, журналах «Час культуры», «Ёрш». Живу и работаю в Москве.
Родился на Кубани в 1958 году. Выпускник МГУ им. М.В.Ломоносова, 1980 год, Публикации в альманахах и сборниках «Новое Слово», «Падал белый снег», ежегоднике 2024-2025 МСРП, журналах «Час культуры», «Ёрш». Живу и работаю в Москве.
О, МАДАМ!
– Постой, погоди, Аркаша, там кто-то ржёт, лошадь какая-то, – прошептала Наташка и упёрлась обоими локтями в грудь Аркадию.
– Не чуди, Наташ, какая может быть на пляже лошадь в полдесятого вечера, да и темно, как у негра подмышкой. Иди ко мне!
Аркадий уже пожалел, что пригласил девушку на «романтик» на вечерний пляж. Нужно было, как обычно, вести зазнобу на Аллею Любви. Недалеко от танцплощадки южные растения стоят стеной, темно и лавочки очень удобные. Не хватает только таблички, как в военном кино: «Проверено. Мин нет!».
На прошлой неделе Вика из Подмосковья сама предложила Аркадию прогуляться по этому сакральному курортному месту. Неудачно. Дело в том, что Аркадий под конец дня выходил на променад с гитарой. Он справедливо рассчитывал компенсировать свою природную скромность и неуверенность в общении с девушками умением исполнять задушевные песни. В глазах москвичек, юных и не очень, желающих на курорте всё-таки отдохнуть, он со своей гитарой сильно выделялся из толпы аборигенов. Дамский выбор падал на гитариста, но, если честно, не всегда. После первой песни Вика ахала и хлопала в ладоши, после второй просто улыбалась, после третьей смотрела на Аркадия с неподдельным интересом и исчезла с Аллеи Любви, когда песняр затянул четвертую песню.
Сегодня, чтобы не искушать судьбу, на встречу с Наташкой Аркадий гитару не взял. Обошлись созерцанием ярких звезд на чёрном южном небе и теплым, ласковым шуршанием прибоя. Весь «романтик» испортила эта лошадь.
– Вот уж не знала, что у вас в Сочах по ночам на пляже лошади бесхозные гуляют.
– Во-первых, не в Сочах, а в Сочи, а во-вторых, это не лошадь, а, судя по голосу, жеребец комбрига Будённого, к тому же пьяненький. Слышишь гитару? Это, наверное, адыхающий песню поёт про лошадь, – парировал Аркадий.
Любительница коротких южных романов выключила пониженную социальную ответственность и включила юную учительницу из Москвы:
– Не «адыхающий», а отдыхающий! Ты куда пошёл, конь-огонь?
– Очень интересная песня, может пойти послушать, чего он так ржёт-то на весь пляж?
– А моя лошадь вас ждёт. О, мадам! – кричала пьяная компания, раз за разом повторяя вслед за гитаристом припев весёлой песенки.
– Ну, Аркаша, я уезжаю завтра, это последний вечер на море. Да куда ты всё рвёшься, пусть она провалится, эта лошадь!
– Наташенька, любовь моя, одну секундочку, лошади уже расходятся. Я вернусь и буду носить тебя на руках до утра.
– А-а ма-ая лоша-адь вас ждё-ёт! – никак не могла успокоиться какая-то развесёлая мадам.
И курортный любимец Аркаша не выдержал. Отвернулся от своего личного счастья и метнулся к «лошади». Под пляжным зонтом расположилась слегка пьяная компания, голосившая на всю округу расхожие курортные песни типа «У самого синего моря…». Гитара в компании не обнаружилась, зато в наличии был виртуоз-гармонист.
Аркадий пристроился к крайней из участниц «хора пионеров» и замурлыкал ей в ухо:
– Красавица, а кто у вас так ржёт, как лошадь Пржевальского?
– Как кто? Конечно, Виталик. Это ж помощник массовика-затейника из Дома отдыха. Любую песню на гармошке играет!
– А на гитаре кто играл и пел? Виталика я знаю, ржать он может, а на гитаре, кроме как «Тёмную ночь», ничего никогда не исполняет.
– Ростовчане отдыхали рядом, у них была гитара. Показывали сейчас Виталику мастер-класс. Только что ушли. Такие интересные мужчинки, эх, заняты на сегодня. Да наш Виталик на баяне сто очков Ростову даст!
– А что за песня была про лошадь?
– Песню я запомнила: «Кобыла воду пьёт. Сладкий, дивный мёд» и ещё «О, Мадам!».
Аркадий понял, что нужно зафиксировать в памяти песню сейчас или никогда. Как же там было?
«Как прекрасны вы и этот свет. О, мадам!
В мире ваших глаз прекрасней нет. О, мадам!
Легче пуха стана вашего полёт. О, мадам!
Все мечты о вас и вот!..»
Так, что ли? Тональность, похоже, до-мажор. Срочно подобрать аккорды! Нужна гитара, а она дома. Ах, Наташа жаркая, любил бы я тебя, когда б не такое дело. До следующих встреч, Натали, музыка – это святое!
Этим летом Аркадий вернулся домой из Москвы, где с треском провалился на вступительных экзаменах в ВУЗ. Теперь он догуливал летний сезон, отложив все свои учебные дела на осень. Недослушанная песня про лошадь втемяшилась ему на подкорку и не давала покоя ещё много лет. Иногда в памяти вспыхивали подслушанные на пляже обрывки гитарного ритма и куски «лошадиного» текста. Аркадий возбуждался, бежал к гитаре и пытался воссоединить всё в одно целое. Не получалось, и наш композитор остывал в отчаянии.
Жизнь гитариста продолжалась своим чередом. Он разучил много новых для себя модных песен, играл в группе на танцах, осваивал рабочую специальность в ПТУ, читал умные книжки и на следующий год уехал в Москву на учёбу в университет.
И вот, на третьем курсе в дружеской компании, он выдал, а скорее обозначил легковесную песенку про лошадь, которая ждёт мадам. А когда пришло время первого полноценного исполнения, ему пришлось по своему разумению дополнить изначально потерянный текст и привести мелодию и аранжировку к популярному виду. Неожиданно, к удивлению Аркадия, обновлённая песня получила признание слушателей, пользовалась успехом среди однокашников и традиционно исполнялась хором на всех студенческих вечеринках.
Никто из посвящённых в «лошадиную» тему никогда ранее этой песни не слышал, тем более её автора не знал. Когда наступили времена тотального Интернета, регулярный поиск автора песни также не приводил к успеху. Нечто похожее Гугл иногда, конечно, находил, но Аркадий своим музыкальным слухом не смог опознать ту волшебную пляжную Лошадь из далекой юности. Известный эффект – в разных краях одна и та же песня изменяется до неузнаваемости местными слухачами-исполнителями.
«Пощадите, я ведь так ревнив. О, мадам!
И пусть рапиру в замке я забыл. О, мадам!
Кровь врагов ручьями так и льёт. О, мадам!
Трое уже лежат у тех ворот!»
Авторство песенки про Лошадь друзья традиционно и однозначно приписывали Аркадию. Однако, Аркадий греха на душу не брал и автором хита себя не считал. Правды ради, прародитель песни тоже не объявлялся никак.
В МГУ, где учился Аркадий, песня «А моя лошадь вас ждёт», название которой среди однокашников трансформировалось до короткого «О, Мадам!», стала своеобразным Гаудеамусом целого курса и исполнялась на ежегодных встречах выпускников почти как гимн. В течение многих лет, приезжая каждый год на встречу в альма-матер, бывшие студенты распевали уже ставшую общим раритетом легкомысленную песенку:
«Спустись ко мне, о, дивный свет очей, о, мадам!
И будь же ты навек-навек моей, о, мадам!
Пока моя кобыла воду пьёт, о, мадам!
Спустись ко мне, о, сладкий, дивный мёд!»
Дожив до глубоких седин, выпускники-пенсионеры, возрастом уже под семьдесят и более, отмечая очередной юбилей выпуска, лихо пели хором «О, Мадам!» и просили Аркадия спеть «ещё на бис».
* * *
Имя таинственного автора бессмертного хита открылось публике случайно. В Москву, где уже полвека живёт Аркадий, приехал ростовский предприниматель Слава Щеглов, с которым у Аркадия давние деловые связи, и по телефону сообщил:
– Аркаша, я в Москве, скоро буду рядом с твоим офисом. Поставщики просят подождать до вечера, чтобы в заказанный мной аппарат правильно залить специальную воду и протестировать его. Давай, спускайся, перекусим заодно.
– Спускаюсь, Слава. Махнём по стаканчику, пока твоя приблуда воду пьёт. Кстати, для тебя есть подарок от моей родни, повезёшь домой банку каштанового. Это очень сладкий, дивный мёд!
– Мои рифмы воруешь, Аркадий: «воду пьёт – сладкий мёд»? Веришь, я про это ещё в юности сочинил песенку: «Пока моя кобыла воду пьёт, спустись ко мне, о, сладкий, дивный мёд!». Мы с этой лошадью на сочинских пляжах большой успех имели среди девчонок.
– ???!!!
– Постой, погоди, Аркаша, там кто-то ржёт, лошадь какая-то, – прошептала Наташка и упёрлась обоими локтями в грудь Аркадию.
– Не чуди, Наташ, какая может быть на пляже лошадь в полдесятого вечера, да и темно, как у негра подмышкой. Иди ко мне!
Аркадий уже пожалел, что пригласил девушку на «романтик» на вечерний пляж. Нужно было, как обычно, вести зазнобу на Аллею Любви. Недалеко от танцплощадки южные растения стоят стеной, темно и лавочки очень удобные. Не хватает только таблички, как в военном кино: «Проверено. Мин нет!».
На прошлой неделе Вика из Подмосковья сама предложила Аркадию прогуляться по этому сакральному курортному месту. Неудачно. Дело в том, что Аркадий под конец дня выходил на променад с гитарой. Он справедливо рассчитывал компенсировать свою природную скромность и неуверенность в общении с девушками умением исполнять задушевные песни. В глазах москвичек, юных и не очень, желающих на курорте всё-таки отдохнуть, он со своей гитарой сильно выделялся из толпы аборигенов. Дамский выбор падал на гитариста, но, если честно, не всегда. После первой песни Вика ахала и хлопала в ладоши, после второй просто улыбалась, после третьей смотрела на Аркадия с неподдельным интересом и исчезла с Аллеи Любви, когда песняр затянул четвертую песню.
Сегодня, чтобы не искушать судьбу, на встречу с Наташкой Аркадий гитару не взял. Обошлись созерцанием ярких звезд на чёрном южном небе и теплым, ласковым шуршанием прибоя. Весь «романтик» испортила эта лошадь.
– Вот уж не знала, что у вас в Сочах по ночам на пляже лошади бесхозные гуляют.
– Во-первых, не в Сочах, а в Сочи, а во-вторых, это не лошадь, а, судя по голосу, жеребец комбрига Будённого, к тому же пьяненький. Слышишь гитару? Это, наверное, адыхающий песню поёт про лошадь, – парировал Аркадий.
Любительница коротких южных романов выключила пониженную социальную ответственность и включила юную учительницу из Москвы:
– Не «адыхающий», а отдыхающий! Ты куда пошёл, конь-огонь?
– Очень интересная песня, может пойти послушать, чего он так ржёт-то на весь пляж?
– А моя лошадь вас ждёт. О, мадам! – кричала пьяная компания, раз за разом повторяя вслед за гитаристом припев весёлой песенки.
– Ну, Аркаша, я уезжаю завтра, это последний вечер на море. Да куда ты всё рвёшься, пусть она провалится, эта лошадь!
– Наташенька, любовь моя, одну секундочку, лошади уже расходятся. Я вернусь и буду носить тебя на руках до утра.
– А-а ма-ая лоша-адь вас ждё-ёт! – никак не могла успокоиться какая-то развесёлая мадам.
И курортный любимец Аркаша не выдержал. Отвернулся от своего личного счастья и метнулся к «лошади». Под пляжным зонтом расположилась слегка пьяная компания, голосившая на всю округу расхожие курортные песни типа «У самого синего моря…». Гитара в компании не обнаружилась, зато в наличии был виртуоз-гармонист.
Аркадий пристроился к крайней из участниц «хора пионеров» и замурлыкал ей в ухо:
– Красавица, а кто у вас так ржёт, как лошадь Пржевальского?
– Как кто? Конечно, Виталик. Это ж помощник массовика-затейника из Дома отдыха. Любую песню на гармошке играет!
– А на гитаре кто играл и пел? Виталика я знаю, ржать он может, а на гитаре, кроме как «Тёмную ночь», ничего никогда не исполняет.
– Ростовчане отдыхали рядом, у них была гитара. Показывали сейчас Виталику мастер-класс. Только что ушли. Такие интересные мужчинки, эх, заняты на сегодня. Да наш Виталик на баяне сто очков Ростову даст!
– А что за песня была про лошадь?
– Песню я запомнила: «Кобыла воду пьёт. Сладкий, дивный мёд» и ещё «О, Мадам!».
Аркадий понял, что нужно зафиксировать в памяти песню сейчас или никогда. Как же там было?
«Как прекрасны вы и этот свет. О, мадам!
В мире ваших глаз прекрасней нет. О, мадам!
Легче пуха стана вашего полёт. О, мадам!
Все мечты о вас и вот!..»
Так, что ли? Тональность, похоже, до-мажор. Срочно подобрать аккорды! Нужна гитара, а она дома. Ах, Наташа жаркая, любил бы я тебя, когда б не такое дело. До следующих встреч, Натали, музыка – это святое!
Этим летом Аркадий вернулся домой из Москвы, где с треском провалился на вступительных экзаменах в ВУЗ. Теперь он догуливал летний сезон, отложив все свои учебные дела на осень. Недослушанная песня про лошадь втемяшилась ему на подкорку и не давала покоя ещё много лет. Иногда в памяти вспыхивали подслушанные на пляже обрывки гитарного ритма и куски «лошадиного» текста. Аркадий возбуждался, бежал к гитаре и пытался воссоединить всё в одно целое. Не получалось, и наш композитор остывал в отчаянии.
Жизнь гитариста продолжалась своим чередом. Он разучил много новых для себя модных песен, играл в группе на танцах, осваивал рабочую специальность в ПТУ, читал умные книжки и на следующий год уехал в Москву на учёбу в университет.
И вот, на третьем курсе в дружеской компании, он выдал, а скорее обозначил легковесную песенку про лошадь, которая ждёт мадам. А когда пришло время первого полноценного исполнения, ему пришлось по своему разумению дополнить изначально потерянный текст и привести мелодию и аранжировку к популярному виду. Неожиданно, к удивлению Аркадия, обновлённая песня получила признание слушателей, пользовалась успехом среди однокашников и традиционно исполнялась хором на всех студенческих вечеринках.
Никто из посвящённых в «лошадиную» тему никогда ранее этой песни не слышал, тем более её автора не знал. Когда наступили времена тотального Интернета, регулярный поиск автора песни также не приводил к успеху. Нечто похожее Гугл иногда, конечно, находил, но Аркадий своим музыкальным слухом не смог опознать ту волшебную пляжную Лошадь из далекой юности. Известный эффект – в разных краях одна и та же песня изменяется до неузнаваемости местными слухачами-исполнителями.
«Пощадите, я ведь так ревнив. О, мадам!
И пусть рапиру в замке я забыл. О, мадам!
Кровь врагов ручьями так и льёт. О, мадам!
Трое уже лежат у тех ворот!»
Авторство песенки про Лошадь друзья традиционно и однозначно приписывали Аркадию. Однако, Аркадий греха на душу не брал и автором хита себя не считал. Правды ради, прародитель песни тоже не объявлялся никак.
В МГУ, где учился Аркадий, песня «А моя лошадь вас ждёт», название которой среди однокашников трансформировалось до короткого «О, Мадам!», стала своеобразным Гаудеамусом целого курса и исполнялась на ежегодных встречах выпускников почти как гимн. В течение многих лет, приезжая каждый год на встречу в альма-матер, бывшие студенты распевали уже ставшую общим раритетом легкомысленную песенку:
«Спустись ко мне, о, дивный свет очей, о, мадам!
И будь же ты навек-навек моей, о, мадам!
Пока моя кобыла воду пьёт, о, мадам!
Спустись ко мне, о, сладкий, дивный мёд!»
Дожив до глубоких седин, выпускники-пенсионеры, возрастом уже под семьдесят и более, отмечая очередной юбилей выпуска, лихо пели хором «О, Мадам!» и просили Аркадия спеть «ещё на бис».
* * *
Имя таинственного автора бессмертного хита открылось публике случайно. В Москву, где уже полвека живёт Аркадий, приехал ростовский предприниматель Слава Щеглов, с которым у Аркадия давние деловые связи, и по телефону сообщил:
– Аркаша, я в Москве, скоро буду рядом с твоим офисом. Поставщики просят подождать до вечера, чтобы в заказанный мной аппарат правильно залить специальную воду и протестировать его. Давай, спускайся, перекусим заодно.
– Спускаюсь, Слава. Махнём по стаканчику, пока твоя приблуда воду пьёт. Кстати, для тебя есть подарок от моей родни, повезёшь домой банку каштанового. Это очень сладкий, дивный мёд!
– Мои рифмы воруешь, Аркадий: «воду пьёт – сладкий мёд»? Веришь, я про это ещё в юности сочинил песенку: «Пока моя кобыла воду пьёт, спустись ко мне, о, сладкий, дивный мёд!». Мы с этой лошадью на сочинских пляжах большой успех имели среди девчонок.
– ???!!!
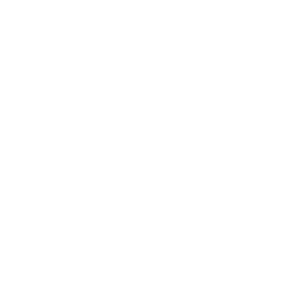
Анна ЗИМА
Мое творчество рождается из глубины души и жизненного опыта. Мама четверых детей, с детства была неразлучна с книгами, особенно трепетно храню в сердце произведения любимого писателя – Фёдора Михайловича Достоевского. Главное в творчестве для меня — это вера в человека, его способность к любви и добру. Несмотря на все жизненные испытания, в душе у меня по-прежнему живёт светлое начало, которое находит отражение в каждом написанном слове. Материнская мудрость и богатый жизненный опыт помогают мне создавать искренние, душевные произведения, в которых переплетаются реальность и мечта, боль и надежда, любовь и вера в лучшее. Писательство для меня — это способ делиться с читателями частичкой своей души, дарить им надежду и веру в прекрасное.
Мое творчество рождается из глубины души и жизненного опыта. Мама четверых детей, с детства была неразлучна с книгами, особенно трепетно храню в сердце произведения любимого писателя – Фёдора Михайловича Достоевского. Главное в творчестве для меня — это вера в человека, его способность к любви и добру. Несмотря на все жизненные испытания, в душе у меня по-прежнему живёт светлое начало, которое находит отражение в каждом написанном слове. Материнская мудрость и богатый жизненный опыт помогают мне создавать искренние, душевные произведения, в которых переплетаются реальность и мечта, боль и надежда, любовь и вера в лучшее. Писательство для меня — это способ делиться с читателями частичкой своей души, дарить им надежду и веру в прекрасное.
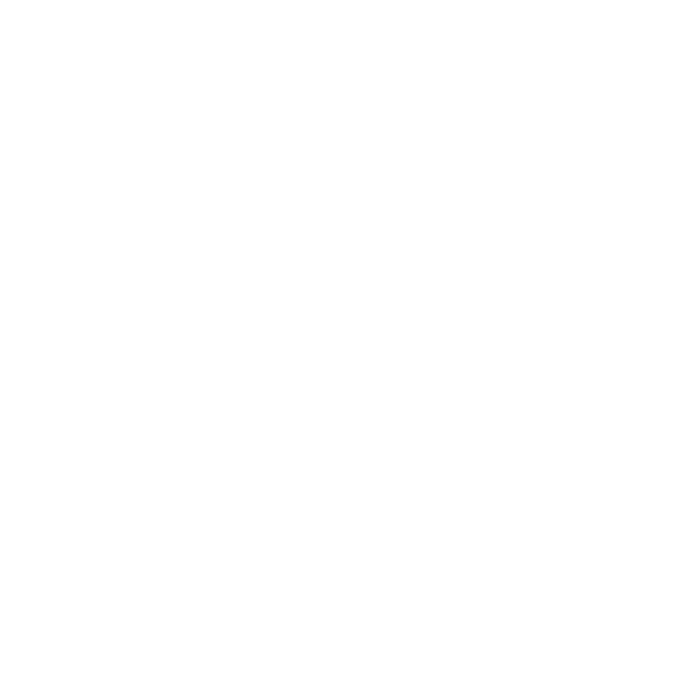
Посвящается моему дорогому человеку,
Дмитрию Белоусову, который погиб,
защищая нас 15.04.2025.
Дмитрию Белоусову, который погиб,
защищая нас 15.04.2025.
СЛУЧАЙНОСТЬ СУДЬБЫ
Этот день начинался как обычно. Она сидела в офисе, методично проставляя лайки под постами в социальной сети. Рутинная работа отвлекала от мыслей о приближающемся дедлайне, когда в ленте она увидела сообщение.
– Привет, да, на войне, – гласила надпись от пользователя с фотографией в военной форме. Сердце екнуло – это был он, её одноклассник с третьего класса.
– Ты что, стал военным? – набрала она, пытаясь скрыть удивление.
– А знаешь, кто в этом виноват? – ответил он с улыбкой в голосе. – Ты! Помнишь, как ты давала мне списывать? Если бы не ты, может, я стал учёным или программистом!
Она рассмеялась, вспоминая их школьные годы. Тогда она всегда помогала ему. А он больше увлекался спортом и был отъявленным хулиганом.
– Ну что, признаёшь свою вину? – продолжал он шутливым тоном.
– Признаю! – ответила она. – Но знаешь, если бы не мои «преступления», ты бы, возможно, и школу не закончил!
Оказалось, что за эти годы они оба изменились, но что-то важное осталось прежним – их дружба, начавшаяся ещё в начальной школе.
– Слушай, – написал он, – а давай продолжим общение в более удобном мессенджере? Тут неудобно писать.
Так началась новая глава в их жизни. В мессенджере они смогли делиться более личными историями, обсуждать планы на будущее и вспоминать старые добрые времена.
Иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы – вот так обычная проверка ленты в социальной сети может привести к возрождению старой дружбы и началу чего-то нового. И кто знает, может быть, те давние списывания действительно сыграли свою роль в их судьбах, но уж точно не ту, о которой они шутят.
МЕЖДУ СТРОК
Их общение становилось всё более близким. Короткие сообщения утром, длинные разговоры вечером, обмен фотографиями и мыслями – казалось, они знали друг друга как никто другой.
Она знала о его работе, знала, что каждый день может быть другим, и постоянно переживала, читая каждое его «всё хорошо».
– Не могу перестать думать о тебе, – написал он однажды. Она долго смотрела на эти слова, прежде чем ответить. Между строк она читала то, что он не решался написать открыто.
Они говорили обо всём: о детстве, о мечтах, о будущем. Но никогда не касались темы встречи. Казалось, само время остановилось для них, создавая свой особенный мир, ведь расстояние измерялось километрами.
Она хранила его фотографии в специальной папке на телефоне. Смотрела на них, когда становилось особенно тяжело. Он был там таким далёким и таким близким одновременно.
– Знаешь, – написал он однажды, – я всегда считал, что настоящая любовь должна быть видна всем. А теперь понимаю – она в том, как ты читаешь между строк.
В его словах она услышала больше, чем просто признание. Она увидела в них страх потерять то, что они нашли спустя столько лет. Страх, который она разделяла, каждый раз проверяя телефон в ожидании его сообщений.
Их любовь росла в тени расстояния и обстоятельств, питаясь памятью о школьных годах и надеждой на будущее. И хотя они знали, что реальность может быть жестокой, каждый новый день приносил им радость просто от того, что они есть друг у друга.
СВЯЗЬ
Время шло, и их общение становилось всё более глубоким и личным. Каждый день приносил новые сообщения, новые откровения, новые открытия друг о друге. Казалось, что школьные годы были лишь прологом к той истории, которая разворачивалась сейчас.
Он писал о своей работе, о том, что видит каждый день, о людях, с которыми служит. Его рассказы были полны деталей, которые только он мог заметить: как меняется цвет неба перед рассветом, как пахнет утренняя роса на траве, как бьется сердце в моменты опасности.
Она делилась своими мыслями о жизни, о работе, о мечтах, которые, казалось, были так далеки от реальности. Но в её словах всегда звучала надежда – надежда на лучшее, на встречу, на возможность быть вместе.
Они не говорили о чувствах открыто, но каждый знал, что между ними происходит что-то особенное. Это было больше, чем просто дружба, это была глубокая душевная связь, которая росла с каждым днём.
Иногда она просыпалась по ночам от тревоги за него. Открывала их переписку, перечитывала последние сообщения, словно проверяя, что он всё ещё здесь, что он жив и думает о ней. А утром писала ему, что не может перестать думать о нём.
Он понимал её тревогу, но старался не показывать свою. Он знал, что каждый день может стать последним и именно поэтому хотел, чтобы она помнила, он любит её. Любит за то, что она есть, за то, что верит, за то, что ждёт.
Их любовь росла вопреки расстоянию, вопреки обстоятельствам, вопреки всему, что разделяло их. Она была похожа на тонкую нить, которая становилась только крепче от каждого испытания. И хотя они знали, что будущее может быть непредсказуемым, каждый новый день приносил им радость просто от того, что они есть друг у друга.
В их общении не было громких слов о любви, но каждое сообщение говорило больше, чем любые признания. Они знали, что нашли то, что искали всю жизнь – настоящую, глубокую связь, способную преодолеть любые преграды. И хотя расстояние и опасность оставались частью их жизни, они верили, что настоящая любовь всегда найдет способ преодолеть любые препятствия.
ПРОЗРЕНИЕ
«Господи, какая же я была дура», – думала она, перечитывая их переписку. Только сейчас она поняла, что все это время была влюблена в него. Каждый его смайлик, каждая шутка, каждое «доброе утро» и «спокойной ночи» – всё это было наполнено особым смыслом, который она не хотела замечать.
Он стал для неё всем: другом, советчиком, опорой, человеком, ради которого хотелось жить и дышать. Его сообщения были единственным, что могло поднять настроение даже в самый тяжёлый день.
Он тоже признался ей в своих чувствах. В коротком, но искреннем сообщении он написал, что она для него – всё: любовь, небо, воздух, которым он дышит даже на расстоянии. Эти слова перевернули её мир с ног на голову, заставив сердце биться чаще.
Они часами разговаривали по телефону, делились самым сокровенным, строили планы на будущее. Она представляла, как они будут вместе, как он вернётся со службы, как они смогут наконец увидеть друг друга не на экране телефона, а вживую.
Но реальность была жестокой – расстояние и его опасная работа не позволяли им быть рядом. Однако теперь, когда они оба признали свои чувства, это казалось не таким уж важным. Главное, что они нашли друг друга спустя столько лет, что смогли разглядеть то, что было прямо перед глазами.
«Какая же я была дура», – повторяла она, улыбаясь своим прошлым сомнениям. Теперь она знала наверняка, настоящая любовь может прийти неожиданно, даже если вы знакомы с человеком с третьего класса. Нужно только быть достаточно мудрой, чтобы её разглядеть.
Их любовь была особенной, она росла не в пышных словах и громких признаниях, а в простых ежедневных сообщениях, в заботах друг о друге, в способности чувствовать друг друга даже на расстоянии тысяч километров. И хотя будущее оставалось неопределённым, они знали одно – теперь, когда они нашли друг друга, ничто не сможет их разлучить по-настоящему.
ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ
«Я тебя люблю, я тебя жду, ты мой самый…» Эти слова она повторяла каждый вечер, глядя на закат.
– Ты мой самый… – шептала она, проводя пальцем по его улыбке на фото. В этих словах заключалась целая вселенная чувств: самый родной, самый близкий, самый любимый.
Он уехал, обещал вернуться, но время тянулось медленно, как густой мёд. Каждый день она проверяла телефон, каждый вечер всматривалась в темноту за окном, ожидая знакомый силуэт.
«Я тебя жду…» – эти слова эхом отдавались в пустом доме, пока она просила Вселенную о встрече с ним.
А потом был звонок. Один короткий звонок, который изменил всё. И когда она открыла дверь, там стоял он с букетом её любимых роз и улыбкой, от которой сердце готово было выпрыгнуть от счастья.
– Я тебя люблю… – сказал он.
И эти слова были самыми важными в их жизни. Потому что иногда самые простые слова могут вмещать в себя целую вечность чувств и переживаний.
Они обнялись, и в этот момент весь мир перестал существовать. Были только они и их любовь, которая преодолела расстояние, время и сомнения.
– Ты мой самый… – прошептала она, и он понял, что это значит всё: самый родной, самый любимый, самый единственный.
И в этот момент она знала – ждать стоило. Ведь иногда самое большое счастье приходит именно тогда, когда мы его меньше всего ждём.
ВСТРЕЧА
Их встреча была подобна вспышке молнии в тёмную ночь. После стольких дней разлуки и бесконечных сообщений они наконец-то оказались рядом. Воздух между ними искрил от напряжения, а сердца бились в унисон.
Он притянул её к себе, и их губы слились в долгом, томительном поцелуе. Каждая клеточка тела наполнялась теплом и трепетом. Его руки нежно скользили по её спине, а она обвила руками его шею, прижимаясь ещё ближе.
Каждое прикосновение его губ вызывало волны дрожи и восторга. Время словно остановилось, растворяясь в океане страсти и нежности. Их любовь была как первый весенний дождь – чистая, искренняя и всепоглощающая.
В этот момент весь мир перестал существовать, остались только они вдвоём, их сердца и эта волшебная ночь, полная любви и желания.
Счастье оно там, где не ждешь, главное – верить!
Этот день начинался как обычно. Она сидела в офисе, методично проставляя лайки под постами в социальной сети. Рутинная работа отвлекала от мыслей о приближающемся дедлайне, когда в ленте она увидела сообщение.
– Привет, да, на войне, – гласила надпись от пользователя с фотографией в военной форме. Сердце екнуло – это был он, её одноклассник с третьего класса.
– Ты что, стал военным? – набрала она, пытаясь скрыть удивление.
– А знаешь, кто в этом виноват? – ответил он с улыбкой в голосе. – Ты! Помнишь, как ты давала мне списывать? Если бы не ты, может, я стал учёным или программистом!
Она рассмеялась, вспоминая их школьные годы. Тогда она всегда помогала ему. А он больше увлекался спортом и был отъявленным хулиганом.
– Ну что, признаёшь свою вину? – продолжал он шутливым тоном.
– Признаю! – ответила она. – Но знаешь, если бы не мои «преступления», ты бы, возможно, и школу не закончил!
Оказалось, что за эти годы они оба изменились, но что-то важное осталось прежним – их дружба, начавшаяся ещё в начальной школе.
– Слушай, – написал он, – а давай продолжим общение в более удобном мессенджере? Тут неудобно писать.
Так началась новая глава в их жизни. В мессенджере они смогли делиться более личными историями, обсуждать планы на будущее и вспоминать старые добрые времена.
Иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы – вот так обычная проверка ленты в социальной сети может привести к возрождению старой дружбы и началу чего-то нового. И кто знает, может быть, те давние списывания действительно сыграли свою роль в их судьбах, но уж точно не ту, о которой они шутят.
МЕЖДУ СТРОК
Их общение становилось всё более близким. Короткие сообщения утром, длинные разговоры вечером, обмен фотографиями и мыслями – казалось, они знали друг друга как никто другой.
Она знала о его работе, знала, что каждый день может быть другим, и постоянно переживала, читая каждое его «всё хорошо».
– Не могу перестать думать о тебе, – написал он однажды. Она долго смотрела на эти слова, прежде чем ответить. Между строк она читала то, что он не решался написать открыто.
Они говорили обо всём: о детстве, о мечтах, о будущем. Но никогда не касались темы встречи. Казалось, само время остановилось для них, создавая свой особенный мир, ведь расстояние измерялось километрами.
Она хранила его фотографии в специальной папке на телефоне. Смотрела на них, когда становилось особенно тяжело. Он был там таким далёким и таким близким одновременно.
– Знаешь, – написал он однажды, – я всегда считал, что настоящая любовь должна быть видна всем. А теперь понимаю – она в том, как ты читаешь между строк.
В его словах она услышала больше, чем просто признание. Она увидела в них страх потерять то, что они нашли спустя столько лет. Страх, который она разделяла, каждый раз проверяя телефон в ожидании его сообщений.
Их любовь росла в тени расстояния и обстоятельств, питаясь памятью о школьных годах и надеждой на будущее. И хотя они знали, что реальность может быть жестокой, каждый новый день приносил им радость просто от того, что они есть друг у друга.
СВЯЗЬ
Время шло, и их общение становилось всё более глубоким и личным. Каждый день приносил новые сообщения, новые откровения, новые открытия друг о друге. Казалось, что школьные годы были лишь прологом к той истории, которая разворачивалась сейчас.
Он писал о своей работе, о том, что видит каждый день, о людях, с которыми служит. Его рассказы были полны деталей, которые только он мог заметить: как меняется цвет неба перед рассветом, как пахнет утренняя роса на траве, как бьется сердце в моменты опасности.
Она делилась своими мыслями о жизни, о работе, о мечтах, которые, казалось, были так далеки от реальности. Но в её словах всегда звучала надежда – надежда на лучшее, на встречу, на возможность быть вместе.
Они не говорили о чувствах открыто, но каждый знал, что между ними происходит что-то особенное. Это было больше, чем просто дружба, это была глубокая душевная связь, которая росла с каждым днём.
Иногда она просыпалась по ночам от тревоги за него. Открывала их переписку, перечитывала последние сообщения, словно проверяя, что он всё ещё здесь, что он жив и думает о ней. А утром писала ему, что не может перестать думать о нём.
Он понимал её тревогу, но старался не показывать свою. Он знал, что каждый день может стать последним и именно поэтому хотел, чтобы она помнила, он любит её. Любит за то, что она есть, за то, что верит, за то, что ждёт.
Их любовь росла вопреки расстоянию, вопреки обстоятельствам, вопреки всему, что разделяло их. Она была похожа на тонкую нить, которая становилась только крепче от каждого испытания. И хотя они знали, что будущее может быть непредсказуемым, каждый новый день приносил им радость просто от того, что они есть друг у друга.
В их общении не было громких слов о любви, но каждое сообщение говорило больше, чем любые признания. Они знали, что нашли то, что искали всю жизнь – настоящую, глубокую связь, способную преодолеть любые преграды. И хотя расстояние и опасность оставались частью их жизни, они верили, что настоящая любовь всегда найдет способ преодолеть любые препятствия.
ПРОЗРЕНИЕ
«Господи, какая же я была дура», – думала она, перечитывая их переписку. Только сейчас она поняла, что все это время была влюблена в него. Каждый его смайлик, каждая шутка, каждое «доброе утро» и «спокойной ночи» – всё это было наполнено особым смыслом, который она не хотела замечать.
Он стал для неё всем: другом, советчиком, опорой, человеком, ради которого хотелось жить и дышать. Его сообщения были единственным, что могло поднять настроение даже в самый тяжёлый день.
Он тоже признался ей в своих чувствах. В коротком, но искреннем сообщении он написал, что она для него – всё: любовь, небо, воздух, которым он дышит даже на расстоянии. Эти слова перевернули её мир с ног на голову, заставив сердце биться чаще.
Они часами разговаривали по телефону, делились самым сокровенным, строили планы на будущее. Она представляла, как они будут вместе, как он вернётся со службы, как они смогут наконец увидеть друг друга не на экране телефона, а вживую.
Но реальность была жестокой – расстояние и его опасная работа не позволяли им быть рядом. Однако теперь, когда они оба признали свои чувства, это казалось не таким уж важным. Главное, что они нашли друг друга спустя столько лет, что смогли разглядеть то, что было прямо перед глазами.
«Какая же я была дура», – повторяла она, улыбаясь своим прошлым сомнениям. Теперь она знала наверняка, настоящая любовь может прийти неожиданно, даже если вы знакомы с человеком с третьего класса. Нужно только быть достаточно мудрой, чтобы её разглядеть.
Их любовь была особенной, она росла не в пышных словах и громких признаниях, а в простых ежедневных сообщениях, в заботах друг о друге, в способности чувствовать друг друга даже на расстоянии тысяч километров. И хотя будущее оставалось неопределённым, они знали одно – теперь, когда они нашли друг друга, ничто не сможет их разлучить по-настоящему.
ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЕ
«Я тебя люблю, я тебя жду, ты мой самый…» Эти слова она повторяла каждый вечер, глядя на закат.
– Ты мой самый… – шептала она, проводя пальцем по его улыбке на фото. В этих словах заключалась целая вселенная чувств: самый родной, самый близкий, самый любимый.
Он уехал, обещал вернуться, но время тянулось медленно, как густой мёд. Каждый день она проверяла телефон, каждый вечер всматривалась в темноту за окном, ожидая знакомый силуэт.
«Я тебя жду…» – эти слова эхом отдавались в пустом доме, пока она просила Вселенную о встрече с ним.
А потом был звонок. Один короткий звонок, который изменил всё. И когда она открыла дверь, там стоял он с букетом её любимых роз и улыбкой, от которой сердце готово было выпрыгнуть от счастья.
– Я тебя люблю… – сказал он.
И эти слова были самыми важными в их жизни. Потому что иногда самые простые слова могут вмещать в себя целую вечность чувств и переживаний.
Они обнялись, и в этот момент весь мир перестал существовать. Были только они и их любовь, которая преодолела расстояние, время и сомнения.
– Ты мой самый… – прошептала она, и он понял, что это значит всё: самый родной, самый любимый, самый единственный.
И в этот момент она знала – ждать стоило. Ведь иногда самое большое счастье приходит именно тогда, когда мы его меньше всего ждём.
ВСТРЕЧА
Их встреча была подобна вспышке молнии в тёмную ночь. После стольких дней разлуки и бесконечных сообщений они наконец-то оказались рядом. Воздух между ними искрил от напряжения, а сердца бились в унисон.
Он притянул её к себе, и их губы слились в долгом, томительном поцелуе. Каждая клеточка тела наполнялась теплом и трепетом. Его руки нежно скользили по её спине, а она обвила руками его шею, прижимаясь ещё ближе.
Каждое прикосновение его губ вызывало волны дрожи и восторга. Время словно остановилось, растворяясь в океане страсти и нежности. Их любовь была как первый весенний дождь – чистая, искренняя и всепоглощающая.
В этот момент весь мир перестал существовать, остались только они вдвоём, их сердца и эта волшебная ночь, полная любви и желания.
Счастье оно там, где не ждешь, главное – верить!
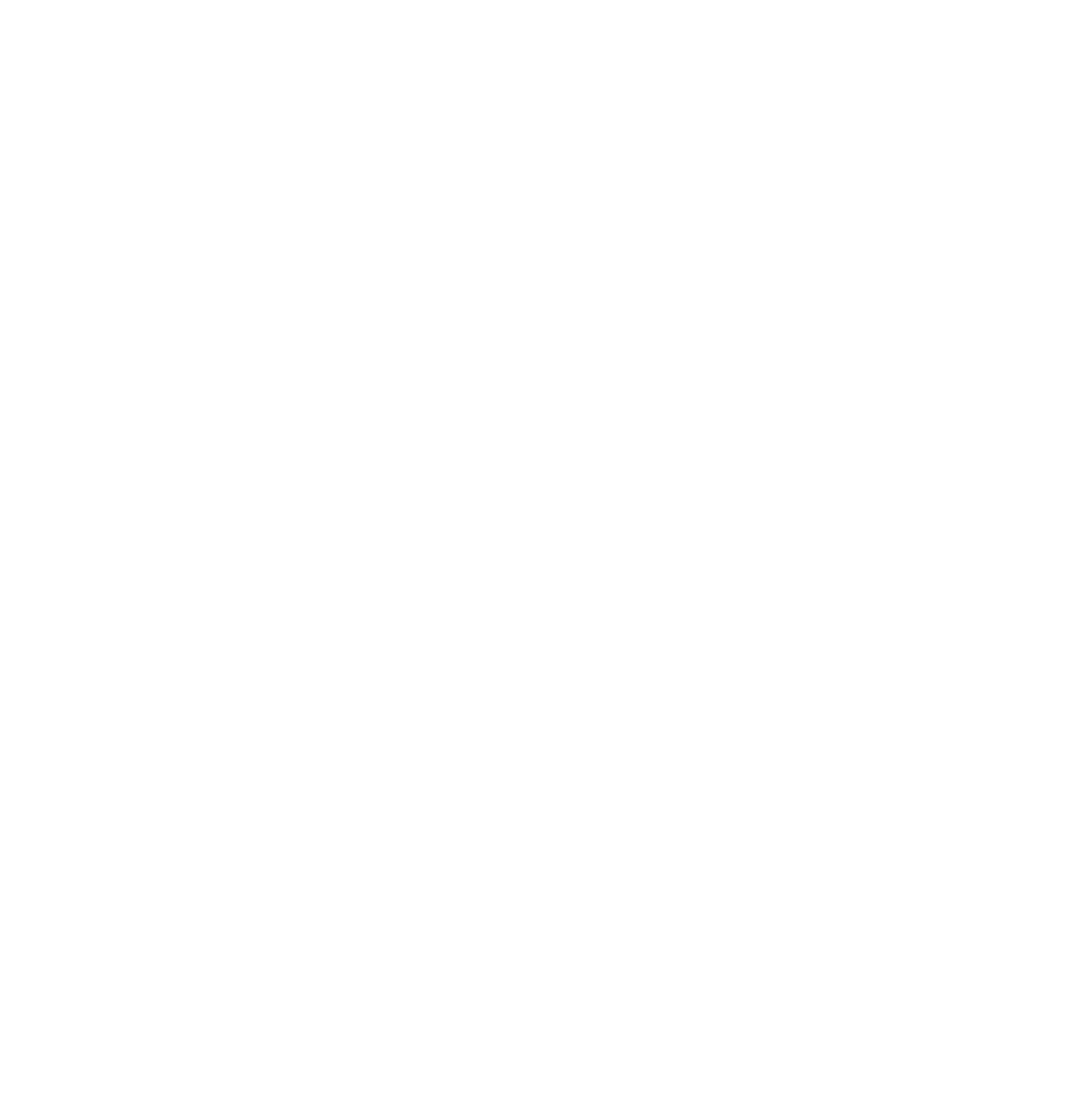
Юся КАРНОВА
Юся (Юлия) Карнова – банковский сотрудник и писатель. Написала ни один десяток захватывающих приключенческих историй. Обычно это сплетение двух противоположностей: мира фантастического и мира реального. В своих произведениях сталкивает лбами добро и зло, любовь и ненависть, сердце и разум. Пишет сразу в двух жанрах: любовная лирика и магия фэнтези. При этом даже в обычном романе присутствует маленькая капелька волшебства.
Самое большое произведение Юси на данный момент – это трилогия «Стражи Стихий», на которой она не собирается останавливаться. Произведения Юси можно почитать не только в альманахах, но и на портале Ridero.
Юся (Юлия) Карнова – банковский сотрудник и писатель. Написала ни один десяток захватывающих приключенческих историй. Обычно это сплетение двух противоположностей: мира фантастического и мира реального. В своих произведениях сталкивает лбами добро и зло, любовь и ненависть, сердце и разум. Пишет сразу в двух жанрах: любовная лирика и магия фэнтези. При этом даже в обычном романе присутствует маленькая капелька волшебства.
Самое большое произведение Юси на данный момент – это трилогия «Стражи Стихий», на которой она не собирается останавливаться. Произведения Юси можно почитать не только в альманахах, но и на портале Ridero.
ПОГАНАЯ ЛОХАНЬ
Мы с Серёжей бесцельно бродили по летним улочкам его маленькой деревеньки, выгуливая его собаку. Вообще, я девушка городская, живу в комфортабельной родительской двушке в самом центре нашего города, но чего не сделаешь ради дружбы... Да и жаркое лето лучше проводить где-то на природе, возле водоёма.
Был уже разгар дня, и воздух успел раскалиться до предела. Мухтар, собака Серёжи, тяжело дышал и не знал, куда спрятаться от испепеляющего солнца. По лбу моего спутника проскользила капелька пота. Идти ему было тяжелее, чем мне, из-за огромного рюкзака с вещами и всякими вкусностями, так он ещё и чёрную футболку напялил. Мне в шортах и майке было невероятно жарко! А тут чёрная футболка!
По нашим вчерашним планам на сегодня мы должны были пойти на озеро купаться, но Серёге нужно было сначала погулять с собакой и сходить в магазин. Впрочем, в магазин он сходил ещё до моего приезда. Поэтому сейчас мы шли втроём.
– Может по лесу прогуляемся? – предложил мне друг. – Там прохладней.
– А чем чёрт не шутит? – ответила я.
Мы свернули на узкую тропинку, ведущую в лес. Честно, мне было всё равно, где гулять. Мне так нравилась компания Серёжи, что гуляла я с ним почти сутки напролёт, уезжая домой на последнем автобусе, а иногда даже и пешком. Всего-то двенадцать километров.
В универе нас уже давно «поженили», но мы уже не обращали на это никакого внимания. Зачем доказывать то, что доказать не можешь?
А Мухтар наконец нашёл прохладный тенёк среди деревьев. Его хозяин отпустил поводок, и пёс с интересом обнюхивал смолистые стволы огромных деревьев. Мы шли за ним. Медленно, похрустывая упавшими сухими ветками под ногами.
Вдруг Мухтар остановился и навострил уши.
– Мух, что там? – крикнул Серёжа псу, но тот продолжал безмолвно стоять на месте.
Мы подошли к нему. Собака была абсолютно неподвижна. Даже его хвост не подавал никаких признаков жизни. Серёжа протянул руку ко псу, но тот вдруг рванул вперёд.
– Мухтар, ты куда? А ну-ка вернись! – кричал он. – Мухтар, ко мне!
Однако питомец не спешил возвращаться. Мы лишь слышали его отдаляющиеся шаги. Нам ничего не оставалось, как пойти вглубь леса на поиски нашего четвероногого друга.
– Что это с ним? – робко спросила я.
– Свободу похоже почувствовал. Инстинкты проснулись.
– Разве так бывает?
– Конечно. Это же собака – родственник волка. А у него вся жизнь вокруг инстинктов.
Мы долго пробирались сквозь лесную чащу. Ориентировались мы на собачьи следы на влажной земле.
– Смотри, а я мухомор нашла! И это в июле месяце.
Я гордо продемонстрировала большой гриб с ярко-красной шляпкой.
– Лучше бы подберёзовик нашла, – буркнул Серёга, – я есть хочу. Вот какой чёрт меня дёрнул поводок отпустить.
– Сам же себя и дёрнул, – обиделась я.
Неожиданно мы услышали звонкий лай неподалёку. Это был наш Мухтар. Мы побежали на звук. Собака не унималась. Его громкий лай наполнил весь лес.
Наконец среди деревьев мы увидели его силуэт. Пёс сидел на солнечной опушке и смотрел вперёд. Перед ним было малюсенькое озерцо, поросшее тиной по краям и с островком суши по середине. К этому островку было невозможно подойти пешком, только по воде.
– Так вот она какая... – прошептал Серёжа.
– Кто она? – недоумевала я.
– Поганая Лохань.
Парень, как и его собака, не отрывал глаз от этого озера. А я смотрела на друга. В моей голове мелькала тысяча вопросов, на которые не было ответов. Но Серёга явно на них сейчас не ответит. Я осмотрелась. Вокруг нас лежали десятки поваленных деревьев. Я села на одно из них и обратилась к другу.
– Расскажи мне всё, что знаешь об этом месте.
Я не особо рассчитывала сейчас на его ответ, поэтому подняла глаза на небо. Голубое, бескрайнее небо с несколькими пушистыми белыми облачками... Оно буквально обволакивало моё лицо мягкими, солнечными лучами. Совсем скоро наступит вечер. Почему бы не насладиться этим теплом. Тем более я уже так устала ходить...
Вдруг Серёжа сел рядом со мной. Его рюкзак громко упал на землю.
– Моя бабушка рассказывала мне в детстве легенды об этом месте. Я не уверен, что помню все, но самые яркие обязательно расскажу. Только давай сначала костёр разведём? Я сейчас помру от голода!
Любопытство пожирало меня изнутри, словно огромный червь. Но я знала – с другом спорить бесполезно. Он тот ещё упрямый баран! Пришлось насобирать сухих веточек. Мы развели костёр. На улице уже смеркалось и холодало. Огонь костра оказался как никогда кстати. Его потрескивания создавали такую уютную атмосферу. Плюс отпугивал всякую мошкару, что повылезала из-под травы.
Серёга достал из рюкзака маринованное мясо, шампуры и зефир. Пока готовился наш ужин, парень начал свой рассказ.
– Давным-давно, когда на Руси верили во всяких духов, было принято с размахом отмечать языческие праздники. В их числе был и праздник Ивана Купала. В этот день, вернее, в эту ночь, было принято купаться в реках и озерах, прыгать через костры, гадать на суженных-ряженных...
– О, это я знаю! – перебила я друга. – Суженный мой ряженный, приди ко мне наряженный. Себя покажи, да меня причеши. Но это вроде как с расчёской и зеркалом делается.
– Гадания разные бывают, – вдруг сказал мужской голос.
Мы с Серёгой обернулись. Среди мрачных деревьев стоял седовласый мужчина с рыжим котом на руках.
– Разрешите нам с Васькой присоединиться к вашим посиделкам?
Мы сразу поняли кто из них Васька. Рыжий хитрюга утопал в ласковых руках хозяина.
– Конечно, – улыбнулся Серёжа и подошёл проверить наш шашлык.
Мясо было уже почти готово, а вот зефир приготовился полностью. Парень протянул угощенье нашему гостю. Мужчина поблагодарил, принял шампур с жаренным зефиром и сел ко мне на бревно. Я же решила ждать мясо. Не люблю сладкое. А от этого зефира аж зубы сводит.
– Вы тоже слышали легенду о мёртвой невесте? – обратился Серёга к мужчине, откусывая тягучий зефир.
– А кто её не слышал, молодой человек! Вообще любые магические вмешательства в судьбу человека могут выйти боком, – он посмотрел на меня. – Вот вы, юная леди, надеюсь не гадали никогда?
– Ну что вы, только пиковую даму с девчонками в школе вызывали, – отшутилась я, пытаясь накормить Мухтара зефиром, – но она не пришла тогда к нам.
Строгий взгляд незнакомца вновь переключился на Серёжу.
– Как зовут вашу возлюбленную?
Я громко рассмеялась.
– Юлия, – ответил парень, – только она не моя девушка. Мы просто друзья.
Он всегда называл меня исключительно полным именем – Юлия. Считал, что имя и так слишком короткое, нечего его ещё больше сокращать. Да и мне, честно, это льстило. Не люблю я эту Юлю. Всегда предпочитала, чтобы меня называли Юсей.
– Скажите спасибо Богу, Юлия, что не пришла к вам тогда Пиковая Дама. Говорят, бед не оберёшься после её визита.
– Глупости всё это, – отмахнулась я, – правда, Серёж?
– Не уверен... Может вернёмся к легенде? – он посмотрел на нашего гостя. – Мы, кстати, так с вами и не познакомились. Девушка – Юлия, я Сергей, а вас как зовут?
– Семён Петрович я. Давайте так, Сергей, вы начнёте, а я подхвачу, коль потребуется.
– Ну ладно. Однажды, лет сто назад, на озере, неподалёку отсюда, гулянья были. Молодые незамужние девушки в белых льняных нарядах в озере купались, венки плели да медовуху пили. Темно стало, холодно. И решили девушки костёр разжечь, да прыгать через него. Сначала огонёк небольшой был. Поэтому хоровод вокруг него с песнями устроили. А когда пламя выше метра стало, они прыгать через него начали. И опалила одна девица венок свой.
– В то время это дурной приметой было, – подхватил рассказ Семён Петрович, – якобы замуж девушка не выйдет никогда и девой старой помрёт. Чтобы позор свой скрыть бросила девушка подруг своих и отправилась в лес новый венок себе плести. Пока цветы собирала да венок новый плела, гадания всякие тихо повторяла. Как вдруг услышала голоса мужские и женские. Песни они пели расчудесные. Да так красиво, что заслушаться можно. И пошла девушка на голоса эти дивные, и вышла на поляну эту. А с острова на неё Кикимора Болотная смотрит.
Моя фантазия тут же нарисовала передо мной образ старой лохматой зелёноволосой женщины, похожей на Бабу Ягу. С таким же крючковатым носом, впалыми щеками и дурными намерениями.
– А песни эти чудесные из уст Кикиморы льются. Зазывает к себе девушку молодую красивую, суженного её показать обещает. А на озере тина светиться начинает, словно тысячи светлячков на ней появились. Словно под гипнозом шла девушка к Кикиморе Болотной. Босые стопы уже в жижу болотную угодили, но шла девушка на звук не останавливаясь, не думая ни о чём дурном. И вот тело молодое уже болото забрало себе. Захлебнулась девушка тиной болотной и на дно опустилась без дыхания. А довольная Кикимора скрылась в своём логове. Моложе она становилась с каждой новой жертвой, всё Лешего хотела на себе женить. Да не брал её Леший в жёны. Уж больно страшная она была.
– Что ж, не искал девушку что ли никто? – удивилась я, откусывая горяченное мясо, что несколько минут назад снял Серёга с огня. – Подруги ещё называются!
– Отчего ж не искали? Искали, да поздно уже было. Утопла красавица.
– Не одна трагедия в тот день была, – вмешался Серёжа, – на реке неподалёку другая деревня свои гулянья проводила. Девушки венки свои по реке пускали, гаданья такие были. А парни песни пели, на баяне и балалайке играли. И вот парень один голосок прекрасный девичий услышал, как горный родник, звонкий он был. Влюбился сразу парень в голос этот чудесный, да пошёл в лес судьбу свою искать. А голосок всё ближе и ближе становился. Всё звонче он был. И вышел паренёк на Лохань эту Поганую. А на островке девушка сидит: прекрасная, румяная, кровь с молоком. Да песню поёт о любви своей девичьей. Шёл он девушке навстречу и в болото это чёртово угодил. Долго брыкался он в тине вонючей, никак выбраться не мог. Обратился тогда он к девушке той прекрасной. Говорит, помоги мне, девица, выбраться, женюсь на тебе. Протянула ему девица руку, да, как только коснулся руки её, Кикиморой она обернулась. Закричал он тогда на весь лес дурниной. Кикимора разозлилась и руку его отпустила. Оттолкнула она его на эмоциях и захлебнулся парень. Никто не видел его больше.
– С тех пор про Лохань эту слава дурная пошла. Поганой её прозвали. Говорят, звери даже ушли отсюда. Птицы не летают здесь, пчёлы не жужжат. Вон, даже цветов нет здесь. Мухоморы только повсюду.
Мухтар вдруг завыл, будто подтверждал слова Семёна Петровича. Его вой был жутко похож на волчий. Я вдруг вспомнила о том мухоморе, что нашла за несколько минут до того, как мы вышли на эту полянку.
– А почему Лохань? – шёпотом спросила я.
– Так похоже оно на лоханку нашу русскую! – воскликнул мужчина. – Вроде неглубокая. Как утопнуть в ней могли, ума не приложу.
– Если захотеть, и в тарелке супа захлебнуться можно, – отшутился Серёга.
Я посмотрела на Лохань. Уж не знаю, показалось мне или взаправду, но тина этого озерца действительно приобрела серебристо-зелёный оттенок. Точно так же светятся светлячки. По моим голым ногам пробежали ледяные мурашки. Колкие, противные, словно тысяча комаров одновременно укусили меня. Мне стало жутко. Ища поддержки, я машинально посмотрела на друга. Его задумчивое лицо, не отрываясь, смотрело на костёр. Огонь всегда успокаивал его.
– Это лишь одна из многочисленных легенд, что рассказывала мне бабушка. Были ещё и другие, но только под эту бабушка плакала. Как думаете, почему?
– Боюсь, что на этот вопрос сможет ответить только она...
Наступила тишина. Каждый думал о своём. Мой аппетит пропал окончательно, поэтому я начала скармливать остатки шашлыка Мухтару. Пёс ел с превеликим удовольствием. Вскоре к нему присоединился и рыжий кот Васька. Вместе они быстро умяли уже остывшее мясо.
Я гладила собаку, как вдруг услышала тихую музыку. Моё сердце сжалось от страха. Частота моего пульса взлетела до небес. Оказалось, что зря. Это был всего лишь мой мобильник. Звонила мама. Оказывается, я настолько припозднилась, что пропустила последний автобус домой, и родители выехали, чтобы забрать меня.
Мы с Серёжей бесцельно бродили по летним улочкам его маленькой деревеньки, выгуливая его собаку. Вообще, я девушка городская, живу в комфортабельной родительской двушке в самом центре нашего города, но чего не сделаешь ради дружбы... Да и жаркое лето лучше проводить где-то на природе, возле водоёма.
Был уже разгар дня, и воздух успел раскалиться до предела. Мухтар, собака Серёжи, тяжело дышал и не знал, куда спрятаться от испепеляющего солнца. По лбу моего спутника проскользила капелька пота. Идти ему было тяжелее, чем мне, из-за огромного рюкзака с вещами и всякими вкусностями, так он ещё и чёрную футболку напялил. Мне в шортах и майке было невероятно жарко! А тут чёрная футболка!
По нашим вчерашним планам на сегодня мы должны были пойти на озеро купаться, но Серёге нужно было сначала погулять с собакой и сходить в магазин. Впрочем, в магазин он сходил ещё до моего приезда. Поэтому сейчас мы шли втроём.
– Может по лесу прогуляемся? – предложил мне друг. – Там прохладней.
– А чем чёрт не шутит? – ответила я.
Мы свернули на узкую тропинку, ведущую в лес. Честно, мне было всё равно, где гулять. Мне так нравилась компания Серёжи, что гуляла я с ним почти сутки напролёт, уезжая домой на последнем автобусе, а иногда даже и пешком. Всего-то двенадцать километров.
В универе нас уже давно «поженили», но мы уже не обращали на это никакого внимания. Зачем доказывать то, что доказать не можешь?
А Мухтар наконец нашёл прохладный тенёк среди деревьев. Его хозяин отпустил поводок, и пёс с интересом обнюхивал смолистые стволы огромных деревьев. Мы шли за ним. Медленно, похрустывая упавшими сухими ветками под ногами.
Вдруг Мухтар остановился и навострил уши.
– Мух, что там? – крикнул Серёжа псу, но тот продолжал безмолвно стоять на месте.
Мы подошли к нему. Собака была абсолютно неподвижна. Даже его хвост не подавал никаких признаков жизни. Серёжа протянул руку ко псу, но тот вдруг рванул вперёд.
– Мухтар, ты куда? А ну-ка вернись! – кричал он. – Мухтар, ко мне!
Однако питомец не спешил возвращаться. Мы лишь слышали его отдаляющиеся шаги. Нам ничего не оставалось, как пойти вглубь леса на поиски нашего четвероногого друга.
– Что это с ним? – робко спросила я.
– Свободу похоже почувствовал. Инстинкты проснулись.
– Разве так бывает?
– Конечно. Это же собака – родственник волка. А у него вся жизнь вокруг инстинктов.
Мы долго пробирались сквозь лесную чащу. Ориентировались мы на собачьи следы на влажной земле.
– Смотри, а я мухомор нашла! И это в июле месяце.
Я гордо продемонстрировала большой гриб с ярко-красной шляпкой.
– Лучше бы подберёзовик нашла, – буркнул Серёга, – я есть хочу. Вот какой чёрт меня дёрнул поводок отпустить.
– Сам же себя и дёрнул, – обиделась я.
Неожиданно мы услышали звонкий лай неподалёку. Это был наш Мухтар. Мы побежали на звук. Собака не унималась. Его громкий лай наполнил весь лес.
Наконец среди деревьев мы увидели его силуэт. Пёс сидел на солнечной опушке и смотрел вперёд. Перед ним было малюсенькое озерцо, поросшее тиной по краям и с островком суши по середине. К этому островку было невозможно подойти пешком, только по воде.
– Так вот она какая... – прошептал Серёжа.
– Кто она? – недоумевала я.
– Поганая Лохань.
Парень, как и его собака, не отрывал глаз от этого озера. А я смотрела на друга. В моей голове мелькала тысяча вопросов, на которые не было ответов. Но Серёга явно на них сейчас не ответит. Я осмотрелась. Вокруг нас лежали десятки поваленных деревьев. Я села на одно из них и обратилась к другу.
– Расскажи мне всё, что знаешь об этом месте.
Я не особо рассчитывала сейчас на его ответ, поэтому подняла глаза на небо. Голубое, бескрайнее небо с несколькими пушистыми белыми облачками... Оно буквально обволакивало моё лицо мягкими, солнечными лучами. Совсем скоро наступит вечер. Почему бы не насладиться этим теплом. Тем более я уже так устала ходить...
Вдруг Серёжа сел рядом со мной. Его рюкзак громко упал на землю.
– Моя бабушка рассказывала мне в детстве легенды об этом месте. Я не уверен, что помню все, но самые яркие обязательно расскажу. Только давай сначала костёр разведём? Я сейчас помру от голода!
Любопытство пожирало меня изнутри, словно огромный червь. Но я знала – с другом спорить бесполезно. Он тот ещё упрямый баран! Пришлось насобирать сухих веточек. Мы развели костёр. На улице уже смеркалось и холодало. Огонь костра оказался как никогда кстати. Его потрескивания создавали такую уютную атмосферу. Плюс отпугивал всякую мошкару, что повылезала из-под травы.
Серёга достал из рюкзака маринованное мясо, шампуры и зефир. Пока готовился наш ужин, парень начал свой рассказ.
– Давным-давно, когда на Руси верили во всяких духов, было принято с размахом отмечать языческие праздники. В их числе был и праздник Ивана Купала. В этот день, вернее, в эту ночь, было принято купаться в реках и озерах, прыгать через костры, гадать на суженных-ряженных...
– О, это я знаю! – перебила я друга. – Суженный мой ряженный, приди ко мне наряженный. Себя покажи, да меня причеши. Но это вроде как с расчёской и зеркалом делается.
– Гадания разные бывают, – вдруг сказал мужской голос.
Мы с Серёгой обернулись. Среди мрачных деревьев стоял седовласый мужчина с рыжим котом на руках.
– Разрешите нам с Васькой присоединиться к вашим посиделкам?
Мы сразу поняли кто из них Васька. Рыжий хитрюга утопал в ласковых руках хозяина.
– Конечно, – улыбнулся Серёжа и подошёл проверить наш шашлык.
Мясо было уже почти готово, а вот зефир приготовился полностью. Парень протянул угощенье нашему гостю. Мужчина поблагодарил, принял шампур с жаренным зефиром и сел ко мне на бревно. Я же решила ждать мясо. Не люблю сладкое. А от этого зефира аж зубы сводит.
– Вы тоже слышали легенду о мёртвой невесте? – обратился Серёга к мужчине, откусывая тягучий зефир.
– А кто её не слышал, молодой человек! Вообще любые магические вмешательства в судьбу человека могут выйти боком, – он посмотрел на меня. – Вот вы, юная леди, надеюсь не гадали никогда?
– Ну что вы, только пиковую даму с девчонками в школе вызывали, – отшутилась я, пытаясь накормить Мухтара зефиром, – но она не пришла тогда к нам.
Строгий взгляд незнакомца вновь переключился на Серёжу.
– Как зовут вашу возлюбленную?
Я громко рассмеялась.
– Юлия, – ответил парень, – только она не моя девушка. Мы просто друзья.
Он всегда называл меня исключительно полным именем – Юлия. Считал, что имя и так слишком короткое, нечего его ещё больше сокращать. Да и мне, честно, это льстило. Не люблю я эту Юлю. Всегда предпочитала, чтобы меня называли Юсей.
– Скажите спасибо Богу, Юлия, что не пришла к вам тогда Пиковая Дама. Говорят, бед не оберёшься после её визита.
– Глупости всё это, – отмахнулась я, – правда, Серёж?
– Не уверен... Может вернёмся к легенде? – он посмотрел на нашего гостя. – Мы, кстати, так с вами и не познакомились. Девушка – Юлия, я Сергей, а вас как зовут?
– Семён Петрович я. Давайте так, Сергей, вы начнёте, а я подхвачу, коль потребуется.
– Ну ладно. Однажды, лет сто назад, на озере, неподалёку отсюда, гулянья были. Молодые незамужние девушки в белых льняных нарядах в озере купались, венки плели да медовуху пили. Темно стало, холодно. И решили девушки костёр разжечь, да прыгать через него. Сначала огонёк небольшой был. Поэтому хоровод вокруг него с песнями устроили. А когда пламя выше метра стало, они прыгать через него начали. И опалила одна девица венок свой.
– В то время это дурной приметой было, – подхватил рассказ Семён Петрович, – якобы замуж девушка не выйдет никогда и девой старой помрёт. Чтобы позор свой скрыть бросила девушка подруг своих и отправилась в лес новый венок себе плести. Пока цветы собирала да венок новый плела, гадания всякие тихо повторяла. Как вдруг услышала голоса мужские и женские. Песни они пели расчудесные. Да так красиво, что заслушаться можно. И пошла девушка на голоса эти дивные, и вышла на поляну эту. А с острова на неё Кикимора Болотная смотрит.
Моя фантазия тут же нарисовала передо мной образ старой лохматой зелёноволосой женщины, похожей на Бабу Ягу. С таким же крючковатым носом, впалыми щеками и дурными намерениями.
– А песни эти чудесные из уст Кикиморы льются. Зазывает к себе девушку молодую красивую, суженного её показать обещает. А на озере тина светиться начинает, словно тысячи светлячков на ней появились. Словно под гипнозом шла девушка к Кикиморе Болотной. Босые стопы уже в жижу болотную угодили, но шла девушка на звук не останавливаясь, не думая ни о чём дурном. И вот тело молодое уже болото забрало себе. Захлебнулась девушка тиной болотной и на дно опустилась без дыхания. А довольная Кикимора скрылась в своём логове. Моложе она становилась с каждой новой жертвой, всё Лешего хотела на себе женить. Да не брал её Леший в жёны. Уж больно страшная она была.
– Что ж, не искал девушку что ли никто? – удивилась я, откусывая горяченное мясо, что несколько минут назад снял Серёга с огня. – Подруги ещё называются!
– Отчего ж не искали? Искали, да поздно уже было. Утопла красавица.
– Не одна трагедия в тот день была, – вмешался Серёжа, – на реке неподалёку другая деревня свои гулянья проводила. Девушки венки свои по реке пускали, гаданья такие были. А парни песни пели, на баяне и балалайке играли. И вот парень один голосок прекрасный девичий услышал, как горный родник, звонкий он был. Влюбился сразу парень в голос этот чудесный, да пошёл в лес судьбу свою искать. А голосок всё ближе и ближе становился. Всё звонче он был. И вышел паренёк на Лохань эту Поганую. А на островке девушка сидит: прекрасная, румяная, кровь с молоком. Да песню поёт о любви своей девичьей. Шёл он девушке навстречу и в болото это чёртово угодил. Долго брыкался он в тине вонючей, никак выбраться не мог. Обратился тогда он к девушке той прекрасной. Говорит, помоги мне, девица, выбраться, женюсь на тебе. Протянула ему девица руку, да, как только коснулся руки её, Кикиморой она обернулась. Закричал он тогда на весь лес дурниной. Кикимора разозлилась и руку его отпустила. Оттолкнула она его на эмоциях и захлебнулся парень. Никто не видел его больше.
– С тех пор про Лохань эту слава дурная пошла. Поганой её прозвали. Говорят, звери даже ушли отсюда. Птицы не летают здесь, пчёлы не жужжат. Вон, даже цветов нет здесь. Мухоморы только повсюду.
Мухтар вдруг завыл, будто подтверждал слова Семёна Петровича. Его вой был жутко похож на волчий. Я вдруг вспомнила о том мухоморе, что нашла за несколько минут до того, как мы вышли на эту полянку.
– А почему Лохань? – шёпотом спросила я.
– Так похоже оно на лоханку нашу русскую! – воскликнул мужчина. – Вроде неглубокая. Как утопнуть в ней могли, ума не приложу.
– Если захотеть, и в тарелке супа захлебнуться можно, – отшутился Серёга.
Я посмотрела на Лохань. Уж не знаю, показалось мне или взаправду, но тина этого озерца действительно приобрела серебристо-зелёный оттенок. Точно так же светятся светлячки. По моим голым ногам пробежали ледяные мурашки. Колкие, противные, словно тысяча комаров одновременно укусили меня. Мне стало жутко. Ища поддержки, я машинально посмотрела на друга. Его задумчивое лицо, не отрываясь, смотрело на костёр. Огонь всегда успокаивал его.
– Это лишь одна из многочисленных легенд, что рассказывала мне бабушка. Были ещё и другие, но только под эту бабушка плакала. Как думаете, почему?
– Боюсь, что на этот вопрос сможет ответить только она...
Наступила тишина. Каждый думал о своём. Мой аппетит пропал окончательно, поэтому я начала скармливать остатки шашлыка Мухтару. Пёс ел с превеликим удовольствием. Вскоре к нему присоединился и рыжий кот Васька. Вместе они быстро умяли уже остывшее мясо.
Я гладила собаку, как вдруг услышала тихую музыку. Моё сердце сжалось от страха. Частота моего пульса взлетела до небес. Оказалось, что зря. Это был всего лишь мой мобильник. Звонила мама. Оказывается, я настолько припозднилась, что пропустила последний автобус домой, и родители выехали, чтобы забрать меня.
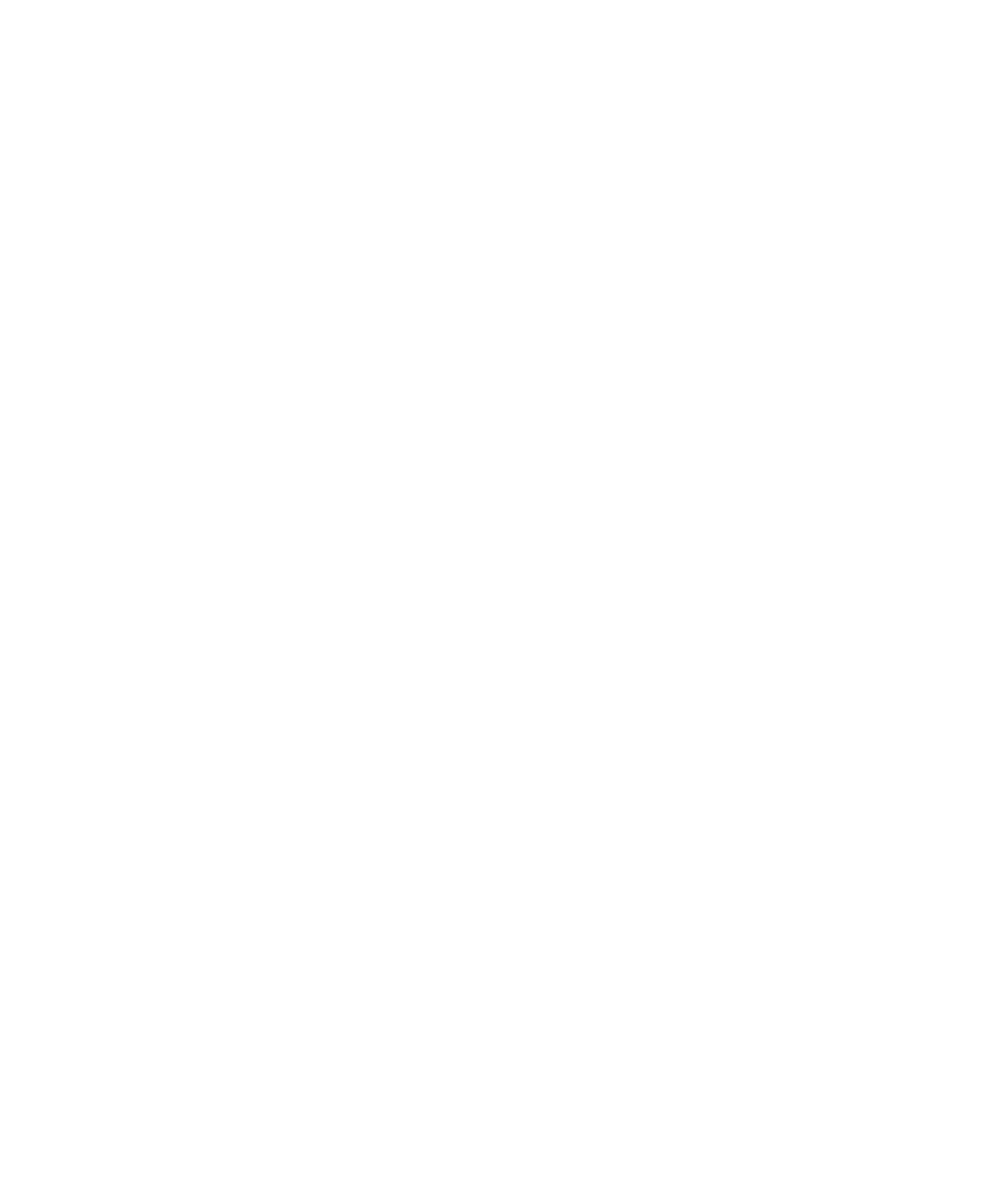
Максим ЛАЗАРЕВ
Родился в 1966 году в г. Москве. Член Союза Писателей России. Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша», «Стихи. Избранное». Более 40 публикаций в различных альманахах и сборниках прозы и поэзии. Многократный Лауреат Международных и Всероссийских литературных конкурсов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии Искусств «IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA 2024». Лауреат Национальной Премии «Золотое Перо Руси-2024». Диплом Союза Писателей России « За мастерство-2024». Номинант на Премию ФСБ России-2024.
Родился в 1966 году в г. Москве. Член Союза Писателей России. Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша», «Стихи. Избранное». Более 40 публикаций в различных альманахах и сборниках прозы и поэзии. Многократный Лауреат Международных и Всероссийских литературных конкурсов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии Искусств «IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA 2024». Лауреат Национальной Премии «Золотое Перо Руси-2024». Диплом Союза Писателей России « За мастерство-2024». Номинант на Премию ФСБ России-2024.
ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ, АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ.
ЦАРСТВИЯ ВАМ НЕБЕСНОГО!
Эссе
Александру Наумовичу Митте посвящается
Октябрь. Тот самый мягкий и сухой, с лёгкими морозными ночами, Московский октябрь, каких последние лет двадцать уже не было, и, наверное, уже никогда не будет. Когда сухое, голубое и звонкое до летнего неприличия, небо отражается в глазах красивых девушек и, играясь последними отблесками вечернего солнца на их накрашенных губках и розовеющих щёчках, зажигается вдруг сотнями маленьких светлячков на кончиках сигарет. Когда заваленные шуршащими кленовыми листьями дорожки бульваров не отпускают тебя, и заставляют накручивать раз за разом это колдовское Московское Бульварное кольцо. И когда можно наконец надеть своё любимое, кашемировое пальто и по-пижонски подняв воротник, не надевать шапку, позволив холодному, чуть-чуть колкому, осеннему ветру лохматить твою длинную, по последней моде, чёлку...
Это был октябрь 1985 года. Через два месяца мне уходить в армию. Повестка уже лежит в серванте в комнате деда под увесистой фарфоровой статуэткой бойца пограничника с собакой. Уже посланы далеко и прямо занятия в Техникуме – какая разница, ведь всё равно семестр не зачтут! И я сутки на пролёт гуляю, схватив в объятья свою первую настоящую любовь и, будто перед смертью, не могу надышаться своей Алёнкой, всей этой окружающей свободой, этой прекрасной осенью, обожанием друзей и предвкушением того, что это всё скоро кончится, и начнётся нечто новое. И не важно, льётся рекой портвейн на квартире у Димы Шишкина, или хрустят скатерти, уставленные шампанским в «Арагви», или даже просто меняется бесконечный хоровод пивных кружек в пивбаре «Саяны», ощущение не меняется – Праздник! И если даже все вокруг воспринимают это, как «парень отрывается перед армией», я-то знаю, что это не правда. Потому что чувствую, всей своей ещё не крепкой и молодой натурой чувствую, что уходит эпоха. Эпоха! Я даже не могу сам себе объяснить, с чего я это взял, ведь всё как всегда! Но я чувствую. Нет! Я даже знаю! Я знаю, что Алёна меня не дождётся. Я знаю, что многие, кто сейчас друзья, давно уже не друзья. Я знаю, что, проводив меня в армию, наконец моя мама выйдет замуж за своего любимого человека! Ведь ей в ту осень было всего 41 год... А главное, я знаю, что со страной будет что-то плохое... В мозгу стоят слова моего деда, Петра Артемича, когда он первый раз послушал Горбачёва: «Ну, пиздец стране. Доигрались». За страну страшно конечно... Но это всё ерунда! Последняя осень! Гуляй, Емеля!
Так вот, тот самый октябрь и я, тот самый, шальной и гулящий, без двух месяцев Боец Красной Армии...
Я распахиваю форточку, закуриваю сигарету и закрываю по привычке глаза, вслушиваясь в стук собственного сердца. Секунда... две... и вот уже память, спрессованная в года, уносит меня то ли на Сретенский, то ли на Тверской, а скорее всего на любимый Никитский... Но это не важно! Бульвар...
– Ну, как тебе?
– Ты гений. Ну тебе же все это говорят. А мне просто нравится! – Ленка рассмеялась, и её глаза засверкали необыкновенными зелёными искорками.
– Алён, мне на Лёньку Баяндина с его «ты гений», как-то наплевать. Для него все, кто умнее его, уже гении. А ты врать не умеешь, поэтому мне твоё мнение важно. Нет, не так. Ты умеешь, но тебя я сразу чувствую, когда ты врёшь.
– Зачем ты идёшь в армию? Ты же мог не ходить. Доучился бы в техникуме, а потом институт и вообще бы не пошёл. Я не знаю, как я смогу без тебя. Боюсь не выдержу. Я себя уже женой ощущаю...
– Да стыдно, Ленк. Глеб ушёл, Вова ушёл, Шокин... Бонек вон в Афгане воюет, Дрон Родниковский тоже там... Все служат. Даже Серёга Учкин! А я что, в компании Лёни и Шишкина останусь? Стыдно как-то... Всё! Хорош! Ты лучше скажи куда сейчас? В «Казбек» или «Арагви» не пойдём, денег сегодня нет, завтра у деда возьму. Дед даст. Он единственный меня понимает. В «Метлу» не хочу. Не могу видеть уже эти дебильные мажорные рожи. Тебе вообще самой чего хочется?
– Грустно. Хочу, что-нибудь тихого. Со свечами. Чтобы ты и я. Надоели все. Обнимут и так трогательно спрашивают: «Ты как? Будешь его ждать?» Заебали.
– Так, так, так... Есть! Всё, как вы хотите, королева! В Столешниковом. Не доходя до «Ямы». Там кафе в подвале. Жрать правда нечего, только пирожные. Но ликёр «Шартрез», тихая музыка и свечи. А потом к Шишкину. Я звонил, он ждёт. Он и накормит. Вина, конечно, купим. Ты только маме сообщи. Нормально? Ну всё тогда, мадмуазель, прошу! – я протянул руку и уже хотел крутануть Алёнку в порыве, а-ля танго, мне очень нравилось, как раскручивается на ветру её кипа белых волос, но тут прозвучал голос с соседней лавочки.
– Молодой человек! Да-да! Я к вам обращаюсь! Максим. Так ведь вас зовут. Я стал невольным свидетелем вашего монолога и с удовольствием выслушал ваши стихотворения, и хочу сказать, что вы очень талантливый и интересный человек! И стихи у вас замечательные! А про Мавзолей, так просто гениально, – мужчина, ещё крепкий и не старый, повернулся в нашу сторону, закинув руку на спинку лавочки, и улыбнулся, глядя поверх очков. Я повернул голову в его сторону, уже было готовый ответить что-нибудь холодное и вежливое и по быстрее отделаться от назойливого пенсионера, но что-то остановило мой взгляд на его лице. То ли искрящиеся улыбкой и при этом очень умные глаза – редко такие встретишь – или просто я в тот момент подумал, что где-то уже видел это лицо, и стал судорожно вспоминать... Не помню. Помню, что уставился на него и не мог ничего сказать.
– Вы, наверное, пытаетесь вспомнить, где меня видели. Я облегчу ваши страдания! Я Александр Митта. Режиссёр. Вы видели мои фильмы?
– «Мой друг Колька», «Арап Петра Великого», – немного ошарашено проговорил я, и тут же Ленка выпалила:
– «Экипаж»!
Митта засмеялся.
– Ну то, что Ваша милая девушка среагировала «Экипажем», это понятно. Три четверти людей почему-то теперь только это и помнят. А вот то, что вы назвали сначала «Кольку»... Это интересно, честное слово! Вы ещё больше мне нравитесь, молодой человек. А почему «Колька»? Если, конечно, не секрет!
– Потому что это про жизнь. Про меня, про моих друзей, про нашу школу. Там всё правда. А для меня искусство – это прежде всего правда.
– А «Экипаж», значит, не правда?
– Нет. Но мне этот фильм тоже нравится. Это сказка. Хорошая сказка. А воспитывают всех на сказках.
– А мою «Сказку странствий» смотрели?
– Смотрел.
– И как вам?
– По мне так, во-первых, затянуто, а во-вторых, это кино не будет популярно. Сказка должна быть лёгкой. Умной, но лёгкой. А ваша сказка тяжёлая. Вот «Экипаж» – сказка лёгкая. Она приживётся в веках.
– Поразительно... Вам восемнадцать? Я слышал, что вы уходите в армию.
– Нет. Девятнадцать. Я в техникуме учусь после десятого класса.
– Понятно. Могу сказать, что для девятнадцати лет, вы очень серьёзный молодой человек. Я бы хотел пригласить вас в кино. Хотите сниматься?
– Хочу. Но только после армии.
Митта рассмеялся и протянул мне визитную карточку.
– Вот возьмите. Это карточка для близких. Там есть домашний телефон. Решите связать свою жизнь с кино, звоните. Просто скажите: «Это Максим с бульвара». Я вспомню. Ну, мне пора. И вас я задержал. Прошу прощения у вашей дамы. Творите, Максим! Стихи ваши отличные. Они настоящие.
– Только не печатают нигде.
– Ну и что? А Володю печатали? А Бродского? К вашему сведению, даже Александра Сергеевича долго не печатали.
– Но у него хоть цензором император был...
– Ух! Вы ещё и эрудит! Какой замечательный вечер! Просто хочется жить! Пишите, Максим! Творите! И главное, не обращайте внимание на всех, кто будет вас гнобить и душить. Плюйте на них!
– А можно один вопрос? Точнее, мнение своё...
– Конечно!
– Я считаю, что в «Экипаже» вы неправильно выбрали артиста.
– Вот как?! И кто же это? – он резко посерьёзнел, и глаза стали колючими. – Ну? Говорите!
– Я считаю, что Филатов не на своём месте, – Глаза Митты расширились от удивления, но я продолжил. – Его герой, он же по вашему замыслу циник. А Леонид Филатов – поэт. Он мягкий человек. Совсем не циник. Он не подходит. Поэтому нет драмы. Циник не превращается в героя и человека. Я считаю, это не правильный выбор артиста.
Александр Наумович вперился в меня взглядом, о котором можно придумать сто тысяч эпитетов. Он буквально сверлил мне мозг несколько секунд. А потом вдруг неожиданно улыбнулся и, поправив мне непослушную чёлку и похлопав мягко по шее, произнёс:
– Поразительно... Приходите в кино, Максим. Приходите! Это ваше! Но стихи – это тоже ваше! Творите! – он повернулся и пошагал по бульвару. Но, сделав всего пару-тройку шагов, остановился. Медленно обернулся и немного грустно выкрикнул. – Должен был играть Даль, но Олег заболел.
Он так мне и запомнился. В длинном дорогом пальто, в кепке, уходящий в жёлтом свете фонарей по засыпанному листьями вечернему бульвару...
Жизнь не имеет сослагательного наклонения. И глупо сейчас, спустя сорок лет, рассуждать, что было бы, если.... Давно потерялась визитная карточка, уже очень редко снится первая любовь и совсем другая Москва – чужая и холодная. Но я помню, какое наслаждение получил спустя пятнадцать лет после той встречи, когда смотрел «Таёжный роман». Великий без преувеличения фильм. Недооценённый почему-то. Хотя почему я задаю вопрос?! Я прекрасно понимаю, почему он не крутится по телеку! Потому что там тоска! Жуткая грусть и тоска по тому, что мы все потеряли – по СССР! По человеческим отношениям, по настоящей любви, по подвигу, который делается легко, как будто это норма... Лучший фильм о Советской Армии. Честный. Настоящий. Как и всё, что делал Александр Наумович. Здорово, что этот фильм снял именно Митта. Он снял моё кино юности, «Моего друга Кольку», и он же сыграл для меня поминки по моей Родине своим «Таёжным Романом». Браво, Маэстро!
И только одно защемило сердце в тот момент. А ведь и я мог играть в этом кино! Но жизнь – она хитрая штука, она расставляет всё по-своему и забирает потом всё, тогда, когда ей хочется. Вот и Александра Наумовича забрала. А значит, пришло время и Великий Русский Режиссёр нужен теперь там, где, наверное, уже очень тесно от Великих.
Спасибо Вам, Александр Наумович!
Я Вас помню.
Вы были во всём правы.
Царствие Вам небесное!
ЦАРСТВИЯ ВАМ НЕБЕСНОГО!
Эссе
Александру Наумовичу Митте посвящается
Октябрь. Тот самый мягкий и сухой, с лёгкими морозными ночами, Московский октябрь, каких последние лет двадцать уже не было, и, наверное, уже никогда не будет. Когда сухое, голубое и звонкое до летнего неприличия, небо отражается в глазах красивых девушек и, играясь последними отблесками вечернего солнца на их накрашенных губках и розовеющих щёчках, зажигается вдруг сотнями маленьких светлячков на кончиках сигарет. Когда заваленные шуршащими кленовыми листьями дорожки бульваров не отпускают тебя, и заставляют накручивать раз за разом это колдовское Московское Бульварное кольцо. И когда можно наконец надеть своё любимое, кашемировое пальто и по-пижонски подняв воротник, не надевать шапку, позволив холодному, чуть-чуть колкому, осеннему ветру лохматить твою длинную, по последней моде, чёлку...
Это был октябрь 1985 года. Через два месяца мне уходить в армию. Повестка уже лежит в серванте в комнате деда под увесистой фарфоровой статуэткой бойца пограничника с собакой. Уже посланы далеко и прямо занятия в Техникуме – какая разница, ведь всё равно семестр не зачтут! И я сутки на пролёт гуляю, схватив в объятья свою первую настоящую любовь и, будто перед смертью, не могу надышаться своей Алёнкой, всей этой окружающей свободой, этой прекрасной осенью, обожанием друзей и предвкушением того, что это всё скоро кончится, и начнётся нечто новое. И не важно, льётся рекой портвейн на квартире у Димы Шишкина, или хрустят скатерти, уставленные шампанским в «Арагви», или даже просто меняется бесконечный хоровод пивных кружек в пивбаре «Саяны», ощущение не меняется – Праздник! И если даже все вокруг воспринимают это, как «парень отрывается перед армией», я-то знаю, что это не правда. Потому что чувствую, всей своей ещё не крепкой и молодой натурой чувствую, что уходит эпоха. Эпоха! Я даже не могу сам себе объяснить, с чего я это взял, ведь всё как всегда! Но я чувствую. Нет! Я даже знаю! Я знаю, что Алёна меня не дождётся. Я знаю, что многие, кто сейчас друзья, давно уже не друзья. Я знаю, что, проводив меня в армию, наконец моя мама выйдет замуж за своего любимого человека! Ведь ей в ту осень было всего 41 год... А главное, я знаю, что со страной будет что-то плохое... В мозгу стоят слова моего деда, Петра Артемича, когда он первый раз послушал Горбачёва: «Ну, пиздец стране. Доигрались». За страну страшно конечно... Но это всё ерунда! Последняя осень! Гуляй, Емеля!
Так вот, тот самый октябрь и я, тот самый, шальной и гулящий, без двух месяцев Боец Красной Армии...
Я распахиваю форточку, закуриваю сигарету и закрываю по привычке глаза, вслушиваясь в стук собственного сердца. Секунда... две... и вот уже память, спрессованная в года, уносит меня то ли на Сретенский, то ли на Тверской, а скорее всего на любимый Никитский... Но это не важно! Бульвар...
– Ну, как тебе?
– Ты гений. Ну тебе же все это говорят. А мне просто нравится! – Ленка рассмеялась, и её глаза засверкали необыкновенными зелёными искорками.
– Алён, мне на Лёньку Баяндина с его «ты гений», как-то наплевать. Для него все, кто умнее его, уже гении. А ты врать не умеешь, поэтому мне твоё мнение важно. Нет, не так. Ты умеешь, но тебя я сразу чувствую, когда ты врёшь.
– Зачем ты идёшь в армию? Ты же мог не ходить. Доучился бы в техникуме, а потом институт и вообще бы не пошёл. Я не знаю, как я смогу без тебя. Боюсь не выдержу. Я себя уже женой ощущаю...
– Да стыдно, Ленк. Глеб ушёл, Вова ушёл, Шокин... Бонек вон в Афгане воюет, Дрон Родниковский тоже там... Все служат. Даже Серёга Учкин! А я что, в компании Лёни и Шишкина останусь? Стыдно как-то... Всё! Хорош! Ты лучше скажи куда сейчас? В «Казбек» или «Арагви» не пойдём, денег сегодня нет, завтра у деда возьму. Дед даст. Он единственный меня понимает. В «Метлу» не хочу. Не могу видеть уже эти дебильные мажорные рожи. Тебе вообще самой чего хочется?
– Грустно. Хочу, что-нибудь тихого. Со свечами. Чтобы ты и я. Надоели все. Обнимут и так трогательно спрашивают: «Ты как? Будешь его ждать?» Заебали.
– Так, так, так... Есть! Всё, как вы хотите, королева! В Столешниковом. Не доходя до «Ямы». Там кафе в подвале. Жрать правда нечего, только пирожные. Но ликёр «Шартрез», тихая музыка и свечи. А потом к Шишкину. Я звонил, он ждёт. Он и накормит. Вина, конечно, купим. Ты только маме сообщи. Нормально? Ну всё тогда, мадмуазель, прошу! – я протянул руку и уже хотел крутануть Алёнку в порыве, а-ля танго, мне очень нравилось, как раскручивается на ветру её кипа белых волос, но тут прозвучал голос с соседней лавочки.
– Молодой человек! Да-да! Я к вам обращаюсь! Максим. Так ведь вас зовут. Я стал невольным свидетелем вашего монолога и с удовольствием выслушал ваши стихотворения, и хочу сказать, что вы очень талантливый и интересный человек! И стихи у вас замечательные! А про Мавзолей, так просто гениально, – мужчина, ещё крепкий и не старый, повернулся в нашу сторону, закинув руку на спинку лавочки, и улыбнулся, глядя поверх очков. Я повернул голову в его сторону, уже было готовый ответить что-нибудь холодное и вежливое и по быстрее отделаться от назойливого пенсионера, но что-то остановило мой взгляд на его лице. То ли искрящиеся улыбкой и при этом очень умные глаза – редко такие встретишь – или просто я в тот момент подумал, что где-то уже видел это лицо, и стал судорожно вспоминать... Не помню. Помню, что уставился на него и не мог ничего сказать.
– Вы, наверное, пытаетесь вспомнить, где меня видели. Я облегчу ваши страдания! Я Александр Митта. Режиссёр. Вы видели мои фильмы?
– «Мой друг Колька», «Арап Петра Великого», – немного ошарашено проговорил я, и тут же Ленка выпалила:
– «Экипаж»!
Митта засмеялся.
– Ну то, что Ваша милая девушка среагировала «Экипажем», это понятно. Три четверти людей почему-то теперь только это и помнят. А вот то, что вы назвали сначала «Кольку»... Это интересно, честное слово! Вы ещё больше мне нравитесь, молодой человек. А почему «Колька»? Если, конечно, не секрет!
– Потому что это про жизнь. Про меня, про моих друзей, про нашу школу. Там всё правда. А для меня искусство – это прежде всего правда.
– А «Экипаж», значит, не правда?
– Нет. Но мне этот фильм тоже нравится. Это сказка. Хорошая сказка. А воспитывают всех на сказках.
– А мою «Сказку странствий» смотрели?
– Смотрел.
– И как вам?
– По мне так, во-первых, затянуто, а во-вторых, это кино не будет популярно. Сказка должна быть лёгкой. Умной, но лёгкой. А ваша сказка тяжёлая. Вот «Экипаж» – сказка лёгкая. Она приживётся в веках.
– Поразительно... Вам восемнадцать? Я слышал, что вы уходите в армию.
– Нет. Девятнадцать. Я в техникуме учусь после десятого класса.
– Понятно. Могу сказать, что для девятнадцати лет, вы очень серьёзный молодой человек. Я бы хотел пригласить вас в кино. Хотите сниматься?
– Хочу. Но только после армии.
Митта рассмеялся и протянул мне визитную карточку.
– Вот возьмите. Это карточка для близких. Там есть домашний телефон. Решите связать свою жизнь с кино, звоните. Просто скажите: «Это Максим с бульвара». Я вспомню. Ну, мне пора. И вас я задержал. Прошу прощения у вашей дамы. Творите, Максим! Стихи ваши отличные. Они настоящие.
– Только не печатают нигде.
– Ну и что? А Володю печатали? А Бродского? К вашему сведению, даже Александра Сергеевича долго не печатали.
– Но у него хоть цензором император был...
– Ух! Вы ещё и эрудит! Какой замечательный вечер! Просто хочется жить! Пишите, Максим! Творите! И главное, не обращайте внимание на всех, кто будет вас гнобить и душить. Плюйте на них!
– А можно один вопрос? Точнее, мнение своё...
– Конечно!
– Я считаю, что в «Экипаже» вы неправильно выбрали артиста.
– Вот как?! И кто же это? – он резко посерьёзнел, и глаза стали колючими. – Ну? Говорите!
– Я считаю, что Филатов не на своём месте, – Глаза Митты расширились от удивления, но я продолжил. – Его герой, он же по вашему замыслу циник. А Леонид Филатов – поэт. Он мягкий человек. Совсем не циник. Он не подходит. Поэтому нет драмы. Циник не превращается в героя и человека. Я считаю, это не правильный выбор артиста.
Александр Наумович вперился в меня взглядом, о котором можно придумать сто тысяч эпитетов. Он буквально сверлил мне мозг несколько секунд. А потом вдруг неожиданно улыбнулся и, поправив мне непослушную чёлку и похлопав мягко по шее, произнёс:
– Поразительно... Приходите в кино, Максим. Приходите! Это ваше! Но стихи – это тоже ваше! Творите! – он повернулся и пошагал по бульвару. Но, сделав всего пару-тройку шагов, остановился. Медленно обернулся и немного грустно выкрикнул. – Должен был играть Даль, но Олег заболел.
Он так мне и запомнился. В длинном дорогом пальто, в кепке, уходящий в жёлтом свете фонарей по засыпанному листьями вечернему бульвару...
Жизнь не имеет сослагательного наклонения. И глупо сейчас, спустя сорок лет, рассуждать, что было бы, если.... Давно потерялась визитная карточка, уже очень редко снится первая любовь и совсем другая Москва – чужая и холодная. Но я помню, какое наслаждение получил спустя пятнадцать лет после той встречи, когда смотрел «Таёжный роман». Великий без преувеличения фильм. Недооценённый почему-то. Хотя почему я задаю вопрос?! Я прекрасно понимаю, почему он не крутится по телеку! Потому что там тоска! Жуткая грусть и тоска по тому, что мы все потеряли – по СССР! По человеческим отношениям, по настоящей любви, по подвигу, который делается легко, как будто это норма... Лучший фильм о Советской Армии. Честный. Настоящий. Как и всё, что делал Александр Наумович. Здорово, что этот фильм снял именно Митта. Он снял моё кино юности, «Моего друга Кольку», и он же сыграл для меня поминки по моей Родине своим «Таёжным Романом». Браво, Маэстро!
И только одно защемило сердце в тот момент. А ведь и я мог играть в этом кино! Но жизнь – она хитрая штука, она расставляет всё по-своему и забирает потом всё, тогда, когда ей хочется. Вот и Александра Наумовича забрала. А значит, пришло время и Великий Русский Режиссёр нужен теперь там, где, наверное, уже очень тесно от Великих.
Спасибо Вам, Александр Наумович!
Я Вас помню.
Вы были во всём правы.
Царствие Вам небесное!

Владимир ЛОКТЕВ
Год и место рождения – 1945, Архангельск. Окончил школу в Грязовце Вологодской области, техникум в Кировограде, институт в Одессе. Работал трактористом, слесарем, лаборантом, с 1970 года в Астрахани. Кандидат технических наук, доцент, Почетный ветеран Астраханского государственного технического университета. Автор более ста научных публикаций, в том числе за рубежом (Англия, Германия). Публиковался в журналах «Студенческий меридиан», «Журналист», в газете «Волга» и других региональных изданиях, в вузовских многотиражках Москвы и Астрахани. Призёр конкурсов журнала «Крокодил», еженедельника «Аргументы и факты». Его рассказы опубликованы в литературных сборниках, в журналах и альманахах «Спутник», «Новое слово», «Всё будет хорошо», «Новая литература», написал книгу «В семье». Лауреат региональных литературных конкурсов. Лауреат Всероссийского конкурса «Герои Великой Победы -25».
Год и место рождения – 1945, Архангельск. Окончил школу в Грязовце Вологодской области, техникум в Кировограде, институт в Одессе. Работал трактористом, слесарем, лаборантом, с 1970 года в Астрахани. Кандидат технических наук, доцент, Почетный ветеран Астраханского государственного технического университета. Автор более ста научных публикаций, в том числе за рубежом (Англия, Германия). Публиковался в журналах «Студенческий меридиан», «Журналист», в газете «Волга» и других региональных изданиях, в вузовских многотиражках Москвы и Астрахани. Призёр конкурсов журнала «Крокодил», еженедельника «Аргументы и факты». Его рассказы опубликованы в литературных сборниках, в журналах и альманахах «Спутник», «Новое слово», «Всё будет хорошо», «Новая литература», написал книгу «В семье». Лауреат региональных литературных конкурсов. Лауреат Всероссийского конкурса «Герои Великой Победы -25».
СПАСИБО ГРЯЗОВЦУ
Судьба военных и их семей всегда связана с переназначениями, переездами, новыми местами. Так случилось и с нами, в Грязовец отца направили для продолжения службы районным военным комиссаром. Как-никак подполковник и должность начальственная, встречали нас на станции, по-местному, высшим классом.
Для меня переезд из Архангельска оказался полной неожиданностью. Зато появились надежды на хорошие перемены. Может быть, на новом месте забудутся мои тройки и двойки, проделки и безобразия? Итак, к концу лета 1955 года мы с родителями оказались на какой-то невзрачной станции. Это оказался городишко с отпугивающим названием: Грязовец. Теперь мне предстояло взрослеть, жить, учиться, заводить новых друзей здесь.
Торжественность встречи испортил мелкий, неприятный дождь. В помещении крохотного, неуютного вокзала, если можно так назвать старинное одноэтажное строение, находились две-три деревянные лавки, бачок питьевой воды с привязанной к нему алюминиевой кружкой и возле окошка «Касса» милиционер. С его подсказки мы вступили в город.
Там нас ожидали лужи, мокрая непролазная грязь и транспорт мощностью в одну лошадиную силу. Разместившись в телеге поудобнее и накрывшись припасенными извозчиком кусками брезента, двинулись в путь. Разглядывая из-под укрытия городские достопримечательности, я увидел примерно следующее. Те же лужи и грязь, по дороге невидимые ухабы, поэтому телега переваливалась из стороны в сторону, порой колеса тонули наполовину, а то и больше. Тоскливые одноэтажные деревянные дома, местами пустыри, кое-где, а порою часто, сгнившие или поломанные деревянные тротуары возвышались над дорогой. От станции ехали по одной длинной улице мимо почты слева, бани справа, речушки внизу, опять вверх. Впереди показались дома повыше, еще дальше собор, телега последний раз качнулась и остановилась.
Нам предстояло осваивать комнату на первом этаже полутораэтажного дома. Вход со двора в большую прихожую без окон, наша комната прямо, с окном на улицу. В прихожей я увидел девчонку, которая возилась с котенком.
– Ты кто? – бесцеремонно спросил я.
– Я? – переспросила она и, нисколько не смущаясь моего напора, бойко ответила. – Я Оля, а тебя как звать?
– Вова, Володя.
– Ну и хорошо. Значит, мы будем соседями, – Оля указала на дверь справа.
– А это твой котенок? – смело спросил я, увидев у Олиной двери живой комочек.
– Это Серко, я только что нашла его на улице. Давай он будет жить здесь, и мы вместе будем его кормить.
– Давай, – с радостью согласился я.
Оля засуетилась, откуда-то появились тряпки, подстилка для котенка, мисочка. Мы уложили его в кухне-прихожей на подстилку, бережно по очереди приласкали, и он ответил нам довольным урчанием.
Оказалось, Оле тоже скоро десять, и перешла она в четвертый класс. Олиного отца, дядю Васю, направили в Грязовец из города Сокол с повышением, он только что приступил к своим обязанностям заместителя председателя райисполкома. И он, и Олина мама, тетя Аня, постарше моих родителей, но почти сразу же наши семьи подружились.
Конечно, я не возражал против соседской дружбы семьями, все веселее. Тоскливыми зимними вечерами, по праздникам собирались то у нас, то у соседей на чаепитие. Тетя Аня угощала вкусными пирожками, иногда пекла пироги, варила пельмени. Мать тоже старалась приготовить что-нибудь необычное, оригинальное – вареники, оладьи с вишневым вареньем.
Выбор школы для продолжения учебы оказался ограниченным. Мать после окончания пединститута в Архангельске немного поработала учителем географии, и в Грязовце собиралась учительствовать. Возможно, ее стараниями было устроено так, что мы с Олей оказались в одном классе начальной школы.
Дружба с девчонкой особо не тяготила, но возникли некие неудобства. Первое и поначалу главное неудобство – в школу и из школы мы ходили вместе, насмешек не оберешься: «жених и невеста, из одного теста», «любовь до гроба, дураки оба». Учительница, наверное, перестаралась, в классе посадила нас с Олей за одну парту, и здесь кто-то потрудился, на века вырезал ножичком: ОЛЯ + ВОВА = ЛЮБОВЬ. Вслед за этим и мне пришлось не одну перемену поработать ножичком, чтобы укоротить вечность. Все буквы я кое-как исправил на цифры и вывел уникальное математическое равенство: ОО8 + 8О88 = 81О8О86.
Чужим было наплевать, насмехались над нами в основном соседские мальчишки и одноклассники, хотя учителя воспитывали школьников на примере нашей соседской мальчишко-девчачьей дружбы. Немного повзрослев, одноклассникам надоело дразнить нас, а через два-три года для многих стало нормой ходить в школу и из школы парочками.
Еще одно неудобство – Оля была отличницей. Вот не повезло, думал я. И не просто отличницей, а отличницей «круглой». Поэтому долгое время я чувствовал себя неуютно, рядом с Олей мне совсем неудобно было оставаться двоечником. Уроки, по ее инициативе, стали делать вместе. До сих пор удивляюсь, как у соседки хватало терпения возиться со мной? Возможно, тогда и проявился ее педагогический талант.
– Вова, оставь Серко, пошли делать уроки.
Жаль бросать котенка, другие забавы, но уроки все равно надо делать, поэтому наставительный тон соседки не раздражал. В крайнем случае Оля поможет, хуже не будет. Оказывается, надо правильно сидеть. Рядом положить перочистку, приготовить промокашку. Такие листочки вкладывались в каждую новую школьную тетрадь, а я считал их излишествами, обычно сразу же терял или выбрасывал промокашки, как ненужные вещи. Убедившись, что все указания выполнены, Оля продолжала наставления:
– Не торопись. Аккуратно… Не набирай много чернил. Прочисти перышко… Не дергай ручку. Перышко ровнее… Промокни. Ну вот, уже лучше.
Размазни и клякс становилось меньше. Но обнаружились проблемы с арифметикой. Оля буквально заставляла меня учить по учебнику правила, читать «Родную речь». Это были полезные уроки. Многому – усидчивости, старанию – я научился у соседки. Хорошо, что у нее хватило терпения, такта помочь, подсказать, научить работать с учебниками, правильно излагать прочитанное. Так в четвертом классе у меня стало меньше двоек, по некоторым предметам появились редкие четверки, получше стало с ненавистным прежде чистописанием.
Завершив начальное образование, мы оба благополучно перешли в пятый класс. С этим событием совпал наш переезд в новый дом, в отдельные квартиры. Мне кажется, в середине 50-х годов все городское жилищное строительство в Грязовце ограничилось введением в строй нового двухэтажного кирпичного дома по улице Карла Маркса, рядом с типографией. В доме всего восемь квартир, наши квартиры с Ульяновыми на втором этаже. Так что продолжению дружбы с Олей способствовало, как и прежде, близкое соседство.
Элитный дом, в который мы переехали, построили для районного начальства. Наша двухкомнатная квартира представляла собой коридор, первая дверь направо в общую комнату, из нее можно пройти во вторую комнату, родительскую спальню. Комнаты отапливались печкой из коридора, дальше по коридору еще одна дверь вправо на кухню, а дверь прямо – в туалет. К моим прежним бытовым обязанностям добавилась доставка дров: «Во дворе трава, на траве дрова».
О каком сливе вы говорите, читатель! Раз в год по весне к дому подъезжала специальная машина и снизу откачивала накопившиеся отходы. Водопровод ручной, ведрами из колонки, наискосок через дорогу, рядом с районным Домом культуры, это тоже моя обязанность. На кухне плита, разжигаемая дровами. Мать редко пользовалась плитой, побаивалась и более современных бензиновых примусов, по старинке готовила на керосинке. Вместо ванны и душа номера в городской бане, известной местным краеведам с середины XIX века.
Баня работала по субботам и воскресеньям. В городе это было важное событие. К речке и бане, стоявшей на пригорке, народ двигался дружными стайками: туда – грязный, измученный трудовыми буднями, обратно – чистый, распарившийся и довольный сделанными важными делами. В субботний вечер и воскресенье радовалась и оживала еще одна городская достопримечательность – речка Ржавка. Над Ржавкой клубился пар, ее русло быстро наполнялось мыльной водой, которая весело журчала и несла привет от грязовчан в Нурму, Обнору, Кострому, Волгу и в Каспийское море.
В элитный дом, кроме нас, переехали семьи секретаря райкома партии, еще одного зампредрайисполкома, районного прокурора Гусева. Вскоре я подружился с его сыном Колей. Он старше нас с Олей всего на полтора года, но был очень увлеченным, разносторонним – много читал, изучал иностранные языки, хорошо знал историю. Из ближайшего окружения я не знал другого такого мальчишки, с которым интересно было говорить на любые темы.
Если не от него, то от его присутствия рядом, не знаю, можно ли так сказать, и я становился «разносторонним». Неудачный архангельский опыт родителей приобщить меня к рисованию и музыке сделали их равнодушными к моим инициативам, поэтому за два-три года чем только не увлекался: спорт, выпиливание лобзиком, переписка с «Пионерской правдой», фотография, вышивание крестиком и даже, когда мать купила новую ножную швейную машинку Veritas, машинным вышиванием.
Оля в нашей соседской «тройке», безусловно, была примером старания и прилежания, Коля – генератором идей, я поначалу лишь следовал за ними, продолжая отыскивать что-то свое. Ребусы, кроссворды, книги, бесконечные разговоры и дискуссии долгими зимними вечерами сделали свое дело. Однажды мы заговорили о звездах, ночном бескрайнем небе, о вечности. Я вспомнил летние мамины рассказы о Луне, созвездиях. Вспомнил, что у нее есть книги по астрономии.
– Пойдем, посмотрим, – предложил Коля.
Доступ к маминым книгам был свободным. Отыскали карты звездного неба, справочник астронома-любителя, толстую книгу «Вселенная». Вскоре астрономия стала моим страстным увлечением. Я часами мог читать и рассказывать о звездах, планетах, кометах, метеоритах. Реальность в астрономии перемешивалась с фантастикой, читал Беляева, Жюль Верна. «Есть ли жизнь на Марсе?» – этот вопрос тогда беспокоил многих, в том числе обывателей. Меня, наряду с этим, волновали споры о мироздании, инопланетянах, тайна Тунгусского метеорита, история и печальная судьба погибшей планеты Церера.
В астрономии интересны не только слова, но и цифры. Например, расстояние от Солнца до Земли 150 миллионов километров, луч света со скоростью 300 тысяч километров в секунду проходит это расстояние за 8 минут. Земля по орбите вокруг Солнца движется с сумасшедшей скоростью – 30 километров в секунду. Цифры, числа, действия с ними, анализ, сопоставление, выводы, мечты крутятся в моей голове…
Кроме школьных учебников появились у меня «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная физика» Перельмана, любительские фотографии звездного неба. Несколько фотографий, на одной из них след от неопознанного летающего объекта, НЛО, отправились с моим обратным адресом в Ленинградское отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ЛОВАГО). Неожиданно оттуда мне, мальчишке, пришел ответ с предложением продолжить сотрудничество, дали задание определить широту и долготу местности, где я живу. Газета «Пионерская правда» пополнилась подпиской на журналы «Пионер», «Юный техник». В одном из них было рассказано, как самому сделать телескоп. Не сразу, не просто, моими руками все же было сделано такое устройство из трубочек и линз, побывавшее на выставках школьных поделок.
Мечталось о полетах в космос, к Марсу, звездам. Оказалось, не я один был этим увлечен, 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Потом второй спутник с собакой Лайкой полетел, третий. Мечты сбывались!
В газетах печатали время и место, когда и где можно увидеть двигающиеся по неподвижному звездному небу светлые точки – искусственные спутники Земли. Народ, и взрослые, и дети, собирались стайками, следили за временем, с любопытством и гордостью провожали взглядами рукотворное чудо советской науки и техники. На небо устремлялись не только глаза, но и объективы моего фотоаппарата, телескопа. Определенно, думал я, нужно готовиться в космонавты. Но и здесь я не успел, так стремительно развивались события! Меньше, чем через четыре года в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Мне казалось, его знаменитое перед стартом «Ну, поехали!» он адресовал лично мне, неудачнику: «Ну, проехали?». Интерес к космонавтике поугас, но познания в любительской астрономии остались.
Кроме двух друзей Ольги и Николая еще один взрослый человек в те ученические годы занял особое место в моем становлении – учитель математики Зоя Владимировна Острякова. В моем личном архиве чудом сохранилась брошюра, подготовленная областным институтом усовершенствования учителей и изданная в 1958 году Вологодским книжным издательством. Одна из статей в ней называется «Из опыта воспитательной работы с пятым классом», ее автор – классный руководитель средней школы № 2 города Грязовца З. В. Острякова. Спасибо ей, что таким образом увековечила наш класс! Отдавая дань давней истории, привожу несколько коротких выдержек из ее статьи:
– Всем ученикам поставлен балл «5» по поведению, в классе трое неуспевающих;
– В классе создано тимуровское звено. Однажды пришло письмо от пенсионерки: «Из вашего класса нас посещают дети. Они помогали нам раскидывать снег, принесли воды, вымели и вымыли пол. Спасибо им и вам за их воспитание»;
– На отрядном сборе один из пионеров говорил: «Смысл вежливости состоит в том, чтобы уважать окружающих»;
– Все учащиеся перешли в шестой класс, одна с отличными оценками, семь человек с оценками 4 и 5.
Замечу, что та ученица, которая перешла в шестой класс «с отличными оценками», это, конечно, Оля. Теперь догадайся, читатель, кто руководил тимуровским звеном? Кто тот пионер, который говорил о вежливости? Правильно, автор этих строк. Он же был одним из трех неуспевающих в пятом классе. Так что, сознаюсь, не вошел я тогда в число тех семи учеников, которые пятый класс окончили с оценками 4 и 5.
Мои отношения с Зоей Владимировной складывались непросто. Для меня она не только классный руководитель, а и учитель, в прямом смысле слова, классный. Мне она очень нравилась, но я-то порадовать ее тогда не мог. Она же понимала, что имеет дело со слабым учеником. Лишь со временем на фоне увлечения астрономией появился у меня интерес к математике, физике. В результате, наконец, появились твердая тройка по физике, хорошие оценки по арифметике, алгебре, геометрии. С этим и закончил я седьмой класс.
Забегая по хронологии на годы вперед, дополню.
В аттестате зрелости, полученном в Грязовце по окончании вечерней школы, троек у меня уже не было. Осенью того же 1962 года мы с родителями переехали в Украину. Позже в Одессе я с отличием окончил институт, много лет преподавал дисциплины физико-математического цикла в ВУЗах Астрахани.
За все это спасибо Грязовцу, моим грязовецким друзьям и учителям:
Ольга Васильевна Артемьева (Ульянова) с отличием окончила Вологодский педагогический институт, работала учителем физики в Грязовецкой средней школе № 2;
Николай Васильевич Гусев окончил Вологодский педагогический институт, аспирантуру Ленинградского государственного университета, стал известным в области журналистом, работал в Грязовецкой районной газете «Сельская правда».
Зоя Владимировна Острякова стала директором Грязовецкой средней школы № 2, ей присвоено звание «Почетный гражданин Грязовецкого района».
Судьба военных и их семей всегда связана с переназначениями, переездами, новыми местами. Так случилось и с нами, в Грязовец отца направили для продолжения службы районным военным комиссаром. Как-никак подполковник и должность начальственная, встречали нас на станции, по-местному, высшим классом.
Для меня переезд из Архангельска оказался полной неожиданностью. Зато появились надежды на хорошие перемены. Может быть, на новом месте забудутся мои тройки и двойки, проделки и безобразия? Итак, к концу лета 1955 года мы с родителями оказались на какой-то невзрачной станции. Это оказался городишко с отпугивающим названием: Грязовец. Теперь мне предстояло взрослеть, жить, учиться, заводить новых друзей здесь.
Торжественность встречи испортил мелкий, неприятный дождь. В помещении крохотного, неуютного вокзала, если можно так назвать старинное одноэтажное строение, находились две-три деревянные лавки, бачок питьевой воды с привязанной к нему алюминиевой кружкой и возле окошка «Касса» милиционер. С его подсказки мы вступили в город.
Там нас ожидали лужи, мокрая непролазная грязь и транспорт мощностью в одну лошадиную силу. Разместившись в телеге поудобнее и накрывшись припасенными извозчиком кусками брезента, двинулись в путь. Разглядывая из-под укрытия городские достопримечательности, я увидел примерно следующее. Те же лужи и грязь, по дороге невидимые ухабы, поэтому телега переваливалась из стороны в сторону, порой колеса тонули наполовину, а то и больше. Тоскливые одноэтажные деревянные дома, местами пустыри, кое-где, а порою часто, сгнившие или поломанные деревянные тротуары возвышались над дорогой. От станции ехали по одной длинной улице мимо почты слева, бани справа, речушки внизу, опять вверх. Впереди показались дома повыше, еще дальше собор, телега последний раз качнулась и остановилась.
Нам предстояло осваивать комнату на первом этаже полутораэтажного дома. Вход со двора в большую прихожую без окон, наша комната прямо, с окном на улицу. В прихожей я увидел девчонку, которая возилась с котенком.
– Ты кто? – бесцеремонно спросил я.
– Я? – переспросила она и, нисколько не смущаясь моего напора, бойко ответила. – Я Оля, а тебя как звать?
– Вова, Володя.
– Ну и хорошо. Значит, мы будем соседями, – Оля указала на дверь справа.
– А это твой котенок? – смело спросил я, увидев у Олиной двери живой комочек.
– Это Серко, я только что нашла его на улице. Давай он будет жить здесь, и мы вместе будем его кормить.
– Давай, – с радостью согласился я.
Оля засуетилась, откуда-то появились тряпки, подстилка для котенка, мисочка. Мы уложили его в кухне-прихожей на подстилку, бережно по очереди приласкали, и он ответил нам довольным урчанием.
Оказалось, Оле тоже скоро десять, и перешла она в четвертый класс. Олиного отца, дядю Васю, направили в Грязовец из города Сокол с повышением, он только что приступил к своим обязанностям заместителя председателя райисполкома. И он, и Олина мама, тетя Аня, постарше моих родителей, но почти сразу же наши семьи подружились.
Конечно, я не возражал против соседской дружбы семьями, все веселее. Тоскливыми зимними вечерами, по праздникам собирались то у нас, то у соседей на чаепитие. Тетя Аня угощала вкусными пирожками, иногда пекла пироги, варила пельмени. Мать тоже старалась приготовить что-нибудь необычное, оригинальное – вареники, оладьи с вишневым вареньем.
Выбор школы для продолжения учебы оказался ограниченным. Мать после окончания пединститута в Архангельске немного поработала учителем географии, и в Грязовце собиралась учительствовать. Возможно, ее стараниями было устроено так, что мы с Олей оказались в одном классе начальной школы.
Дружба с девчонкой особо не тяготила, но возникли некие неудобства. Первое и поначалу главное неудобство – в школу и из школы мы ходили вместе, насмешек не оберешься: «жених и невеста, из одного теста», «любовь до гроба, дураки оба». Учительница, наверное, перестаралась, в классе посадила нас с Олей за одну парту, и здесь кто-то потрудился, на века вырезал ножичком: ОЛЯ + ВОВА = ЛЮБОВЬ. Вслед за этим и мне пришлось не одну перемену поработать ножичком, чтобы укоротить вечность. Все буквы я кое-как исправил на цифры и вывел уникальное математическое равенство: ОО8 + 8О88 = 81О8О86.
Чужим было наплевать, насмехались над нами в основном соседские мальчишки и одноклассники, хотя учителя воспитывали школьников на примере нашей соседской мальчишко-девчачьей дружбы. Немного повзрослев, одноклассникам надоело дразнить нас, а через два-три года для многих стало нормой ходить в школу и из школы парочками.
Еще одно неудобство – Оля была отличницей. Вот не повезло, думал я. И не просто отличницей, а отличницей «круглой». Поэтому долгое время я чувствовал себя неуютно, рядом с Олей мне совсем неудобно было оставаться двоечником. Уроки, по ее инициативе, стали делать вместе. До сих пор удивляюсь, как у соседки хватало терпения возиться со мной? Возможно, тогда и проявился ее педагогический талант.
– Вова, оставь Серко, пошли делать уроки.
Жаль бросать котенка, другие забавы, но уроки все равно надо делать, поэтому наставительный тон соседки не раздражал. В крайнем случае Оля поможет, хуже не будет. Оказывается, надо правильно сидеть. Рядом положить перочистку, приготовить промокашку. Такие листочки вкладывались в каждую новую школьную тетрадь, а я считал их излишествами, обычно сразу же терял или выбрасывал промокашки, как ненужные вещи. Убедившись, что все указания выполнены, Оля продолжала наставления:
– Не торопись. Аккуратно… Не набирай много чернил. Прочисти перышко… Не дергай ручку. Перышко ровнее… Промокни. Ну вот, уже лучше.
Размазни и клякс становилось меньше. Но обнаружились проблемы с арифметикой. Оля буквально заставляла меня учить по учебнику правила, читать «Родную речь». Это были полезные уроки. Многому – усидчивости, старанию – я научился у соседки. Хорошо, что у нее хватило терпения, такта помочь, подсказать, научить работать с учебниками, правильно излагать прочитанное. Так в четвертом классе у меня стало меньше двоек, по некоторым предметам появились редкие четверки, получше стало с ненавистным прежде чистописанием.
Завершив начальное образование, мы оба благополучно перешли в пятый класс. С этим событием совпал наш переезд в новый дом, в отдельные квартиры. Мне кажется, в середине 50-х годов все городское жилищное строительство в Грязовце ограничилось введением в строй нового двухэтажного кирпичного дома по улице Карла Маркса, рядом с типографией. В доме всего восемь квартир, наши квартиры с Ульяновыми на втором этаже. Так что продолжению дружбы с Олей способствовало, как и прежде, близкое соседство.
Элитный дом, в который мы переехали, построили для районного начальства. Наша двухкомнатная квартира представляла собой коридор, первая дверь направо в общую комнату, из нее можно пройти во вторую комнату, родительскую спальню. Комнаты отапливались печкой из коридора, дальше по коридору еще одна дверь вправо на кухню, а дверь прямо – в туалет. К моим прежним бытовым обязанностям добавилась доставка дров: «Во дворе трава, на траве дрова».
О каком сливе вы говорите, читатель! Раз в год по весне к дому подъезжала специальная машина и снизу откачивала накопившиеся отходы. Водопровод ручной, ведрами из колонки, наискосок через дорогу, рядом с районным Домом культуры, это тоже моя обязанность. На кухне плита, разжигаемая дровами. Мать редко пользовалась плитой, побаивалась и более современных бензиновых примусов, по старинке готовила на керосинке. Вместо ванны и душа номера в городской бане, известной местным краеведам с середины XIX века.
Баня работала по субботам и воскресеньям. В городе это было важное событие. К речке и бане, стоявшей на пригорке, народ двигался дружными стайками: туда – грязный, измученный трудовыми буднями, обратно – чистый, распарившийся и довольный сделанными важными делами. В субботний вечер и воскресенье радовалась и оживала еще одна городская достопримечательность – речка Ржавка. Над Ржавкой клубился пар, ее русло быстро наполнялось мыльной водой, которая весело журчала и несла привет от грязовчан в Нурму, Обнору, Кострому, Волгу и в Каспийское море.
В элитный дом, кроме нас, переехали семьи секретаря райкома партии, еще одного зампредрайисполкома, районного прокурора Гусева. Вскоре я подружился с его сыном Колей. Он старше нас с Олей всего на полтора года, но был очень увлеченным, разносторонним – много читал, изучал иностранные языки, хорошо знал историю. Из ближайшего окружения я не знал другого такого мальчишки, с которым интересно было говорить на любые темы.
Если не от него, то от его присутствия рядом, не знаю, можно ли так сказать, и я становился «разносторонним». Неудачный архангельский опыт родителей приобщить меня к рисованию и музыке сделали их равнодушными к моим инициативам, поэтому за два-три года чем только не увлекался: спорт, выпиливание лобзиком, переписка с «Пионерской правдой», фотография, вышивание крестиком и даже, когда мать купила новую ножную швейную машинку Veritas, машинным вышиванием.
Оля в нашей соседской «тройке», безусловно, была примером старания и прилежания, Коля – генератором идей, я поначалу лишь следовал за ними, продолжая отыскивать что-то свое. Ребусы, кроссворды, книги, бесконечные разговоры и дискуссии долгими зимними вечерами сделали свое дело. Однажды мы заговорили о звездах, ночном бескрайнем небе, о вечности. Я вспомнил летние мамины рассказы о Луне, созвездиях. Вспомнил, что у нее есть книги по астрономии.
– Пойдем, посмотрим, – предложил Коля.
Доступ к маминым книгам был свободным. Отыскали карты звездного неба, справочник астронома-любителя, толстую книгу «Вселенная». Вскоре астрономия стала моим страстным увлечением. Я часами мог читать и рассказывать о звездах, планетах, кометах, метеоритах. Реальность в астрономии перемешивалась с фантастикой, читал Беляева, Жюль Верна. «Есть ли жизнь на Марсе?» – этот вопрос тогда беспокоил многих, в том числе обывателей. Меня, наряду с этим, волновали споры о мироздании, инопланетянах, тайна Тунгусского метеорита, история и печальная судьба погибшей планеты Церера.
В астрономии интересны не только слова, но и цифры. Например, расстояние от Солнца до Земли 150 миллионов километров, луч света со скоростью 300 тысяч километров в секунду проходит это расстояние за 8 минут. Земля по орбите вокруг Солнца движется с сумасшедшей скоростью – 30 километров в секунду. Цифры, числа, действия с ними, анализ, сопоставление, выводы, мечты крутятся в моей голове…
Кроме школьных учебников появились у меня «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная физика» Перельмана, любительские фотографии звездного неба. Несколько фотографий, на одной из них след от неопознанного летающего объекта, НЛО, отправились с моим обратным адресом в Ленинградское отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ЛОВАГО). Неожиданно оттуда мне, мальчишке, пришел ответ с предложением продолжить сотрудничество, дали задание определить широту и долготу местности, где я живу. Газета «Пионерская правда» пополнилась подпиской на журналы «Пионер», «Юный техник». В одном из них было рассказано, как самому сделать телескоп. Не сразу, не просто, моими руками все же было сделано такое устройство из трубочек и линз, побывавшее на выставках школьных поделок.
Мечталось о полетах в космос, к Марсу, звездам. Оказалось, не я один был этим увлечен, 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Потом второй спутник с собакой Лайкой полетел, третий. Мечты сбывались!
В газетах печатали время и место, когда и где можно увидеть двигающиеся по неподвижному звездному небу светлые точки – искусственные спутники Земли. Народ, и взрослые, и дети, собирались стайками, следили за временем, с любопытством и гордостью провожали взглядами рукотворное чудо советской науки и техники. На небо устремлялись не только глаза, но и объективы моего фотоаппарата, телескопа. Определенно, думал я, нужно готовиться в космонавты. Но и здесь я не успел, так стремительно развивались события! Меньше, чем через четыре года в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Мне казалось, его знаменитое перед стартом «Ну, поехали!» он адресовал лично мне, неудачнику: «Ну, проехали?». Интерес к космонавтике поугас, но познания в любительской астрономии остались.
Кроме двух друзей Ольги и Николая еще один взрослый человек в те ученические годы занял особое место в моем становлении – учитель математики Зоя Владимировна Острякова. В моем личном архиве чудом сохранилась брошюра, подготовленная областным институтом усовершенствования учителей и изданная в 1958 году Вологодским книжным издательством. Одна из статей в ней называется «Из опыта воспитательной работы с пятым классом», ее автор – классный руководитель средней школы № 2 города Грязовца З. В. Острякова. Спасибо ей, что таким образом увековечила наш класс! Отдавая дань давней истории, привожу несколько коротких выдержек из ее статьи:
– Всем ученикам поставлен балл «5» по поведению, в классе трое неуспевающих;
– В классе создано тимуровское звено. Однажды пришло письмо от пенсионерки: «Из вашего класса нас посещают дети. Они помогали нам раскидывать снег, принесли воды, вымели и вымыли пол. Спасибо им и вам за их воспитание»;
– На отрядном сборе один из пионеров говорил: «Смысл вежливости состоит в том, чтобы уважать окружающих»;
– Все учащиеся перешли в шестой класс, одна с отличными оценками, семь человек с оценками 4 и 5.
Замечу, что та ученица, которая перешла в шестой класс «с отличными оценками», это, конечно, Оля. Теперь догадайся, читатель, кто руководил тимуровским звеном? Кто тот пионер, который говорил о вежливости? Правильно, автор этих строк. Он же был одним из трех неуспевающих в пятом классе. Так что, сознаюсь, не вошел я тогда в число тех семи учеников, которые пятый класс окончили с оценками 4 и 5.
Мои отношения с Зоей Владимировной складывались непросто. Для меня она не только классный руководитель, а и учитель, в прямом смысле слова, классный. Мне она очень нравилась, но я-то порадовать ее тогда не мог. Она же понимала, что имеет дело со слабым учеником. Лишь со временем на фоне увлечения астрономией появился у меня интерес к математике, физике. В результате, наконец, появились твердая тройка по физике, хорошие оценки по арифметике, алгебре, геометрии. С этим и закончил я седьмой класс.
Забегая по хронологии на годы вперед, дополню.
В аттестате зрелости, полученном в Грязовце по окончании вечерней школы, троек у меня уже не было. Осенью того же 1962 года мы с родителями переехали в Украину. Позже в Одессе я с отличием окончил институт, много лет преподавал дисциплины физико-математического цикла в ВУЗах Астрахани.
За все это спасибо Грязовцу, моим грязовецким друзьям и учителям:
Ольга Васильевна Артемьева (Ульянова) с отличием окончила Вологодский педагогический институт, работала учителем физики в Грязовецкой средней школе № 2;
Николай Васильевич Гусев окончил Вологодский педагогический институт, аспирантуру Ленинградского государственного университета, стал известным в области журналистом, работал в Грязовецкой районной газете «Сельская правда».
Зоя Владимировна Острякова стала директором Грязовецкой средней школы № 2, ей присвоено звание «Почетный гражданин Грязовецкого района».
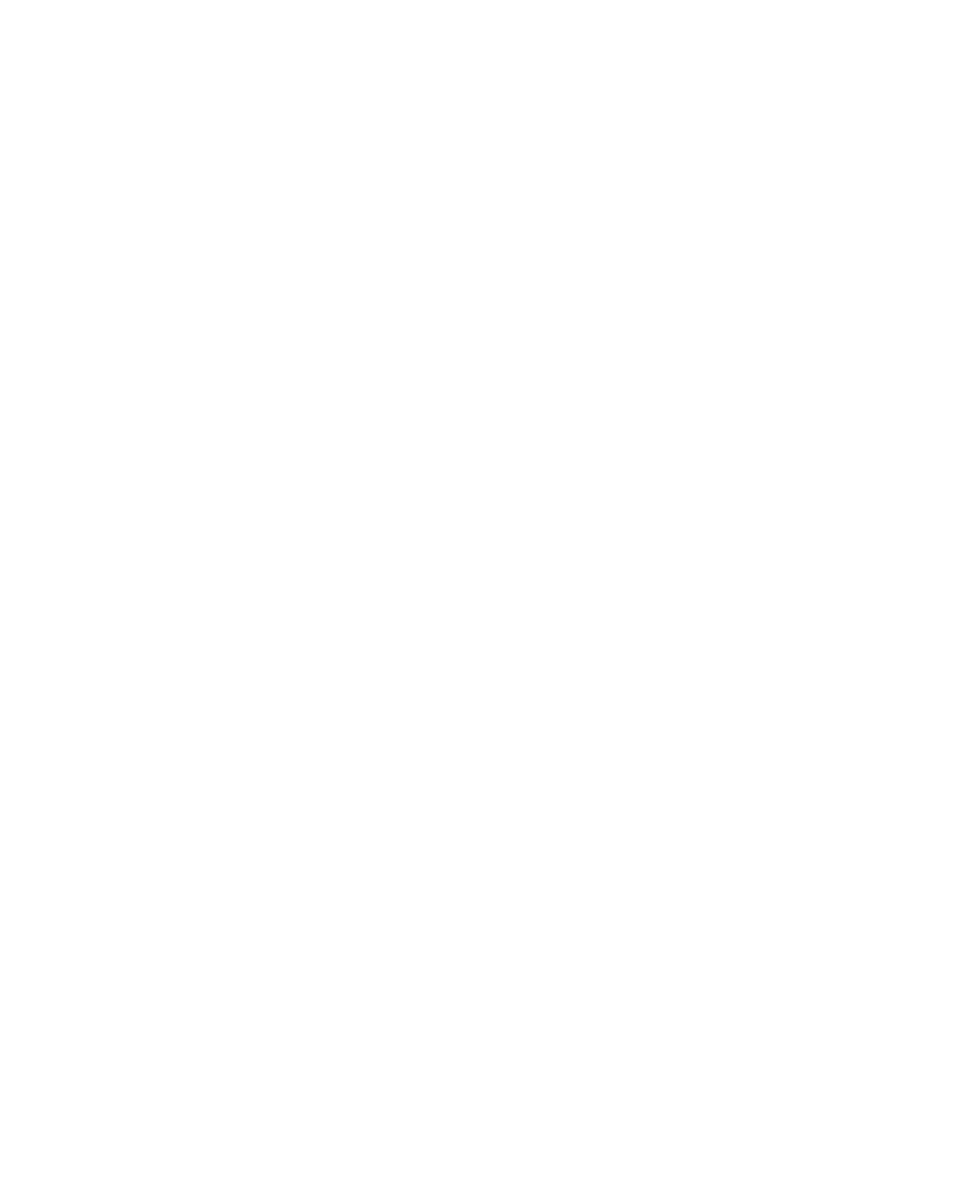
Дмитрий МЕЛЬНИК
Писатель, поэт, лауреат литературных премий. Родился 3 декабря 1996 года во Владикавказе. Окончил Российскую таможенную академию (2019) и Школу драмы Германа Сидакова (2023). Автор поэтических и прозаических произведений, опубликованных в журналах и альманахах «Литературный ковчег», «Родина», «Георгиевская лента» и др. Лауреат и дипломант престижных литературных конкурсов: «Проба пера», «Простые строки о войне», Конкурса имени А.С. Грибоедова, «О таможне простыми словами» (лауреат II степени). Финалист конкурса имени А.Т. Твардовского. Награждён медалью «Георгиевская лента – 80 лет Великой Победы» (2025) за вклад в русскую культуру. Помимо литературной деятельности, работает в сфере образования и участвует в театральных проектах.
Писатель, поэт, лауреат литературных премий. Родился 3 декабря 1996 года во Владикавказе. Окончил Российскую таможенную академию (2019) и Школу драмы Германа Сидакова (2023). Автор поэтических и прозаических произведений, опубликованных в журналах и альманахах «Литературный ковчег», «Родина», «Георгиевская лента» и др. Лауреат и дипломант престижных литературных конкурсов: «Проба пера», «Простые строки о войне», Конкурса имени А.С. Грибоедова, «О таможне простыми словами» (лауреат II степени). Финалист конкурса имени А.Т. Твардовского. Награждён медалью «Георгиевская лента – 80 лет Великой Победы» (2025) за вклад в русскую культуру. Помимо литературной деятельности, работает в сфере образования и участвует в театральных проектах.
КРЫСА
– Да возьми ты уже трубку! – прокричал я в телефон, совершенно выйдя из себя. В ту ночь пришлось преодолевать неведомую доселе обратную дорогу домой впопыхах. Два часа ночи.
– И ты, Брут! – дрожащими, промерзшими насквозь руками еле-еле удерживал я в руках устройство. Дозвониться не удавалось ни до одного
из ближайших друзей. Ох, и пожалел я тогда, что не взял с собой теплой шапки!
Сломя голову я продолжал движение вперед: то проходя мимо мрачных незнакомых дворов, то перебегая шоссе.
– Что же это было такое?! – практически позабыв о неудачных попытках дозвониться до «друзей-эгоистов», продолжал я рассуждать.
– Интересненькое выдалось свиданьице!
Незадолго до описываемого выше тревожного состояния произошло действительно интересное событие. Свидание с секретаршей декана факультета!
В жизни буквально каждого молодого парня случается момент, когда прежде, чем ощутить себя по-настоящему мужественным, скажем, «альфа-самцом», приходится примерять сначала надуманный костюм того самого образа. И судя по тому, как происходил процесс обольщения в моей истории, костюм был верно мне великоват.
Чтобы во всех красках описать эту историю, придется прибегнуть к небольшому флэшбеку.
Длинноногая блондинка двадцати лет с яркими карими глазами не давала мне покоя уже несколько месяцев. Я разглядывал ее каждый день, мечтая познакомиться. И случай подвернулся.
– Николай, декан зовет тебя к себе, – распахнулись долгожданные уста идущей навстречу нимфы.
– Однако не столь романтично, как я ожидал, – думал я – но да ладно. Растерявшись, я ничего не ответил и украдкой устремился в административный кабинет. Пришлось ждать аудиенции с деканом порядка пятнадцати минут, поэтому времени, чтобы осмыслить случившееся, было более, чем предостаточно.
– Николай, декан зовет тебя к себе, – припоминал я, – значит, она знает мое имя… и мы уже на «ты»!
– Входи, Торопеев, – слегка раздраженным голосом поприветствовал меня декан. Я поспешил войти и, сложив руки за спиной, стал внимательно прислушиваться к его каждому последующему слову.
– Ближе к делу, – начал он, – к нам устроилась работать дочка моего близкого друга. Ей вверено следить за такими, как ты.
– Как я? – вопросил я в недоумении.
– Согласись. Лица, которые периодически попадаются на нарушении внутреннего распорядка, требуют особого внимания со стороны административного органа факультета.
– Да… – не в силах сказать что-то дельное в ответ, чуть ли не шепотом произнес я, всем видом своим демонстрируя понимание сделанного намека.
А намек и вправду имел большое значение. Ведь буквально недели две назад я был пойман дежурной общежития в ходе закрытой студенческой вечеринки и наречен зачинщиком. Никто даже не сообразил, что комната принадлежала девочкам. Но в студенческой среде существовали (в каком-то необычном смысле) понятия этики, поэтому ссылаться на другие имена было для меня табу. И, таким образом, я был повинен и должен был искупать свою вину трудом во благо факультета. Видимо, момент настал.
– Так вот, Торопеев, – уже более грозным тоном продолжал декан, – вот тебе задача. Ты будешь помогать Алёне Сергеевне (так ее звали).
– Конечно, но в чем?
– Ты студент, знаешь студентов, знаешь все эти ваши планируемые ме-ро-при-я-ти-я… – протянул он, – лишь бы не учиться… И я хочу, чтобы ты ей обо всем докладывал. О чем спросит и не спросит. А она уже мне. Понял?
– Быть крысой, простыми словами… – подумал я про себя.
Постояв молча с полминуты, я решительно согласился. На этом разговор был окончен. Декан пожал мне руку, и я ретировался восвояси.
Медленным шагом ступая по длинному коридору учебного корпуса в сторону общежития, я думал:
– Ну это он будет считать, что я крыса. А я могу говорить, то что им можно будет знать, не боясь впредь нежданных проверок. Да и если я «крыса», значит, можно не переживать, что кто-то другой будет к нам лезть. Одни плюсы. Ну, и конечно же, Алёна… Это однозначно нас сблизит. Одни плюсы!
В общем и целом, вся эта авантюра казалась мне достаточно правильным делом во всех смыслах. Однако слово «крыса» все-таки немножко резало мой ум. Но, будучи рожденным в год крысы, в этом я пытался видеть даже какой-то знак свыше.
Прошел месяц неустанного труда во благо факультета. Встречи с Алёной (для меня уже официально не Сергеевной) стали достаточно частым и нормальным явлением. Уже стало определенной нормой заходить обязательно с каким-либо подарочком: то с шоколадкой, то с конфетами. Теперь было даже дозволительно вставлять в разговор разные шуточки.
И к моему великому удивлению однажды случилось это…
Тогда наш разговор зашел на тему увлечений, которые, как мне открылось, были у нас схожи.
– Ну давай, раскрывай карты, чем же занимается второе лицо на факультете, когда сбрасывает с себя костюм супергероя? – допытывал я, нарочито акцентируя внимание на ее важности. Красиво получилось, казалось мне. Алёна, судя по виду, впала в ступор от вопроса.
– Ну… Я никому и никогда не рассказывала этого… Боюсь, что не так поймут… – в некотором стеснении ответила Алёна.
Такой ответ слегка меня смутил. Но лишь слегка. Словно пребывая под действием какого-то зелья, я был убежден, что в данный момент происходит что-то волшебное. Сейчас мне, счастливчику, станет известно то, что «никому» и «никогда»!
Читатель, очевидно, найдет странным, что ответ на вопрос со значением «Чем занимаешься?» в переводе на обычный язык означал «Это тайна, которую я не говорила никому» и испытает «испанский стыд» за обоих собеседников. Но амурным узникам все видится в совершенно иных красках. И мне Алёна казалась девушкой-загадкой. Но не все сразу. Немного усмирив свою нетерпеливость, я решил прибегнуть к более изощренному методу допроса.
– Хорошо… Я кое-что придумал. Давай так: я буду просто называть слова, а ты кивай, если они как-то связаны с твоими увлечениями.
– Давай.
Назревало что-то интересненькое. Игра началась.
– Ночь.
Кивок.
– Ага… – начал я внутренний диалог. Значит она любит спокойные уютные вечера… почитать что-то романтичное, подумать. Двигаемся дальше.
– Свечи.
Алёна немного замешкалась, но все же – кивок.
Романтика! Что же, как ни ужин при свечах…Может еще и готовить любит. Скорее всего. Пока стопроцентное попадание!
– Клуб, – решил проверить верны ли прежние заключения.
Молчание. Отлично! Все сходится. Она не любит клубы, шумных вечеринок, она простая, домашняя, мечтательная девушка…
– Друзья.
Молчание. Быть может для нее главное это вторая половинка… Когда начинается, что-то серьезное в отношениях, у многих общение с друзьями уходит на второй план… Значит ли это, что у нее началось что-то серьезное? Может ли это значить что…
Перебив ход моих мыслей, она взяла инициативу разговора на себя:
– Забавный ты. Когда буду готова, расскажу тебе все. Приходи ко мне в гости.
2:2.
Как сейчас помню мысли перед сном в тот день:
– О, какая она! Мне кажется, я влюбляюсь… Мне хочется узнать ее все больше и больше… Что за чувство такое, будто я знаю ее всю жизнь? Алёна… какое красивое имя. А если ласково называть, то как же оно будет звучать?
Алёнушка… Ал… Ладно, подходящие слова в нужную минуту должны прийти сами.
Образ Алёны рисовался мне совершенно ясно – идеально все. Оставалось только в этом убедиться наяву, чтобы влюбиться еще больше.
– А ведь это только вершина айсберга…
И вот я уже у двери ее квартиры. Сердце колотится как не в себя. Но это практически не ощущается в моменте, ведь все внимание занято другим. Под дверным глазком я обнаружил странную наклейку, уже, судя по виду, истертую временем. Это было изображение крысы. Зубастая, серая,
с длиннющим хвостом. Но вместо каких-то подозрений в странности хозяйки квартиры, мне вздумалось сначала обидеться на, вероятно, злой прикол. Быть может, намек на ту ситуацию с деканом.
– Крыса… Ну и юмор. Если она серьезно решила меня этим уколоть… То все, что было… В голове не укладывается. Она же не могла…
Может, ей что-то про меня наговорили? Или она узнала… Да как она могла узнать? Хотя, наверное, очевидно. Не просто так же я был выбран на роль доверенного лица декана…
Лицо краснело, голова кипела, робело тело.
– Так… Ладно, успокаиваемся. Хватит себе надумывать. Наклейка явно старая, да и не крутится весь мир вокруг меня одного… Надумал себе тут. Просто потом в разговоре деликатно выясню.
С полминуты отдышавшись, я потянул руку к звонку. Но как только мой палец приблизился, отворилась дверь.
– Неужели она видела, как я стою идиот идиотом и не решаюсь зайти? – выстрелом пронзила мысль мою голову и все тело разом.
Казалось, сперва меня встретил искренний порыв смеха и только потом Алёна.
– Заходи уже! – радушно произнесла она.
Испытывая несусветную неловкость, уклоняя взгляд, я механически разулся и начал выискивать глазами крючки для верхней одежды. Еще и живот начало мутить.
– Ну просто сказка. Вечер обещает быть чудесным! – витала в мыслях злая ирония.
Выигрывая для себя немного времени на раздумья, я попросил сопроводить меня в уборную комнату. Тут уже фокус внимания сместился в сторону моего же поведения. И снова поток мыслей.
– Как же странно я выгляжу. Ни привета, ни комплимента. Стоял как тормоз, потом влетел и спрятался в уборной. То же мне, альфа. Соберись, Торопеев!
– Ты там скоро? Сейчас все остынет! – послышалось из-за двери.
– Не все, вероятно… – в самоуничижении пробормотал я.
– Иду-иду! – воскликнул.
Роскошный стол, свечи, приятная музыка, и, как следствие, уютная романтическая атмосфера подействовали на меня успокаивающе. Порыв прояснить мои опасения и домыслы уже как-то и притих. Свою весомую лепту, конечно же, внесла бутылочка белого сухого. И не одна.
Неведомым мне образом в памяти о наших разговорах того вечера, вслед за обсуждениями рабочих моментов и повседневной жизни, сохранился лишь финальный и совершенно неожиданный для меня фрагмент.
В каком-то непонятном угаре я сидел с обвязанными через ножки стула руками, сознавая, тем не менее, что это было следствием проигрыша в игре
на «желание». Как мы начали играть и почему – совершенно выскользнуло из головы.
– Я не рассказываю о своих увлечениях, потому что меня все странной посчитают… Ты когда-нибудь слышал о средневековых пытках? – с некой неловкостью произнесла Алёна.
– Ну, виселица, четвертование. Хорошо, что мы живем в совершенно другое время, – шутливо ответил я.
– Это точно. Но кстати были еще и более изощренные методы. Я про них читала, пытаясь понять, почему люди так боятся некоторых животных.
– И какие же? – машинально ответил я, изображая интерес, хотя сам был слегка озадачен такой неоднозначной темой для разговора.
– В далеком средневековье жертву сначала связывали. На живот или грудь ставилась клетка с голодными крысами, которых могли специально подкармливать, но немного.
– Ну и зачем их подкармливать? – снова машинально и краснея.
– Чтобы те были злее, но еще не сытыми. Ну в общем… Клетка нагревалась огнем, и от непереносимого жара крысы прогрызали себе дорогу на свободу сквозь тело несчастного. Но все это плохие истории, только страху наводят. Плохие истории бывают про всех. Лично я считаю крыс очень милыми…
Лицо Алёны покрылось багровым румянцем.
И снова крысы... Моя прежняя тревога воспылала в новых красках.
Будучи не в силах сдержаться, я выпалил все свои несвязные к тому моменту терзания.
– Объясни мне, что происходит! Что это значит? Крыса у тебя на двери, эти разговоры о крысах! Если ты хочешь надо мной поиздеваться, то прямо скажи, я устал сидеть в домыслах! – сказал, как отрезал.
– Поиздеваться? Ну что ты? – совершенно спокойно, явно не понимая причины моего накала начала она, – я просто не хочу, чтобы ты испугался…
Легким отрывистым дуновением погасила она первую свечу.
– Чего?!
– Сейчас увидишь.
Алёна резко задула последнюю свечу. Мы очутились во мраке.
Вслед за светом отключилась музыка. И до меня начало доноситься отрывистое пищание, сопровождаемое свистом, из соседней комнаты. Алёна ушла.
Меня обуял лютый страх. Теперь все ранее разбросанные пазлики сложились у меня в голове в единую картинку, сбросив пелену влюбленности напрочь. Теперь воспоминания про ту самую недавнюю игру с глубоким анализом личности Алёны обретали совершенно иные оттенки. Свечи, ночь, отсутствие друзей и любовь к уединенности... Крысы… Все становилось ясно. Она – психопатка! А я привязан к стулу! И сейчас… Начнется средневековая пытка! Перебивая писк каким-то собственным звериным визгом, ошеломленный повалился я на пол, сломав удерживавший меня в заточении стул.
– Что за звуки? Я сейчас приду! – послышалось из соседней комнаты.
Я вылетел стремглав из квартиры и понесся, куда глаза глядели. Вслед мне слышалось что-то неразборчивое, вроде: «Она просто боится огня». Но я уже был устремлен к свободе и не вникал.
Пришло время вернуться к самому началу рассказа.
Я продолжал бежать, периодически поглядывая в телефон, полный надежды, что хоть кто-то из друзей ответит мне.
И вдруг пришло сообщение от Алёны: «Коля, ну чего ты испугался?
Я просто хотела показать тебе свою домашнюю крысу. А ты взял и куда-то сбежал. Еще и эта твоя идея связать тебе руки… Ладно, когда придешь в себя позвони. Если осмелишься».
Невольно мне припомнилось высказывание, что первыми с корабля бегут крысы…
Опять крысы.
– Да возьми ты уже трубку! – прокричал я в телефон, совершенно выйдя из себя. В ту ночь пришлось преодолевать неведомую доселе обратную дорогу домой впопыхах. Два часа ночи.
– И ты, Брут! – дрожащими, промерзшими насквозь руками еле-еле удерживал я в руках устройство. Дозвониться не удавалось ни до одного
из ближайших друзей. Ох, и пожалел я тогда, что не взял с собой теплой шапки!
Сломя голову я продолжал движение вперед: то проходя мимо мрачных незнакомых дворов, то перебегая шоссе.
– Что же это было такое?! – практически позабыв о неудачных попытках дозвониться до «друзей-эгоистов», продолжал я рассуждать.
– Интересненькое выдалось свиданьице!
Незадолго до описываемого выше тревожного состояния произошло действительно интересное событие. Свидание с секретаршей декана факультета!
В жизни буквально каждого молодого парня случается момент, когда прежде, чем ощутить себя по-настоящему мужественным, скажем, «альфа-самцом», приходится примерять сначала надуманный костюм того самого образа. И судя по тому, как происходил процесс обольщения в моей истории, костюм был верно мне великоват.
Чтобы во всех красках описать эту историю, придется прибегнуть к небольшому флэшбеку.
Длинноногая блондинка двадцати лет с яркими карими глазами не давала мне покоя уже несколько месяцев. Я разглядывал ее каждый день, мечтая познакомиться. И случай подвернулся.
– Николай, декан зовет тебя к себе, – распахнулись долгожданные уста идущей навстречу нимфы.
– Однако не столь романтично, как я ожидал, – думал я – но да ладно. Растерявшись, я ничего не ответил и украдкой устремился в административный кабинет. Пришлось ждать аудиенции с деканом порядка пятнадцати минут, поэтому времени, чтобы осмыслить случившееся, было более, чем предостаточно.
– Николай, декан зовет тебя к себе, – припоминал я, – значит, она знает мое имя… и мы уже на «ты»!
– Входи, Торопеев, – слегка раздраженным голосом поприветствовал меня декан. Я поспешил войти и, сложив руки за спиной, стал внимательно прислушиваться к его каждому последующему слову.
– Ближе к делу, – начал он, – к нам устроилась работать дочка моего близкого друга. Ей вверено следить за такими, как ты.
– Как я? – вопросил я в недоумении.
– Согласись. Лица, которые периодически попадаются на нарушении внутреннего распорядка, требуют особого внимания со стороны административного органа факультета.
– Да… – не в силах сказать что-то дельное в ответ, чуть ли не шепотом произнес я, всем видом своим демонстрируя понимание сделанного намека.
А намек и вправду имел большое значение. Ведь буквально недели две назад я был пойман дежурной общежития в ходе закрытой студенческой вечеринки и наречен зачинщиком. Никто даже не сообразил, что комната принадлежала девочкам. Но в студенческой среде существовали (в каком-то необычном смысле) понятия этики, поэтому ссылаться на другие имена было для меня табу. И, таким образом, я был повинен и должен был искупать свою вину трудом во благо факультета. Видимо, момент настал.
– Так вот, Торопеев, – уже более грозным тоном продолжал декан, – вот тебе задача. Ты будешь помогать Алёне Сергеевне (так ее звали).
– Конечно, но в чем?
– Ты студент, знаешь студентов, знаешь все эти ваши планируемые ме-ро-при-я-ти-я… – протянул он, – лишь бы не учиться… И я хочу, чтобы ты ей обо всем докладывал. О чем спросит и не спросит. А она уже мне. Понял?
– Быть крысой, простыми словами… – подумал я про себя.
Постояв молча с полминуты, я решительно согласился. На этом разговор был окончен. Декан пожал мне руку, и я ретировался восвояси.
Медленным шагом ступая по длинному коридору учебного корпуса в сторону общежития, я думал:
– Ну это он будет считать, что я крыса. А я могу говорить, то что им можно будет знать, не боясь впредь нежданных проверок. Да и если я «крыса», значит, можно не переживать, что кто-то другой будет к нам лезть. Одни плюсы. Ну, и конечно же, Алёна… Это однозначно нас сблизит. Одни плюсы!
В общем и целом, вся эта авантюра казалась мне достаточно правильным делом во всех смыслах. Однако слово «крыса» все-таки немножко резало мой ум. Но, будучи рожденным в год крысы, в этом я пытался видеть даже какой-то знак свыше.
Прошел месяц неустанного труда во благо факультета. Встречи с Алёной (для меня уже официально не Сергеевной) стали достаточно частым и нормальным явлением. Уже стало определенной нормой заходить обязательно с каким-либо подарочком: то с шоколадкой, то с конфетами. Теперь было даже дозволительно вставлять в разговор разные шуточки.
И к моему великому удивлению однажды случилось это…
Тогда наш разговор зашел на тему увлечений, которые, как мне открылось, были у нас схожи.
– Ну давай, раскрывай карты, чем же занимается второе лицо на факультете, когда сбрасывает с себя костюм супергероя? – допытывал я, нарочито акцентируя внимание на ее важности. Красиво получилось, казалось мне. Алёна, судя по виду, впала в ступор от вопроса.
– Ну… Я никому и никогда не рассказывала этого… Боюсь, что не так поймут… – в некотором стеснении ответила Алёна.
Такой ответ слегка меня смутил. Но лишь слегка. Словно пребывая под действием какого-то зелья, я был убежден, что в данный момент происходит что-то волшебное. Сейчас мне, счастливчику, станет известно то, что «никому» и «никогда»!
Читатель, очевидно, найдет странным, что ответ на вопрос со значением «Чем занимаешься?» в переводе на обычный язык означал «Это тайна, которую я не говорила никому» и испытает «испанский стыд» за обоих собеседников. Но амурным узникам все видится в совершенно иных красках. И мне Алёна казалась девушкой-загадкой. Но не все сразу. Немного усмирив свою нетерпеливость, я решил прибегнуть к более изощренному методу допроса.
– Хорошо… Я кое-что придумал. Давай так: я буду просто называть слова, а ты кивай, если они как-то связаны с твоими увлечениями.
– Давай.
Назревало что-то интересненькое. Игра началась.
– Ночь.
Кивок.
– Ага… – начал я внутренний диалог. Значит она любит спокойные уютные вечера… почитать что-то романтичное, подумать. Двигаемся дальше.
– Свечи.
Алёна немного замешкалась, но все же – кивок.
Романтика! Что же, как ни ужин при свечах…Может еще и готовить любит. Скорее всего. Пока стопроцентное попадание!
– Клуб, – решил проверить верны ли прежние заключения.
Молчание. Отлично! Все сходится. Она не любит клубы, шумных вечеринок, она простая, домашняя, мечтательная девушка…
– Друзья.
Молчание. Быть может для нее главное это вторая половинка… Когда начинается, что-то серьезное в отношениях, у многих общение с друзьями уходит на второй план… Значит ли это, что у нее началось что-то серьезное? Может ли это значить что…
Перебив ход моих мыслей, она взяла инициативу разговора на себя:
– Забавный ты. Когда буду готова, расскажу тебе все. Приходи ко мне в гости.
2:2.
Как сейчас помню мысли перед сном в тот день:
– О, какая она! Мне кажется, я влюбляюсь… Мне хочется узнать ее все больше и больше… Что за чувство такое, будто я знаю ее всю жизнь? Алёна… какое красивое имя. А если ласково называть, то как же оно будет звучать?
Алёнушка… Ал… Ладно, подходящие слова в нужную минуту должны прийти сами.
Образ Алёны рисовался мне совершенно ясно – идеально все. Оставалось только в этом убедиться наяву, чтобы влюбиться еще больше.
– А ведь это только вершина айсберга…
И вот я уже у двери ее квартиры. Сердце колотится как не в себя. Но это практически не ощущается в моменте, ведь все внимание занято другим. Под дверным глазком я обнаружил странную наклейку, уже, судя по виду, истертую временем. Это было изображение крысы. Зубастая, серая,
с длиннющим хвостом. Но вместо каких-то подозрений в странности хозяйки квартиры, мне вздумалось сначала обидеться на, вероятно, злой прикол. Быть может, намек на ту ситуацию с деканом.
– Крыса… Ну и юмор. Если она серьезно решила меня этим уколоть… То все, что было… В голове не укладывается. Она же не могла…
Может, ей что-то про меня наговорили? Или она узнала… Да как она могла узнать? Хотя, наверное, очевидно. Не просто так же я был выбран на роль доверенного лица декана…
Лицо краснело, голова кипела, робело тело.
– Так… Ладно, успокаиваемся. Хватит себе надумывать. Наклейка явно старая, да и не крутится весь мир вокруг меня одного… Надумал себе тут. Просто потом в разговоре деликатно выясню.
С полминуты отдышавшись, я потянул руку к звонку. Но как только мой палец приблизился, отворилась дверь.
– Неужели она видела, как я стою идиот идиотом и не решаюсь зайти? – выстрелом пронзила мысль мою голову и все тело разом.
Казалось, сперва меня встретил искренний порыв смеха и только потом Алёна.
– Заходи уже! – радушно произнесла она.
Испытывая несусветную неловкость, уклоняя взгляд, я механически разулся и начал выискивать глазами крючки для верхней одежды. Еще и живот начало мутить.
– Ну просто сказка. Вечер обещает быть чудесным! – витала в мыслях злая ирония.
Выигрывая для себя немного времени на раздумья, я попросил сопроводить меня в уборную комнату. Тут уже фокус внимания сместился в сторону моего же поведения. И снова поток мыслей.
– Как же странно я выгляжу. Ни привета, ни комплимента. Стоял как тормоз, потом влетел и спрятался в уборной. То же мне, альфа. Соберись, Торопеев!
– Ты там скоро? Сейчас все остынет! – послышалось из-за двери.
– Не все, вероятно… – в самоуничижении пробормотал я.
– Иду-иду! – воскликнул.
Роскошный стол, свечи, приятная музыка, и, как следствие, уютная романтическая атмосфера подействовали на меня успокаивающе. Порыв прояснить мои опасения и домыслы уже как-то и притих. Свою весомую лепту, конечно же, внесла бутылочка белого сухого. И не одна.
Неведомым мне образом в памяти о наших разговорах того вечера, вслед за обсуждениями рабочих моментов и повседневной жизни, сохранился лишь финальный и совершенно неожиданный для меня фрагмент.
В каком-то непонятном угаре я сидел с обвязанными через ножки стула руками, сознавая, тем не менее, что это было следствием проигрыша в игре
на «желание». Как мы начали играть и почему – совершенно выскользнуло из головы.
– Я не рассказываю о своих увлечениях, потому что меня все странной посчитают… Ты когда-нибудь слышал о средневековых пытках? – с некой неловкостью произнесла Алёна.
– Ну, виселица, четвертование. Хорошо, что мы живем в совершенно другое время, – шутливо ответил я.
– Это точно. Но кстати были еще и более изощренные методы. Я про них читала, пытаясь понять, почему люди так боятся некоторых животных.
– И какие же? – машинально ответил я, изображая интерес, хотя сам был слегка озадачен такой неоднозначной темой для разговора.
– В далеком средневековье жертву сначала связывали. На живот или грудь ставилась клетка с голодными крысами, которых могли специально подкармливать, но немного.
– Ну и зачем их подкармливать? – снова машинально и краснея.
– Чтобы те были злее, но еще не сытыми. Ну в общем… Клетка нагревалась огнем, и от непереносимого жара крысы прогрызали себе дорогу на свободу сквозь тело несчастного. Но все это плохие истории, только страху наводят. Плохие истории бывают про всех. Лично я считаю крыс очень милыми…
Лицо Алёны покрылось багровым румянцем.
И снова крысы... Моя прежняя тревога воспылала в новых красках.
Будучи не в силах сдержаться, я выпалил все свои несвязные к тому моменту терзания.
– Объясни мне, что происходит! Что это значит? Крыса у тебя на двери, эти разговоры о крысах! Если ты хочешь надо мной поиздеваться, то прямо скажи, я устал сидеть в домыслах! – сказал, как отрезал.
– Поиздеваться? Ну что ты? – совершенно спокойно, явно не понимая причины моего накала начала она, – я просто не хочу, чтобы ты испугался…
Легким отрывистым дуновением погасила она первую свечу.
– Чего?!
– Сейчас увидишь.
Алёна резко задула последнюю свечу. Мы очутились во мраке.
Вслед за светом отключилась музыка. И до меня начало доноситься отрывистое пищание, сопровождаемое свистом, из соседней комнаты. Алёна ушла.
Меня обуял лютый страх. Теперь все ранее разбросанные пазлики сложились у меня в голове в единую картинку, сбросив пелену влюбленности напрочь. Теперь воспоминания про ту самую недавнюю игру с глубоким анализом личности Алёны обретали совершенно иные оттенки. Свечи, ночь, отсутствие друзей и любовь к уединенности... Крысы… Все становилось ясно. Она – психопатка! А я привязан к стулу! И сейчас… Начнется средневековая пытка! Перебивая писк каким-то собственным звериным визгом, ошеломленный повалился я на пол, сломав удерживавший меня в заточении стул.
– Что за звуки? Я сейчас приду! – послышалось из соседней комнаты.
Я вылетел стремглав из квартиры и понесся, куда глаза глядели. Вслед мне слышалось что-то неразборчивое, вроде: «Она просто боится огня». Но я уже был устремлен к свободе и не вникал.
Пришло время вернуться к самому началу рассказа.
Я продолжал бежать, периодически поглядывая в телефон, полный надежды, что хоть кто-то из друзей ответит мне.
И вдруг пришло сообщение от Алёны: «Коля, ну чего ты испугался?
Я просто хотела показать тебе свою домашнюю крысу. А ты взял и куда-то сбежал. Еще и эта твоя идея связать тебе руки… Ладно, когда придешь в себя позвони. Если осмелишься».
Невольно мне припомнилось высказывание, что первыми с корабля бегут крысы…
Опять крысы.
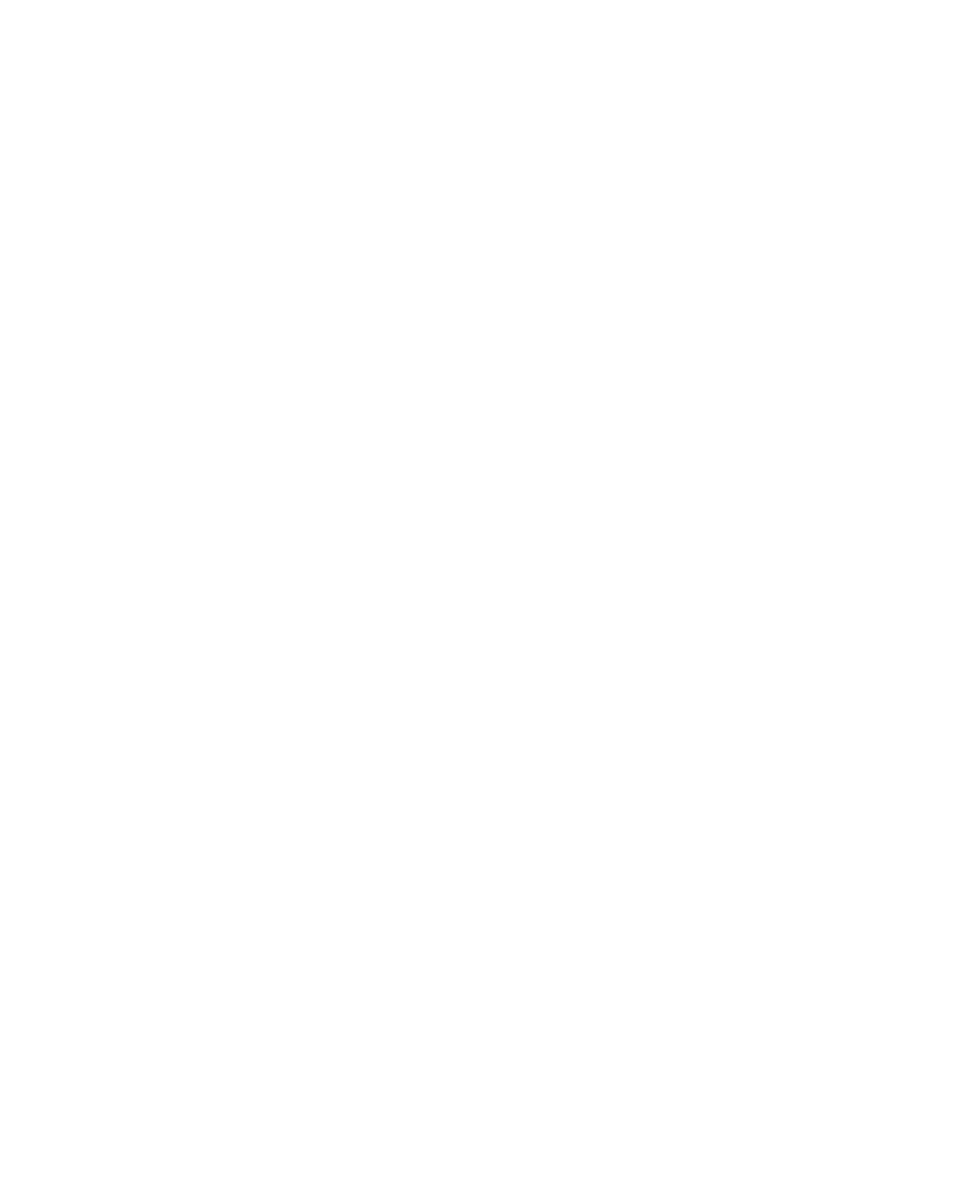
Евгений МЕЛЬЧЕНКО
Родился в 1983 году в городе Краснодаре. Примерно в возрасте 17 лет начал писать рассказы и стихи. В 2013 году вышла первая полноценная книга «Плантации разума» (ISBN 978-5-9903495-1-3). Несколько рассказов из этой книги получили популярность. Далее публиковалось немало произведений. Самые заметные из них – это сборник военных очерков и рассказов «Там, где мы все живы» и сборник городских историй криминала 90-х годов «Бандитский Краснодар». В начале 2010-х годов занимался международными журналистскими расследованиями – объездил более 40 стран. В том числе, в Африке и на Ближнем Востоке. Работает главным редактором одного из ведущих изданий Кубани, журналист, сотрудник КубГАУ.
Родился в 1983 году в городе Краснодаре. Примерно в возрасте 17 лет начал писать рассказы и стихи. В 2013 году вышла первая полноценная книга «Плантации разума» (ISBN 978-5-9903495-1-3). Несколько рассказов из этой книги получили популярность. Далее публиковалось немало произведений. Самые заметные из них – это сборник военных очерков и рассказов «Там, где мы все живы» и сборник городских историй криминала 90-х годов «Бандитский Краснодар». В начале 2010-х годов занимался международными журналистскими расследованиями – объездил более 40 стран. В том числе, в Африке и на Ближнем Востоке. Работает главным редактором одного из ведущих изданий Кубани, журналист, сотрудник КубГАУ.
ВЕЧЕРНИЙ ПОЕЗД
Задержки поездов – обыденное явление
былой отечественной реальности,
связанное с недоразвитостью
железнодорожного сообщения.
На горизонте показался яркий фонарь локомотива. Он приближался медленно и величественно стучал колесами о стыки рельс. Шпалы кряхтели под его весом будто старушки, жалующиеся на здоровье где-нибудь на лавочке у покрытого одеялом ветхости дома. Антон Викторович Торба, офицер царской охранки, стоял на перроне и дожидался, когда эта металлическая махина доползет до остановки и заберёт его в далёкий тёплый край из этого промозглого холодного и жестокого города.
Центральный вокзал города Томска напоминал некую смесь рыночной площади в ярмарочный день и скопления крестьянской черни на сельской сходке. Только это были не крестьяне и не замасленные заводские рабочие, а свет военного общества России. Высшие чины тут ничем не отличались от батраков. Побитые тяжелыми переходами, красноармейскими атаками и перипетиями семейных потерь, они толпились на перронах вокзала. В толпе то и дело проскакивали слова Крым, Турция, Париж, Берлин. Это никак не вязалось с окружающей картиной всеобщего страха и бедствия. Надеждой жил весь этот люд. Надеждой на спасение и умиротворение. Кого-то успокаивал стук приближающихся колёс, кого-то речь батюшки, читающего свою проповедь с платформы товарняка, стоявшего на запасном пути.
Антон Викторович, вжавшись поглубже в шинель и подняв кверху воротник, вспоминал тёплые и радостные дни, когда они с друзьями по курсу шалили на пляже в Баку, первый опыт знакомств с девушками из женской гимназии. Именно тогда он встретил и сразу полюбил Татьяну. Долгие прогулки по паркам и узким холмистым тропинкам. Закаты и рассветы, встреченные ими вместе. Тот загородный пикник, когда на праздновании окончания военного училища их губы впервые коснулись друг друга. Затем была пышная свадьба, родительские слёзы. Особенно ему запомнилось лицо отца, жёсткого боевого офицера, щёки которого намокли, наверное, впервые в жизни. Это было незабываемое время.
Затем были месяцы разлуки, стопки писем – голубей страсти и любви, что связывали их в дни расставания. Ранение в этой бессмысленной войне против Германии с одной стороны причиняло ужасную боль, с другой же стороны приблизило их встречу и объятия Татьяны, буквально сразу вылечившие рану. Выписавшись из госпиталя, он прибыл домой, где его сердце обрадовала весть о будущем отцовстве. Этот момент он вспоминал всегда в минуты тягости и лишений военной службы. Это воспоминание лучше всякого лекарства целебными душевными порывами исцеляло его сердце.
Теперь гражданская война… Это непонятное положение, когда не ясно ничего. Где свои, где чужие свои. Какой город взят, какой нет, а где и вообще ничего не изменилось, и жизнь течет своим чередом. Доносились слухи, что многие из его друзей оказались по другую сторону баррикад. Это обстоятельство точило изнутри. Стрелять в своих близких было не в силах Торбы. Он молил Бога, чтоб ему не пришлось оказаться в ситуации, когда пришлось бы делать выбор между жизнью и дружбой, между смертью и благородством. Он не знал, где сейчас его отец. А вдруг он погиб? Это было бы ужасно и невыносимо. А вдруг что-то случилось с его женой, с его Татьяной? Ведь Петербург был давно сдан, и ходили слухи о чистках. Вдруг он остался один на белом свете? Это был какой-то необъяснимый страх услышать новости о родственниках и близких. Они договорились о встрече в Феодосии. В номере гостиницы, где они останавливались каждый год, когда отправлялись в совместный отпуск. Вдруг его там никто не ждёт, и этот номер пуст, и кроме сквозняка никто не встретит его? Это было невыносимо.
Кто-то в толпе выкрикнул, что красные уже на подступах к городу и через пару дней будут атаковать позиции защитников города. Эта новость была воспринята с волнением, и на некоторое время толпа оживилась, ударившись в споры и дискуссию по поводу дальнейшей судьбы города. Поезд был всё ближе и многие уже подняли свою ношу и начали расходиться по перрону. Антон Викторович достал из внутреннего кармана офицерскую бронь на место в вагоне номер три. «Двенадцатое место» — прошептали его губы еле слышно. Кто-то сказал, что третий вагон остановится в начале перрона, и Торба двинулся за группой офицеров к предполагаемому месту остановки.
Подъезжая к вокзалу, локомотив, будто тяжело дыша, выдыхал клубы пара и скрипел металлическими желваками. Не спеша продвигаясь к центру вокзала, состав постепенно останавливался. Наконец он вовсе остановился, и люди приблизились к дверям вагонов. Но они почему-то не открывались. Вдруг со всех сторон раздался звон разбившегося стекла и хлопки выстрелов. Невыносимый шум стоял вокруг Торбы и люди медленно опускались на землю. Закрыв уши ладонями, Антон Викторович попытался понять, что случилось, но тут он почувствовал, как две свинцовые пчелы, вылетевшие из разбитого окна вагона, словно из гудящего улья, ужалили его в грудь, и по спине потекли тёплые ручьи, согревшие его в этот морозный вечер. Он медленно опустился на колени и опустил руки. Канонада пулемётных очередей постепенно утихла, и вокзал охватила тишина. Торба понял, что он больше не в силах встать и еле действующий разум его понимал, что теперь не стоит бояться встать перед тяжелым выбором, не нужно бояться вестей о семье и близких. Он был благодарен этому локомотиву за его небольшое опоздание, за возможность последний раз вспомнить тёплые дни жизни, за возможность пережить ещё раз радость и счастье его бытия.
Антон Викторович пошатнулся, закрыл глаза и повалился на бок. Ещё пару мгновений, и он бы услышал радостное «Ура», вырвавшееся из вагонов состава. Увидел бы счастливые лица людей, принесших в город свободу и хлеб.
Задержки поездов – обыденное явление
былой отечественной реальности,
связанное с недоразвитостью
железнодорожного сообщения.
На горизонте показался яркий фонарь локомотива. Он приближался медленно и величественно стучал колесами о стыки рельс. Шпалы кряхтели под его весом будто старушки, жалующиеся на здоровье где-нибудь на лавочке у покрытого одеялом ветхости дома. Антон Викторович Торба, офицер царской охранки, стоял на перроне и дожидался, когда эта металлическая махина доползет до остановки и заберёт его в далёкий тёплый край из этого промозглого холодного и жестокого города.
Центральный вокзал города Томска напоминал некую смесь рыночной площади в ярмарочный день и скопления крестьянской черни на сельской сходке. Только это были не крестьяне и не замасленные заводские рабочие, а свет военного общества России. Высшие чины тут ничем не отличались от батраков. Побитые тяжелыми переходами, красноармейскими атаками и перипетиями семейных потерь, они толпились на перронах вокзала. В толпе то и дело проскакивали слова Крым, Турция, Париж, Берлин. Это никак не вязалось с окружающей картиной всеобщего страха и бедствия. Надеждой жил весь этот люд. Надеждой на спасение и умиротворение. Кого-то успокаивал стук приближающихся колёс, кого-то речь батюшки, читающего свою проповедь с платформы товарняка, стоявшего на запасном пути.
Антон Викторович, вжавшись поглубже в шинель и подняв кверху воротник, вспоминал тёплые и радостные дни, когда они с друзьями по курсу шалили на пляже в Баку, первый опыт знакомств с девушками из женской гимназии. Именно тогда он встретил и сразу полюбил Татьяну. Долгие прогулки по паркам и узким холмистым тропинкам. Закаты и рассветы, встреченные ими вместе. Тот загородный пикник, когда на праздновании окончания военного училища их губы впервые коснулись друг друга. Затем была пышная свадьба, родительские слёзы. Особенно ему запомнилось лицо отца, жёсткого боевого офицера, щёки которого намокли, наверное, впервые в жизни. Это было незабываемое время.
Затем были месяцы разлуки, стопки писем – голубей страсти и любви, что связывали их в дни расставания. Ранение в этой бессмысленной войне против Германии с одной стороны причиняло ужасную боль, с другой же стороны приблизило их встречу и объятия Татьяны, буквально сразу вылечившие рану. Выписавшись из госпиталя, он прибыл домой, где его сердце обрадовала весть о будущем отцовстве. Этот момент он вспоминал всегда в минуты тягости и лишений военной службы. Это воспоминание лучше всякого лекарства целебными душевными порывами исцеляло его сердце.
Теперь гражданская война… Это непонятное положение, когда не ясно ничего. Где свои, где чужие свои. Какой город взят, какой нет, а где и вообще ничего не изменилось, и жизнь течет своим чередом. Доносились слухи, что многие из его друзей оказались по другую сторону баррикад. Это обстоятельство точило изнутри. Стрелять в своих близких было не в силах Торбы. Он молил Бога, чтоб ему не пришлось оказаться в ситуации, когда пришлось бы делать выбор между жизнью и дружбой, между смертью и благородством. Он не знал, где сейчас его отец. А вдруг он погиб? Это было бы ужасно и невыносимо. А вдруг что-то случилось с его женой, с его Татьяной? Ведь Петербург был давно сдан, и ходили слухи о чистках. Вдруг он остался один на белом свете? Это был какой-то необъяснимый страх услышать новости о родственниках и близких. Они договорились о встрече в Феодосии. В номере гостиницы, где они останавливались каждый год, когда отправлялись в совместный отпуск. Вдруг его там никто не ждёт, и этот номер пуст, и кроме сквозняка никто не встретит его? Это было невыносимо.
Кто-то в толпе выкрикнул, что красные уже на подступах к городу и через пару дней будут атаковать позиции защитников города. Эта новость была воспринята с волнением, и на некоторое время толпа оживилась, ударившись в споры и дискуссию по поводу дальнейшей судьбы города. Поезд был всё ближе и многие уже подняли свою ношу и начали расходиться по перрону. Антон Викторович достал из внутреннего кармана офицерскую бронь на место в вагоне номер три. «Двенадцатое место» — прошептали его губы еле слышно. Кто-то сказал, что третий вагон остановится в начале перрона, и Торба двинулся за группой офицеров к предполагаемому месту остановки.
Подъезжая к вокзалу, локомотив, будто тяжело дыша, выдыхал клубы пара и скрипел металлическими желваками. Не спеша продвигаясь к центру вокзала, состав постепенно останавливался. Наконец он вовсе остановился, и люди приблизились к дверям вагонов. Но они почему-то не открывались. Вдруг со всех сторон раздался звон разбившегося стекла и хлопки выстрелов. Невыносимый шум стоял вокруг Торбы и люди медленно опускались на землю. Закрыв уши ладонями, Антон Викторович попытался понять, что случилось, но тут он почувствовал, как две свинцовые пчелы, вылетевшие из разбитого окна вагона, словно из гудящего улья, ужалили его в грудь, и по спине потекли тёплые ручьи, согревшие его в этот морозный вечер. Он медленно опустился на колени и опустил руки. Канонада пулемётных очередей постепенно утихла, и вокзал охватила тишина. Торба понял, что он больше не в силах встать и еле действующий разум его понимал, что теперь не стоит бояться встать перед тяжелым выбором, не нужно бояться вестей о семье и близких. Он был благодарен этому локомотиву за его небольшое опоздание, за возможность последний раз вспомнить тёплые дни жизни, за возможность пережить ещё раз радость и счастье его бытия.
Антон Викторович пошатнулся, закрыл глаза и повалился на бок. Ещё пару мгновений, и он бы услышал радостное «Ура», вырвавшееся из вагонов состава. Увидел бы счастливые лица людей, принесших в город свободу и хлеб.
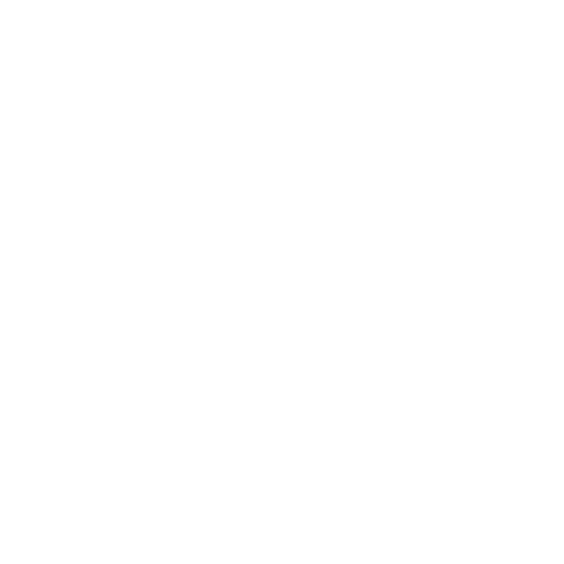
Сергей СЕРГЕЕВ
1962 г.р., Саратовская область. Награждён орденом «За службу в ВС СССР» – III степени (25.06.1988 г. за выполнение интернационального долга в республике Афганистан). Самостоятельно публикуется с 2008 г. в электронном журнале «Самиздат». Автор электронных книг: роман «Календарь» (ЭИ «Аэлита», 2013 г.), роман «Тракос» (Литрес, 2024 г.), роман «Двойной стандарт» (Литрес, 2024 г.).
1962 г.р., Саратовская область. Награждён орденом «За службу в ВС СССР» – III степени (25.06.1988 г. за выполнение интернационального долга в республике Афганистан). Самостоятельно публикуется с 2008 г. в электронном журнале «Самиздат». Автор электронных книг: роман «Календарь» (ЭИ «Аэлита», 2013 г.), роман «Тракос» (Литрес, 2024 г.), роман «Двойной стандарт» (Литрес, 2024 г.).
ЛЕКАРСТВО ОТ СТРЕССА
Посвящается однополчанам 94-го отдельного боевого
вертолётного полка, расформированного в мае 2002 года.
– Ми-24 – самый лучший вертолёт, Ми-24 никогда не подведёт, – негромко, на мотив марша Шопена, напевал собственно-сочинённый текст капитан Алексей Кудрин. Сидя за столом перед раскрытой тетрадью полётной подготовки и раскрашивая рисунок вертолёта на отдельном листке в клеточку, он не горбился, держа тёмную кучерявую голову прямо, про такую стройность говорят, что кол проглотил. В просторном лётном комбинезоне даже в сидячем положении виделось, что Алексей роста высокого, примерно под метр девяносто. Под стать росту и его вытянутое лицо с прямым большим носом, с широким лбом и аккуратными ушами, раскрытыми короткой офицерской стрижкой, в сиюминутный момент демонстрировало притворную отрешённость.
– Слышь, Лёха, замолкни со своими похоронными извращениями, мешаешь сосредоточиться, – незлобно, по-дружески бросил товарищу старший лейтенант Сергей Черников, расположившийся по правую руку от капитана Кудрина. Он, в таком же тёмном комбинезоне, грудью опираясь о стол и расставив широко локти, перерисовывал в свою тетрадь с плановой таблицы полётное задание. Поза Черникова со стороны смотрелась несколько комично, напоминала школьную манеру против списывания. Его лица в столь ответственный момент не было видно, лишь периодически опускалась и поднималась коротко стриженная русоволосая голова, придавая зазору между воротником и загорелой шеей статус непостоянства.
– Выписку отдай – прекращу, – услышал ответ Сергей заглядывающего через плечо товарища. На аэродроме «Зелёный» в классе второй эскадрильи шла предполетная подготовка, участвующие в ней пилоты спешили как можно быстрей ознакомиться с плановой таблицей, выхватывая её друг у друга. Нескрываемый ажиотаж присутствовал в душе каждого, для лётчика полёты всегда праздник, а по тем временам – более чем.
Тот смутный период начала девяностых был примечателен многими событиями. Вывели войска из Афганистана, распался Союз, ветер перемен носился по вновь ещё не оформившимся странам СНГ, при этом сильно потрепав вооружённые силы когда-то могучей державы. Военные части захлёстывали извечные проблемы: отсутствие ГСМ, нехватка запчастей и запоздалое недостаточное финансирование. Всё это сказывалось на боевой подготовке, летали меньше и редко, такой расклад для лётчиков – это потеря навыков и квалификации, одним словом, «смертельный приговор» в профессии. Поэтому вырывать плановую таблицу совсем не зазорно для лейтенантов, капитанов и даже майоров – это воочию увидеть свои вожделенные минуты, а если повезёт, и часы воздушного драйва, ведь лётчик, он как птица, без неба жить не может.
Боевых товарищей, помимо любви к небу и служебных обязанностей, сближала дружба семьями. Ровесники, под тридцать лет, оба военные лётчики второго класса, карьеру в девяносто четвёртом отдельном боевом вертолётном полку, дислоцированном в городе Спасск-Дальний Приморского края, начали одновременно в далёком восемьдесят третьем году. Прибыли по распределению после окончания военных авиационных училищ. Кудрин – Сызранского, а Черников – Саратовского.
Разными путями они пришли в авиацию. Если Кудрин выбрал прямую дорогу в небо, став курсантом высшего военного училища лётчиков, то Черников – извилистую и тернистую. В своё время он на вполне законных основаниях заменил срочную службу в армии сборами в ДОСААФ, но судьбу не обманешь, влюбившись в небо, с гражданской жизнью пришлось расстаться. Первое знакомство с воздушным пленом Черникова состоялось на летних сборах Саратовского учебного авиационного центра (СУАЦ) имени Ю. А. Гагарина на аэродроме «Дубки». Да, в том самом, где путёвку в небо получил сам Юрий Алексеевич.
Черников – лётчик минус техник, а Кудрин – лётчик минус инженер. На авиационном сленге так читались записи в дипломах. Саратовское ВВАУЛ готовило вертолётчиков с высшим образованием, но Сергей не был курсантом училища, а всего лишь слушателем офицерских курсов. Он призван из запаса в звании младший лейтенант – мамлей, одним словом. В те времена «Афган» для ограниченного контингента требовал большой и непрерывной ротации лётного состава, два училища не справлялись с возросшими потребностями, вот и брали кадры, подготовленные ДОСААФом. Девяносто четвертый вертолётный полк, созданный двенадцатого июня восьмидесятого года, существовал для ротации и подготовки лётчиков к ведению боевых действий в горно-пустынной местности.
– Слышь, кедышник, лапоть ты наш винтокрылый, что там всё высматриваешь, один вылет на полигон парой и отдыхай, – не выдержав ожидания плановички, Алексей свалился в область психологического давления. Так кадровые военные иногда называли бывших мамлеев, чтобы потроллить их по-дружески.
– Экипаж сборный, смотрю, откуда оператора забирать, – не обращая внимания на слегка обидный тон Алексея, спокойно отбивался Сергей.
– А кто оператор? – уже по-деловому спросил Кудрин.
– Замполит, – ответил Черников со вздохом.
– Не повезло, он сейчас самый занятой, – со знанием дела резюмировал Алексей, поставив специально ударение в последнем слове на «о», тем самым усилив его значение.
Замполит второй эскадрильи майор Корягин, о ком, собственно, и шла речь в разговоре друзей, был ещё и лётчиком-инструктором. Обучать ему не доверяли, но в связи с нехваткой вторых пилотов наделили статусом инструктора, дающего право дополнять экипажи до штатных, тем самым позволяя командирам тренироваться, двигаясь по курсу лётной подготовки.
Корягин, или как его ещё называли из-за сорокалетнего возраста, Петрович, – бывший лётчик-истребитель, списанный с самолётов по сокращению штатов. Худощавый брюнет одного роста с Черниковым, среднего. Это ещё одно сословие в когорте вертолётчиков с новым когноменом – «Свистки».
– Так у тебя и вторая плановая таблица – на сложняк?! – удивился Кудрин, разглядев у прижимистого Черникова ещё одну выписку, но уже по сложным метеоусловиям. Это запасной вариант на лётный день, если вдруг погода испортится.
– Успокойтесь, капитан, в сложняке вас не наблюдается, там летают только классные пилоты, – отомстил ему Черников, передавая бумагу нестандартного формата с типографским делением на прямоугольники, в которых уже рукописно, но аккуратно вычерчены продольные палочки с кружочками и иная абстрактная (для непосвящённых) пиктография.
У лётного состава это произведение графики и называлось плановой таблицей полётов.
– Что, двадцать четвёрки, зашуршали! Воздух почувствовали? – вошёл в класс вечно улыбающийся балагур, командир звена Ми-8-х, капитан Лукашин. – Протухли совсем без полётов!
В его словах была доля правды, лётчики с Ми-24 – вертолёта огневой поддержки, летали меньше, чем их коллеги с Ми-8 – транспортно-боевого, потому как у тех всегда были командировки для транспортных нужд в интересах всего округа, и пилоты тренировались в процессе таких вылетов. В частях на плановые полёты после вывода войск из Афганистана и развала Союза катастрофически не хватало керосина.
– А где ваш замкомэска? – разочарованно охватив взглядом весь лётный состав в классе и не найдя нужного человека, убрал улыбку с загорелого мускулистого лица.
Лукашин, оставив пикировки в покое, уже не так азартно пояснил цель посещения братской эскадрильи:
– Тут с плановой накладочка вышла, нужно было бы разобраться.
– В штабе смотрел? – спросил Черников, не поднимая головы от тетради.
– Понятно, не знаете, – прояснял для себя ситуацию Лукашин и, направляясь к выходу из класса, добавил: – Я оттуда и пришёл.
Лукашин вышел, дверь призывно хлопнула, создав прецедент для перемещений. Самоподготовка начала разбиваться на отдельные эпизоды, некоторые её участники потянулись к выходу на перекур. К Черникову подошёл ведущий пары капитан Губарев, почти на голову выше Сергея, тоже блондин с кучерявым чубом и голубыми глазами.
– Ну как, Серёга, готов? – спросил он его. – Пошли, курнём и в процессе обсудим, как реально построим вылет.
Черников летал ведомым в паре Губарева, обсуждение совместного полёта в приватной беседе с ведущим считалось нормальным порядком вещей в лётной среде.
– Идём, – согласился Сергей и, поднявшись из-за стола, потрепал тёмные густые завитушки на макушке Кудрина, спросив при этом: – Кудрявый, курить идёшь?
– Серёга, прекрати, ты же знаешь, я этого не люблю, – обиженным голосом отозвался Алексей на действия Черникова.
Кудрявая шевелюра Кудрина для всех была притчей во языцех, напоминание об этом раздражало Алексея.
– Ладно, Лёха, извини, но это тебе за кедошника, так идёшь или нет? – повторно переспросил Сергей друга.
– Ты продержал плановичку, а мне теперь навёрстывай, закончу – подойду, – уже более миролюбиво ответил Алексей.
– Успеешь расписать свой полёт по маршруту, тысячу раз уже летал, а до контроля готовности, – Черников прервался и, посмотрев на часы, продолжил, – сорок три минуты.
– Ладно, идём, ты и мёртвого уговоришь, – легко поддался искушению Кудрин, закрывая тетрадь, в эскадрилье все знали его как заядлого курильщика.
И втроём они пошли к выходу. В курилке за зданием уже было довольно-таки много народа, в основном лётчики.
Апрельский кислород щекотал ноздри, сквозь редкие высокие облака играло солнце. Снег повсюду сошёл, лишь только на вершинах гор хребта Сихотэ-Алинь громоздились белоснежные шапки, но даже с расстояния в несколько десятков километров было заметно, что низ их начинает пачкаться, будто подол белого платья невесты в распутицу, сколько его ни поддерживай руками, всё равно нечаянно промокнёт ненавистную лужу. Тёмно-серая прошлогодняя трава аэродрома, за зиму выстеленная снегом в гладкошёрстный ковёр, выглядела мокрой, словно после дождя, – под её шубейкой очагами ещё оставался лёд.
Настроение у всех было приподнятым. Весна, завтра полёты, да и просто молодость. Все шутили, смеялись, дыша чистым влажным воздухом, но при этом и курили. Погожий весенний денёк был уже на исходе, оставалось так, несколько штришков: контроль готовности – обязательное мероприятие, где проверяется степень подготовки лётчиков к полётам, – общее построение и домой. А завтра – в небо! Подняться на высоту птичьего полёта и с небес рассмотреть, как уверенно шагает весна по краю, меняя ландшафт Приморья.
Полёты на следующий день начались по плану. Взлетела зелёная ракета, и аэродром, загудев, ожил. Глухо хлопали по воздуху лопасти Ми-8, энергично рокотали Ми-24, уплотняя несущим винтом влажный воздух. Со стороны было видно, как с краёв ометаемой винтами площади сбегает вода и, попадая в упругую струю отбрасываемого потока, закручиваясь, рассыпается в водяную пыль, становясь вновь невидимой.
Губарев с Черниковым начинали только с первой заправки, через два часа от старта ракеты. Они подошли к своим вертолётам, борттехники доложили о готовности машин: заправке топливом и оснащении вооружения боекомплектом. Черникову оставалось дождаться только посадки майора Корягина, находящегося в воздухе в составе другого экипажа.
Сергей уже запускал второй двигатель, вращались винты, прибежал запыхавшийся замполит и с помощью борттехника стал усаживаться в переднюю кабину оператора. Но вот всё включено, зачитана на магнитофон предполётная карта и доложено ведущему о готовности. Руководитель полётов разрешает одиночный подлёт на полосу для расстановки пары. Аэродром грунтовый, весенняя земля мягкая, руление проблематично.
Всё – поехали. Серый травяной ковёр, ускоряясь, бежал навстречу, отдельные былинки сливались в сплошное полотно, достигнув скорости ста двадцати километров в час по прибору, вертолёт, подняв нос, словно зазнайка при возрастающем внимании зевак, начал выполнять правый доворот на город. И вот уже деревья стали казаться травой, открылись пятиэтажные дома в районе завода санитарно-технической арматуры с редкими жильцами на балконах, пара летела над городскими кварталами.
Ровный гул двигателей, ритмичное похлопывание лопастей при манёврах, радиообмен в головных телефонах и птичий взгляд на землю не гасили ощущение лёгкой эйфории от полёта, а, наоборот, усиливали. Душа радостно пела, превращая полёт в торжество, и Черникову чудилось, будто он, слыша её серенаду и тихий шелест, несётся по воздуху не в кабине вертолёта, а на её крыльях. Вот это и есть то «болото», засосавшее его однажды, и Андрей был готов биться с его трясиной, преодолевая сложные перипетии судьбы и терпеливо гася семейные дрязги от неустроенности в быту, чтобы вот так – одним махом – компенсировать все минусы непростой военной службы.
Вышли из круга, снизившись до ста метров и увеличив скорость. Город остался позади, земля набегает стремительней, хвост вертолёта всё выше. Поменялся ландшафт, показались рисовые чеки и каналы, заполненные талой водой. Их вид не позволял даже вверху сомневаться в весенней хляби и распутице.
Ведущий пары установил связь с «Гаражником» (позывной полигона). Огромное пространство для бомбометаний и авиационных стрельб по наземным целям свободно, и пара, получив разрешение руководителя полётов, огибая населённый пункт Сосновка, с разворота выходит на боевой курс.
Черников, слыша в наушниках команды ведущего, синхронно выполняет их: «Горка… Атака… Огонь… Влево вывод».
Короткая фраза-слово «атака», и Сергей снимает предохранительный колпачок с кнопки управления огнём, по команде «огонь» – жмёт на кнопку. Справа с замедлением слышится скрежет-шипение, схожий со звуком, издаваемым при трении металлической щётки по листовому железу. Чёрные шлейфы от двух неуправляемых авиационных ракет (НАР) образовались прямо по курсу полёта. По наклону траектории Сергей понял, что ракеты упадут близко к цели, но смотреть некогда, выключив оружие, держи ведущего в развороте, иначе отстанешь.
– Нормально, – проинформировал более свободный Петрович, значит, попали. В боевой обстановке после пары пристрелочных ракет и незначительной корректировки тангажа вертолёта Сергей выпустил бы половину боекомплекта, а сейчас в блоках уже ничего нет.
Губарев запросил у руководителя разрешение на повторный заход для работы из пушек. Получив «добро», пара вышла на цель с прежним боевым курсом.
Снова: «Горка… Атака… Огонь… Влево, вывод». Черников, держа в поле зрения вертолёт ведущего, всё-таки одним глазком через прицел подсмотрел за целью в момент первого нажатия на кнопку огня. Короткая пристрелочная очередь из нескольких снарядов ушла в сторону цели, по полёту трассеров он сделал корректировку, слегка увеличив тангаж на пикирование, так было оговорено с ведущим ещё на земле, и повторным нажатием выпустил остатки боекомплекта в цель.
Отдача в шесть тонн от двуствольной пушки слегка затормозила движение вперёд, словно кто-то незримый и сильный, поддёрнув вертолёт за хвостовую балку, на секунду придержал его, но лишь на мгновенье. Лёгкая сухая вибрация прошла по борту всей машины и закончилась на зубах Сергея, подобное ощущение сравнимо лишь со сверлением бетонной стены электрическим перфоратором.
По команде «влево вывод» Черников, закрыв предохранительный колпачок и наклоняясь, левой рукой на пульте вооружения поставил переключатель управления огнём в положение «выкл». Разгибаясь, он услышал непривычный звук сверху в районе двигателей, будто бы, выключая вооружение, он запустил какой-то ревун.
– Это что?! – задал он вопрос по внутренней связи членам экипажа, продолжая ещё по инерции пилотировать, удерживая вертолёт в строю.
– Левый двигатель ушёл на малый газ! – доложил второй лётчик.
Он, перенеся взгляд на приборы винтомоторной группы, и сам уже наблюдал непривычную картину: на указателе тахометра турбокомпрессоров образовалась вилка между стрелками, отображающими показания оборотов двигателей. Разброс составлял более пятнадцати процентов, недопустимо много, и говорило о серьёзной неисправности в работе силовой установки.
Черников потянул ручку управления на себя, отставая от ведущего.
– Какой двигатель? – выяснял он по внутренней связи, всматриваясь в чёрные маленькие указатели оборотов. И, увидев, что стрелка с белой циферкой один находится внизу, подтвердил сам себе: – Да точно – левый.
Дальше всё происходило автоматически, словно в какой-то виртуальной игре. Он доложил ведущему, загасив в процессе радиообмена скорость до ста пятидесяти километров в час и убрав крен, выпустил шасси.
– Зелёные горят, – подтвердил Петрович установку замков шасси на фиксаторы.
Эфир замолк от неожиданности. Ведущий Губарев и руководитель полётов, застигнутые врасплох, собирались с мыслями, не издавая ни звука.
И словно кто-то незримый, заполняя пустоту эфира, подсказывал Сергею по своему индивидуальному каналу: «Давай-давай к земле, садись, не тяни время, пока оно ещё есть!» Вошедшие прочно в сознание с курсантской поры слова инструкторов: «Если что-то непонятно – не тяни, садись, на земле разберёшься, у тебя не истребитель, а вертолёт», – возымели своё действие, и Черников повёл машину на посадку.
Эфир ожил его докладом о решении, руководитель полётов выдал направление и скорость ветра у земли.
Держа в поле зрения светлое пятно бетонной посадочной площадки, он правым виражом построил заход и уже через пятьдесят секунд сидел на земле, выключая двигатели и останавливая тормозом вращение несущего винта.
Полёты прекратили, за ними на полигон прилетел вертолёт Ми-8, забрав экипаж и руководство полётов домой на аэродром «Зелёный».
На базе командир эскадрильи завёл его в свою канцелярию, усадив за стол замполита, заставил по горячим следам писать объяснительную.
– Пиши здесь, в классе тебе не сосредоточиться, допросами замучают, – пояснил он своё решение.
Сергей, усевшись за столом, начал писать.
Он прочитал рукописный текст, слегка подумав, поморщился и скомкал лист – слишком много повторов.
– Командир, может, я дома напишу в спокойной обстановке? – спрашивая, Черников уже в конце фразы догадался – морозит глупость.
– Пиши, как есть, потом переделаешь, если что не так, – настаивал на своём командир, добавив при этом: – Уже с округа из Хабаровска звонили, на завтра запланирован борт за инспектором из отдела авиации. Борттехник с замполитом, ведущий и оба руководители полётов уже сдали в штаб рапорта, нам ещё всё состыковать нужно перед комиссией. Пиши!
Сергей, разгладив измятый лист, положил его перед собой, взяв с командирского стола новый, начал писать. Со второй попытки ему удалось изложить что-то внятное на бумаге, к тому же по-военному краткое.
Командир эскадрильи, майор Звонков, с круглыми, словно надутыми щеками, оттого, видимо, и быстрым выговором, внимательно прочитал объяснительную записку и, кивая в знак согласия рыжеватой головой, упрятал листок в красную папку. После этого он, окинув Сергея сверху вниз отцовским взглядом, хотя старше был лишь на десяток лет, разрешил выйти.
Черников, обогнув угол штабного двухэтажного здания из красного кирпича, постройки ещё времён японской оккупации Приморья, направился в курилку, где сидели обсуждавшие случившееся лётчики эскадрильи.
– О, Серёга! – первым увидев, поприветствовал друга Кудрин. – Как настроение? Кеды не жмут?
– Ни рыба ни мясо, – ответил Черников, доставая сигарету из слегка примятой пачки. – А тут ещё некоторые на мозоли наступают.
Лицо его в этот момент было безэмоциональным, можно сказать, восковым.
– Ну тогда рассказывай, как ты кинул своих боевых товарищей, – Алексей, затянувшись сигаретой, выпустил струйку дыма вверх, из-за этого левому глазу пришлось прищуриться, тем самым исказилась истинная мимика лица. Со стороны было непонятно, шутил ли он или говорил серьёзно.
Сергей почувствовал, что над ним подтрунивают, но, оглушённый происшествием, не уловил суть прикола и потому спросил бесхитростно:
– Не понял вопроса?
– Что тут непонятного, только о себе, эгоисте, и заботишься. Садишься, где придётся, не думаешь, как на пересадку добираться другим. На твоём вертолёте по маршруту должен лететь я, расскажи мне, непонятливый ты наш, как теперь туда добраться.
– Всё шутишь, – укоризненно ответил Сергей, усаживаясь на свободное место и вытаскивая из коробка спичку.
Наконец, прикурив и затянувшись, продолжил говорить:
– А мне вот не до смеха.
– А почему так? Что Вас тревожит? – балагурил, не останавливаясь, Алексей. – Трындец нашей карьере?
– Да уж, это точно, и капитана не успел получить, – мрачно ответил Черников.
Потом, сделав паузу, словно вспомнив о чём-то, неожиданно засмеялся, произнеся сдавленным от смеха голосом:
– Столько лет делал карьеру, а теперь вот, блин, на пенсию без пенсии.
Вспомнить было о чём, карьера двигалась со скрипом, хотя бог не обидел его ни умом, ни лётным талантом, но вот не складывалось, не попал в струю, говорили в таких случаях. Надеялся наконец-то получить звание капитана, а то было уже стыдно перед родными. Начинал вместе с Кудриным лейтенантом, но теперь Алексей его как-то обошёл.
– Это ты зря веселишься, тебя так просто не отпустят, а кто будет возмещать материальный ущерб государству и моральный замполиту? – продолжал наезжать на Сергея Кудрин под одобрительный хохот курилки.
В авиации всегда ходили байки о выплате с военных пенсий компенсаций за разбитую технику в период службы, но всё это так и оставалось на уровне анекдотов, запущенных каким-нибудь талантливым политработником в массы. Бывали у «горячего цеха» (политотдела) и покруче проколы. Помнится, в восемьдесят четвёртом году, в первый год службы после училища, их, молодых лётчиков-операторов, готовили к пускам управляемых противотанковых ракет «Штурм» на полигоне «Гаражник». Накачка пошла с открытого комсомольского собрания, где присутствовал начальник политотдела, пятидесятилетний хмурый подполковник, всем своим видом соответствовавший высокому званию ответственного партийного работника. Перетаптываясь, как медведь в зоопарке, он начал издалека – о проблемах в народном хозяйстве, как тяжело живётся рабочим и труженикам села, как много не хватает в быту, но вот страна находит ресурсы, чтобы они, лейтенанты, тренировались, выпуская ракеты, сопоставимые стоимостью с машиной «Жигули» каждая. Вывод оглушительный: «Кто промажет пятью тысячами рублей мимо цели – будем делать соответствующие выводы, рассмотрим вопросы компенсаций с виновных…» Черников попал, Кудрин – мимо тазика, но подавляющее большинство не отстрелялось. Ракеты с момента пуска сразу же уходили на самоликвидацию, командир полка задумался, поговаривали – состоялся конфликтный разговор с «горячим цехом», на матюках. Накануне следующих полётов со стрельбами командир перед строем сказал: «Вижу, сынки, матчасть выучили на «отлично», но нужны попадания!» Пуски без партийной накачки прошли успешней, только каждая шестая ракета не достигала цели.
– Замполит-то здесь при чём? – заступился за Петровича Сергей.
– Ну как же, подмоченная репутация лётчика-инструктора.
– Ну и что, хочешь сказать, переведут в замполиты? Он и так замполит. И потом, партия – это не лётная работа, она своих не бросает.
– То был замполит эскадрильи, а теперь будет замполит полка.
Посвящается однополчанам 94-го отдельного боевого
вертолётного полка, расформированного в мае 2002 года.
– Ми-24 – самый лучший вертолёт, Ми-24 никогда не подведёт, – негромко, на мотив марша Шопена, напевал собственно-сочинённый текст капитан Алексей Кудрин. Сидя за столом перед раскрытой тетрадью полётной подготовки и раскрашивая рисунок вертолёта на отдельном листке в клеточку, он не горбился, держа тёмную кучерявую голову прямо, про такую стройность говорят, что кол проглотил. В просторном лётном комбинезоне даже в сидячем положении виделось, что Алексей роста высокого, примерно под метр девяносто. Под стать росту и его вытянутое лицо с прямым большим носом, с широким лбом и аккуратными ушами, раскрытыми короткой офицерской стрижкой, в сиюминутный момент демонстрировало притворную отрешённость.
– Слышь, Лёха, замолкни со своими похоронными извращениями, мешаешь сосредоточиться, – незлобно, по-дружески бросил товарищу старший лейтенант Сергей Черников, расположившийся по правую руку от капитана Кудрина. Он, в таком же тёмном комбинезоне, грудью опираясь о стол и расставив широко локти, перерисовывал в свою тетрадь с плановой таблицы полётное задание. Поза Черникова со стороны смотрелась несколько комично, напоминала школьную манеру против списывания. Его лица в столь ответственный момент не было видно, лишь периодически опускалась и поднималась коротко стриженная русоволосая голова, придавая зазору между воротником и загорелой шеей статус непостоянства.
– Выписку отдай – прекращу, – услышал ответ Сергей заглядывающего через плечо товарища. На аэродроме «Зелёный» в классе второй эскадрильи шла предполетная подготовка, участвующие в ней пилоты спешили как можно быстрей ознакомиться с плановой таблицей, выхватывая её друг у друга. Нескрываемый ажиотаж присутствовал в душе каждого, для лётчика полёты всегда праздник, а по тем временам – более чем.
Тот смутный период начала девяностых был примечателен многими событиями. Вывели войска из Афганистана, распался Союз, ветер перемен носился по вновь ещё не оформившимся странам СНГ, при этом сильно потрепав вооружённые силы когда-то могучей державы. Военные части захлёстывали извечные проблемы: отсутствие ГСМ, нехватка запчастей и запоздалое недостаточное финансирование. Всё это сказывалось на боевой подготовке, летали меньше и редко, такой расклад для лётчиков – это потеря навыков и квалификации, одним словом, «смертельный приговор» в профессии. Поэтому вырывать плановую таблицу совсем не зазорно для лейтенантов, капитанов и даже майоров – это воочию увидеть свои вожделенные минуты, а если повезёт, и часы воздушного драйва, ведь лётчик, он как птица, без неба жить не может.
Боевых товарищей, помимо любви к небу и служебных обязанностей, сближала дружба семьями. Ровесники, под тридцать лет, оба военные лётчики второго класса, карьеру в девяносто четвёртом отдельном боевом вертолётном полку, дислоцированном в городе Спасск-Дальний Приморского края, начали одновременно в далёком восемьдесят третьем году. Прибыли по распределению после окончания военных авиационных училищ. Кудрин – Сызранского, а Черников – Саратовского.
Разными путями они пришли в авиацию. Если Кудрин выбрал прямую дорогу в небо, став курсантом высшего военного училища лётчиков, то Черников – извилистую и тернистую. В своё время он на вполне законных основаниях заменил срочную службу в армии сборами в ДОСААФ, но судьбу не обманешь, влюбившись в небо, с гражданской жизнью пришлось расстаться. Первое знакомство с воздушным пленом Черникова состоялось на летних сборах Саратовского учебного авиационного центра (СУАЦ) имени Ю. А. Гагарина на аэродроме «Дубки». Да, в том самом, где путёвку в небо получил сам Юрий Алексеевич.
Черников – лётчик минус техник, а Кудрин – лётчик минус инженер. На авиационном сленге так читались записи в дипломах. Саратовское ВВАУЛ готовило вертолётчиков с высшим образованием, но Сергей не был курсантом училища, а всего лишь слушателем офицерских курсов. Он призван из запаса в звании младший лейтенант – мамлей, одним словом. В те времена «Афган» для ограниченного контингента требовал большой и непрерывной ротации лётного состава, два училища не справлялись с возросшими потребностями, вот и брали кадры, подготовленные ДОСААФом. Девяносто четвертый вертолётный полк, созданный двенадцатого июня восьмидесятого года, существовал для ротации и подготовки лётчиков к ведению боевых действий в горно-пустынной местности.
– Слышь, кедышник, лапоть ты наш винтокрылый, что там всё высматриваешь, один вылет на полигон парой и отдыхай, – не выдержав ожидания плановички, Алексей свалился в область психологического давления. Так кадровые военные иногда называли бывших мамлеев, чтобы потроллить их по-дружески.
– Экипаж сборный, смотрю, откуда оператора забирать, – не обращая внимания на слегка обидный тон Алексея, спокойно отбивался Сергей.
– А кто оператор? – уже по-деловому спросил Кудрин.
– Замполит, – ответил Черников со вздохом.
– Не повезло, он сейчас самый занятой, – со знанием дела резюмировал Алексей, поставив специально ударение в последнем слове на «о», тем самым усилив его значение.
Замполит второй эскадрильи майор Корягин, о ком, собственно, и шла речь в разговоре друзей, был ещё и лётчиком-инструктором. Обучать ему не доверяли, но в связи с нехваткой вторых пилотов наделили статусом инструктора, дающего право дополнять экипажи до штатных, тем самым позволяя командирам тренироваться, двигаясь по курсу лётной подготовки.
Корягин, или как его ещё называли из-за сорокалетнего возраста, Петрович, – бывший лётчик-истребитель, списанный с самолётов по сокращению штатов. Худощавый брюнет одного роста с Черниковым, среднего. Это ещё одно сословие в когорте вертолётчиков с новым когноменом – «Свистки».
– Так у тебя и вторая плановая таблица – на сложняк?! – удивился Кудрин, разглядев у прижимистого Черникова ещё одну выписку, но уже по сложным метеоусловиям. Это запасной вариант на лётный день, если вдруг погода испортится.
– Успокойтесь, капитан, в сложняке вас не наблюдается, там летают только классные пилоты, – отомстил ему Черников, передавая бумагу нестандартного формата с типографским делением на прямоугольники, в которых уже рукописно, но аккуратно вычерчены продольные палочки с кружочками и иная абстрактная (для непосвящённых) пиктография.
У лётного состава это произведение графики и называлось плановой таблицей полётов.
– Что, двадцать четвёрки, зашуршали! Воздух почувствовали? – вошёл в класс вечно улыбающийся балагур, командир звена Ми-8-х, капитан Лукашин. – Протухли совсем без полётов!
В его словах была доля правды, лётчики с Ми-24 – вертолёта огневой поддержки, летали меньше, чем их коллеги с Ми-8 – транспортно-боевого, потому как у тех всегда были командировки для транспортных нужд в интересах всего округа, и пилоты тренировались в процессе таких вылетов. В частях на плановые полёты после вывода войск из Афганистана и развала Союза катастрофически не хватало керосина.
– А где ваш замкомэска? – разочарованно охватив взглядом весь лётный состав в классе и не найдя нужного человека, убрал улыбку с загорелого мускулистого лица.
Лукашин, оставив пикировки в покое, уже не так азартно пояснил цель посещения братской эскадрильи:
– Тут с плановой накладочка вышла, нужно было бы разобраться.
– В штабе смотрел? – спросил Черников, не поднимая головы от тетради.
– Понятно, не знаете, – прояснял для себя ситуацию Лукашин и, направляясь к выходу из класса, добавил: – Я оттуда и пришёл.
Лукашин вышел, дверь призывно хлопнула, создав прецедент для перемещений. Самоподготовка начала разбиваться на отдельные эпизоды, некоторые её участники потянулись к выходу на перекур. К Черникову подошёл ведущий пары капитан Губарев, почти на голову выше Сергея, тоже блондин с кучерявым чубом и голубыми глазами.
– Ну как, Серёга, готов? – спросил он его. – Пошли, курнём и в процессе обсудим, как реально построим вылет.
Черников летал ведомым в паре Губарева, обсуждение совместного полёта в приватной беседе с ведущим считалось нормальным порядком вещей в лётной среде.
– Идём, – согласился Сергей и, поднявшись из-за стола, потрепал тёмные густые завитушки на макушке Кудрина, спросив при этом: – Кудрявый, курить идёшь?
– Серёга, прекрати, ты же знаешь, я этого не люблю, – обиженным голосом отозвался Алексей на действия Черникова.
Кудрявая шевелюра Кудрина для всех была притчей во языцех, напоминание об этом раздражало Алексея.
– Ладно, Лёха, извини, но это тебе за кедошника, так идёшь или нет? – повторно переспросил Сергей друга.
– Ты продержал плановичку, а мне теперь навёрстывай, закончу – подойду, – уже более миролюбиво ответил Алексей.
– Успеешь расписать свой полёт по маршруту, тысячу раз уже летал, а до контроля готовности, – Черников прервался и, посмотрев на часы, продолжил, – сорок три минуты.
– Ладно, идём, ты и мёртвого уговоришь, – легко поддался искушению Кудрин, закрывая тетрадь, в эскадрилье все знали его как заядлого курильщика.
И втроём они пошли к выходу. В курилке за зданием уже было довольно-таки много народа, в основном лётчики.
Апрельский кислород щекотал ноздри, сквозь редкие высокие облака играло солнце. Снег повсюду сошёл, лишь только на вершинах гор хребта Сихотэ-Алинь громоздились белоснежные шапки, но даже с расстояния в несколько десятков километров было заметно, что низ их начинает пачкаться, будто подол белого платья невесты в распутицу, сколько его ни поддерживай руками, всё равно нечаянно промокнёт ненавистную лужу. Тёмно-серая прошлогодняя трава аэродрома, за зиму выстеленная снегом в гладкошёрстный ковёр, выглядела мокрой, словно после дождя, – под её шубейкой очагами ещё оставался лёд.
Настроение у всех было приподнятым. Весна, завтра полёты, да и просто молодость. Все шутили, смеялись, дыша чистым влажным воздухом, но при этом и курили. Погожий весенний денёк был уже на исходе, оставалось так, несколько штришков: контроль готовности – обязательное мероприятие, где проверяется степень подготовки лётчиков к полётам, – общее построение и домой. А завтра – в небо! Подняться на высоту птичьего полёта и с небес рассмотреть, как уверенно шагает весна по краю, меняя ландшафт Приморья.
Полёты на следующий день начались по плану. Взлетела зелёная ракета, и аэродром, загудев, ожил. Глухо хлопали по воздуху лопасти Ми-8, энергично рокотали Ми-24, уплотняя несущим винтом влажный воздух. Со стороны было видно, как с краёв ометаемой винтами площади сбегает вода и, попадая в упругую струю отбрасываемого потока, закручиваясь, рассыпается в водяную пыль, становясь вновь невидимой.
Губарев с Черниковым начинали только с первой заправки, через два часа от старта ракеты. Они подошли к своим вертолётам, борттехники доложили о готовности машин: заправке топливом и оснащении вооружения боекомплектом. Черникову оставалось дождаться только посадки майора Корягина, находящегося в воздухе в составе другого экипажа.
Сергей уже запускал второй двигатель, вращались винты, прибежал запыхавшийся замполит и с помощью борттехника стал усаживаться в переднюю кабину оператора. Но вот всё включено, зачитана на магнитофон предполётная карта и доложено ведущему о готовности. Руководитель полётов разрешает одиночный подлёт на полосу для расстановки пары. Аэродром грунтовый, весенняя земля мягкая, руление проблематично.
Всё – поехали. Серый травяной ковёр, ускоряясь, бежал навстречу, отдельные былинки сливались в сплошное полотно, достигнув скорости ста двадцати километров в час по прибору, вертолёт, подняв нос, словно зазнайка при возрастающем внимании зевак, начал выполнять правый доворот на город. И вот уже деревья стали казаться травой, открылись пятиэтажные дома в районе завода санитарно-технической арматуры с редкими жильцами на балконах, пара летела над городскими кварталами.
Ровный гул двигателей, ритмичное похлопывание лопастей при манёврах, радиообмен в головных телефонах и птичий взгляд на землю не гасили ощущение лёгкой эйфории от полёта, а, наоборот, усиливали. Душа радостно пела, превращая полёт в торжество, и Черникову чудилось, будто он, слыша её серенаду и тихий шелест, несётся по воздуху не в кабине вертолёта, а на её крыльях. Вот это и есть то «болото», засосавшее его однажды, и Андрей был готов биться с его трясиной, преодолевая сложные перипетии судьбы и терпеливо гася семейные дрязги от неустроенности в быту, чтобы вот так – одним махом – компенсировать все минусы непростой военной службы.
Вышли из круга, снизившись до ста метров и увеличив скорость. Город остался позади, земля набегает стремительней, хвост вертолёта всё выше. Поменялся ландшафт, показались рисовые чеки и каналы, заполненные талой водой. Их вид не позволял даже вверху сомневаться в весенней хляби и распутице.
Ведущий пары установил связь с «Гаражником» (позывной полигона). Огромное пространство для бомбометаний и авиационных стрельб по наземным целям свободно, и пара, получив разрешение руководителя полётов, огибая населённый пункт Сосновка, с разворота выходит на боевой курс.
Черников, слыша в наушниках команды ведущего, синхронно выполняет их: «Горка… Атака… Огонь… Влево вывод».
Короткая фраза-слово «атака», и Сергей снимает предохранительный колпачок с кнопки управления огнём, по команде «огонь» – жмёт на кнопку. Справа с замедлением слышится скрежет-шипение, схожий со звуком, издаваемым при трении металлической щётки по листовому железу. Чёрные шлейфы от двух неуправляемых авиационных ракет (НАР) образовались прямо по курсу полёта. По наклону траектории Сергей понял, что ракеты упадут близко к цели, но смотреть некогда, выключив оружие, держи ведущего в развороте, иначе отстанешь.
– Нормально, – проинформировал более свободный Петрович, значит, попали. В боевой обстановке после пары пристрелочных ракет и незначительной корректировки тангажа вертолёта Сергей выпустил бы половину боекомплекта, а сейчас в блоках уже ничего нет.
Губарев запросил у руководителя разрешение на повторный заход для работы из пушек. Получив «добро», пара вышла на цель с прежним боевым курсом.
Снова: «Горка… Атака… Огонь… Влево, вывод». Черников, держа в поле зрения вертолёт ведущего, всё-таки одним глазком через прицел подсмотрел за целью в момент первого нажатия на кнопку огня. Короткая пристрелочная очередь из нескольких снарядов ушла в сторону цели, по полёту трассеров он сделал корректировку, слегка увеличив тангаж на пикирование, так было оговорено с ведущим ещё на земле, и повторным нажатием выпустил остатки боекомплекта в цель.
Отдача в шесть тонн от двуствольной пушки слегка затормозила движение вперёд, словно кто-то незримый и сильный, поддёрнув вертолёт за хвостовую балку, на секунду придержал его, но лишь на мгновенье. Лёгкая сухая вибрация прошла по борту всей машины и закончилась на зубах Сергея, подобное ощущение сравнимо лишь со сверлением бетонной стены электрическим перфоратором.
По команде «влево вывод» Черников, закрыв предохранительный колпачок и наклоняясь, левой рукой на пульте вооружения поставил переключатель управления огнём в положение «выкл». Разгибаясь, он услышал непривычный звук сверху в районе двигателей, будто бы, выключая вооружение, он запустил какой-то ревун.
– Это что?! – задал он вопрос по внутренней связи членам экипажа, продолжая ещё по инерции пилотировать, удерживая вертолёт в строю.
– Левый двигатель ушёл на малый газ! – доложил второй лётчик.
Он, перенеся взгляд на приборы винтомоторной группы, и сам уже наблюдал непривычную картину: на указателе тахометра турбокомпрессоров образовалась вилка между стрелками, отображающими показания оборотов двигателей. Разброс составлял более пятнадцати процентов, недопустимо много, и говорило о серьёзной неисправности в работе силовой установки.
Черников потянул ручку управления на себя, отставая от ведущего.
– Какой двигатель? – выяснял он по внутренней связи, всматриваясь в чёрные маленькие указатели оборотов. И, увидев, что стрелка с белой циферкой один находится внизу, подтвердил сам себе: – Да точно – левый.
Дальше всё происходило автоматически, словно в какой-то виртуальной игре. Он доложил ведущему, загасив в процессе радиообмена скорость до ста пятидесяти километров в час и убрав крен, выпустил шасси.
– Зелёные горят, – подтвердил Петрович установку замков шасси на фиксаторы.
Эфир замолк от неожиданности. Ведущий Губарев и руководитель полётов, застигнутые врасплох, собирались с мыслями, не издавая ни звука.
И словно кто-то незримый, заполняя пустоту эфира, подсказывал Сергею по своему индивидуальному каналу: «Давай-давай к земле, садись, не тяни время, пока оно ещё есть!» Вошедшие прочно в сознание с курсантской поры слова инструкторов: «Если что-то непонятно – не тяни, садись, на земле разберёшься, у тебя не истребитель, а вертолёт», – возымели своё действие, и Черников повёл машину на посадку.
Эфир ожил его докладом о решении, руководитель полётов выдал направление и скорость ветра у земли.
Держа в поле зрения светлое пятно бетонной посадочной площадки, он правым виражом построил заход и уже через пятьдесят секунд сидел на земле, выключая двигатели и останавливая тормозом вращение несущего винта.
Полёты прекратили, за ними на полигон прилетел вертолёт Ми-8, забрав экипаж и руководство полётов домой на аэродром «Зелёный».
На базе командир эскадрильи завёл его в свою канцелярию, усадив за стол замполита, заставил по горячим следам писать объяснительную.
– Пиши здесь, в классе тебе не сосредоточиться, допросами замучают, – пояснил он своё решение.
Сергей, усевшись за столом, начал писать.
Он прочитал рукописный текст, слегка подумав, поморщился и скомкал лист – слишком много повторов.
– Командир, может, я дома напишу в спокойной обстановке? – спрашивая, Черников уже в конце фразы догадался – морозит глупость.
– Пиши, как есть, потом переделаешь, если что не так, – настаивал на своём командир, добавив при этом: – Уже с округа из Хабаровска звонили, на завтра запланирован борт за инспектором из отдела авиации. Борттехник с замполитом, ведущий и оба руководители полётов уже сдали в штаб рапорта, нам ещё всё состыковать нужно перед комиссией. Пиши!
Сергей, разгладив измятый лист, положил его перед собой, взяв с командирского стола новый, начал писать. Со второй попытки ему удалось изложить что-то внятное на бумаге, к тому же по-военному краткое.
Командир эскадрильи, майор Звонков, с круглыми, словно надутыми щеками, оттого, видимо, и быстрым выговором, внимательно прочитал объяснительную записку и, кивая в знак согласия рыжеватой головой, упрятал листок в красную папку. После этого он, окинув Сергея сверху вниз отцовским взглядом, хотя старше был лишь на десяток лет, разрешил выйти.
Черников, обогнув угол штабного двухэтажного здания из красного кирпича, постройки ещё времён японской оккупации Приморья, направился в курилку, где сидели обсуждавшие случившееся лётчики эскадрильи.
– О, Серёга! – первым увидев, поприветствовал друга Кудрин. – Как настроение? Кеды не жмут?
– Ни рыба ни мясо, – ответил Черников, доставая сигарету из слегка примятой пачки. – А тут ещё некоторые на мозоли наступают.
Лицо его в этот момент было безэмоциональным, можно сказать, восковым.
– Ну тогда рассказывай, как ты кинул своих боевых товарищей, – Алексей, затянувшись сигаретой, выпустил струйку дыма вверх, из-за этого левому глазу пришлось прищуриться, тем самым исказилась истинная мимика лица. Со стороны было непонятно, шутил ли он или говорил серьёзно.
Сергей почувствовал, что над ним подтрунивают, но, оглушённый происшествием, не уловил суть прикола и потому спросил бесхитростно:
– Не понял вопроса?
– Что тут непонятного, только о себе, эгоисте, и заботишься. Садишься, где придётся, не думаешь, как на пересадку добираться другим. На твоём вертолёте по маршруту должен лететь я, расскажи мне, непонятливый ты наш, как теперь туда добраться.
– Всё шутишь, – укоризненно ответил Сергей, усаживаясь на свободное место и вытаскивая из коробка спичку.
Наконец, прикурив и затянувшись, продолжил говорить:
– А мне вот не до смеха.
– А почему так? Что Вас тревожит? – балагурил, не останавливаясь, Алексей. – Трындец нашей карьере?
– Да уж, это точно, и капитана не успел получить, – мрачно ответил Черников.
Потом, сделав паузу, словно вспомнив о чём-то, неожиданно засмеялся, произнеся сдавленным от смеха голосом:
– Столько лет делал карьеру, а теперь вот, блин, на пенсию без пенсии.
Вспомнить было о чём, карьера двигалась со скрипом, хотя бог не обидел его ни умом, ни лётным талантом, но вот не складывалось, не попал в струю, говорили в таких случаях. Надеялся наконец-то получить звание капитана, а то было уже стыдно перед родными. Начинал вместе с Кудриным лейтенантом, но теперь Алексей его как-то обошёл.
– Это ты зря веселишься, тебя так просто не отпустят, а кто будет возмещать материальный ущерб государству и моральный замполиту? – продолжал наезжать на Сергея Кудрин под одобрительный хохот курилки.
В авиации всегда ходили байки о выплате с военных пенсий компенсаций за разбитую технику в период службы, но всё это так и оставалось на уровне анекдотов, запущенных каким-нибудь талантливым политработником в массы. Бывали у «горячего цеха» (политотдела) и покруче проколы. Помнится, в восемьдесят четвёртом году, в первый год службы после училища, их, молодых лётчиков-операторов, готовили к пускам управляемых противотанковых ракет «Штурм» на полигоне «Гаражник». Накачка пошла с открытого комсомольского собрания, где присутствовал начальник политотдела, пятидесятилетний хмурый подполковник, всем своим видом соответствовавший высокому званию ответственного партийного работника. Перетаптываясь, как медведь в зоопарке, он начал издалека – о проблемах в народном хозяйстве, как тяжело живётся рабочим и труженикам села, как много не хватает в быту, но вот страна находит ресурсы, чтобы они, лейтенанты, тренировались, выпуская ракеты, сопоставимые стоимостью с машиной «Жигули» каждая. Вывод оглушительный: «Кто промажет пятью тысячами рублей мимо цели – будем делать соответствующие выводы, рассмотрим вопросы компенсаций с виновных…» Черников попал, Кудрин – мимо тазика, но подавляющее большинство не отстрелялось. Ракеты с момента пуска сразу же уходили на самоликвидацию, командир полка задумался, поговаривали – состоялся конфликтный разговор с «горячим цехом», на матюках. Накануне следующих полётов со стрельбами командир перед строем сказал: «Вижу, сынки, матчасть выучили на «отлично», но нужны попадания!» Пуски без партийной накачки прошли успешней, только каждая шестая ракета не достигала цели.
– Замполит-то здесь при чём? – заступился за Петровича Сергей.
– Ну как же, подмоченная репутация лётчика-инструктора.
– Ну и что, хочешь сказать, переведут в замполиты? Он и так замполит. И потом, партия – это не лётная работа, она своих не бросает.
– То был замполит эскадрильи, а теперь будет замполит полка.
В этот момент из-за угла показались двое: майор Корягин и его вышестоящий начальник, подполковник Хрунёв, так как из курилки неплохо просматривалась штабная дорожка, все сидящие там, увидев их, покатились со смеху. Взрыв хохота настолько был дружный, что идущие замполиты, обратив внимание на веселье, поменяли свои планы, вместо того, чтобы зайти в штаб эскадрильи, они двинулись к курилке.
Офицеры в курилке, еле сдерживаясь от смеха, встали, приветствуя таким образом старших по званию. На полголовы выше Корягина, коренастый Хрунёв, с мохнатыми бровями и дородным лицом, отметил субординацию:
– Сидите-сидите, вижу, настроение есть, моральный дух поднимать не нужно. Правильно я говорю, Черников?
– Так точно, товарищ подполковник, – ответил тот, – нас ничем не сломить.
– Молодцы, – обратился он к остальным, – помогаете боевому товарищу преодолеть стресс.
– Так стресс не преодолеть, нужно что-то посерьёзней и покрепче, – высказал своё мнение самый старший по возрасту из лётчиков, капитан Стрючков, командир звена с восьмёрок.
– Можно и по-другому, только не в служебное время, а если и это не поможет, то советую вам, старший лейтенант, – и начальник политотдела повернулся к Черникову, – взять всё по этому случаю, что сейчас вращается у вас в голове, взять и отобразить на бумаге, выгрузить. И не так, как в рапорте или объяснительной, а для себя, как вы видите и оцениваете обстоятельства дела.
– Я прислушаюсь к вашим рекомендациям, товарищ подполковник, и, возможно, некоторыми воспользуюсь прямо сегодня, – ответил ему Сергей.
– Ну-ну, смотрите, не переусердствуйте и бумагой запаситесь, а то будете по ночам бегать и занимать у товарищей, – перевёл всё в шутку подполковник.
Все засмеялись, и подполковник Хрунёв, довольный проведённой политработой, удалился по своим делам, прихватив с собой и майора Корягина.
– Леха, может, действительно снимем сегодня стресс? – озадачился замполитовской идеей Черников.
– Я всегда за анестезию, только чем? – согласился с другом Кудрин.
– Пошли, вон со стоянки техники идут, инженера раскрутим, – предложил Сергей, – думаю, по такому случаю он нам не откажет.
Они встали вдвоем и пошли навстречу инженеру эскадрильи, имеющему в своём распоряжении весь запас спирта подразделения.
Вечером после службы они решили распить добытую бутылку спирта дома у Черникова. Жёны вошли в их положение, приготовили нехитрую закуску, но от спирта отказались.
Сергей разлил спирт по стаканам на одну треть, добавив воды до полного объёма, и они дружно закрыли их ладонями. Для чего это делалось, не знали сами, возможно, традиция, но иногда казалось, что, выполняя такую процедуру при разбавлении спирта, напиток становился мягче. По такому поводу шутили: у соседей-китайцев есть чайная церемония, а у нас – спиртовая.
Выпили с традиционным тостом, чтобы всё, чему можно стоять, стояло, и лишь винты вращались.
– Ну, рассказывай, что там у вас произошло, – спросил Кудрин друга, закусывая.
– Вещь довольно-таки странная и непонятная, – вступил в повествование Сергей, наполняя заново стаканы. И опять они, словно по команде, дружно накрыли их. Так начинался застольный разбор полётов.
К третьему тосту их было уже четверо, присоединился к ним капитан Зюбин, списанный с лётной работы пилот, готовившийся уйти на гражданку. Худощавый, с землистым цветом лица и постоянными мешками под глазами, успевший уже отпустить тёмный с проседью волос, закрывающий наполовину ушные раковины, проживал в подъезде Черникова. С ним пришёл Антон Любимов, тоже капитан, ведущий холостяцкую жизнь, отправив семью на Запад, но не этим он был знаменит, а своим уникальным чутьём на выпивку. Где бы в гарнизоне ни сложилась компания по застолью, Любимов рано или поздно оказывался там. Лицо его, со шрамом на правой щеке, всегда выглядело нездоровым, немного отё-чным, но медкомиссию проходил легко, доктора признавали годным к лётной работе.
– Мы тут прослышали про повод, – начал Антон с порога вливаться в коллектив. – Бутылка спирта – это почти пять водки, не многовато ли на двоих? Прокиснуть может добро, если на завтра оставить.
Достали стаканы с тарелками, магнитофон двухкассетный импортный настроили. Выпили по чарке, Любимов кассету вставил, включил.
– Мужики вот радиообмен подогнали, в том вылете под Газнями однокашника сбили на моих глазах, – пояснил он.
– Двести сороковой – сто семидесятому… – вырвалось из колонок магнитофона.
Пауза, гудение и треск, одинокий голос в эфире повторно вызывал кого-то, и тут в радиообмен вмешался ещё голос. Эфир ожил и наполнился многозвучием, как школьная перемена после звонка с урока.
– Двести сороковой! Ответь сто семидесятому, пятьсот первый…
– Это нас ретранслятор с Ан-32-го запрашивает, – стал комментировать Антон.
– Отвечаю, двести сороковой…
– Двести сороковой, сто семидесятый на подходе группой шесть единиц, запрашивает условия работы…
– Наша группа с Джелалабада, а это с Кабула вертушки, – пояснял Любимов.
– Где он болтался? У меня уже горох кончается, а высадка идёт…
– Это наш комэска, двести сороковой, – снова вмешался Антон.
– Двести сороковой сто семидесятому?
– Отвечаю, двести сороковой!
– Двести сороковой! Сто семидесятый – группой через три минуты, условия подхода и работы?
– Подход – четыре двести по стандарту, работа – правая сторона по заходу. Почему опоздал?
– Понял: четыре двести – стандарт, по заходу правая сторона. Не там свернули, пришлось возвращаться… Как обстановка?
– Хреново… Высадка идёт, пчелу завалили, грачи отработали на троечку, не совсем там! Справа по заходу работают две сварки и резак…
– Пчела – Ми-8, грачи – Су-25, два ДШК и одна ЗУ-шка, – комментировал Любимов, хотя все присутствующие об этом знали.
– Двести сороковой, подскажи условия вывода…
– Сто семидесятый, вывод две пятьсот по прибору, влево под меня, далее – визуальный набор по ущелью южным курсом…
– Факел прямо в воздухе, вместе с десантурой, – хрипло произнёс Антон, закуривая, – я сам не видел, наши с группы потом рассказали.
– Понял, две пятьсот, левым по ущелью… Сто семьдесят первый, роспуск.
– Понял, роспуск…
– Поехали…
– Вывод…
– Борт десять, пожар! – приятный женский голос в эфире.
– Борт десять, пожар! – повторилось сообщение.
– Мы как раз на траверзе были, – пояснял Антон, – строили крайний заход за ними. Видно было, как в ведомого на пикировании попали, зачадил, потом пламя с левого движка…
– Сто семьдесят первый! Ответь сто семидесятому!
Эфирный треск и шелест… Молчание.
– Сто семьдесят шестой, наблюдаешь сто семьдесят первого?
– Сто семьдесят шестой отработал, на выводе, сто семьдесят первого не наблюдаю, по нам работает резак и сварка…
– Сто семьдесят седьмой наблюдаю, упал сто семьдесят первый!
– Ведомый второй пары, Колька Стриж, тоже однокашник, – комментировал новый позывной Любимов.
– Прыгнул один! Прыгнул, парашют не раскрылся!!! – вмешался совсем новый взволнованный голос без позывного.
– Оператор его в эфир влез, ему-то виднее… – делая большую затяжку сигареты, пояснял Антон.
– Я, двести сороковой, зайду снизу по ущелью, посмотрю, прикройте…
Тут Любимов, вдавив кнопку паузы, начал рассказывать.
– …Командир по-хитрому зашёл издалека, я за ним на приличном удалении, но так, чтобы видно его было. Пока вверху наши отвлекали, мы подошли близко к площадке высадки, ориентиром был оранжевый парашют. Духи там толпой рванули к парашюту, тоже, значит, увидели, приз же, бакшиш по-ихнему. Командир с пушки четверых пригвоздил и отвалил вниз по ущелью, я за ним подхожу к оранжевому пятну, а там один дух прорвался и уже за купол тянет. Я оператору: «Санёк, давай!» У нас «вэшка» Ми-24В, вместо пушки пулемёт. Такой, значит, в серой пуштунке, коричневом перхуне, выглядывающим из-под обычного европейского пиджака, тащит, значит, трофей на себя. Голову наконец-то поднял, глазами впился в нас, и рука выпустила оранжевую ткань. Чёрная, с проседью, борода-лопата перестала дёргаться и замерла. Заклинило его перед смертью. Первый же трассер прошёл сквозь бороду. Дух, неестественно подскочив в воздухе, завис, болтая конечностями, как клоун в цирке, подвешенный на страховочном тросе. Очередь, держа тело на весу, за его спиной метрах в десяти на склоне дробила камень в щебёнку. Две очереди Саньком уложились секунды в четыре, не опускали бородатое тело на землю. Как сейчас картинка перед глазами…
Закончив рассказ, Антон нажал кнопку.
Снова радиообмен.
– Двести сороковой, я – пятьсот первый!
– Ответил пятьсот первому!
– Что наблюдал?
– Оператор лежит у края площадки в подвесной, можно достать, борт упал в ущелье, второго парашюта не видно.
– Понял.
– Двести сороковой – отход группой на точку, пустой.
– Отход двести сороковому.
– Понял. Сто семидесятый – двести сороковому!
– Ответил!
– Всё слышал!
– Да!
– Крепитесь, мужики!
После этого Любимов выключил магнитофон со словами:
– Третий тост, не чокаясь, за них, кто не вернулся, пусть им земля будет пухом!
Выпили стоя, молча закусили, вышли на балкон перекурить, чтобы затем сменить грустную тему…
На следующий день друзья выглядели молодцами, и зоркий сканер комэски майора Звонкова остался удовлетворённым. В части объявили парковый день: техники работали на вертолётах, а лётчиков засадили в класс на занятия.
Из Хабаровска прилетели проверяющие, создалась комиссия для разбора лётного происшествия. В одиннадцать часов она начала работу, и уже через десять минут на ковёр пригласили старшего лейтенанта Черникова.
Сергей впервые за все свои одиннадцать лет офицерской службы участвовал в таком мероприятии как главный виновник торжества. Внутреннее напряжение, так и не снятое накануне спиртным, лишь возросло, но внешне он старался не показывать волнения. Черников крепился и, помня Афган, говорил самому себе, что бывало и хуже.
Его опасения не оправдались, члены комиссии были настроены благодушно. Прослушав внутренний и внешний радиообмен, доклад начальника объективного контроля по расшифровке полётных данных, они, задав несколько уточняющих вопросов лётчику, уже через двадцать минут отпустили его из кабинета.
Он вышел из штаба и, завернув за угол, направился в пустующую курилку. Усевшись на скамью, зажёг сигарету. Волнение уходило с каждой новой затяжкой, но внутри оставалось что-то такое… мешающее ощущать себя свободным. Будто все эти события переродили старшего лейтенанта Черникова, сделав из него неизвестно кого, и вот эта неопределённость нового состояния тревожила сердце. На ум неожиданно пришёл Твардовский со своим Тёркиным, и Сергей произнёс вслух: «Балагур не помешал бы!»
Здесь же вспомнилась шутка Кудрина о карьере, он улыбнулся. Черников девять лет пролетал вторым пилотом и вернуться на прежнюю должность ему не казалось уже таким зазорным. Всё это время давали летать с командирского сиденья, и он первый в истории этой части стал военным лётчиком второго класса не будучи командиром экипажа.
Припомнилась другая шутка о том, как нужно читать газету – рупор вооружённых сил – «Красную звезду». Открываешь передовицу, смотришь, есть ли некрологи в траурных рамках, если нет, закрываешь, продвижения по службе не будет, все места заняты. Он улыбнулся вторично, снова произнеся вслух: «Без приколов или умрёшь, или сопьёшься! И никакая психика не выдержит столь высокого напряга!»
Тем временем закончилось первое заседание комиссии. Её члены расходились из штаба, к нему подошёл один из них, сослуживец по Афганистану, подполковник Огоньков. Юрий Александрович в кителе при голубых погонах смотрелся цивильно, раздобрел от штабной работы в Хабаровске, лицо, как и положено военному бюрократу, округлилось, щёки лоснились здоровьем.
– Что, Сергей, не весел? – спросил он Черникова, подавая ладонь.
– Да, Юрий Саныч, вроде бы и веселиться нечему, – отвечал Сергей, здороваясь за руку с бывшим своим командиром.
– Ну как же нечему? Жив-здоров и технику сохранил, – продолжал тот, усаживаясь рядом. – Там в своё время два вертолёта разбились, и управляли ими пилоты помаститей и опытней тебя. Площадка как бы простая, но вот для вынужденных посадок не столь удачное место.
– Ну и что будет со мной? – поинтересовался Черников.
– За то, что не по инструкции действовал?
– Ну да.
– Ещё неизвестно, чем бы посадка закончилась, делай ты всё по инструкции. Да и двигатель-то совершенно новой конструкции, что-то с ним не так, в инструкции нет такого случая. Инженеры валят обычно на лётчиков, а сейчас плечами жмут…
В этот момент лётный состав с занятий вышел на перекур, пилоты потянулись в курилку. Подполковник Огоньков ушёл, и товарищи приступили к расспросам Черникова, что и как.
– Да вроде всё обошлось, – отвечал Сергей, потирая левую половинку груди в области сердца.
Понеслись шутки, приколы, ну как всегда на перекурах.
Уже дома Сергей заметил, что внутреннее напряжение не спадает, жжёт где-то внутри. И он не знал, как и почему, взял лист, карандаш и стал писать.
«1. Экстренная посадка, причины:
Непонятный рёв сверху из района двигателей, такое впечатление – сейчас что-то рванёт.
2. Где садиться? Согласно инструкции, на ближайшую выбранную площадку, она здесь только одна.
3. Как садиться? В целях экономии времени и понижения режимов работы двигателей только по-самолётному.
4. Кроки площадки:
На севере – вышка руководства полётами, огороженная двухметровым забором. На юге – жилые капитальные строения, стоянка автомашин связи с поднятыми антеннами вверх метров на пять. На западе – телеграфные столбы с проводами. На востоке – низкие ограждения из колючей проволоки.
5. Выбор направления захода для посадки.
Даёт выигрыш времени посадка с западной стороны, но с восточным курсом. Выход на такой курс правым разворотом.
Посадка.
Вижу само препятствие перед площадкой – телеграфные столбы, рождается мысль: «Их перетяну – начну полное гашение скорости». Заволновался РП: «Гаси скорость, подгашивай».
Столбы уже подо мною, беру ручку управления на себя, опускаю шаг до. Вертолёт, не снижаясь, энергично гасит скорость. Отпускаю от себя ручку и поднимаю энергично шаг. Только вертолёт занял посадочный угол тангажа, снижение замедлилось. Чувствую, скольжу по мокрой земле.
Убираю крен, беру шаг-газ и ручку управления на себя, вертолёт, двигаясь вперёд, садится в ров: вязнут в болотистом его дне основные колёса, пята хвостовой балки задевает за бруствер рва.
Сбрасываю шаг, вывожу коррекцию, наблюдаю, как лопасти непривычно низко проходят над землёй. Рёв от двигателей ещё усилился, выключаю двигатели. Тишина оглушает, лишь затихающий вой турбин и лёгкое посвистывание лопастей после открытия кабины дают понять, что я не лишился слуха».
А что же было дальше? Он, подумав, словно заглядывая внутрь себя, улыбнулся, ему почему-то стало легко, напряжение ушло, и писать уже больше не хотелось. Сергей, отложив карандаш, стал просто вспоминать.
…Откинулся люк оператора, показался улыбающийся Петрович: «Будем жить, Серёга!»
Прибежал запыхавшийся помощник руководителя на полигоне, капитан Хохлов, Коля Хохол. Добродушный здоровяк, всегда с полным круглым розоватым лицом, в этот раз оно было красным, видимо, от бега и волнений.
– Я такого ещё не видел, я думал, что у меня сердце из груди выскочит, – держался он правой рукой за потёртый левый нагрудный карман шевретовой куртки, словно из этого кармана его сердце и делало попытки выпрыгнуть.
– Что, всё так было страшно? – сдавленным осипшим голосом спросил Черников.
– Не то слово, по моим понятиям, вы должны были раза три разбиться, – возбуждённо выдал Хохлов.
– Ну, это ты уже преувеличиваешь, всё было под контролем, – нашёлся, что сказать Сергей, глядя в раскрасневшееся лицо Николая.
Вид ошарашенного капитана Хохлова привёл его самого в норму, голос стал обычным, как всегда, не то, что с первой произнесённой фразой.
– Я никогда не видел, что вертолёт так может летать и садиться с одним двигателем, – уже успокаиваясь, помощник руководителя попытался профессионально объяснить свой испуг.
– Да не с одним, РУДа (рычаг раздельного управления двигателя) второго я не касался, не было времени, – перешёл и Черников на рабочий сленг пилотов.
– Да уж, вы как «Свистки»! Только доложили – уже шасси, вираж и на посадку! Вы, наверное, готовились что ли? – Произнося эту тираду Черникову, он смотрел на подходивших замполита и борттехника.
– Мы, как пионеры, всегда готовы, если что, – бодро вступил в разговор и борттехник старлей Ручкин, невысокий крепыш с едва заметной щетиной на суровом лице.
– Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, – встрял и замполит, потирая от стресса мохнатую переносицу.
– О-о, Петрович, ты в своём стиле, давай, толкай политинформацию, – шутливо высказался Хохлов, прижимая к себе по-дружески за плечи щуплого, на целую голову ниже, замполита.
Черников и борттехник закурили, засмеялись, замполит с Хохловым заговорили наперебой…
Сергей посмотрел на исписанный листок на столе, удивляясь внутренней гармонии и озарению, и неизвестно для кого вслух произнёс:
– Так вот оно какое – лекарство от стресса, а мужики… анестезия, анестезия и побольше!
Единственное, о чём не знал и не догадывался в тот момент Черников, что именно в этот день, восьмого апреля девяносто второго года, когда он отвечал на вопросы членов комиссии, командующий ДВО уже подписал приказ о присвоении ему воинского звания «капитан».
И ещё… Он даже не предполагал, в каком новом «болоте» может оказаться, ведь побочный эффект его лекарства от стресса – это прямая дорожка к писательству, и если ступить на неё, то… Тут и замполит уже не поможет, ответ лежит в иной плоскости…
Офицеры в курилке, еле сдерживаясь от смеха, встали, приветствуя таким образом старших по званию. На полголовы выше Корягина, коренастый Хрунёв, с мохнатыми бровями и дородным лицом, отметил субординацию:
– Сидите-сидите, вижу, настроение есть, моральный дух поднимать не нужно. Правильно я говорю, Черников?
– Так точно, товарищ подполковник, – ответил тот, – нас ничем не сломить.
– Молодцы, – обратился он к остальным, – помогаете боевому товарищу преодолеть стресс.
– Так стресс не преодолеть, нужно что-то посерьёзней и покрепче, – высказал своё мнение самый старший по возрасту из лётчиков, капитан Стрючков, командир звена с восьмёрок.
– Можно и по-другому, только не в служебное время, а если и это не поможет, то советую вам, старший лейтенант, – и начальник политотдела повернулся к Черникову, – взять всё по этому случаю, что сейчас вращается у вас в голове, взять и отобразить на бумаге, выгрузить. И не так, как в рапорте или объяснительной, а для себя, как вы видите и оцениваете обстоятельства дела.
– Я прислушаюсь к вашим рекомендациям, товарищ подполковник, и, возможно, некоторыми воспользуюсь прямо сегодня, – ответил ему Сергей.
– Ну-ну, смотрите, не переусердствуйте и бумагой запаситесь, а то будете по ночам бегать и занимать у товарищей, – перевёл всё в шутку подполковник.
Все засмеялись, и подполковник Хрунёв, довольный проведённой политработой, удалился по своим делам, прихватив с собой и майора Корягина.
– Леха, может, действительно снимем сегодня стресс? – озадачился замполитовской идеей Черников.
– Я всегда за анестезию, только чем? – согласился с другом Кудрин.
– Пошли, вон со стоянки техники идут, инженера раскрутим, – предложил Сергей, – думаю, по такому случаю он нам не откажет.
Они встали вдвоем и пошли навстречу инженеру эскадрильи, имеющему в своём распоряжении весь запас спирта подразделения.
Вечером после службы они решили распить добытую бутылку спирта дома у Черникова. Жёны вошли в их положение, приготовили нехитрую закуску, но от спирта отказались.
Сергей разлил спирт по стаканам на одну треть, добавив воды до полного объёма, и они дружно закрыли их ладонями. Для чего это делалось, не знали сами, возможно, традиция, но иногда казалось, что, выполняя такую процедуру при разбавлении спирта, напиток становился мягче. По такому поводу шутили: у соседей-китайцев есть чайная церемония, а у нас – спиртовая.
Выпили с традиционным тостом, чтобы всё, чему можно стоять, стояло, и лишь винты вращались.
– Ну, рассказывай, что там у вас произошло, – спросил Кудрин друга, закусывая.
– Вещь довольно-таки странная и непонятная, – вступил в повествование Сергей, наполняя заново стаканы. И опять они, словно по команде, дружно накрыли их. Так начинался застольный разбор полётов.
К третьему тосту их было уже четверо, присоединился к ним капитан Зюбин, списанный с лётной работы пилот, готовившийся уйти на гражданку. Худощавый, с землистым цветом лица и постоянными мешками под глазами, успевший уже отпустить тёмный с проседью волос, закрывающий наполовину ушные раковины, проживал в подъезде Черникова. С ним пришёл Антон Любимов, тоже капитан, ведущий холостяцкую жизнь, отправив семью на Запад, но не этим он был знаменит, а своим уникальным чутьём на выпивку. Где бы в гарнизоне ни сложилась компания по застолью, Любимов рано или поздно оказывался там. Лицо его, со шрамом на правой щеке, всегда выглядело нездоровым, немного отё-чным, но медкомиссию проходил легко, доктора признавали годным к лётной работе.
– Мы тут прослышали про повод, – начал Антон с порога вливаться в коллектив. – Бутылка спирта – это почти пять водки, не многовато ли на двоих? Прокиснуть может добро, если на завтра оставить.
Достали стаканы с тарелками, магнитофон двухкассетный импортный настроили. Выпили по чарке, Любимов кассету вставил, включил.
– Мужики вот радиообмен подогнали, в том вылете под Газнями однокашника сбили на моих глазах, – пояснил он.
– Двести сороковой – сто семидесятому… – вырвалось из колонок магнитофона.
Пауза, гудение и треск, одинокий голос в эфире повторно вызывал кого-то, и тут в радиообмен вмешался ещё голос. Эфир ожил и наполнился многозвучием, как школьная перемена после звонка с урока.
– Двести сороковой! Ответь сто семидесятому, пятьсот первый…
– Это нас ретранслятор с Ан-32-го запрашивает, – стал комментировать Антон.
– Отвечаю, двести сороковой…
– Двести сороковой, сто семидесятый на подходе группой шесть единиц, запрашивает условия работы…
– Наша группа с Джелалабада, а это с Кабула вертушки, – пояснял Любимов.
– Где он болтался? У меня уже горох кончается, а высадка идёт…
– Это наш комэска, двести сороковой, – снова вмешался Антон.
– Двести сороковой сто семидесятому?
– Отвечаю, двести сороковой!
– Двести сороковой! Сто семидесятый – группой через три минуты, условия подхода и работы?
– Подход – четыре двести по стандарту, работа – правая сторона по заходу. Почему опоздал?
– Понял: четыре двести – стандарт, по заходу правая сторона. Не там свернули, пришлось возвращаться… Как обстановка?
– Хреново… Высадка идёт, пчелу завалили, грачи отработали на троечку, не совсем там! Справа по заходу работают две сварки и резак…
– Пчела – Ми-8, грачи – Су-25, два ДШК и одна ЗУ-шка, – комментировал Любимов, хотя все присутствующие об этом знали.
– Двести сороковой, подскажи условия вывода…
– Сто семидесятый, вывод две пятьсот по прибору, влево под меня, далее – визуальный набор по ущелью южным курсом…
– Факел прямо в воздухе, вместе с десантурой, – хрипло произнёс Антон, закуривая, – я сам не видел, наши с группы потом рассказали.
– Понял, две пятьсот, левым по ущелью… Сто семьдесят первый, роспуск.
– Понял, роспуск…
– Поехали…
– Вывод…
– Борт десять, пожар! – приятный женский голос в эфире.
– Борт десять, пожар! – повторилось сообщение.
– Мы как раз на траверзе были, – пояснял Антон, – строили крайний заход за ними. Видно было, как в ведомого на пикировании попали, зачадил, потом пламя с левого движка…
– Сто семьдесят первый! Ответь сто семидесятому!
Эфирный треск и шелест… Молчание.
– Сто семьдесят шестой, наблюдаешь сто семьдесят первого?
– Сто семьдесят шестой отработал, на выводе, сто семьдесят первого не наблюдаю, по нам работает резак и сварка…
– Сто семьдесят седьмой наблюдаю, упал сто семьдесят первый!
– Ведомый второй пары, Колька Стриж, тоже однокашник, – комментировал новый позывной Любимов.
– Прыгнул один! Прыгнул, парашют не раскрылся!!! – вмешался совсем новый взволнованный голос без позывного.
– Оператор его в эфир влез, ему-то виднее… – делая большую затяжку сигареты, пояснял Антон.
– Я, двести сороковой, зайду снизу по ущелью, посмотрю, прикройте…
Тут Любимов, вдавив кнопку паузы, начал рассказывать.
– …Командир по-хитрому зашёл издалека, я за ним на приличном удалении, но так, чтобы видно его было. Пока вверху наши отвлекали, мы подошли близко к площадке высадки, ориентиром был оранжевый парашют. Духи там толпой рванули к парашюту, тоже, значит, увидели, приз же, бакшиш по-ихнему. Командир с пушки четверых пригвоздил и отвалил вниз по ущелью, я за ним подхожу к оранжевому пятну, а там один дух прорвался и уже за купол тянет. Я оператору: «Санёк, давай!» У нас «вэшка» Ми-24В, вместо пушки пулемёт. Такой, значит, в серой пуштунке, коричневом перхуне, выглядывающим из-под обычного европейского пиджака, тащит, значит, трофей на себя. Голову наконец-то поднял, глазами впился в нас, и рука выпустила оранжевую ткань. Чёрная, с проседью, борода-лопата перестала дёргаться и замерла. Заклинило его перед смертью. Первый же трассер прошёл сквозь бороду. Дух, неестественно подскочив в воздухе, завис, болтая конечностями, как клоун в цирке, подвешенный на страховочном тросе. Очередь, держа тело на весу, за его спиной метрах в десяти на склоне дробила камень в щебёнку. Две очереди Саньком уложились секунды в четыре, не опускали бородатое тело на землю. Как сейчас картинка перед глазами…
Закончив рассказ, Антон нажал кнопку.
Снова радиообмен.
– Двести сороковой, я – пятьсот первый!
– Ответил пятьсот первому!
– Что наблюдал?
– Оператор лежит у края площадки в подвесной, можно достать, борт упал в ущелье, второго парашюта не видно.
– Понял.
– Двести сороковой – отход группой на точку, пустой.
– Отход двести сороковому.
– Понял. Сто семидесятый – двести сороковому!
– Ответил!
– Всё слышал!
– Да!
– Крепитесь, мужики!
После этого Любимов выключил магнитофон со словами:
– Третий тост, не чокаясь, за них, кто не вернулся, пусть им земля будет пухом!
Выпили стоя, молча закусили, вышли на балкон перекурить, чтобы затем сменить грустную тему…
На следующий день друзья выглядели молодцами, и зоркий сканер комэски майора Звонкова остался удовлетворённым. В части объявили парковый день: техники работали на вертолётах, а лётчиков засадили в класс на занятия.
Из Хабаровска прилетели проверяющие, создалась комиссия для разбора лётного происшествия. В одиннадцать часов она начала работу, и уже через десять минут на ковёр пригласили старшего лейтенанта Черникова.
Сергей впервые за все свои одиннадцать лет офицерской службы участвовал в таком мероприятии как главный виновник торжества. Внутреннее напряжение, так и не снятое накануне спиртным, лишь возросло, но внешне он старался не показывать волнения. Черников крепился и, помня Афган, говорил самому себе, что бывало и хуже.
Его опасения не оправдались, члены комиссии были настроены благодушно. Прослушав внутренний и внешний радиообмен, доклад начальника объективного контроля по расшифровке полётных данных, они, задав несколько уточняющих вопросов лётчику, уже через двадцать минут отпустили его из кабинета.
Он вышел из штаба и, завернув за угол, направился в пустующую курилку. Усевшись на скамью, зажёг сигарету. Волнение уходило с каждой новой затяжкой, но внутри оставалось что-то такое… мешающее ощущать себя свободным. Будто все эти события переродили старшего лейтенанта Черникова, сделав из него неизвестно кого, и вот эта неопределённость нового состояния тревожила сердце. На ум неожиданно пришёл Твардовский со своим Тёркиным, и Сергей произнёс вслух: «Балагур не помешал бы!»
Здесь же вспомнилась шутка Кудрина о карьере, он улыбнулся. Черников девять лет пролетал вторым пилотом и вернуться на прежнюю должность ему не казалось уже таким зазорным. Всё это время давали летать с командирского сиденья, и он первый в истории этой части стал военным лётчиком второго класса не будучи командиром экипажа.
Припомнилась другая шутка о том, как нужно читать газету – рупор вооружённых сил – «Красную звезду». Открываешь передовицу, смотришь, есть ли некрологи в траурных рамках, если нет, закрываешь, продвижения по службе не будет, все места заняты. Он улыбнулся вторично, снова произнеся вслух: «Без приколов или умрёшь, или сопьёшься! И никакая психика не выдержит столь высокого напряга!»
Тем временем закончилось первое заседание комиссии. Её члены расходились из штаба, к нему подошёл один из них, сослуживец по Афганистану, подполковник Огоньков. Юрий Александрович в кителе при голубых погонах смотрелся цивильно, раздобрел от штабной работы в Хабаровске, лицо, как и положено военному бюрократу, округлилось, щёки лоснились здоровьем.
– Что, Сергей, не весел? – спросил он Черникова, подавая ладонь.
– Да, Юрий Саныч, вроде бы и веселиться нечему, – отвечал Сергей, здороваясь за руку с бывшим своим командиром.
– Ну как же нечему? Жив-здоров и технику сохранил, – продолжал тот, усаживаясь рядом. – Там в своё время два вертолёта разбились, и управляли ими пилоты помаститей и опытней тебя. Площадка как бы простая, но вот для вынужденных посадок не столь удачное место.
– Ну и что будет со мной? – поинтересовался Черников.
– За то, что не по инструкции действовал?
– Ну да.
– Ещё неизвестно, чем бы посадка закончилась, делай ты всё по инструкции. Да и двигатель-то совершенно новой конструкции, что-то с ним не так, в инструкции нет такого случая. Инженеры валят обычно на лётчиков, а сейчас плечами жмут…
В этот момент лётный состав с занятий вышел на перекур, пилоты потянулись в курилку. Подполковник Огоньков ушёл, и товарищи приступили к расспросам Черникова, что и как.
– Да вроде всё обошлось, – отвечал Сергей, потирая левую половинку груди в области сердца.
Понеслись шутки, приколы, ну как всегда на перекурах.
Уже дома Сергей заметил, что внутреннее напряжение не спадает, жжёт где-то внутри. И он не знал, как и почему, взял лист, карандаш и стал писать.
«1. Экстренная посадка, причины:
Непонятный рёв сверху из района двигателей, такое впечатление – сейчас что-то рванёт.
2. Где садиться? Согласно инструкции, на ближайшую выбранную площадку, она здесь только одна.
3. Как садиться? В целях экономии времени и понижения режимов работы двигателей только по-самолётному.
4. Кроки площадки:
На севере – вышка руководства полётами, огороженная двухметровым забором. На юге – жилые капитальные строения, стоянка автомашин связи с поднятыми антеннами вверх метров на пять. На западе – телеграфные столбы с проводами. На востоке – низкие ограждения из колючей проволоки.
5. Выбор направления захода для посадки.
Даёт выигрыш времени посадка с западной стороны, но с восточным курсом. Выход на такой курс правым разворотом.
Посадка.
Вижу само препятствие перед площадкой – телеграфные столбы, рождается мысль: «Их перетяну – начну полное гашение скорости». Заволновался РП: «Гаси скорость, подгашивай».
Столбы уже подо мною, беру ручку управления на себя, опускаю шаг до. Вертолёт, не снижаясь, энергично гасит скорость. Отпускаю от себя ручку и поднимаю энергично шаг. Только вертолёт занял посадочный угол тангажа, снижение замедлилось. Чувствую, скольжу по мокрой земле.
Убираю крен, беру шаг-газ и ручку управления на себя, вертолёт, двигаясь вперёд, садится в ров: вязнут в болотистом его дне основные колёса, пята хвостовой балки задевает за бруствер рва.
Сбрасываю шаг, вывожу коррекцию, наблюдаю, как лопасти непривычно низко проходят над землёй. Рёв от двигателей ещё усилился, выключаю двигатели. Тишина оглушает, лишь затихающий вой турбин и лёгкое посвистывание лопастей после открытия кабины дают понять, что я не лишился слуха».
А что же было дальше? Он, подумав, словно заглядывая внутрь себя, улыбнулся, ему почему-то стало легко, напряжение ушло, и писать уже больше не хотелось. Сергей, отложив карандаш, стал просто вспоминать.
…Откинулся люк оператора, показался улыбающийся Петрович: «Будем жить, Серёга!»
Прибежал запыхавшийся помощник руководителя на полигоне, капитан Хохлов, Коля Хохол. Добродушный здоровяк, всегда с полным круглым розоватым лицом, в этот раз оно было красным, видимо, от бега и волнений.
– Я такого ещё не видел, я думал, что у меня сердце из груди выскочит, – держался он правой рукой за потёртый левый нагрудный карман шевретовой куртки, словно из этого кармана его сердце и делало попытки выпрыгнуть.
– Что, всё так было страшно? – сдавленным осипшим голосом спросил Черников.
– Не то слово, по моим понятиям, вы должны были раза три разбиться, – возбуждённо выдал Хохлов.
– Ну, это ты уже преувеличиваешь, всё было под контролем, – нашёлся, что сказать Сергей, глядя в раскрасневшееся лицо Николая.
Вид ошарашенного капитана Хохлова привёл его самого в норму, голос стал обычным, как всегда, не то, что с первой произнесённой фразой.
– Я никогда не видел, что вертолёт так может летать и садиться с одним двигателем, – уже успокаиваясь, помощник руководителя попытался профессионально объяснить свой испуг.
– Да не с одним, РУДа (рычаг раздельного управления двигателя) второго я не касался, не было времени, – перешёл и Черников на рабочий сленг пилотов.
– Да уж, вы как «Свистки»! Только доложили – уже шасси, вираж и на посадку! Вы, наверное, готовились что ли? – Произнося эту тираду Черникову, он смотрел на подходивших замполита и борттехника.
– Мы, как пионеры, всегда готовы, если что, – бодро вступил в разговор и борттехник старлей Ручкин, невысокий крепыш с едва заметной щетиной на суровом лице.
– Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, – встрял и замполит, потирая от стресса мохнатую переносицу.
– О-о, Петрович, ты в своём стиле, давай, толкай политинформацию, – шутливо высказался Хохлов, прижимая к себе по-дружески за плечи щуплого, на целую голову ниже, замполита.
Черников и борттехник закурили, засмеялись, замполит с Хохловым заговорили наперебой…
Сергей посмотрел на исписанный листок на столе, удивляясь внутренней гармонии и озарению, и неизвестно для кого вслух произнёс:
– Так вот оно какое – лекарство от стресса, а мужики… анестезия, анестезия и побольше!
Единственное, о чём не знал и не догадывался в тот момент Черников, что именно в этот день, восьмого апреля девяносто второго года, когда он отвечал на вопросы членов комиссии, командующий ДВО уже подписал приказ о присвоении ему воинского звания «капитан».
И ещё… Он даже не предполагал, в каком новом «болоте» может оказаться, ведь побочный эффект его лекарства от стресса – это прямая дорожка к писательству, и если ступить на неё, то… Тут и замполит уже не поможет, ответ лежит в иной плоскости…

Валерий ФЕДОСОВ
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живет в Подмосковье. По основной специальности — инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Сибири на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 – в институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке, кандидат технических наук. Стихами и прозой занимается с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в литературных альманахах и других изданиях.
Издал четыре книги стихов и две книги прозы. Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2008).
Адрес сайта: valeryfedosov.ru
E-mail: valeryfedosov2015@mail.ru
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живет в Подмосковье. По основной специальности — инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Сибири на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 – в институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке, кандидат технических наук. Стихами и прозой занимается с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в литературных альманахах и других изданиях.
Издал четыре книги стихов и две книги прозы. Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2008).
Адрес сайта: valeryfedosov.ru
E-mail: valeryfedosov2015@mail.ru
ДОРОГА К ХРАМУ
Крутые девяностые… Ломка сложившихся представлений об устойчивости жизни… Не выдержав небывалой доселе нагрузки, хрустят и ломаются политические подпорки… Как мыльные пузыри, в беззвучных рыданиях лопаются индивидуальные и коллективные доверия простых людей к отвернувшимся от них властям. Идейные руководители сбрасывают свои «высокие венцы» и «демократически» сливаются с безликой «вчерашней паствой». Прячут от глаз подальше свои партийные билеты и другие свидетельства «причастности», не зная, что с ними теперь делать: выбросить в мусорку вроде бы неудобно, всё-таки – память о светлых надеждах, пускай и несбывшихся, а хранить… непонятно, что может произойти завтра… а ну как «привлекут»? За что, правда, – тоже не понятно, может, за предательство… Чего, чего? «светлых идеалов будущего», что ли? Тупик… мрак…
В общем, среднестатистическому гражданину, как снег на голову, объявили, что он личность самостоятельная, вот теперь пусть о себе, своём благополучии и финансовой безопасности сам и беспокоится. На государство пусть больше не надеется… только на себя. Сам, отныне всё только – сам… А он такой застенчивый, беззащитный наш гражданин, и его голеньким выставляют в саванну, диким зверьём кишащую… Государство конкретно самоустранилось от защиты простых-смертных, и, как потом оказалось, негласно стало поддерживать проклюнувшихся пригретых грабителей, а следом и заниматься «своим» бизнесом: отныне не пеняйте, мы вас заранее предупреждали!
Следом выползают нахрапистые и нахальные, которым сразу понравилась местная одичавшая саванна – мать их родная… кормилица. Начинают понимать и тут же во всеуслышание кричать-заявлять, что пришло, наконец-то, их время. Главное, – активно работай локтями! Рви зубами, бери-хватай, не стесняйся: что откусишь и унесёшь, то и твоё, никому не докладывай, не оправдывайся. Скромные же и совестливые, потупив взоры долу, вздыхают, принимая ситуацию, как она складывается (что явно – не по сердцу!) Однако противостоять не в силах: смелости постоять за себя от рождения нашему брату не прививалось: неудобно как-то… Мы – паства послушная…
Чья победа грядёт при таком раскладе, известно наперёд.
* * *
После щедрого летнего дождя пошли грибы. Всякие-разные, и полезные и не очень, и даже – ядовитые. Так же и крутые девяностые отметились: всякое-разное и полезное досталось самым нахрапистым, а простому люду – соответственно – остатки, даже и не всегда съедобные… типа того, что кто-то однажды уже это ел…
Хитрецов-умников у нас в России было всегда немало. Закусили удила и – вперёд, рассказывать сказки непуганым будущим акционерам про то, как это хорошо, – халявные деньги, много денег! Какой там политэкономический анализ? – вступай в общество… МММ, Чара, Властелина и иже с ними… Вступили.
Но через какое-то время и не вдруг, яркие вывески стали тускнеть, пузыри один за другим начали «сдуваться-лопаться». И вот тогда-то удивлённые акционеры и прочувствовали ситуацию короля, когда он оказался, мягко говоря, дезабилье. Впрочем, король не сразу узнал, – со стороны стали подсказывать. И в совсем ещё недавно тугих кошельках, выпестованных честно, внезапно появились сквозные пробоины. Денюжка вытекла, и скажи спасибо, если что-то задержалось в родной «мошне», а то и вся ушла до копейки… Тут уж кому как повезёт.
Грянувшая «золотая лихорадка» не обошла и мои родные Мытищи… Теперь не надо ездить в Москву в эти золотые ульи с «мёдом»: в наших родных Мытищах открылся новый благодетель – Мытищинский Коммерческий Банк (МКБ)! Банк, как я понимаю, был Всероссийским. Похоже, что давние прогнозы времён Ильфа и Петрова сбывались: «деревня Васюки становилась Нью Москвой, а сама Москва – Старыми Васюками»… Грянуло глобальное переформатирование жизни. А нам не привыкать в очередной раз ставить всё с ног на голову…
По-новому запыхтели мои Мытищи, и все мы, наверно все! прочувствовали обновляющий ветер перемен… «Что он там несёт?..»
Шёл 1990-й год. Мой сын Максим, уже заработавший в Москве приличный опыт по маркетингу, поступил специалистом в Аппарат МКБ. Я частенько у него спрашивал, как дела, он рассказывал, и мне было всё интересно, ещё бы – новое, то самое, что рождается на наших глазах… Будущее, вот оно пульсирует, мощное, живое…
Банк матерел, и уже из подмосковного «ареала» выбрался на приличные места в рейтинге банков. Так в 1994 году МКБ перешёл с 56-го на 38-е место среди крупных банков России. Авторитет банка рос, и Председатель Правления Анатолий Каширский объявил об амбициозных проектах банка, в том числе о строительстве в Мытищах делового и торгового центра с 16-тиэтажным офисным зданием. Место будущего строительства банка – пустырь, располагавшийся в начале длинного прямого участка Новомытищинского проспекта, место завидное для строительства любого здания в городе. В планах на ближайшую перспективу было подвести сюда и линию Московского метро. Мысль не новая: помню, что ещё в 60-х годах власти официально заявляли, что метро в Мытищах будет в начале восьмидесятых… А сегодня глянул на календарь, да в окошко, – где оно? – как не было, так и нет, лишь слова пустые перепархивают в обманутом пространстве… И тают, тают, тают… Да, может, оно и к лучшему?
Выяснил, что перед утверждением проекта здания банка отделу капитального строительства (ОКСу) надо провести экспертизу строительной части. Дело полезное и мне известное, почему бы не поучаствовать, тем более, если за небольшое вознаграждение. Проект банка вела группа из Югославии. Мне сказали, что речь идёт о сумме порядка 100 долларов. Пришёл я в отдел, познакомился, принял меня руководитель отдела, помню, фамилия его была Зайцев, человек контактный. Он вызвал проектировщиков, познакомил нас, дали мне тут же за столом ознакомиться с объектом моей экспертизы. Поговорили о «международных связях» и тут же нашлись у нас общие знакомые, – инженер Вайда из югославского Гидропроекта работал в Югославии с моим коллегой из Московского Гидропроекта Олегом Ситниным. Согласитесь, что момент оказался полезным – доверительным. Как бы стал пропуском-допуском к серьёзному разговору, а может, и к сотрудничеству…
Рассматривал я югославский проект Банка, включая общие виды, разрезы, детали всякие… и искренне удивлялся смелым архитектурным решениям… Такого в моей практике не встречалось, что и немудрено, я всё-таки не зодчий, а простой гидротехник, конструктор. Мне было приятно видеть «смелость решений» югославских авторов. Но цель моя была более «приземлённая», точнее сказать «заглублённая» – оценить проект фундаментов. И я сходу «врубился в тему».
«Анализатор» на предмет «верю-не верю» тут же во мне включился и подал сигналы… конкретной и всё возрастающей тревоги: не то что не верю, а, оказывается, – пора кричать «караул!».
Потому что так нельзя. Здание-то… коню даже ясно, опрокидывается: 16-тиэтажная башня в верхних этажах имеет выступающую вперёд консоль с 10-го этажа по последний.
Мне подобные задачки в своём Гидропроекте приходилось решать не раз. И прямо здесь, как говорится, не отходя от кассы, буквально «на глазах изумлённой публики», в одно касание, я с конкретными цифрами доказал проектировщикам, как и команде Зайцева, что в данном случае мы имеем внецентренное сжатие грунта основания, с эксцентриситетом основной нагрузки. Из-за чего задняя грань фундамента… отрывается от основания, а передняя получает такие сжимающие напряжения, что грунт не выдерживает, и… «течёт». Да ещё я обратил их внимание на то, что фундамент запроектирован не в монолитном исполнении, а сложен из бетонных блоков-кирпичиков. Тут уже нечего говорить о совместной работе всего фундамента… Начертил эпюру давления фундамента на основание… Понимающему в сопромате больше ничего пояснять не требуется.
К большому моему сожалению, для югославских проектировщиков мой приговор (а иначе и не скажешь) прозвучал полной неожиданностью, из чего вывод был один: внешне яркий проект банка явно не выдержал моей «экспертизы» и должен быть серьёзно доработан.
Надо ли добавлять, что никакого материального вознаграждения от этой консультации я не получил ни сразу, ни – погодя?… Хотя я по этому поводу и не переживал особенно, мне показалось, что я выполнил полезную работу честно и искренне. Югославский красавец-проект здания банка быстро испарился, как и его команда. Пропали все, как сон, как утренний туман. А деталей «расставания» мне никто «не докладывал».
Вышел на проспект, посмотрел в его начало, где должен бы красоваться банк-небоскрёб «югославского разлива» и искренне пожалел, что такое замечательное место – начало проспекта – предназначается какому-то банку с непонятным будущим. А прогорит если, то что? Этот – «их дом» – так здесь и останется? Немым укором всем нам?…
И пришла мне мысль о том, что… Пришла самостоятельно, без моего призыва-понуждения… да и моя ли, спрашиваю, это мысль-то? Пришла будто… сВерху.
…Что на этом месте должен встать… Храм. Православная Церковь. Уж за такое «приобретение» стыдно не станет. Больше никому эту мысль я не высказывал, подозреваю, что она жила самостоятельно и без меня.
Но уверен, что эта мысль посетила не меня одного, а – слава Богу! – и высокий эшелон городского начальства.
Кстати, спрашиваю сам себя: как в моих родных Мытищах и окрестностях обстояли дела с объектами культа? Тем более что их противники уже давно языки свои прикусили… Что имеем?
– Храм Благовещения в селе Тайнинском (1628 года постройки);
– Владимирский Храм (на Ярославском шоссе, 1713 г.);
– Донская Церковь в Перловке (1852-1899 гг.).
Откровенно скажем, – не густо церквей, для такого города, как Мытищи. Тем более, что в центральной части города – ни одной… И это – за весь последующий советский период.
* * *
Сотрудники Мытищинского коммерческого банка заподозрили неладное ещё в мае-июне 1995 года, когда по банку прокатилась первая волна сокращений: если в начале 1995 года в банке работало 1500 человек, то к концу этого же года персонал был сокращён почти в 5 раз! Газета «Коммерсант» писала, что «уже в течение полугода этот некогда динамичный и амбициозный банк находится в стадии клинической смерти и занимается свёртыванием баланса».
МКБ привлекал местную (ещё непуганную) публику заманчивыми предложениями обогатиться, вложив первоначальный вклад. Пусть для начала небольшой… Затикал счётчик, денюжка даровая вот-вот польётся в наш карман, – чудо-то какое! Сегодня хлеб с маслом и с икрой красной, а завтра?… надеемся на не менее яркое продолжение. Однако без гарантии, что – для всех!
Жена моя при «ассистенции» сына – работника банка! – вложилась «свободной суммой» в Договор с банком, а вечером меня обрадовала своим «приобретением»: так, мол, жить надо… Посмотрел я на Договор внимательно и всё понял… Всё в нём «кудряво» изложено, заманчиво. Одного, на мой взгляд, не хватает, мелочи: нет гарантии возврата вложенной суммы по требованию вкладчика. А вклад будет в банке ещё довольно долго… И что может произойти с ним в такое неустойчивое время, – в Договоре не прописано…
В общем, отругал я своих домашних горе-финансистов, доказал, что Договор не имеет условия возврата вклада и убедил завтра же с утра, (пока ещё «чернила не высохли») расторгнуть Договор и забрать свои деньги. За одно и вспомнили прошлые и безутешные похождения к нашим прежним «благодетелям»: МММ, Чара, Властелина… Мы уже такое проходили…
Утром вижу, – грусть мировая в глазах супруги. Надо идти разбираться с банком, вклад забирать. Выхожу из дома на работу, а у самого «кошки на сердце скребут»: понимаю, какая непростая для жены задача… Не прошёл полкилометра от дома, созрел решением и повернул обратно… выручать надо.
Вместе сходили в банк, спокойно расторгли Договор, тут же в кассе спокойно получили на руки свои кровные. Претензий и вопросов у персонала не было: так дак так!
* * *
Идея построить в центре Мытищ православный Храм витала и в более высоких инстанциях. А не только – безвыходно в голове автора, даже близко не обладавшего решающим ресурсом. В высоких слоях действующей власти она, эта идея, сама собой кристаллизовалась и вышла на всеобщее рассмотрение…
Летом 2000 года на краю старого заброшенного карьера, что был тогда в начале Ново-Мытищинского проспекта, заложили символический камень будущего Храма, который освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. А рядом соорудили деревянный Введенский Храм, в котором первое богослужение состоялось уже в начале декабря 2000 года. Каменный Храм начали строить с ноября 2001 года. Все организации Мытищ под руководством Главы Администрации Мурашова А.Е. включились в сбор пожертвований на святое дело. Губернатор Московской области Громов Б.В. на всём протяжении строительства проявлял большой интерес к ходу стройки. Строительство Храма приветствовал Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. В приветственном Слове Его Святейшества говорилось: «Выражаю надежду, что вознесённая ныне в Мытищах неугасимая лампада будет согревать огнём веры, любви и надежды всякого человека, входящего под своды этого величественного Храма Рождества Христова». Освящение Храма провёл Митрополит Ювеналий 10 июля 2005 года в присутствии губернатора Московской области Громова Б.В., главы Мытищинской администрации Мурашова А.Е. и других представителей города и области.
Будем благодарить Господа за то, что в переломный момент нашей местной истории надоумил сопроводить в забвение проект обанкротившегося банка и освободить площадку для строительства Храма Рождества Христова – святой доминанты города.
Отныне и на веки…
Крутые девяностые… Ломка сложившихся представлений об устойчивости жизни… Не выдержав небывалой доселе нагрузки, хрустят и ломаются политические подпорки… Как мыльные пузыри, в беззвучных рыданиях лопаются индивидуальные и коллективные доверия простых людей к отвернувшимся от них властям. Идейные руководители сбрасывают свои «высокие венцы» и «демократически» сливаются с безликой «вчерашней паствой». Прячут от глаз подальше свои партийные билеты и другие свидетельства «причастности», не зная, что с ними теперь делать: выбросить в мусорку вроде бы неудобно, всё-таки – память о светлых надеждах, пускай и несбывшихся, а хранить… непонятно, что может произойти завтра… а ну как «привлекут»? За что, правда, – тоже не понятно, может, за предательство… Чего, чего? «светлых идеалов будущего», что ли? Тупик… мрак…
В общем, среднестатистическому гражданину, как снег на голову, объявили, что он личность самостоятельная, вот теперь пусть о себе, своём благополучии и финансовой безопасности сам и беспокоится. На государство пусть больше не надеется… только на себя. Сам, отныне всё только – сам… А он такой застенчивый, беззащитный наш гражданин, и его голеньким выставляют в саванну, диким зверьём кишащую… Государство конкретно самоустранилось от защиты простых-смертных, и, как потом оказалось, негласно стало поддерживать проклюнувшихся пригретых грабителей, а следом и заниматься «своим» бизнесом: отныне не пеняйте, мы вас заранее предупреждали!
Следом выползают нахрапистые и нахальные, которым сразу понравилась местная одичавшая саванна – мать их родная… кормилица. Начинают понимать и тут же во всеуслышание кричать-заявлять, что пришло, наконец-то, их время. Главное, – активно работай локтями! Рви зубами, бери-хватай, не стесняйся: что откусишь и унесёшь, то и твоё, никому не докладывай, не оправдывайся. Скромные же и совестливые, потупив взоры долу, вздыхают, принимая ситуацию, как она складывается (что явно – не по сердцу!) Однако противостоять не в силах: смелости постоять за себя от рождения нашему брату не прививалось: неудобно как-то… Мы – паства послушная…
Чья победа грядёт при таком раскладе, известно наперёд.
* * *
После щедрого летнего дождя пошли грибы. Всякие-разные, и полезные и не очень, и даже – ядовитые. Так же и крутые девяностые отметились: всякое-разное и полезное досталось самым нахрапистым, а простому люду – соответственно – остатки, даже и не всегда съедобные… типа того, что кто-то однажды уже это ел…
Хитрецов-умников у нас в России было всегда немало. Закусили удила и – вперёд, рассказывать сказки непуганым будущим акционерам про то, как это хорошо, – халявные деньги, много денег! Какой там политэкономический анализ? – вступай в общество… МММ, Чара, Властелина и иже с ними… Вступили.
Но через какое-то время и не вдруг, яркие вывески стали тускнеть, пузыри один за другим начали «сдуваться-лопаться». И вот тогда-то удивлённые акционеры и прочувствовали ситуацию короля, когда он оказался, мягко говоря, дезабилье. Впрочем, король не сразу узнал, – со стороны стали подсказывать. И в совсем ещё недавно тугих кошельках, выпестованных честно, внезапно появились сквозные пробоины. Денюжка вытекла, и скажи спасибо, если что-то задержалось в родной «мошне», а то и вся ушла до копейки… Тут уж кому как повезёт.
Грянувшая «золотая лихорадка» не обошла и мои родные Мытищи… Теперь не надо ездить в Москву в эти золотые ульи с «мёдом»: в наших родных Мытищах открылся новый благодетель – Мытищинский Коммерческий Банк (МКБ)! Банк, как я понимаю, был Всероссийским. Похоже, что давние прогнозы времён Ильфа и Петрова сбывались: «деревня Васюки становилась Нью Москвой, а сама Москва – Старыми Васюками»… Грянуло глобальное переформатирование жизни. А нам не привыкать в очередной раз ставить всё с ног на голову…
По-новому запыхтели мои Мытищи, и все мы, наверно все! прочувствовали обновляющий ветер перемен… «Что он там несёт?..»
Шёл 1990-й год. Мой сын Максим, уже заработавший в Москве приличный опыт по маркетингу, поступил специалистом в Аппарат МКБ. Я частенько у него спрашивал, как дела, он рассказывал, и мне было всё интересно, ещё бы – новое, то самое, что рождается на наших глазах… Будущее, вот оно пульсирует, мощное, живое…
Банк матерел, и уже из подмосковного «ареала» выбрался на приличные места в рейтинге банков. Так в 1994 году МКБ перешёл с 56-го на 38-е место среди крупных банков России. Авторитет банка рос, и Председатель Правления Анатолий Каширский объявил об амбициозных проектах банка, в том числе о строительстве в Мытищах делового и торгового центра с 16-тиэтажным офисным зданием. Место будущего строительства банка – пустырь, располагавшийся в начале длинного прямого участка Новомытищинского проспекта, место завидное для строительства любого здания в городе. В планах на ближайшую перспективу было подвести сюда и линию Московского метро. Мысль не новая: помню, что ещё в 60-х годах власти официально заявляли, что метро в Мытищах будет в начале восьмидесятых… А сегодня глянул на календарь, да в окошко, – где оно? – как не было, так и нет, лишь слова пустые перепархивают в обманутом пространстве… И тают, тают, тают… Да, может, оно и к лучшему?
Выяснил, что перед утверждением проекта здания банка отделу капитального строительства (ОКСу) надо провести экспертизу строительной части. Дело полезное и мне известное, почему бы не поучаствовать, тем более, если за небольшое вознаграждение. Проект банка вела группа из Югославии. Мне сказали, что речь идёт о сумме порядка 100 долларов. Пришёл я в отдел, познакомился, принял меня руководитель отдела, помню, фамилия его была Зайцев, человек контактный. Он вызвал проектировщиков, познакомил нас, дали мне тут же за столом ознакомиться с объектом моей экспертизы. Поговорили о «международных связях» и тут же нашлись у нас общие знакомые, – инженер Вайда из югославского Гидропроекта работал в Югославии с моим коллегой из Московского Гидропроекта Олегом Ситниным. Согласитесь, что момент оказался полезным – доверительным. Как бы стал пропуском-допуском к серьёзному разговору, а может, и к сотрудничеству…
Рассматривал я югославский проект Банка, включая общие виды, разрезы, детали всякие… и искренне удивлялся смелым архитектурным решениям… Такого в моей практике не встречалось, что и немудрено, я всё-таки не зодчий, а простой гидротехник, конструктор. Мне было приятно видеть «смелость решений» югославских авторов. Но цель моя была более «приземлённая», точнее сказать «заглублённая» – оценить проект фундаментов. И я сходу «врубился в тему».
«Анализатор» на предмет «верю-не верю» тут же во мне включился и подал сигналы… конкретной и всё возрастающей тревоги: не то что не верю, а, оказывается, – пора кричать «караул!».
Потому что так нельзя. Здание-то… коню даже ясно, опрокидывается: 16-тиэтажная башня в верхних этажах имеет выступающую вперёд консоль с 10-го этажа по последний.
Мне подобные задачки в своём Гидропроекте приходилось решать не раз. И прямо здесь, как говорится, не отходя от кассы, буквально «на глазах изумлённой публики», в одно касание, я с конкретными цифрами доказал проектировщикам, как и команде Зайцева, что в данном случае мы имеем внецентренное сжатие грунта основания, с эксцентриситетом основной нагрузки. Из-за чего задняя грань фундамента… отрывается от основания, а передняя получает такие сжимающие напряжения, что грунт не выдерживает, и… «течёт». Да ещё я обратил их внимание на то, что фундамент запроектирован не в монолитном исполнении, а сложен из бетонных блоков-кирпичиков. Тут уже нечего говорить о совместной работе всего фундамента… Начертил эпюру давления фундамента на основание… Понимающему в сопромате больше ничего пояснять не требуется.
К большому моему сожалению, для югославских проектировщиков мой приговор (а иначе и не скажешь) прозвучал полной неожиданностью, из чего вывод был один: внешне яркий проект банка явно не выдержал моей «экспертизы» и должен быть серьёзно доработан.
Надо ли добавлять, что никакого материального вознаграждения от этой консультации я не получил ни сразу, ни – погодя?… Хотя я по этому поводу и не переживал особенно, мне показалось, что я выполнил полезную работу честно и искренне. Югославский красавец-проект здания банка быстро испарился, как и его команда. Пропали все, как сон, как утренний туман. А деталей «расставания» мне никто «не докладывал».
Вышел на проспект, посмотрел в его начало, где должен бы красоваться банк-небоскрёб «югославского разлива» и искренне пожалел, что такое замечательное место – начало проспекта – предназначается какому-то банку с непонятным будущим. А прогорит если, то что? Этот – «их дом» – так здесь и останется? Немым укором всем нам?…
И пришла мне мысль о том, что… Пришла самостоятельно, без моего призыва-понуждения… да и моя ли, спрашиваю, это мысль-то? Пришла будто… сВерху.
…Что на этом месте должен встать… Храм. Православная Церковь. Уж за такое «приобретение» стыдно не станет. Больше никому эту мысль я не высказывал, подозреваю, что она жила самостоятельно и без меня.
Но уверен, что эта мысль посетила не меня одного, а – слава Богу! – и высокий эшелон городского начальства.
Кстати, спрашиваю сам себя: как в моих родных Мытищах и окрестностях обстояли дела с объектами культа? Тем более что их противники уже давно языки свои прикусили… Что имеем?
– Храм Благовещения в селе Тайнинском (1628 года постройки);
– Владимирский Храм (на Ярославском шоссе, 1713 г.);
– Донская Церковь в Перловке (1852-1899 гг.).
Откровенно скажем, – не густо церквей, для такого города, как Мытищи. Тем более, что в центральной части города – ни одной… И это – за весь последующий советский период.
* * *
Сотрудники Мытищинского коммерческого банка заподозрили неладное ещё в мае-июне 1995 года, когда по банку прокатилась первая волна сокращений: если в начале 1995 года в банке работало 1500 человек, то к концу этого же года персонал был сокращён почти в 5 раз! Газета «Коммерсант» писала, что «уже в течение полугода этот некогда динамичный и амбициозный банк находится в стадии клинической смерти и занимается свёртыванием баланса».
МКБ привлекал местную (ещё непуганную) публику заманчивыми предложениями обогатиться, вложив первоначальный вклад. Пусть для начала небольшой… Затикал счётчик, денюжка даровая вот-вот польётся в наш карман, – чудо-то какое! Сегодня хлеб с маслом и с икрой красной, а завтра?… надеемся на не менее яркое продолжение. Однако без гарантии, что – для всех!
Жена моя при «ассистенции» сына – работника банка! – вложилась «свободной суммой» в Договор с банком, а вечером меня обрадовала своим «приобретением»: так, мол, жить надо… Посмотрел я на Договор внимательно и всё понял… Всё в нём «кудряво» изложено, заманчиво. Одного, на мой взгляд, не хватает, мелочи: нет гарантии возврата вложенной суммы по требованию вкладчика. А вклад будет в банке ещё довольно долго… И что может произойти с ним в такое неустойчивое время, – в Договоре не прописано…
В общем, отругал я своих домашних горе-финансистов, доказал, что Договор не имеет условия возврата вклада и убедил завтра же с утра, (пока ещё «чернила не высохли») расторгнуть Договор и забрать свои деньги. За одно и вспомнили прошлые и безутешные похождения к нашим прежним «благодетелям»: МММ, Чара, Властелина… Мы уже такое проходили…
Утром вижу, – грусть мировая в глазах супруги. Надо идти разбираться с банком, вклад забирать. Выхожу из дома на работу, а у самого «кошки на сердце скребут»: понимаю, какая непростая для жены задача… Не прошёл полкилометра от дома, созрел решением и повернул обратно… выручать надо.
Вместе сходили в банк, спокойно расторгли Договор, тут же в кассе спокойно получили на руки свои кровные. Претензий и вопросов у персонала не было: так дак так!
* * *
Идея построить в центре Мытищ православный Храм витала и в более высоких инстанциях. А не только – безвыходно в голове автора, даже близко не обладавшего решающим ресурсом. В высоких слоях действующей власти она, эта идея, сама собой кристаллизовалась и вышла на всеобщее рассмотрение…
Летом 2000 года на краю старого заброшенного карьера, что был тогда в начале Ново-Мытищинского проспекта, заложили символический камень будущего Храма, который освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. А рядом соорудили деревянный Введенский Храм, в котором первое богослужение состоялось уже в начале декабря 2000 года. Каменный Храм начали строить с ноября 2001 года. Все организации Мытищ под руководством Главы Администрации Мурашова А.Е. включились в сбор пожертвований на святое дело. Губернатор Московской области Громов Б.В. на всём протяжении строительства проявлял большой интерес к ходу стройки. Строительство Храма приветствовал Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. В приветственном Слове Его Святейшества говорилось: «Выражаю надежду, что вознесённая ныне в Мытищах неугасимая лампада будет согревать огнём веры, любви и надежды всякого человека, входящего под своды этого величественного Храма Рождества Христова». Освящение Храма провёл Митрополит Ювеналий 10 июля 2005 года в присутствии губернатора Московской области Громова Б.В., главы Мытищинской администрации Мурашова А.Е. и других представителей города и области.
Будем благодарить Господа за то, что в переломный момент нашей местной истории надоумил сопроводить в забвение проект обанкротившегося банка и освободить площадку для строительства Храма Рождества Христова – святой доминанты города.
Отныне и на веки…
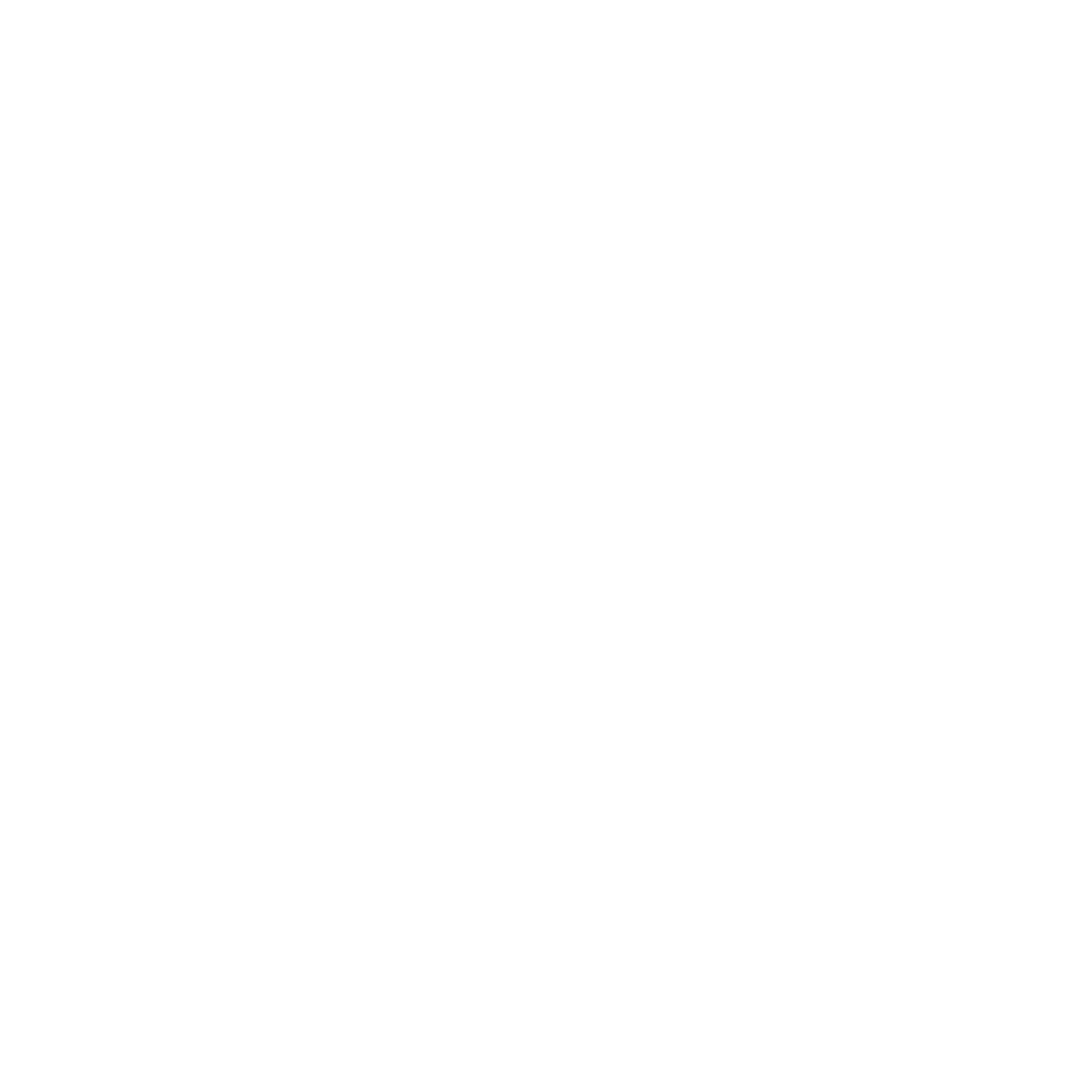
Ольга ТАРСУКОВА
Начинающая писательница и художница. Родилась в Подмосковье в 2003 году и всю жизнь живёт между областью и Москвой. Много лет ведёт писательский блог во Вконтакте («спэйстрэш») с заметками, миниатюрами, рассказами из жизни и снов, в настоящем альманахе публикуется впервые.
Начинающая писательница и художница. Родилась в Подмосковье в 2003 году и всю жизнь живёт между областью и Москвой. Много лет ведёт писательский блог во Вконтакте («спэйстрэш») с заметками, миниатюрами, рассказами из жизни и снов, в настоящем альманахе публикуется впервые.
ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ
Треск цепи, пару усилий ногой, и, будто по воздуху, уносит дальше. В лицо бьёт прохлада, волосы развеваются сзади; по голым рукам пробегает волна мурашек. Улица почему-то вдруг темнеет, хотя те же фонари мелькают по пути один за другим; объекты резче.
В полусне я вспомнила об оставленном перед домом велосипеде. На часах было двадцать три часа четырнадцать минут. Зевнула: так рано клонило в сон, нельзя было затягивать. Почти в пижаме обошла пустой дом, заставленный коробками и какой-то техникой. Вдела ноги в кроксы и почти с трудом открыла дверь.
Окна моргают без света. Пустота – ни одного человека, ни у себя, ни здесь, будто и нет никого больше в этом посёлке. Только я, мурашки и фонари.
Прохлада обнимает кожу. Глубокий вдох – привкус ночи. Так свободно не дышалось ни в одной комнате, такими лёгкими не были шаги по коридорам. За домами шумит лес. Именно этого шума мне, оказалось, не хватало, несмотря на настежь открытое окно.
Над безлюдными улицами сгущаются чёрно-синие тучи. Шум ветра в ушах, трагичное пение птиц – звуки лета. Нет такого плейлиста в наушниках, и как хорошо, что я не захватила их с собой. Не хочется возвращаться назад. Там сидят, включив везде свет, как всегда зажигаются одно за другим окна, мелькают фигурки около занавесок. «Хорошо, возвращайся с победой», бросают мне вслед в прихожей.
Пластиковые одинаковые дома – декорация для постапокалиптического хоррора. Если люди есть, то они спрятались за стенками и спящими стёклами, чтобы молча наблюдать. А тёмное небо резко разрезает молния.
Я здесь. «Хорошо, возвращайся с победой» повисло в воздухе. Хорошо, я вернулась с победой, если победой считать возвращение туда, где все снова никуда не уносит, ни по воздуху, никак иначе.
***
Спёртый воздух субботы, наверное, впервые за сегодня вдруг повеял прохладой – стал легче, в тот момент, как захлопнулась дверь, а ноги пронеслись по ступенькам. Я ощущала это раньше, это где-то было. Там сильно стемнело. Свинцовая серость заслоняет небо, приближается дождь. Приближается дождь, отдаляются нелепые отчаянные шаги.
Каждый мой шаг втаптывает ненависть в сухой асфальт. Втаптывает свет в комнатах, на кухне, в гостиной, в спальне, втаптывает отражение экрана телевизора и чьи-то бесконечные голоса. Втаптывает, втаптывает, втаптывает, проходится и по комку слёз в горле. И всё же, чем дальше, тем громче шум ветра в деревьях. Не в голове. Июньское тепло, наконец, приятно проходится по пижаме. Забавно даже вспомнить о ней – она не осталась там, где должна была быть, но может в этом-то и был весь смысл.
Удушье не прекращалось. Я обхожу смеющийся забор, откуда пахнет костром и хлоркой, так знакомо, что это почти радует, и оказываюсь на пустой детской площадке – летний вечерний пейзаж.
Не совсем пустой: на качелях играют два ребёнка. Оранжевая толстовка и синяя рубашонка – девочка и младший брат, лет семь и лет пять. Цепь моих качелей привычно скрипит, и волосы отлетают назад.
– На нас падают метеоулиты! Ме-те-оу-ли-ты, собиулаем улокс!
– А-а-а! Ту-ду-ду-ду!..
Серо-голубое небо то резко приближается ко мне, то удаляется, и почему-то это быстро стало утомлять. Мысли всё собираются в одну кучу, потом снова рассыпаются обратно. Я запрокидываю голову назад и пытаюсь размешать их в массе нависших облаков, хотя очевидно, случись это на самом деле – пошёл бы ливень.
Высокий девчачий голос непрерывно декларирует о падении метеоритов и атаке самолётов; кажется, что мальчуган понимает тут не больше моего.
– Защи-ща-айся!!!
Казалось это только сначала, пока и меня не заинтересовала игра. Вдвоём, такие маленькие и звонкие, они хватаются руками за всё, чтобы посильнее раскачаться, вернее, чтобы, конечно, оторваться от космической погони. Всё первым, пожалуй, виделось девочке, но брат догонял её. Они были в перестрелке и у штурвала звёздного корабля; пуляли и уворачивались; кричали, пели и вызывали подкрепление.
– А-а-а, меня сбийи, меня сбий самоёт!!!
Мальчик сигает на песок, но, не успеваю я и встревожиться, как он уже вовсю отбивается от невидимых, для меня, конечно же, врагов и звонит «улоксу».
– У тебя номем какой?
– Сто… Девяносто… Пять.
– Сто… Пять… Аё!
– Ало!
– Это уокс?
– Да-а!
– Можно я вейнусь?
– Нет!
– Ну почему-у!!!
Через минуту они снова летят на одном корабле. Всю минуту я улыбаюсь.
Тем временем тучи загустели ещё больше, хотя дождя всё не было. Прохладный ветер сражается с духотой.
– Домой, одиннадцатый час! – Слышится вдруг крик женщины в серой домашней кофте. – Все дети уже по домам сидят!
– Ну ма-ма-а!
– Идём домой!
– Не-ет, не хотим домой!
– Тогда мы закроемся на ключ.
Угрозу девочка решает отбить грустным молчанием. Меня тоже вдруг почему-то расстроило, что мама зовёт домой.
– Я не хочу домой… Я хочу играть и кататься на этих качелях…
Женщина нехотя подходит к качелям и аккуратно тормозит их рукой.
– Пойдём.
– Ну ма-ама…
Ножки свисают и касаются поочерёдно земли, я ощущаю укол печали в каждом шажке по песку. Сказка поэтапно рассеивается.
И вот они уходят, втроём, дети по обе стороны от мамы, всё подпрыгивая и размахивая ручками, стремительно удаляясь за забор. И вот, когда огоньки кофт уже скрываются из виду, они оба уже волочат свои ноги домой, не скача и не хихикая.
И мои качели тоже тихо останавливаются.
Треск цепи, пару усилий ногой, и, будто по воздуху, уносит дальше. В лицо бьёт прохлада, волосы развеваются сзади; по голым рукам пробегает волна мурашек. Улица почему-то вдруг темнеет, хотя те же фонари мелькают по пути один за другим; объекты резче.
В полусне я вспомнила об оставленном перед домом велосипеде. На часах было двадцать три часа четырнадцать минут. Зевнула: так рано клонило в сон, нельзя было затягивать. Почти в пижаме обошла пустой дом, заставленный коробками и какой-то техникой. Вдела ноги в кроксы и почти с трудом открыла дверь.
Окна моргают без света. Пустота – ни одного человека, ни у себя, ни здесь, будто и нет никого больше в этом посёлке. Только я, мурашки и фонари.
Прохлада обнимает кожу. Глубокий вдох – привкус ночи. Так свободно не дышалось ни в одной комнате, такими лёгкими не были шаги по коридорам. За домами шумит лес. Именно этого шума мне, оказалось, не хватало, несмотря на настежь открытое окно.
Над безлюдными улицами сгущаются чёрно-синие тучи. Шум ветра в ушах, трагичное пение птиц – звуки лета. Нет такого плейлиста в наушниках, и как хорошо, что я не захватила их с собой. Не хочется возвращаться назад. Там сидят, включив везде свет, как всегда зажигаются одно за другим окна, мелькают фигурки около занавесок. «Хорошо, возвращайся с победой», бросают мне вслед в прихожей.
Пластиковые одинаковые дома – декорация для постапокалиптического хоррора. Если люди есть, то они спрятались за стенками и спящими стёклами, чтобы молча наблюдать. А тёмное небо резко разрезает молния.
Я здесь. «Хорошо, возвращайся с победой» повисло в воздухе. Хорошо, я вернулась с победой, если победой считать возвращение туда, где все снова никуда не уносит, ни по воздуху, никак иначе.
***
Спёртый воздух субботы, наверное, впервые за сегодня вдруг повеял прохладой – стал легче, в тот момент, как захлопнулась дверь, а ноги пронеслись по ступенькам. Я ощущала это раньше, это где-то было. Там сильно стемнело. Свинцовая серость заслоняет небо, приближается дождь. Приближается дождь, отдаляются нелепые отчаянные шаги.
Каждый мой шаг втаптывает ненависть в сухой асфальт. Втаптывает свет в комнатах, на кухне, в гостиной, в спальне, втаптывает отражение экрана телевизора и чьи-то бесконечные голоса. Втаптывает, втаптывает, втаптывает, проходится и по комку слёз в горле. И всё же, чем дальше, тем громче шум ветра в деревьях. Не в голове. Июньское тепло, наконец, приятно проходится по пижаме. Забавно даже вспомнить о ней – она не осталась там, где должна была быть, но может в этом-то и был весь смысл.
Удушье не прекращалось. Я обхожу смеющийся забор, откуда пахнет костром и хлоркой, так знакомо, что это почти радует, и оказываюсь на пустой детской площадке – летний вечерний пейзаж.
Не совсем пустой: на качелях играют два ребёнка. Оранжевая толстовка и синяя рубашонка – девочка и младший брат, лет семь и лет пять. Цепь моих качелей привычно скрипит, и волосы отлетают назад.
– На нас падают метеоулиты! Ме-те-оу-ли-ты, собиулаем улокс!
– А-а-а! Ту-ду-ду-ду!..
Серо-голубое небо то резко приближается ко мне, то удаляется, и почему-то это быстро стало утомлять. Мысли всё собираются в одну кучу, потом снова рассыпаются обратно. Я запрокидываю голову назад и пытаюсь размешать их в массе нависших облаков, хотя очевидно, случись это на самом деле – пошёл бы ливень.
Высокий девчачий голос непрерывно декларирует о падении метеоритов и атаке самолётов; кажется, что мальчуган понимает тут не больше моего.
– Защи-ща-айся!!!
Казалось это только сначала, пока и меня не заинтересовала игра. Вдвоём, такие маленькие и звонкие, они хватаются руками за всё, чтобы посильнее раскачаться, вернее, чтобы, конечно, оторваться от космической погони. Всё первым, пожалуй, виделось девочке, но брат догонял её. Они были в перестрелке и у штурвала звёздного корабля; пуляли и уворачивались; кричали, пели и вызывали подкрепление.
– А-а-а, меня сбийи, меня сбий самоёт!!!
Мальчик сигает на песок, но, не успеваю я и встревожиться, как он уже вовсю отбивается от невидимых, для меня, конечно же, врагов и звонит «улоксу».
– У тебя номем какой?
– Сто… Девяносто… Пять.
– Сто… Пять… Аё!
– Ало!
– Это уокс?
– Да-а!
– Можно я вейнусь?
– Нет!
– Ну почему-у!!!
Через минуту они снова летят на одном корабле. Всю минуту я улыбаюсь.
Тем временем тучи загустели ещё больше, хотя дождя всё не было. Прохладный ветер сражается с духотой.
– Домой, одиннадцатый час! – Слышится вдруг крик женщины в серой домашней кофте. – Все дети уже по домам сидят!
– Ну ма-ма-а!
– Идём домой!
– Не-ет, не хотим домой!
– Тогда мы закроемся на ключ.
Угрозу девочка решает отбить грустным молчанием. Меня тоже вдруг почему-то расстроило, что мама зовёт домой.
– Я не хочу домой… Я хочу играть и кататься на этих качелях…
Женщина нехотя подходит к качелям и аккуратно тормозит их рукой.
– Пойдём.
– Ну ма-ама…
Ножки свисают и касаются поочерёдно земли, я ощущаю укол печали в каждом шажке по песку. Сказка поэтапно рассеивается.
И вот они уходят, втроём, дети по обе стороны от мамы, всё подпрыгивая и размахивая ручками, стремительно удаляясь за забор. И вот, когда огоньки кофт уже скрываются из виду, они оба уже волочат свои ноги домой, не скача и не хихикая.
И мои качели тоже тихо останавливаются.
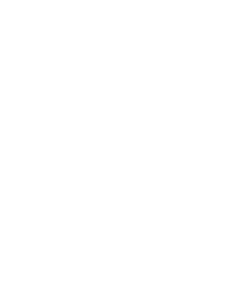
Тамара ТИМОШКИНА
Родилась в 1966 году в деревне Байназарово Бурзянского района Башкирской АССР. Ранее не публиковалась.
Родилась в 1966 году в деревне Байназарово Бурзянского района Башкирской АССР. Ранее не публиковалась.
СОКРОВИЩЕ МОЕ - ПАМЯТЬ!
Путешествие к истокам
Я родилась в самом живописном уголке Башкортостана – Бурзянском районе. Бурзян – это древняя, заповедная земля, славящаяся своей уникальной красотой. Суровые скалы здесь уступают место густым лесам, где несет свои воды Агидель – самая длинная и полноводная река Башкирии. Ее течение пролегает среди живописных лесных массивов, а берега обрамлены величественными скалами, вздымающимися на десятки метров.
Именно здесь расположены легендарные заповедники «Шульган-Таш», Башкирский государственный природный заповедник. С самого детства я впитывала в себя величие и первозданную красоту этой земли, ее неповторимый дух. Каждое лето, проведенное в лесу, лишь укрепляло эту связь.
Июль и август в деревне – это время сенокоса, время, когда вся округа наполнялась ароматом скошенной травы и дружным гулом работающих кос. Отец с терпением учил нас косить, ворошить сено и складывать его в высокие, пахнущие солнцем копны. Сенокос был не просто работой, а важнейшим ритуалом деревенской жизни. Коровы и овцы были гарантией молока и мяса на столе, а конь – незаменимым помощником в хозяйстве. Он был и транспортом, и перевозчиком. Я до сих пор помню и Черного, своенравного коня, и Буяна, верного и преданного друга.
Наша семья заготавливала сено не только в окрестностях деревни, но и выезжала далеко, в Акташ, в сторону Мурадымово. Там, у холодного родника, вырастали шалаши работников лесхоза и членов бригады колхоза «Агидель». Вечерами, после трудового дня, все собирались на ужин, а потом начинались разговоры, лились песни, звучала гармонь и искрился веселый смех. Люди, утомленные тяжелым трудом, находили время для общения и простой человеческой радости. Чтобы отпугнуть ночных гостей, разводили огромные костры. Языки пламени танцевали в ночи, отгоняя медведей.
Моя родная деревня Байназарово раскинулась по обоим берегам реки Белой, окруженная горами и скалами. Все лето детвора с нашей улицы Дружба проводила на берегу реки. Улица, расположенная в самом центре деревни, словно мост, соединяет две главные улицы. Свое название она получила в честь единственной русской жительницы – бабы Зинки, Зинаиды Архиповны. На улице было двадцать три дома, в которых жили семьи Буранбаевых, Давлетшиных, Карагуловых, Зайнуллиных, Маликовых, Яганшиных, Ахметшиных, Каскиновых, Алгазиных и Назаровых. Детей было много: одни вырастали, словно птенцы, покидали родное гнездо, создавали свои семьи, другие только начинали свой жизненный путь, наполняя улицу звонкими голосами.
Летом Белая, словно магнит, притягивала нас к себе. Мы дружно плескались в ее прохладных водах, порой до посинения, пока дрожь не пробирала до самых костей и стучали зубы. Маленькие рыбки, словно озорные создания, касались ног, приятно щекотали пятки, а иногда и пугали до визга. Устраивали соревнования: кто дольше продержится под водой, кто дальше проплывет. В жаркие дни в реке можно было увидеть змей, лениво проплывающих мимо. Тогда, словно по команде, с громкими криками мы бросались к берегу, спасаясь от незваных гостей. Любили приставать к туристам, сплавляющимся по Белой, спрашивали, откуда они, из каких далеких городов прибыли. Узнав название, мы тут же начинали гадать, где он находится, что там интересного, чем живут люди. Девчонки, присев на берегу, стирали одежду, собирали красивые камушки, переливающиеся на солнце, и хвастались своими находками, словно сокровищами. Часто, переплыв на другой берег, мы поднимались на гору, где краснела сладкая земляника. Когда в лесу поспевали ягоды, мы успевали и их собрать, и нарвать охапки полевых цветов, благоухающих летом, и просто насладиться жизнью, ее беззаботностью и полнотой. А долгими летними вечерами, когда солнце пряталось за горизонт, мы играли в разбойников, в краски, в прятки, носились по всей деревне, дурачась и догоняя друг друга, пока звезды не начинали робко выглядывать из-за темной пелены неба и родители громко звать домой.
Зимой дни коротки, поэтому мы находили время, чтобы покататься на лыжах и промчаться на санках с крутой горки. Мы, деревенские дети, имели свои взрослые хозяйственные дела: натаскать воды, ухаживать за скотиной, готовить обеды и ужины, стирать, убираться в доме, присматривать за младшими братьями и сестрами.
Я все годы училась в двухэтажном деревянном здании, построенном в 1960 году. Когда я закончила школу в 1983 году, построили современное здание. Но я до сих пор помню кабинеты, где мы занимались, физкультурный зал, коридоры. Помню учителей, которые учили нас не только школьным урокам, но и жизненным. Я считаю, что нам очень повезло с учителями. Они внесли каждый свой вклад в наше образование и воспитание. В воспитание в первую очередь. Нас учили быть честными, ответственными, активными. Наша тимуровская команда класса в пионерские годы была самой лучшей. Мы обязательно раз в неделю ходили помогать одинокой бабушке, нашей подопечной. Она всегда была рада нам. Несмотря на свой преклонный возраст, она старалась быть бодрой и жизнерадостной. Мы приносили ей воду, кололи дрова, убирались в доме и во дворе. А она, в свою очередь, рассказывала нам истории из своей жизни, делилась мудрыми советами. Эти встречи были для нас настоящим уроком доброты и милосердия.
Школа была для нас не просто местом учебы, а вторым домом. Здесь мы не только получали знания, но и учились дружить, помогать друг другу, отстаивать свою точку зрения. Я с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу Закию Ямилховну, которая научила меня читать и писать, привила любовь к знаниям. Помню уроки русской литературы Муслимы Махмутдиновны, на которых мы зачитывались произведениями классиков, обсуждали их героев и переживали вместе с ними. Помню уроки истории Галимьяна Сибагатовича, на которых мы узнавали о прошлом нашей страны, о подвигах наших предков. Помню уроки и внеурочные занятия по математике опытного учителя Гатифы Закреевны, уроки танца молодой Розы Халяфовны, задушевные беседы Хашии Махмутдиновны… Школа подарила мне целую россыпь ярких воспоминаний. Это и пионерские костры, и волнительные выступления в сельских клубах, и азарт сбора макулатуры и металлолома (помню, за победу в этом соревновании наш класс наградили поездкой в Ульяновск!). А еще работа в трудовом лагере, захватывающее путешествие в пещеру Шульган-Таш... Всего и не перечислить! Но главное, что все это делало нас по-настоящему счастливыми.
После окончания школы я уехала из родной деревни, поступила в институт, получила профессию и стала работать. Но где бы я ни была, я всегда помню о своей малой родине, о своих друзьях, о своих учителях. Я часто приезжаю в Байназарово, чтобы навестить своих родных, побродить по родным местам, вдохнуть свежий воздух, наполниться энергией земли.
С годами здесь многое изменилось. Деревня стала больше, появилось много новых людей. Но река Белая по-прежнему течет, горы по-прежнему возвышаются над деревней. И самое главное – в моей памяти навсегда сохранились воспоминания о детстве, о юности, о родной деревне. Эти воспоминания – мое бесценное сокровище, которое я бережно храню в своем сердце. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть такая богатая и яркая память о моем детстве, о моей родной земле, о моих близких и друзьях. Это память – моя главная драгоценность, мое сокровище.
Солдатские вдовы и матери
Моим бабушкам, Каскиновой Хусниямал Хубутдиновне и Аминевой Зульхизе Гиззатуловне, посвящается.
Бабушка Хусниямал задумчиво смотрит вдаль. Я не отрываю взгляда от ее морщинистого лица, от платка, плотно облегающего лоб. О чем она сейчас думает? Хочется окликнуть, но я останавливаюсь, боясь спугнуть ее мысли, нарушить хрупкий мир воспоминаний, в который она, кажется, погружается. Каждый раз, когда я слышала, как бабушка Хусниямал вздыхает, мне казалось, что в этом звуке заключена вся ее жизнь – полная надежд, потерь и воспоминаний.
Она высокая, хотя, возможно, мне так казалось в детстве. Худощавая, с волосами белыми, как первый снег. На тонкой шее отчетливо видны выступающие ключицы – в эти ямки, кажется, можно налить целый стакан воды. Карие глаза смотрят пронзительно, но, даже когда она улыбается, в них остается тень грусти.
С детства я проводила с ней большую часть времени, пока мама работала. Бабушка играла со мной, водила за гусями, козами и овцами. Однажды мы даже вместе принимали роды у коровы. У нее были подруги, которые часто приходили в гости. Ставили самовар, пили чай и подолгу беседовали. Я до сих пор вижу эту картину: бабулечки в длинных, цветастых платьях и ярких платках чинно пьют чай. На столе – домашний хлеб, масло, варенье. Я не всегда понимала их разговоры, но мне нравилась теплая, уютная атмосфера этих встреч.
Когда бабушка перестала ходить, я стала ее незаменимой помощницей. Она делилась со мной жизненным опытом. Хотя сама была безграмотной, бабушка твердила, что нужно учиться и получить высшее образование. Она говорила, что сможет умереть спокойно, когда я закончу школу. Так и случилось.
Я с радостью общалась с бабушкой, любила расспрашивать ее о молодости, о замужестве, о работе. Она рассказывала мне о старшем сыне, Абдулле. Его портрет висел в рамочке на стене. С фотографии на меня смотрел красивый молодой парень в форме. Оказалось, это единственная фотография, сделанная до войны, когда он учился в ФЗО.
В 1942 году Абдулла пропал без вести. В семь лет я запомнила лишь сухие факты: он учился в городе, дружил с девушкой, собирался жениться. Был высоким, статным. Война разрушила все его планы.
Став мамой и бабушкой, я смогла понять, как тяжело было моей бабушке Хусниямал пережить потерю сына, понять ее горе и отчаяние, боль. Тети и отец рассказывали, что она долгие годы после войны верила в возвращение сына. Прислушивалась к каждому стуку калитки, к каждому шороху на улице, надеясь услышать его голос… Иногда я пыталась представить, каким был Абдулла. Я смотрела на его фотографию и пыталась уловить его характер, его мечты и стремления. Бабушка рассказывала, что он был добрым и бесшабашным, работящим и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь.
1943 год стал для моей бабушки годом невосполнимой утраты – она потеряла мужа. Дед Салават, работая в трудовой армии, заболел воспалением легких и скончался. Бабушка осталась одна с четырьмя дочерьми-подростками и двумя маленькими сыновьями. Ей пришлось в одиночку поднимать шестерых детей. Вместе со старшими дочерьми она трудилась в колхозе, а после работы заготавливала дрова, косила траву и добывала сено для коровы – единственной кормилицы семьи, сажала картошку. Заготавливали дрова, пилили деревья вручную, а сестры обрубали сучья. Чтобы выменять картошку, мясо и масло на одежду и обувь, она пешком ходила в Авзян, находящийся в сорока пяти километрах от дома. Откуда только брались силы в этой хрупкой женщине?
Другую бабушку, Зульхизу, по материнской линии, я не знала. Она умерла, когда моя мама, самая младшая из четырех сестер, еще училась в школе. Жизнь бабушки Зульхизы была полна лишений, как и у многих в те годы. В каждой семье были свои трудности, голод, холод, горе и потери – всем приходилось выживать. Бабушка Зульхиза тоже потеряла мужа, моего деда Ахмадуллу, в 1943 году. Поддержку ей оказывали дочери и единственный сын, Калимулла. Но война продолжала забирать у нее самое дорогое. В 1945 году Калимулла, совсем еще юный парень, ушел на войну на Дальний Восток. В сентябре того же года бабушка получила похоронку. Это известие стало для нее сокрушительным ударом. Говорят, она просто рухнула на месте. Четыре дня дочери не отходили от нее, бабушка лежала неподвижно. Они выходили ее, но утрата мужа и сына, невыносимая боль и душевные страдания сделали свое дело – бабушка ушла рано, умерла от болезни сердца. Невозможно передать словами горе вдовы, потерявшей мужа, и страдания матери, узнавшей о гибели сына на войне…
Время идет, но память упорно возвращает меня к бабушкам. Я не могу забыть их слезы и боль. Эти воспоминания – часть меня, часть моего сердца.
Путешествие к истокам
Я родилась в самом живописном уголке Башкортостана – Бурзянском районе. Бурзян – это древняя, заповедная земля, славящаяся своей уникальной красотой. Суровые скалы здесь уступают место густым лесам, где несет свои воды Агидель – самая длинная и полноводная река Башкирии. Ее течение пролегает среди живописных лесных массивов, а берега обрамлены величественными скалами, вздымающимися на десятки метров.
Именно здесь расположены легендарные заповедники «Шульган-Таш», Башкирский государственный природный заповедник. С самого детства я впитывала в себя величие и первозданную красоту этой земли, ее неповторимый дух. Каждое лето, проведенное в лесу, лишь укрепляло эту связь.
Июль и август в деревне – это время сенокоса, время, когда вся округа наполнялась ароматом скошенной травы и дружным гулом работающих кос. Отец с терпением учил нас косить, ворошить сено и складывать его в высокие, пахнущие солнцем копны. Сенокос был не просто работой, а важнейшим ритуалом деревенской жизни. Коровы и овцы были гарантией молока и мяса на столе, а конь – незаменимым помощником в хозяйстве. Он был и транспортом, и перевозчиком. Я до сих пор помню и Черного, своенравного коня, и Буяна, верного и преданного друга.
Наша семья заготавливала сено не только в окрестностях деревни, но и выезжала далеко, в Акташ, в сторону Мурадымово. Там, у холодного родника, вырастали шалаши работников лесхоза и членов бригады колхоза «Агидель». Вечерами, после трудового дня, все собирались на ужин, а потом начинались разговоры, лились песни, звучала гармонь и искрился веселый смех. Люди, утомленные тяжелым трудом, находили время для общения и простой человеческой радости. Чтобы отпугнуть ночных гостей, разводили огромные костры. Языки пламени танцевали в ночи, отгоняя медведей.
Моя родная деревня Байназарово раскинулась по обоим берегам реки Белой, окруженная горами и скалами. Все лето детвора с нашей улицы Дружба проводила на берегу реки. Улица, расположенная в самом центре деревни, словно мост, соединяет две главные улицы. Свое название она получила в честь единственной русской жительницы – бабы Зинки, Зинаиды Архиповны. На улице было двадцать три дома, в которых жили семьи Буранбаевых, Давлетшиных, Карагуловых, Зайнуллиных, Маликовых, Яганшиных, Ахметшиных, Каскиновых, Алгазиных и Назаровых. Детей было много: одни вырастали, словно птенцы, покидали родное гнездо, создавали свои семьи, другие только начинали свой жизненный путь, наполняя улицу звонкими голосами.
Летом Белая, словно магнит, притягивала нас к себе. Мы дружно плескались в ее прохладных водах, порой до посинения, пока дрожь не пробирала до самых костей и стучали зубы. Маленькие рыбки, словно озорные создания, касались ног, приятно щекотали пятки, а иногда и пугали до визга. Устраивали соревнования: кто дольше продержится под водой, кто дальше проплывет. В жаркие дни в реке можно было увидеть змей, лениво проплывающих мимо. Тогда, словно по команде, с громкими криками мы бросались к берегу, спасаясь от незваных гостей. Любили приставать к туристам, сплавляющимся по Белой, спрашивали, откуда они, из каких далеких городов прибыли. Узнав название, мы тут же начинали гадать, где он находится, что там интересного, чем живут люди. Девчонки, присев на берегу, стирали одежду, собирали красивые камушки, переливающиеся на солнце, и хвастались своими находками, словно сокровищами. Часто, переплыв на другой берег, мы поднимались на гору, где краснела сладкая земляника. Когда в лесу поспевали ягоды, мы успевали и их собрать, и нарвать охапки полевых цветов, благоухающих летом, и просто насладиться жизнью, ее беззаботностью и полнотой. А долгими летними вечерами, когда солнце пряталось за горизонт, мы играли в разбойников, в краски, в прятки, носились по всей деревне, дурачась и догоняя друг друга, пока звезды не начинали робко выглядывать из-за темной пелены неба и родители громко звать домой.
Зимой дни коротки, поэтому мы находили время, чтобы покататься на лыжах и промчаться на санках с крутой горки. Мы, деревенские дети, имели свои взрослые хозяйственные дела: натаскать воды, ухаживать за скотиной, готовить обеды и ужины, стирать, убираться в доме, присматривать за младшими братьями и сестрами.
Я все годы училась в двухэтажном деревянном здании, построенном в 1960 году. Когда я закончила школу в 1983 году, построили современное здание. Но я до сих пор помню кабинеты, где мы занимались, физкультурный зал, коридоры. Помню учителей, которые учили нас не только школьным урокам, но и жизненным. Я считаю, что нам очень повезло с учителями. Они внесли каждый свой вклад в наше образование и воспитание. В воспитание в первую очередь. Нас учили быть честными, ответственными, активными. Наша тимуровская команда класса в пионерские годы была самой лучшей. Мы обязательно раз в неделю ходили помогать одинокой бабушке, нашей подопечной. Она всегда была рада нам. Несмотря на свой преклонный возраст, она старалась быть бодрой и жизнерадостной. Мы приносили ей воду, кололи дрова, убирались в доме и во дворе. А она, в свою очередь, рассказывала нам истории из своей жизни, делилась мудрыми советами. Эти встречи были для нас настоящим уроком доброты и милосердия.
Школа была для нас не просто местом учебы, а вторым домом. Здесь мы не только получали знания, но и учились дружить, помогать друг другу, отстаивать свою точку зрения. Я с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу Закию Ямилховну, которая научила меня читать и писать, привила любовь к знаниям. Помню уроки русской литературы Муслимы Махмутдиновны, на которых мы зачитывались произведениями классиков, обсуждали их героев и переживали вместе с ними. Помню уроки истории Галимьяна Сибагатовича, на которых мы узнавали о прошлом нашей страны, о подвигах наших предков. Помню уроки и внеурочные занятия по математике опытного учителя Гатифы Закреевны, уроки танца молодой Розы Халяфовны, задушевные беседы Хашии Махмутдиновны… Школа подарила мне целую россыпь ярких воспоминаний. Это и пионерские костры, и волнительные выступления в сельских клубах, и азарт сбора макулатуры и металлолома (помню, за победу в этом соревновании наш класс наградили поездкой в Ульяновск!). А еще работа в трудовом лагере, захватывающее путешествие в пещеру Шульган-Таш... Всего и не перечислить! Но главное, что все это делало нас по-настоящему счастливыми.
После окончания школы я уехала из родной деревни, поступила в институт, получила профессию и стала работать. Но где бы я ни была, я всегда помню о своей малой родине, о своих друзьях, о своих учителях. Я часто приезжаю в Байназарово, чтобы навестить своих родных, побродить по родным местам, вдохнуть свежий воздух, наполниться энергией земли.
С годами здесь многое изменилось. Деревня стала больше, появилось много новых людей. Но река Белая по-прежнему течет, горы по-прежнему возвышаются над деревней. И самое главное – в моей памяти навсегда сохранились воспоминания о детстве, о юности, о родной деревне. Эти воспоминания – мое бесценное сокровище, которое я бережно храню в своем сердце. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть такая богатая и яркая память о моем детстве, о моей родной земле, о моих близких и друзьях. Это память – моя главная драгоценность, мое сокровище.
Солдатские вдовы и матери
Моим бабушкам, Каскиновой Хусниямал Хубутдиновне и Аминевой Зульхизе Гиззатуловне, посвящается.
Бабушка Хусниямал задумчиво смотрит вдаль. Я не отрываю взгляда от ее морщинистого лица, от платка, плотно облегающего лоб. О чем она сейчас думает? Хочется окликнуть, но я останавливаюсь, боясь спугнуть ее мысли, нарушить хрупкий мир воспоминаний, в который она, кажется, погружается. Каждый раз, когда я слышала, как бабушка Хусниямал вздыхает, мне казалось, что в этом звуке заключена вся ее жизнь – полная надежд, потерь и воспоминаний.
Она высокая, хотя, возможно, мне так казалось в детстве. Худощавая, с волосами белыми, как первый снег. На тонкой шее отчетливо видны выступающие ключицы – в эти ямки, кажется, можно налить целый стакан воды. Карие глаза смотрят пронзительно, но, даже когда она улыбается, в них остается тень грусти.
С детства я проводила с ней большую часть времени, пока мама работала. Бабушка играла со мной, водила за гусями, козами и овцами. Однажды мы даже вместе принимали роды у коровы. У нее были подруги, которые часто приходили в гости. Ставили самовар, пили чай и подолгу беседовали. Я до сих пор вижу эту картину: бабулечки в длинных, цветастых платьях и ярких платках чинно пьют чай. На столе – домашний хлеб, масло, варенье. Я не всегда понимала их разговоры, но мне нравилась теплая, уютная атмосфера этих встреч.
Когда бабушка перестала ходить, я стала ее незаменимой помощницей. Она делилась со мной жизненным опытом. Хотя сама была безграмотной, бабушка твердила, что нужно учиться и получить высшее образование. Она говорила, что сможет умереть спокойно, когда я закончу школу. Так и случилось.
Я с радостью общалась с бабушкой, любила расспрашивать ее о молодости, о замужестве, о работе. Она рассказывала мне о старшем сыне, Абдулле. Его портрет висел в рамочке на стене. С фотографии на меня смотрел красивый молодой парень в форме. Оказалось, это единственная фотография, сделанная до войны, когда он учился в ФЗО.
В 1942 году Абдулла пропал без вести. В семь лет я запомнила лишь сухие факты: он учился в городе, дружил с девушкой, собирался жениться. Был высоким, статным. Война разрушила все его планы.
Став мамой и бабушкой, я смогла понять, как тяжело было моей бабушке Хусниямал пережить потерю сына, понять ее горе и отчаяние, боль. Тети и отец рассказывали, что она долгие годы после войны верила в возвращение сына. Прислушивалась к каждому стуку калитки, к каждому шороху на улице, надеясь услышать его голос… Иногда я пыталась представить, каким был Абдулла. Я смотрела на его фотографию и пыталась уловить его характер, его мечты и стремления. Бабушка рассказывала, что он был добрым и бесшабашным, работящим и отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь.
1943 год стал для моей бабушки годом невосполнимой утраты – она потеряла мужа. Дед Салават, работая в трудовой армии, заболел воспалением легких и скончался. Бабушка осталась одна с четырьмя дочерьми-подростками и двумя маленькими сыновьями. Ей пришлось в одиночку поднимать шестерых детей. Вместе со старшими дочерьми она трудилась в колхозе, а после работы заготавливала дрова, косила траву и добывала сено для коровы – единственной кормилицы семьи, сажала картошку. Заготавливали дрова, пилили деревья вручную, а сестры обрубали сучья. Чтобы выменять картошку, мясо и масло на одежду и обувь, она пешком ходила в Авзян, находящийся в сорока пяти километрах от дома. Откуда только брались силы в этой хрупкой женщине?
Другую бабушку, Зульхизу, по материнской линии, я не знала. Она умерла, когда моя мама, самая младшая из четырех сестер, еще училась в школе. Жизнь бабушки Зульхизы была полна лишений, как и у многих в те годы. В каждой семье были свои трудности, голод, холод, горе и потери – всем приходилось выживать. Бабушка Зульхиза тоже потеряла мужа, моего деда Ахмадуллу, в 1943 году. Поддержку ей оказывали дочери и единственный сын, Калимулла. Но война продолжала забирать у нее самое дорогое. В 1945 году Калимулла, совсем еще юный парень, ушел на войну на Дальний Восток. В сентябре того же года бабушка получила похоронку. Это известие стало для нее сокрушительным ударом. Говорят, она просто рухнула на месте. Четыре дня дочери не отходили от нее, бабушка лежала неподвижно. Они выходили ее, но утрата мужа и сына, невыносимая боль и душевные страдания сделали свое дело – бабушка ушла рано, умерла от болезни сердца. Невозможно передать словами горе вдовы, потерявшей мужа, и страдания матери, узнавшей о гибели сына на войне…
Время идет, но память упорно возвращает меня к бабушкам. Я не могу забыть их слезы и боль. Эти воспоминания – часть меня, часть моего сердца.
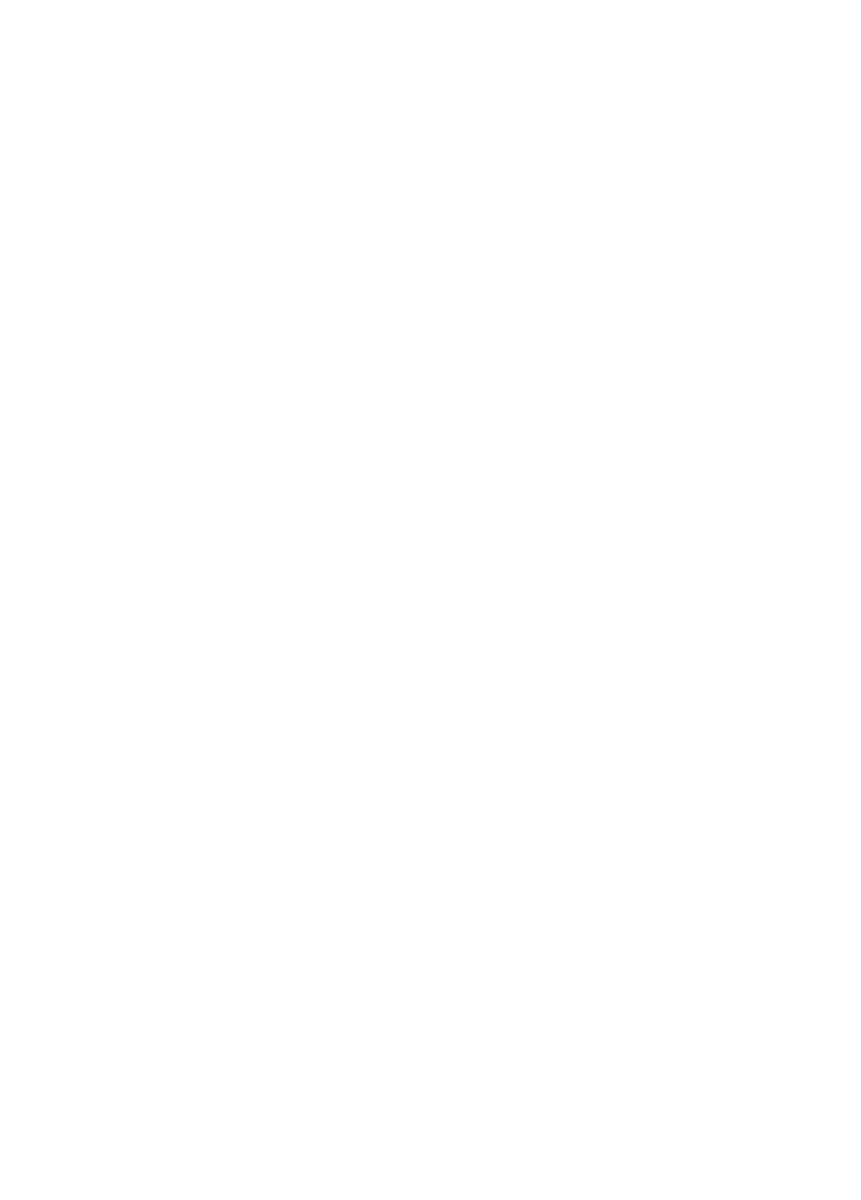
Юлия ТРУФАНОВА
Родилась в 2002 году. Родной город – Пушкино, Московской области. Печататься начала в старших классах школы в районной газете «Маяк» после знакомства с Русским Севером. Опубликовала путевые очерки: «Мурманск: в поисках северной красоты» – о незамерзающем городе-порте, «Острова впечатлений» – об Онежских шхерах Белого моря, а также очерк «Что за прелесть эти хаски!» и статью «Музыка и мы». Очерк «Путешествие в край тайны» опубликован на сайте Русского географического общества.
Родилась в 2002 году. Родной город – Пушкино, Московской области. Печататься начала в старших классах школы в районной газете «Маяк» после знакомства с Русским Севером. Опубликовала путевые очерки: «Мурманск: в поисках северной красоты» – о незамерзающем городе-порте, «Острова впечатлений» – об Онежских шхерах Белого моря, а также очерк «Что за прелесть эти хаски!» и статью «Музыка и мы». Очерк «Путешествие в край тайны» опубликован на сайте Русского географического общества.
ВАРИАЦИЯ НА ОДИННАДЦАТЫЙ АРКАН
Два удава
Жара душила Рим. Очередь, похожая на длинную змею, затаившуюся в тени пиний, туго обняла семью кольцами ветхое тело Колизея. Кого только не было в очереди, какие только языки не перекатывались из кольца в кольцо: французский, немецкий, английский, русский, испанский, арабский… Весь мир, казалось, превратился в огромного удава, изнывавшего от духоты.
Между кругами змеиного туловища прохаживались продавцы, усиленно размахивая руками. В каждой – по бутылке воды. Пластик отражал пронзающие его лучи, поблёскивая белыми пятнами. Они так и били своим сиянием по удаву. Но он медленно полз, перегоняя кольцо за кольцом. Он охотник за впечатлениями. Ему нужна добыча.
Голова уже заползла внутрь, рассыпавшись на отдельных людей. Однако, пройдя через вход, прорубленный когда-то давно, люди превращались в массу. Теперь она не душила, а обгладывала амфитеатр, как паразит, выпивающий жизненные соки из организма.
Колизей рассыпался. Тело становилось пылью. Этой пылью дышала ненасытная масса пустых глаз. Люди легко, с бесчувственными лицами топтали древность, нарушая её покой. «Я не заслужил смерти. Я буду таять, а они – топтать меня», – думал старый гигант.
Раньше к нему тоже приползал удав. И он превращался в массу. Но какой это был удав! Какая масса! Кем был он, Колизей! Гордым. Сильным. Жестоким. Где теперь прошлое восхищение? «Я постарел, безобразно обветшал. А этот новорожденный удав ползёт полюбоваться – чем! – моей старостью. И он восхищается! Восхищается, не задумываясь, что я немощен, что одна из моих стен целиком сделана из кирпича… Пусть я рассыплюсь, но я, я – Колизей! – из кирпича?.. А внутри – что там ищет удав, что он там хочет увидеть? Что видит? Ничего! Император, жертва, толпа. Так было, когда был я. Я должен был умереть с последним тираном, пусть он жил бы ни в Риме. Почему он ещё не пришёл на землю и не забрал мою душу? Одну мою душу? Если есть на свете справедливость, значит, она должна относиться и ко мне.
Кто знает, может, именно справедливость и обрекла меня на жалкое бессмертие, хотела, чтобы я смирился, чтобы меня разрушало время, а те, кого я убивал, унижали меня, приращивая к моему телу кирпичи, а потом восхищались этим унижением изнутри. Да, это была она, белая и холодная…»
Колизей закрыл глаза. Заснул. И увидел сон. Это пробудилось пережитое им прошлое.
Сон Colosseo
Толпа оголодала. И озверела. Улыбался император. Сейчас он, хозяин, бросит своему цепному псу мясо, напитанное кровью. Толпа поймёт, что насыщение исходит от него, человеко-бога в красной мантии, чья голова в золотой короне затмевает силу самого владыки солнца. Толпа никогда не насытиться. Оно – зверь. Цепной пёс всегда будет у ног всемилостивого правителя-кормильца. Император поднял ладонь вверх. Сверкнул тёмный изумруд.
Зашевелились тяжёлые двери. Зашипел горячий песок на арене.
В сердце манежа вывели пленницу. Белоснежная, как призрак. Прозрачная. Неземная.
Император поднял бровь. Голос рядом с левой рукой бархатно зашептал:
– Христианка, мой император.
– Она носит крест?
– Носила, мой император. Мои солдаты отобрали его.
– Кому она служит, чей культ признаёт?
– Бога, говорит, мой император. Бога не нашей власти.
– И что в её боге особенного?
– Милосердие.
Император помолчал.
– Верните ей её крест, пусть наденет. Надо же будет чем-то защищаться во время сражения. Мы всё-таки не звери, чтобы ни говорили наши… соседи.
Голос неуклюже захрипел. Попытка смеха.
– И ещё, – продолжил император. – Я хочу, чтобы другие невольники лицезрели нашу справедливость. Выпустить, но не калечить. Выполняйте.
* * *
Пленников выпустили, оградив сетью. Такая им досталась свобода. Такая она была.
Девушка неподвижная, задумчивая стояла под взглядами толпы. На чёрной нитке, свисавшей с её шеи, замер деревянный крестик.
Небо заплакало.
– Голос, подойди ко мне, – подозвал император.
Голос приблизился к господину.
– Где страх? – спросил император, указывая пальцем на живую белую богиню.
– Его принесёт лев, мой император.
Сжав кулак, император раздражённо выдавил, почти не открывая рта:
– Освободить чудовище.
«Посмотрим, что ей нашепчет её бог», – ухмыльнулся царь человекоподобия в человеческом обличье.
* * *
Решётку не успели открыть. Зверь вырвался сам. Его мучила сидевшая в нём агония. Даже дождь не мог потушить её злое пламя, пронзившее сердце животного. Агония его ослепляла, он не видел, что перед ним был не хищник. Настоящий хищник спрятался – им был император. Это он приказал протыкать льва ледяными кинжалами. Так взращивали ненависть. Теперь любой человек для льва был мучителем.
Зверь оглянулся. Толпа, толпа, везде люди, толпа! Он взревел от боли. «Бежать, бежать, куда угодно, только подальше от толпы», – вот желание узника. Лев ринулся вперёд. Впереди была она.
Шаг. Шаг. Ещё шаг. Девушка мягко шла навстречу мчащемуся, искусственно созданному злу. Седьмой шаг – последний рывок… и сорвался крестик! Закачался маятником, приближаясь то к одной судьбе, то к другой.
Девушка подходила к застывшему зверю, сильнее раскачивая крест. Лев больше не гневался. Хрупкая рука обернула чёрную нить вокруг мохнатой, толстой шеи. Погладила остывшую голову.
Четыре глаза двух жизней из сердца Колизея прожигали дух императора. Девушка посмотрела на льва. Прыгнул. Рык… Толпа ахнула.
* * *
Все ждали, когда восторжествует справедливость. И вот она восторжествовала. Белая и холодная, смешала кровь и золото. Императора густыми алыми струями облепила смерть.
Бывшие пленники превратились в окаменевшие статуи. Сила, таящаяся за хрупкостью и в самой хрупкости, пугала. Все с ужасом смотрели на мёртвое тело, девушку и льва.
Спокоен был лев – тоже император. Царь зверей. Он понял, что царь должен подчиниться справедливости, быть рядом с ней и мудро употреблять силу. Тогда он останется царем. Лев не тронул испуганных людей. И все же он понимал: справедливость жестока. Но чтобы не было жестокости, нужно думать над каждым своим словом, жестом, мыслью, даже взглядом. Тогда не придется смешивать кровь и золото с песком. Не придется уничтожать зло. К такому выводу пришел лев.
Девушка и лев ушли, растворившись в тумане. Унесли поверженного. Справедливость пришла и исчезла. Неизвестно, когда она придет в следующий раз и придет ли. На земле снова не будет справедливости, но это не значит, что ее приход никогда не наступит. «Верить в то, чего нет, бороться ради того, чего не существует, но может наступить». Каждый стоял и пытался понять: как это всё возможно соединить в человеческих умах? Как сердцам это всё впитать?
Дождь омыл пустой скелет амфитеатра. Ночь похоронила уставший город.
Крест
Рассыпался удав. Потухли шёпоты мира. Зажгли фонари. Колизей любил ночь. Она прятала его позорную, как он считал, кирпичную кладку. И ещё кое-что скрывала за чёрной вуалью. Печать. Клеймо. Крест.
На одной из земляного, почти трупного, цвета стен зияет бежевое, как кожа, пятно. Часть этой мраморной кожи – имя, часть – выпуклый крест.
Кусок живой кожи с бежевыми прожилками – это то, что сделал в своё время Папа Римский Бенедикт XIV. Видимо, он прочувствовал ту давящую ауру, царящую в Колизее… Сейчас люди приходят сюда лишь ради достопримечательности. Когда-то они хотели азарта.
Современному человеку даже азарта не хочется. Но он не задумывается о том, что Колизей – это не музей. Это гробница страданий, мысленных и физических, убийств, замученных неспокойных душ. Человек вновь огрубел, иначе окольцовывал ли бы удав каждый день этот источник древнего зла? Зачем подходить так близко? Что тянет человека туда, во внутрь? Какая энергия?
А Бенедикт, снимая позор с этого места, выжег клеймо на спине палача. Один крест на все призраки амфитеатра, который стал кладбищем без могилы и без надписи: «Здесь похоронен Colosseo»… не смирившийся с волей Папы.
Он по-прежнему видит сны. В снах – императора. В кошмарах – побеждённого императора. По-прежнему крест жжёт его спину. Колизей разрушается. Он знает, что несмотря на отсрочку, коней придёт, и он боится, что в далёком будущем, когда забудутся имена правителей и слава амфитеатра Флавиева, от него, Колизея, ничего не останется, кроме этого, похожего на живую кожу, креста. Он умрёт, уже умирает, а табличка не падает, и та стена-спина, что служит ей опорой, как нарочно, держится под ударом времени. Страшно Колизею осознавать, каков его конец. Пока он видит только эту точку, зерно которой в его сердце. Оно бьётся. Эти толчки слышит змей и, заползая, питает Колизей новыми страхами, напоминая, что он потух, как свеча, и нет ему возрождения.
Но крест-то уже впечатан в стену. Колизей уже спасён. Бессмертие ему дано, чтобы понять, а не отнять.
* * *
Колизей любил ночь. Уползал змей. Колизей забывал о тревогах и чувствовал себя дышащим. Как будто ночь разрушала старое проклятие. Разрушалась гнилая сердцевина, появлялась свежая оболочка. Что-то снаружи грело его, защищая от прохлады лунного света.
Змеиный шёпот исчез. Пришла тишина. Колизей всё чаще её слышал. И, кажется, впервые за свою долгую жизнь постепенно начинал привыкать к новому ощущению. Он мягко улыбался.
ОСТРОВ ДЫШИТ
Жёлтая голова деревянного дракона, служившая носом карбаса, грызла мутное пятно, совсем не кстати растёкшееся по голубому хрусталю северного неба. За кормой сердито грохотал «хвост» поморского судна. Это рычал мотор, пытаясь прогнать незваную гостью с горизонта, а вместе с ней – и шторм, щедрый на солёные брызги. А туча сердилась – её, как злую фею из сказки, забыли пригласить на праздник, каким должно было стать трёхчасовое путешествие на Кондостров – один из самых дальних островов Онежской губы.
Толстое облако тяжелело, чернея от гнева, призывало ветер на помощь в борьбе с кораблём. Вот только забыла колдунья, что не ему бояться её губительных чар – карбас на то и карбас, чтобы побеждать непогоду. Пришлось старой туче отступить, и нам наконец удалось причалить к каменному берегу, не боясь столкновения с бурей и скалами.
В годы репрессий на островах Белого моря, помимо Соловецких, существовали лагеря. Там содержались заключённые. Антирелигиозная пропаганда достигала края света. В то же время на возвышенностях суши, кусками разбросанной среди стальных волн, появлялись кресты. Как ни странно, никто не стремился их разрушить. Деревянные распятия вырастали из скал, словно это было кому-то нужно.
Затерянным в океане униженным и оскорблённым случалось проходить мимо одной из таких самодельных Голгоф. Иногда они зачем-то поднимали к ней голову, будто искали что-то и одновременно осознавали, что потеряли. Каждый в той или иной степени – как кому удавалось в условиях невыживания – понимал, что он безвозвратно изувечен. Не палачом, будь то колючий ветер или человек, но впечатлениями от жизни на острове.
Однако рано или поздно ему, выжатому почти до последней жилы, открывалось: не его тело прижато гвоздями. А значит, он может надеется. Бессознательно и просто, ведь на искренность не хватало сил, а разум постепенно засыпал – недостаток необходимых веществ, витаминов, в конце концов, отпечатывается и на способности мыслить, и на человечности. Тем не менее, вера не умирала. Да, превращалась в рефлекс, но продолжала жить…
Один из её символов до сих пор стоит на Кондострове – одном из самых дальних в Онежской губе. Крест, вшитый в красный камень и опоясанный пепельными досками, – высокий и старый, с двумя ветхими перекладинами наверху и внизу. Та, что средняя, отпала. Теперь на её месте нет ничего, кроме пустоты, зияющей чёрным бесплотным квадратом. Он шрамом запечатлелся на саване, сотканном из невесомого пуха облаков и теперь укрывающим холодное сапфировое небо.
К нему мы и шли сначала по морю, а потом по скользким от тонких салатовых нитей-водорослей прибрежным валунам. Наша старая соседка тоже не дремала. Вернувшаяся из-за спин сосен-великанов туча, не желая сдаваться и пускать нас к цели, начинала бросать первые стрелы дождя.
Дойти до креста мало: нужно ещё спуститься немного вниз от него и сфотографировать место, откуда добывали здесь, на бывшей каменоломне, основу для памятника Петру Великому в Архангельске. Вот такое оно наше научное упрямство! Наблюдая за неспешными, но твёрдыми шагами экспедиционной группы, злая фея совсем разъярилась. И как только мы очутились под тенью древнего, седого, высокого креста, упала туча, упало небо, проснулся взрыв!
Жуткое эхо разлетелось по округе. Рассердились на нас поморские духи грозы! Светлые куски неба серели, сливаясь с рваными облаками. Пробуждался шторм. За всё время путешествия впервые стало по-настоящему страшно. Хотелось как можно быстрее нажать на кнопку фотоаппарата и мчаться обратно в карбас, способный победить, как нам казалось, любую стихию.
Выполнив экспедиционное задание, через несколько минут мы оказались уже в лодке. Успели выдохнуть: «Слава Богу! Всё успели!». И вдруг почувствовали удар, протёкший по всему телу: по велению ведьмы-тучи сверху упал ледяной водопад. Такого ливня мы на себе ещё никогда не ощущали. Выход один – строить убежище прямо посреди внутренности судна. Чья-то рука нашла нечто мятное, завёрнутое в рулет и, по-видимому, не впитывающее влагу. Никогда не могли представить, что будем так рады обычному брезенту!
Раскрыли это большое одеяло, спрятались под него и, укрывшись внизу, затихли. Так и сидели, ожидая очередного громового сюрприза природы. Ничего. Переглянулись. Снова ничего. Вдруг – улыбка, одна, вторая... А ещё мгновенье – и дружно захохотали. Кто-то попросил, чтобы передали рюкзак с баранками. Угощались сухариками, смачно жевали ароматную яблочную пастилу, совершенно не думая о том, что будет дальше, куда шёл карбас (нам-то не было видно, «замурованным» под брезентом), одолеет ли он в итоге тучу, и что происходило за пределами уютного домика, спрятавшего от нас мир и долгожданный лик Кондострова. Теперь уже, однако, лик другой его стороны.
Спустя какое-то время мы увидели наш остров по-другому. Чуть вдали от песчаного края, где край волны превращался в пенную прибрежную полоску, поднимались длинные струи пламени. Огонь из островного леса будто звал нас. Рядом с костром стоял человек. Отшельник. Мы на его острове.
Когда седой дедушка-крест (житель уже изведанной противоположной стороны острова), ещё не столь измождённый страшными наблюдениями за страданиями людей, не потерял третью руку – среднюю перекладину, за Кондостровом тенью следовала отнюдь не завидная репутация. Он, казалось, был создан самой природой с единственной целью: перемещать человеческие души с реального берега в потусторонний мир мёртвых, подобно Харону. Но разве мать-природа могла так его изувечить, превратив величественный, уникальный остров в одинокую гробницу в водной пустыне? Именно человек переименовал Кондостров в замок Иф, откуда, как известно, спасся лишь один узник.
Спустя несколько лет судьба послала Кондострову другого человека, не похожего на его клеветников. Из душевно опустошенной земли, бывшей когда-то олицетворением тотального невезения, пришелец создал вселенную жизни.
«Спаситель» прибыл сюда шесть лет назад. За три года до этого собирался принять постриг в Соловецком монастыре. Позже отказался – не разрешили вернуться на остров. А без него никак.
Наша группа исследователей (и энтузиастов!), вооружившись болотными сапогами и ловко выпрыгнув из лодки на песчаное мелководье (берега у разных частей одного и того же острова могли быть как каменные, так и песчаные), сошла на берег в качестве послештормовых гостей. Оставалось предупредить хозяина и надеяться на его теплоту и тепло костра и, если повезёт, кружку горячего чая. Однако и мы прибыли не без «везения»: прежде чем отправиться в столь долгую дорогу по морю, заранее запаслись вкусностями. И самим подкрепиться, и с другими поделиться. Функцию переговорщика взял на себя наш капитан.
Через десять минут мы уже сидели вокруг костра, каждый с чашкой чая в продрогших руках. Не упуская из виду ломтик сыра и кусочек белого хлеба, я украдкой подсматривала за пришельцем, беседовавшим с капитаном. Голод, конечно, не тётка, но уж как мне было интересно! Когда ещё встретишь поморского «инопланетянина»!
Владимир – не типичный монах-отшельник. Из одежды только чёрная шапочка заставляла вспомнить о монашеском одеянии. Дыра на правом рукаве клетчатой рубахи, потёртые армейские штаны да голые ступни (валенки надевал в конце декабря, не раньше) – ничего более не выдавало в нём дикости. Его руки были наполнены невидимой силой, а широкие ладони своей могучестью напоминали медвежьи лапы. Нижняя часть лица закуталась в длинную и жёсткую, как шерсть зверя, бороду.
Хотя нас предупредили, что Володя, как его называли по-дружески, не любил, когда его отвлекали на разговор (тем более что нас прибыло человек пятнадцать – будь я отшельником, пусть и гостеприимным, это был бы тот ещё градус стресса!), захотелось всё-таки подобраться поближе, ведь мне не было видно лица. А внутреннему бунтарю, разбуженному любопытством, позарез зачем-то понадобились чужое лицо и чужая тайна.
Встав с бревна, покоившегося вблизи самодельного очага, я направилась к бережному лесу, тому самому, который хорошо виден с моря, и нечаянно столкнулась с Володей. Он проходил мимо с чёрным от сажи кипятильником и подливал гостям чаю. Я быстро заглянула ему в глаза. А получилось, что увидела один.
Самым поразительным во внешности жителя необитаемого Кондострова оказался загадочный ярко-голубой правый глаз, который светился изнутри, словно в центре организма включили фонарик, и его светлый луч тёк по тонкому проводу, подсвечивая насыщенную цветную радужку. Этот взгляд прожигал, и забывалось, что смотрел человек. Пронзительно горело око, но непонятно было, кто его настоящий владелец и кто на самом деле через него даже не видел, а просвечивал вас.
Меня как будто обожгли этим глазом, до чего он был ярким (потом оказалось, что не только я заметила эту странность). Захотела полюбопытствовать – получи! Вот тебе на твоё бунтарство! Вот тебе наказание – секундное ослепление! А мой бунтарь радовался. В душе у него фейерверком искрился восторг, зажжённый брошенной ему во взгляд, неизвестно кем рождённой искрой счастья.
Что же другой глаз? Левый не шевелился. Он спал под застывшим веком. Почему? Никто не знал точно. Возможно, он просто однажды осознал, что стремительного сияния его брата будет достаточно для того чтобы прочитать как переживания и замыслы, скрытые в сердцах редких гостей, так и молитвы, строки которых горели в течение двух тысяч лет нетленным пламенем, а потому их нетрудно было разглядеть в темноте возведённой собственными руками избушки, в чьём окошке мерцают треугольные огоньки монастырских свечек.
Вот так подумал сосед волшебного правого глаза, сладко закрылся и тихо ушёл от внешнего мира, повторив таким образом судьбу своего хозяина. А в чём заключается судьба, связанная с островом?
Не зря говорят: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». То же самое с именем человека. Владимир означает «владеющий миром». Вот и получилось, что пришёл новый Робинзон Крузо на землю, где живут строгие и молчаливые лиственницы. Стал колоть дрова, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. Построил избу. Затем – часовню. И всё, что дал ему его труд, – его владения и дом. Более того – его свобода и счастье.
После обеда я спрашивала у своих друзей, новоиспечённых «островитян», как они считали, свободен ли Владимир (это догорали угольки любопытства). «Не знаю, есть ли у него жена». «Неизвестно, испытывал ли он когда-нибудь настоящую любовь». «Не слышал, чтобы он рассказывал о своей жизни». Но я спрашивала не про это. Кто-то упомянул про свободу мышления.
Стала спрашивать иначе. Счастлив ли Володя-отшельник? Вот ответы. «Этот человек прошёл на лодке почти всё Белое море. Он был счастлив, когда ему подарили новую лодку – старая была вся в заплатах». «Живёт отшельником не ради пафоса. Он принимает жизнь такой, какая она есть. «Не прислали продукты (несмотря на то, что Владимир ушёл из Соловецкого монастыря, отношения сохранились хорошие, монастырь привозит еду на остров) – ничего страшного». Мол, не пропаду». Увидели по-разному.
Уже после нашего неожиданного визита на большой земле я спросила про свободу и счастье у капитана. Ответил, что, по словам Владимира, он будучи на острове счастлив, и что он, по мнению капитана, отшельник, выбрал путь абсолютной свободы. Счастье и свобода – так совпало в отдельной судьбе, в которую случай приоткрыл нашему карбасу дверь.
Владимир воздвиг крест. Сейчас их два на Кондострове. Старый, на одной стороне острова, покоится на мёртвом обрыве, в который нещадно вгрызается рассерженное штормом море. А свежий, красный, обнимаемый солнцем, находится на другом, песчаном берегу, где подступающая жемчужная пена целует подножие острова, пытаясь смыть кровь с беломорских стигматов.
И хотя печальные страницы истории отпечатались на коже Кондострова, он всегда будет чувствовать боль, исходящую из глубоких ран прошлого, отныне он свободен от цепей, которые в течение долгого времени связывали его с позорным клеймом палача. Остров дышит.
Как бы мы ни хотели, пора прощаться. Володя провожал нас, подвернув штаны и погрузив колени в воду.
Карбас уже далеко отошёл от берега. Мы поднимали ладони в воздух и «сигналили» Володе, слыша доносившееся в ответ: «До свидания!» Будто это свидание скоро произойдёт. Я подняла голову и увидела тонкое облако в виде стрелы, указывающее на Кондостров. Не успели мы отплыть, как наш капитан сказал, что забыл оставить Володе (на всякий случай) кнопочный телефон (только такие ловят связь в северных широтах) и свой номер. Повернула голову… К нам уже бежал Володя с чайником, думал, мы за ним возвращаемся. Мы ему – номер, нацарапанный карандашом на бумажке, он нам – чайник.
Вновь уплываем. А Володи уже и нет на берегу. Отпустил нас отшельник, хозяин острова, растворившись в лесу лиственниц.
Представляю теперь Володю и думаю, что в жизни ничего не случайно. Даже его имя – Владимир – и то не случайно. Он действительно Владимир – «владеющий миром». Его мир – это остров. Он свободен на этом острове, он солнце этого острова. Он свободен на острове, где отнималась свобода, и где свободу могла дать лишь вера. А теперь он первый свободный человек, который всё делает сам на этом острове, часовню построил, дрова колит, крест поставил – самое главное. И где раньше вера была хоть каким-то способом отвлечься, поверить в свободу, наконец остров подарил эту свободу хотя бы одному человеку, что уже много. Остров узников стал островом свободного и счастливого человека. Остров переродился. Свидетельство – новый красный свежий крест. Символ воскрешения Кондострова. Таким его запомнили и мы.
Мы тоже переродились. Сначала нам открылось старое лицо, а потом мы увидели новое. И Кондостров для нас – не замок Иф, где теплится ненависть и месть, а остров, оживлённый, возрождённый трудом Робинзона Крузо – человеком, знающим Библию, слышащим Бога, настоящим человеком.
Предполагаю, что раньше, до этой встречи, никто из нас не видел свободу так близко. Я и теперь мысленно воображаю, как она ходит босиком по берегу Белого моря и, одинокая, бродя, улыбается обманчивому, далёкому от Кондострова северному солнцу – что оно знает о счастье!
Два удава
Жара душила Рим. Очередь, похожая на длинную змею, затаившуюся в тени пиний, туго обняла семью кольцами ветхое тело Колизея. Кого только не было в очереди, какие только языки не перекатывались из кольца в кольцо: французский, немецкий, английский, русский, испанский, арабский… Весь мир, казалось, превратился в огромного удава, изнывавшего от духоты.
Между кругами змеиного туловища прохаживались продавцы, усиленно размахивая руками. В каждой – по бутылке воды. Пластик отражал пронзающие его лучи, поблёскивая белыми пятнами. Они так и били своим сиянием по удаву. Но он медленно полз, перегоняя кольцо за кольцом. Он охотник за впечатлениями. Ему нужна добыча.
Голова уже заползла внутрь, рассыпавшись на отдельных людей. Однако, пройдя через вход, прорубленный когда-то давно, люди превращались в массу. Теперь она не душила, а обгладывала амфитеатр, как паразит, выпивающий жизненные соки из организма.
Колизей рассыпался. Тело становилось пылью. Этой пылью дышала ненасытная масса пустых глаз. Люди легко, с бесчувственными лицами топтали древность, нарушая её покой. «Я не заслужил смерти. Я буду таять, а они – топтать меня», – думал старый гигант.
Раньше к нему тоже приползал удав. И он превращался в массу. Но какой это был удав! Какая масса! Кем был он, Колизей! Гордым. Сильным. Жестоким. Где теперь прошлое восхищение? «Я постарел, безобразно обветшал. А этот новорожденный удав ползёт полюбоваться – чем! – моей старостью. И он восхищается! Восхищается, не задумываясь, что я немощен, что одна из моих стен целиком сделана из кирпича… Пусть я рассыплюсь, но я, я – Колизей! – из кирпича?.. А внутри – что там ищет удав, что он там хочет увидеть? Что видит? Ничего! Император, жертва, толпа. Так было, когда был я. Я должен был умереть с последним тираном, пусть он жил бы ни в Риме. Почему он ещё не пришёл на землю и не забрал мою душу? Одну мою душу? Если есть на свете справедливость, значит, она должна относиться и ко мне.
Кто знает, может, именно справедливость и обрекла меня на жалкое бессмертие, хотела, чтобы я смирился, чтобы меня разрушало время, а те, кого я убивал, унижали меня, приращивая к моему телу кирпичи, а потом восхищались этим унижением изнутри. Да, это была она, белая и холодная…»
Колизей закрыл глаза. Заснул. И увидел сон. Это пробудилось пережитое им прошлое.
Сон Colosseo
Толпа оголодала. И озверела. Улыбался император. Сейчас он, хозяин, бросит своему цепному псу мясо, напитанное кровью. Толпа поймёт, что насыщение исходит от него, человеко-бога в красной мантии, чья голова в золотой короне затмевает силу самого владыки солнца. Толпа никогда не насытиться. Оно – зверь. Цепной пёс всегда будет у ног всемилостивого правителя-кормильца. Император поднял ладонь вверх. Сверкнул тёмный изумруд.
Зашевелились тяжёлые двери. Зашипел горячий песок на арене.
В сердце манежа вывели пленницу. Белоснежная, как призрак. Прозрачная. Неземная.
Император поднял бровь. Голос рядом с левой рукой бархатно зашептал:
– Христианка, мой император.
– Она носит крест?
– Носила, мой император. Мои солдаты отобрали его.
– Кому она служит, чей культ признаёт?
– Бога, говорит, мой император. Бога не нашей власти.
– И что в её боге особенного?
– Милосердие.
Император помолчал.
– Верните ей её крест, пусть наденет. Надо же будет чем-то защищаться во время сражения. Мы всё-таки не звери, чтобы ни говорили наши… соседи.
Голос неуклюже захрипел. Попытка смеха.
– И ещё, – продолжил император. – Я хочу, чтобы другие невольники лицезрели нашу справедливость. Выпустить, но не калечить. Выполняйте.
* * *
Пленников выпустили, оградив сетью. Такая им досталась свобода. Такая она была.
Девушка неподвижная, задумчивая стояла под взглядами толпы. На чёрной нитке, свисавшей с её шеи, замер деревянный крестик.
Небо заплакало.
– Голос, подойди ко мне, – подозвал император.
Голос приблизился к господину.
– Где страх? – спросил император, указывая пальцем на живую белую богиню.
– Его принесёт лев, мой император.
Сжав кулак, император раздражённо выдавил, почти не открывая рта:
– Освободить чудовище.
«Посмотрим, что ей нашепчет её бог», – ухмыльнулся царь человекоподобия в человеческом обличье.
* * *
Решётку не успели открыть. Зверь вырвался сам. Его мучила сидевшая в нём агония. Даже дождь не мог потушить её злое пламя, пронзившее сердце животного. Агония его ослепляла, он не видел, что перед ним был не хищник. Настоящий хищник спрятался – им был император. Это он приказал протыкать льва ледяными кинжалами. Так взращивали ненависть. Теперь любой человек для льва был мучителем.
Зверь оглянулся. Толпа, толпа, везде люди, толпа! Он взревел от боли. «Бежать, бежать, куда угодно, только подальше от толпы», – вот желание узника. Лев ринулся вперёд. Впереди была она.
Шаг. Шаг. Ещё шаг. Девушка мягко шла навстречу мчащемуся, искусственно созданному злу. Седьмой шаг – последний рывок… и сорвался крестик! Закачался маятником, приближаясь то к одной судьбе, то к другой.
Девушка подходила к застывшему зверю, сильнее раскачивая крест. Лев больше не гневался. Хрупкая рука обернула чёрную нить вокруг мохнатой, толстой шеи. Погладила остывшую голову.
Четыре глаза двух жизней из сердца Колизея прожигали дух императора. Девушка посмотрела на льва. Прыгнул. Рык… Толпа ахнула.
* * *
Все ждали, когда восторжествует справедливость. И вот она восторжествовала. Белая и холодная, смешала кровь и золото. Императора густыми алыми струями облепила смерть.
Бывшие пленники превратились в окаменевшие статуи. Сила, таящаяся за хрупкостью и в самой хрупкости, пугала. Все с ужасом смотрели на мёртвое тело, девушку и льва.
Спокоен был лев – тоже император. Царь зверей. Он понял, что царь должен подчиниться справедливости, быть рядом с ней и мудро употреблять силу. Тогда он останется царем. Лев не тронул испуганных людей. И все же он понимал: справедливость жестока. Но чтобы не было жестокости, нужно думать над каждым своим словом, жестом, мыслью, даже взглядом. Тогда не придется смешивать кровь и золото с песком. Не придется уничтожать зло. К такому выводу пришел лев.
Девушка и лев ушли, растворившись в тумане. Унесли поверженного. Справедливость пришла и исчезла. Неизвестно, когда она придет в следующий раз и придет ли. На земле снова не будет справедливости, но это не значит, что ее приход никогда не наступит. «Верить в то, чего нет, бороться ради того, чего не существует, но может наступить». Каждый стоял и пытался понять: как это всё возможно соединить в человеческих умах? Как сердцам это всё впитать?
Дождь омыл пустой скелет амфитеатра. Ночь похоронила уставший город.
Крест
Рассыпался удав. Потухли шёпоты мира. Зажгли фонари. Колизей любил ночь. Она прятала его позорную, как он считал, кирпичную кладку. И ещё кое-что скрывала за чёрной вуалью. Печать. Клеймо. Крест.
На одной из земляного, почти трупного, цвета стен зияет бежевое, как кожа, пятно. Часть этой мраморной кожи – имя, часть – выпуклый крест.
Кусок живой кожи с бежевыми прожилками – это то, что сделал в своё время Папа Римский Бенедикт XIV. Видимо, он прочувствовал ту давящую ауру, царящую в Колизее… Сейчас люди приходят сюда лишь ради достопримечательности. Когда-то они хотели азарта.
Современному человеку даже азарта не хочется. Но он не задумывается о том, что Колизей – это не музей. Это гробница страданий, мысленных и физических, убийств, замученных неспокойных душ. Человек вновь огрубел, иначе окольцовывал ли бы удав каждый день этот источник древнего зла? Зачем подходить так близко? Что тянет человека туда, во внутрь? Какая энергия?
А Бенедикт, снимая позор с этого места, выжег клеймо на спине палача. Один крест на все призраки амфитеатра, который стал кладбищем без могилы и без надписи: «Здесь похоронен Colosseo»… не смирившийся с волей Папы.
Он по-прежнему видит сны. В снах – императора. В кошмарах – побеждённого императора. По-прежнему крест жжёт его спину. Колизей разрушается. Он знает, что несмотря на отсрочку, коней придёт, и он боится, что в далёком будущем, когда забудутся имена правителей и слава амфитеатра Флавиева, от него, Колизея, ничего не останется, кроме этого, похожего на живую кожу, креста. Он умрёт, уже умирает, а табличка не падает, и та стена-спина, что служит ей опорой, как нарочно, держится под ударом времени. Страшно Колизею осознавать, каков его конец. Пока он видит только эту точку, зерно которой в его сердце. Оно бьётся. Эти толчки слышит змей и, заползая, питает Колизей новыми страхами, напоминая, что он потух, как свеча, и нет ему возрождения.
Но крест-то уже впечатан в стену. Колизей уже спасён. Бессмертие ему дано, чтобы понять, а не отнять.
* * *
Колизей любил ночь. Уползал змей. Колизей забывал о тревогах и чувствовал себя дышащим. Как будто ночь разрушала старое проклятие. Разрушалась гнилая сердцевина, появлялась свежая оболочка. Что-то снаружи грело его, защищая от прохлады лунного света.
Змеиный шёпот исчез. Пришла тишина. Колизей всё чаще её слышал. И, кажется, впервые за свою долгую жизнь постепенно начинал привыкать к новому ощущению. Он мягко улыбался.
ОСТРОВ ДЫШИТ
Жёлтая голова деревянного дракона, служившая носом карбаса, грызла мутное пятно, совсем не кстати растёкшееся по голубому хрусталю северного неба. За кормой сердито грохотал «хвост» поморского судна. Это рычал мотор, пытаясь прогнать незваную гостью с горизонта, а вместе с ней – и шторм, щедрый на солёные брызги. А туча сердилась – её, как злую фею из сказки, забыли пригласить на праздник, каким должно было стать трёхчасовое путешествие на Кондостров – один из самых дальних островов Онежской губы.
Толстое облако тяжелело, чернея от гнева, призывало ветер на помощь в борьбе с кораблём. Вот только забыла колдунья, что не ему бояться её губительных чар – карбас на то и карбас, чтобы побеждать непогоду. Пришлось старой туче отступить, и нам наконец удалось причалить к каменному берегу, не боясь столкновения с бурей и скалами.
В годы репрессий на островах Белого моря, помимо Соловецких, существовали лагеря. Там содержались заключённые. Антирелигиозная пропаганда достигала края света. В то же время на возвышенностях суши, кусками разбросанной среди стальных волн, появлялись кресты. Как ни странно, никто не стремился их разрушить. Деревянные распятия вырастали из скал, словно это было кому-то нужно.
Затерянным в океане униженным и оскорблённым случалось проходить мимо одной из таких самодельных Голгоф. Иногда они зачем-то поднимали к ней голову, будто искали что-то и одновременно осознавали, что потеряли. Каждый в той или иной степени – как кому удавалось в условиях невыживания – понимал, что он безвозвратно изувечен. Не палачом, будь то колючий ветер или человек, но впечатлениями от жизни на острове.
Однако рано или поздно ему, выжатому почти до последней жилы, открывалось: не его тело прижато гвоздями. А значит, он может надеется. Бессознательно и просто, ведь на искренность не хватало сил, а разум постепенно засыпал – недостаток необходимых веществ, витаминов, в конце концов, отпечатывается и на способности мыслить, и на человечности. Тем не менее, вера не умирала. Да, превращалась в рефлекс, но продолжала жить…
Один из её символов до сих пор стоит на Кондострове – одном из самых дальних в Онежской губе. Крест, вшитый в красный камень и опоясанный пепельными досками, – высокий и старый, с двумя ветхими перекладинами наверху и внизу. Та, что средняя, отпала. Теперь на её месте нет ничего, кроме пустоты, зияющей чёрным бесплотным квадратом. Он шрамом запечатлелся на саване, сотканном из невесомого пуха облаков и теперь укрывающим холодное сапфировое небо.
К нему мы и шли сначала по морю, а потом по скользким от тонких салатовых нитей-водорослей прибрежным валунам. Наша старая соседка тоже не дремала. Вернувшаяся из-за спин сосен-великанов туча, не желая сдаваться и пускать нас к цели, начинала бросать первые стрелы дождя.
Дойти до креста мало: нужно ещё спуститься немного вниз от него и сфотографировать место, откуда добывали здесь, на бывшей каменоломне, основу для памятника Петру Великому в Архангельске. Вот такое оно наше научное упрямство! Наблюдая за неспешными, но твёрдыми шагами экспедиционной группы, злая фея совсем разъярилась. И как только мы очутились под тенью древнего, седого, высокого креста, упала туча, упало небо, проснулся взрыв!
Жуткое эхо разлетелось по округе. Рассердились на нас поморские духи грозы! Светлые куски неба серели, сливаясь с рваными облаками. Пробуждался шторм. За всё время путешествия впервые стало по-настоящему страшно. Хотелось как можно быстрее нажать на кнопку фотоаппарата и мчаться обратно в карбас, способный победить, как нам казалось, любую стихию.
Выполнив экспедиционное задание, через несколько минут мы оказались уже в лодке. Успели выдохнуть: «Слава Богу! Всё успели!». И вдруг почувствовали удар, протёкший по всему телу: по велению ведьмы-тучи сверху упал ледяной водопад. Такого ливня мы на себе ещё никогда не ощущали. Выход один – строить убежище прямо посреди внутренности судна. Чья-то рука нашла нечто мятное, завёрнутое в рулет и, по-видимому, не впитывающее влагу. Никогда не могли представить, что будем так рады обычному брезенту!
Раскрыли это большое одеяло, спрятались под него и, укрывшись внизу, затихли. Так и сидели, ожидая очередного громового сюрприза природы. Ничего. Переглянулись. Снова ничего. Вдруг – улыбка, одна, вторая... А ещё мгновенье – и дружно захохотали. Кто-то попросил, чтобы передали рюкзак с баранками. Угощались сухариками, смачно жевали ароматную яблочную пастилу, совершенно не думая о том, что будет дальше, куда шёл карбас (нам-то не было видно, «замурованным» под брезентом), одолеет ли он в итоге тучу, и что происходило за пределами уютного домика, спрятавшего от нас мир и долгожданный лик Кондострова. Теперь уже, однако, лик другой его стороны.
Спустя какое-то время мы увидели наш остров по-другому. Чуть вдали от песчаного края, где край волны превращался в пенную прибрежную полоску, поднимались длинные струи пламени. Огонь из островного леса будто звал нас. Рядом с костром стоял человек. Отшельник. Мы на его острове.
Когда седой дедушка-крест (житель уже изведанной противоположной стороны острова), ещё не столь измождённый страшными наблюдениями за страданиями людей, не потерял третью руку – среднюю перекладину, за Кондостровом тенью следовала отнюдь не завидная репутация. Он, казалось, был создан самой природой с единственной целью: перемещать человеческие души с реального берега в потусторонний мир мёртвых, подобно Харону. Но разве мать-природа могла так его изувечить, превратив величественный, уникальный остров в одинокую гробницу в водной пустыне? Именно человек переименовал Кондостров в замок Иф, откуда, как известно, спасся лишь один узник.
Спустя несколько лет судьба послала Кондострову другого человека, не похожего на его клеветников. Из душевно опустошенной земли, бывшей когда-то олицетворением тотального невезения, пришелец создал вселенную жизни.
«Спаситель» прибыл сюда шесть лет назад. За три года до этого собирался принять постриг в Соловецком монастыре. Позже отказался – не разрешили вернуться на остров. А без него никак.
Наша группа исследователей (и энтузиастов!), вооружившись болотными сапогами и ловко выпрыгнув из лодки на песчаное мелководье (берега у разных частей одного и того же острова могли быть как каменные, так и песчаные), сошла на берег в качестве послештормовых гостей. Оставалось предупредить хозяина и надеяться на его теплоту и тепло костра и, если повезёт, кружку горячего чая. Однако и мы прибыли не без «везения»: прежде чем отправиться в столь долгую дорогу по морю, заранее запаслись вкусностями. И самим подкрепиться, и с другими поделиться. Функцию переговорщика взял на себя наш капитан.
Через десять минут мы уже сидели вокруг костра, каждый с чашкой чая в продрогших руках. Не упуская из виду ломтик сыра и кусочек белого хлеба, я украдкой подсматривала за пришельцем, беседовавшим с капитаном. Голод, конечно, не тётка, но уж как мне было интересно! Когда ещё встретишь поморского «инопланетянина»!
Владимир – не типичный монах-отшельник. Из одежды только чёрная шапочка заставляла вспомнить о монашеском одеянии. Дыра на правом рукаве клетчатой рубахи, потёртые армейские штаны да голые ступни (валенки надевал в конце декабря, не раньше) – ничего более не выдавало в нём дикости. Его руки были наполнены невидимой силой, а широкие ладони своей могучестью напоминали медвежьи лапы. Нижняя часть лица закуталась в длинную и жёсткую, как шерсть зверя, бороду.
Хотя нас предупредили, что Володя, как его называли по-дружески, не любил, когда его отвлекали на разговор (тем более что нас прибыло человек пятнадцать – будь я отшельником, пусть и гостеприимным, это был бы тот ещё градус стресса!), захотелось всё-таки подобраться поближе, ведь мне не было видно лица. А внутреннему бунтарю, разбуженному любопытством, позарез зачем-то понадобились чужое лицо и чужая тайна.
Встав с бревна, покоившегося вблизи самодельного очага, я направилась к бережному лесу, тому самому, который хорошо виден с моря, и нечаянно столкнулась с Володей. Он проходил мимо с чёрным от сажи кипятильником и подливал гостям чаю. Я быстро заглянула ему в глаза. А получилось, что увидела один.
Самым поразительным во внешности жителя необитаемого Кондострова оказался загадочный ярко-голубой правый глаз, который светился изнутри, словно в центре организма включили фонарик, и его светлый луч тёк по тонкому проводу, подсвечивая насыщенную цветную радужку. Этот взгляд прожигал, и забывалось, что смотрел человек. Пронзительно горело око, но непонятно было, кто его настоящий владелец и кто на самом деле через него даже не видел, а просвечивал вас.
Меня как будто обожгли этим глазом, до чего он был ярким (потом оказалось, что не только я заметила эту странность). Захотела полюбопытствовать – получи! Вот тебе на твоё бунтарство! Вот тебе наказание – секундное ослепление! А мой бунтарь радовался. В душе у него фейерверком искрился восторг, зажжённый брошенной ему во взгляд, неизвестно кем рождённой искрой счастья.
Что же другой глаз? Левый не шевелился. Он спал под застывшим веком. Почему? Никто не знал точно. Возможно, он просто однажды осознал, что стремительного сияния его брата будет достаточно для того чтобы прочитать как переживания и замыслы, скрытые в сердцах редких гостей, так и молитвы, строки которых горели в течение двух тысяч лет нетленным пламенем, а потому их нетрудно было разглядеть в темноте возведённой собственными руками избушки, в чьём окошке мерцают треугольные огоньки монастырских свечек.
Вот так подумал сосед волшебного правого глаза, сладко закрылся и тихо ушёл от внешнего мира, повторив таким образом судьбу своего хозяина. А в чём заключается судьба, связанная с островом?
Не зря говорят: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». То же самое с именем человека. Владимир означает «владеющий миром». Вот и получилось, что пришёл новый Робинзон Крузо на землю, где живут строгие и молчаливые лиственницы. Стал колоть дрова, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. Построил избу. Затем – часовню. И всё, что дал ему его труд, – его владения и дом. Более того – его свобода и счастье.
После обеда я спрашивала у своих друзей, новоиспечённых «островитян», как они считали, свободен ли Владимир (это догорали угольки любопытства). «Не знаю, есть ли у него жена». «Неизвестно, испытывал ли он когда-нибудь настоящую любовь». «Не слышал, чтобы он рассказывал о своей жизни». Но я спрашивала не про это. Кто-то упомянул про свободу мышления.
Стала спрашивать иначе. Счастлив ли Володя-отшельник? Вот ответы. «Этот человек прошёл на лодке почти всё Белое море. Он был счастлив, когда ему подарили новую лодку – старая была вся в заплатах». «Живёт отшельником не ради пафоса. Он принимает жизнь такой, какая она есть. «Не прислали продукты (несмотря на то, что Владимир ушёл из Соловецкого монастыря, отношения сохранились хорошие, монастырь привозит еду на остров) – ничего страшного». Мол, не пропаду». Увидели по-разному.
Уже после нашего неожиданного визита на большой земле я спросила про свободу и счастье у капитана. Ответил, что, по словам Владимира, он будучи на острове счастлив, и что он, по мнению капитана, отшельник, выбрал путь абсолютной свободы. Счастье и свобода – так совпало в отдельной судьбе, в которую случай приоткрыл нашему карбасу дверь.
Владимир воздвиг крест. Сейчас их два на Кондострове. Старый, на одной стороне острова, покоится на мёртвом обрыве, в который нещадно вгрызается рассерженное штормом море. А свежий, красный, обнимаемый солнцем, находится на другом, песчаном берегу, где подступающая жемчужная пена целует подножие острова, пытаясь смыть кровь с беломорских стигматов.
И хотя печальные страницы истории отпечатались на коже Кондострова, он всегда будет чувствовать боль, исходящую из глубоких ран прошлого, отныне он свободен от цепей, которые в течение долгого времени связывали его с позорным клеймом палача. Остров дышит.
Как бы мы ни хотели, пора прощаться. Володя провожал нас, подвернув штаны и погрузив колени в воду.
Карбас уже далеко отошёл от берега. Мы поднимали ладони в воздух и «сигналили» Володе, слыша доносившееся в ответ: «До свидания!» Будто это свидание скоро произойдёт. Я подняла голову и увидела тонкое облако в виде стрелы, указывающее на Кондостров. Не успели мы отплыть, как наш капитан сказал, что забыл оставить Володе (на всякий случай) кнопочный телефон (только такие ловят связь в северных широтах) и свой номер. Повернула голову… К нам уже бежал Володя с чайником, думал, мы за ним возвращаемся. Мы ему – номер, нацарапанный карандашом на бумажке, он нам – чайник.
Вновь уплываем. А Володи уже и нет на берегу. Отпустил нас отшельник, хозяин острова, растворившись в лесу лиственниц.
Представляю теперь Володю и думаю, что в жизни ничего не случайно. Даже его имя – Владимир – и то не случайно. Он действительно Владимир – «владеющий миром». Его мир – это остров. Он свободен на этом острове, он солнце этого острова. Он свободен на острове, где отнималась свобода, и где свободу могла дать лишь вера. А теперь он первый свободный человек, который всё делает сам на этом острове, часовню построил, дрова колит, крест поставил – самое главное. И где раньше вера была хоть каким-то способом отвлечься, поверить в свободу, наконец остров подарил эту свободу хотя бы одному человеку, что уже много. Остров узников стал островом свободного и счастливого человека. Остров переродился. Свидетельство – новый красный свежий крест. Символ воскрешения Кондострова. Таким его запомнили и мы.
Мы тоже переродились. Сначала нам открылось старое лицо, а потом мы увидели новое. И Кондостров для нас – не замок Иф, где теплится ненависть и месть, а остров, оживлённый, возрождённый трудом Робинзона Крузо – человеком, знающим Библию, слышащим Бога, настоящим человеком.
Предполагаю, что раньше, до этой встречи, никто из нас не видел свободу так близко. Я и теперь мысленно воображаю, как она ходит босиком по берегу Белого моря и, одинокая, бродя, улыбается обманчивому, далёкому от Кондострова северному солнцу – что оно знает о счастье!
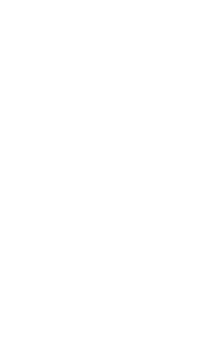
Зоя ФЕДОРЕНКО-СЫТАЯ
Родилась, училась и работала в Ташкенте. Закончила ТашГУ по специальности «физическая электроника». Сейчас проживаю в Москве. После переезда в Москву в силу ряда обстоятельств несколько лет работала риэлтором (параллельно экстерном закончила юрфак МГСУ). Наиболее интересные риэлторские сделки послужили основой цикла рассказов «Записки риэлтора», опубликованного на сайте Проза.ру и в соцсетях. Несколько моих рассказов были опубликованы в Альманахе РСП в разделах «Юмор» и «Проза». Принимала участие в конкурсах РСП «Писатель года 2022» и «Писатель года 2023», по итогам которых Постановлением Президиума РСП была награждена медалями, а также Пушкинской медалью.
Родилась, училась и работала в Ташкенте. Закончила ТашГУ по специальности «физическая электроника». Сейчас проживаю в Москве. После переезда в Москву в силу ряда обстоятельств несколько лет работала риэлтором (параллельно экстерном закончила юрфак МГСУ). Наиболее интересные риэлторские сделки послужили основой цикла рассказов «Записки риэлтора», опубликованного на сайте Проза.ру и в соцсетях. Несколько моих рассказов были опубликованы в Альманахе РСП в разделах «Юмор» и «Проза». Принимала участие в конкурсах РСП «Писатель года 2022» и «Писатель года 2023», по итогам которых Постановлением Президиума РСП была награждена медалями, а также Пушкинской медалью.
ЭВАКУАЦИЯ СЕМЬИ ФЕДОРЕНКО
ИЗ ХАРЬКОВА В ТАШКЕНТ
До войны Укрсахаросвеклотрест находился в Харькове, недавней столице Украинской ССР.
Иван Михайлович Федоренко закончил два института: народного хозяйства по экономическому факультету и сельскохозяйственный, оба с отличием и, проработав несколько лет в Наркомзёме Украины, в 1933 году был назначен Главным агрономом и завотделом Укрсвеклосахаротреста.
Сын в 1941 году был школьником (это мой отец), супруга, Сытая Елизавета Павловна, физик, вела научную и преподавательскую работу. В УФТИ ею была сделана и опубликована работа по магнетрону, ставшая классической и упоминавшаяся в учебниках. Она подготовила диссертацию, защиту которой назначили на… сентябрь 1941 года.
Но в сентябре уже было не до Учёных Советов… Разразилась война, сломавшая миллионы судеб.
Уже на третий день после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, был создан Совет по эвакуации учреждений, военных грузов, оборудования предприятий и населения. Учреждения в Харькове закрывались в связи с «временной консервацией», предприятия готовились к эвакуации. Была запланирована эвакуация и гражданского населения. Отправка людей проводилась централизованно через эвакуационные отделы городских и партийных органов управления. Всего к 20 октября 1941 года из Харькова было эвакуировано 56 санитарных поездов и 225 эшелонов с людьми. Самостоятельно же эвакуироваться гражданскому населению было практически невозможно: заранее оставить работу и уехать было нельзя, сразу бы обвинили в паникёрстве с соответствующими выводами, билеты на железную дорогу продавались строго по предписаниям и разрешениям на эвакуацию. А когда уже немцы стояли на пороге, людям было сложно в неразберихе выехать, да и не на чём: к товарнякам не подпускала охрана, боясь диверсантов, которых засылали немцы.
Прабабушка мне рассказывала, что они не могли понять, почему немцы усиленно бомбят церковь и парк около неё, а оказалось, что там был склад боеприпасов.
Харьковчане, живя рядом, этого не знали, а немцы знали!
Иван Михайлович Федоренко с первых дней войны занимался эвакуацией сахарных заводов Восточной Украины. Дело было спешное. Немцы продвигались очень быстро. Однажды, он чуть было не попал в окружение: увидев немецкие танки на дорогах, его водитель бросил машину и сбежал, ни Иван Михайлович, ни его помощник водить машину не умели и им пришлось выбираться пешком и на лошадях. Чтобы семья — жена и сын-школьник – могли эвакуироваться вместе с Трестом, Иван Михайлович оформил свою супругу Е. П. Сытую проводником товарного вагона с элитными семенами сахарной свёклы.
Елизавета Павловна Сытая взяла с собой в эвакуацию и двух младших сестёр с детьми, у которых не было другой возможности эвакуироваться: одна — учительница, муж был мобилизован на Черноморский флот, другая — врач, муж её — инженер, был эвакуирован неизвестно куда вместе с заводом, на котором работал, так срочно, что не успел даже попрощаться с семьёй.
Сёстры Сытые с детьми, запасшись на дорогу долгосрочными продуктами — салом и сухарями – уехали в эвакуацию в самом конце сентября, сами не зная куда, в Белый Свет.
Первоначально эшелоны направили в Купянск Харьковской области, куда в начале октября были эвакуированы из Харькова ЦК КП(б)У и Правительство Украины. До Харькова фронт докатился за два месяца. За город шли ожесточённые бои, так как Харьков являлся одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза и крупнейшим стратегическим узлом железных и автомобильных дорог. Его дважды отбивали у немцев и сдавали, в этих боях полегло много народу. Фронт долго стоял под Харьковом. Город был оккупирован 24 октября 1941 года. Пункт назначения эвакоэшелонов менялся по мере продвижения немецких войск на восток.
Тяжелым был этот путь… Постоянные бомбёжки на станциях и возле мостов, да и в пути на них постоянно пикировали немецкие бомбардировщики. Валуйки, Лиски, Поворино, Балашов… Там и сейчас видны глубокие воронки, тянущиеся непрерывными цепочками по обе стороны железнодорожного полотна. При бомбёжках поезд останавливался, и народ разбегался прятаться. Сёстры Сытые при бомбёжке разбегались в разные стороны, каждая со своим сыном, чтобы не погибнуть под одной бомбой сразу всем вместе. Цифры уехавших в эвакуацию и зарегистрированных по месту прибытия разнятся на несколько миллионов человек. Это те, кто пропал под бомбёжками.
Ближе к зиме начался холод, иней на стенах вагона. Из-за скудного и однообразного питания младший из детей — четырехлетний Володя, сын Анны Павловны, начал болеть, так как сало оказалось для него слишком тяжёлой пищей, и есть его он не мог, приходилось у местных для него покупать или выменивать что-то из одежды на подходящие ребёнку продукты: молоко, яйца, если удавалось, то курицу. Поезд продвигался медленно: из-за бомбёжек возникали заторы на путях, нужно было растаскивать разбитые вагоны, ремонтировать пути. На станциях в первую очередь давали зелёный свет воинским эшелонам и эшелонам со стратегически важными грузами, с большим трудом проводникам удавалось добиваться у железнодорожного начальства продвижения вагонов на магистраль с запасных путей, куда их постоянно загоняли.
К зиме вагоны с имуществом и работниками сахаротреста прибыли на станцию Богатое под Куйбышевом. Иван Михайлович Федоренко вместе со всем руководством Треста был направлен в Среднюю Азию для подготовки ко встрече оборудования, работников и изучения местных агротехнических условий. А эвакуированные эшелоны остались зимовать на ст. Богатое: люди разместились кто в теплушках вагонов, кто на квартирах у местных.
Со временем обнаружилась ещё одна проблема — довольствие выдавалось только на проводников, и когда у «пассажиров», которых полулегально взяли с собой новоиспечённые проводники, закончились запасённая провизия и деньги, они стали продавать из вагонов всё, что только можно было продать. Противостоять голодным людям, которым нечем кормить детей, было невозможно, а не довезти вверенное — тоже: по закону военного времени разговор был бы коротким. Но Елизавете Павловне удалось довезти почти всё, правда, уже без тары.
В Ташкент они прибыли в начале апреля, как раз к посевной. Население Ташкента за счёт эвакуированных выросло почти втрое. Эвакуированные рассказывали, что берега Салара в районе вокзала были сплошь застроены шанхаями — люди рыли землянки, лепили мазанки, строили себе жилища из подручных материалов.
Эвакуированных «сахарников» – работников Укрсахсвеклотреста – поселили в Ташкенте на ул. Гоголя 47, там тогда был театр оперетты, артисты которого жили во дворе театра в общежитиях барачного типа, вот их и уплотнили (позже в здании театра был кинотеатр «30 лет ВЛКСМ»). Посередине барака шёл широкий коридор, по обе стороны которого были двери в комнаты, у дверей стояли столики с примусами и керогазами. Семью Федоренко поселили в одну комнату — четверо взрослых и трое детей. У эвакуированных с собой ничего не было и Елизавета Павловна, сразу принявшись за устройство быта, как и положено физику, накрутила спираль из проволоки, продолбила канавки в кирпичах, и, подключив к сети, поставила кипятить чайник. Смотреть на это «чудо» — вода кипит на кирпичах — сбежался весь барак и артисты, прямо в сценических костюмах. На одной любопытной, но неосторожной актрисе загорелись перья боа, их потушили сразу, но на сцену она так и пошла, распространяя едкий запах горелых перьев.
В первое время эвакуированные ночевали даже в зрительном зале самого театра оперетты, сдвинув кресла после спектаклей, и на сцене. Хорошо ещё что ташкентский климат позволял спать и во дворе. Потом как-то расселились посвободней, что-то подстроили, кто-то ушёл на квартиру к местным.
Сам Иван Михайлович Федоренко был всё время в разъездах, по делам Сахсвеклостреста. Сразу же, весной 1942 года, сахарной свёклой, новой для Средней Азии культурой, засеяли поливные поля, первыми в совхозе «Малек» Сырдарьинской области, где Главным агрономом был Ф. Гребенник, и к осени 1942 года был получен первый урожай.
Эвакуированные свекловоды были в большом затруднении: климат и почвы в Средней Азии были не те, что на Украине, а у местных дехкан не было опыта по выращиванию сахарной свёклы. В связи с этим возникало много вопросов. И. М. Федоренко написал брошюру-инструкцию, а позже он выпустил книгу по выращиванию, хранению, борьбе с вредителями и переработке сахарной свёклы. Там был обобщён опыт первого года на новых землях и собраны рекомендации агрономов и учёных-почвоведов обо всём, что касалось сахарной свёклы.
Кроме работы в Тресте с первых чисел февраля 1942 года Иван Михайлович исполнял обязанности директора строящегося сахарного завода в г. Янги-Юле Ташкентской области и занимался организацией его монтажа. Прибывающие эшелоны быстро разгружались и сразу же начинался скоростной монтаж оборудования, люди работали круглосуточно, в три смены, часто отказываясь от выходных.
Елизавета Павловна Сытая в первый же месяц устроилась работать ассистентом на кафедру общей физики в эвакуированный в Ташкент Харьковский транспортный институт: нужно было зарабатывать продуктовые карточки и деньги на обустройство, с собой ведь ничего не привезли. Всё, годами нажитое, было в Харькове заперто в квартире на ключ и всё! Одна сестра Е. П. Сытой, Александра Павловна, устроилась работать в школу учительницей, другая — Анна Павловна — врачом в госпиталь, через полгода, случайно узнав, что завод, на котором работал её муж, эвакуирован в Барнаул, она по вызову уехала с сыном к нему. Школьники, пропустив год учёбы, пошли в школу в класс с ускоренной, за счёт сокращения гуманитарных предметов, программой, чтобы догнать сверстников.
Время было очень тяжёлым. Елизавета Павловна рассказывала, что транспорт работал плохо, приходилось идти пешком, выходить рано, чтобы успеть к первой паре и на улицах приходилось видеть ужасную картину: ехали узбекские арбы с большими колёсами и собирали на улицах умерших за ночь от голода. У многих эвакуировавшихся не было никаких документов — не успели взять с собой или бумаги пропали под бомбёжкой. И люди оставались без возможности устроиться на работу, а, значит, и без карточек…
У работающих тоже было с питанием туговато. Крупные предприятия по воскресеньям организовывали специальный грузовик для желающих, чтобы люди могли подкормиться: поехать в степь и набрать там черепах для черепахового супа.
В Узбекистане сахарная свёкла многих спасла от голода, как приезжих, так и местных. И население Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областей ещё и в семидесятые-восьмидесятые годы с благодарностью вспоминало об этом. Сахарная свёкла частично реализовывалась населению, и люди научились готовить из неё различные блюда, кроме того, выписывались работникам побочные продукты производства сахара, содержащие много питательных веществ: жом (-0,3% сах), ботва на корм скоту, мелясса — кормовая патока, содержащая большой процент сахара.
В марте 1943 года Узбсахсвеклотресту из Наркомата ПП СССР было дано строгое указание развивать дополнительные отрасли хозяйства: огородное, садоводное, рыбное, пчеловодное, откорм птицы для работников и плана поставок.
На выращивании сахарной свёклы в Узбекистане специализировались Самаркандская, Ферганская, Ташкентская и Кашкадарьинская области. В Джизакском и Пастдаргомском районах собрали особенно богатый урожай.
В феврале 1943 года после перевода Ронжина М.И. на другую работу, Федоренко Ивана Михайловича назначили Управляющим Узбсахсвеклотрестом, тогда же ему с семьёй выделили квартиру на Первомайской 75: одну комнату с просторной прихожей, в которой можно было организовать кухню. Комнату сразу же перегородили и получилось две комнаты, хоть и маленькие. По тем временам это были прекрасные условия. Водопровод и туалет — в общем дворе, баня — через три квартала.
Несмотря на все трудности первого года войны, в начале 1943 года в Узбекистане уже работали четыре сахарных завода: в Коканде, Янги-Юле, Зирабулаке и Красногвардейске.
В конце 1943 года, когда Харьков уже был освобождён от немцев, часть работников Треста отправили на Украину, где надо было возрождать сахарную промышленность. Заводы и, естественно, их работников из Узбекистана обратно не отпустили, 1-й Секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Усман Юсупович Юсупов специально ездил в Москву, требуя не оголять Республику, сохранить кадры промышленных предприятий, эвакуированные в Узбекистан. Тем самым высоко поднял развитие промышленности в Узбекистане. Уехали в основном те, кто с производством связан не был и эвакуировавшиеся самотёком.
И. М. Федоренко в 1944 году отзывали на работу в Москву, но его Республиканское руководство не отпустило. Потом в 1948 году Министр пищевой промышленности СССР В. П. Зотов приглашал И. М. Федоренко на должность начальника «Главсахара» НК ПП СССР с правами замминистра. Но его опять не отпустило партийное руководство УзССР.
Иван Михайлович Федоренко проработал в должности Управляющего Узбсахсвеклотреста до 1950 года, до избрания его Первым заместителем Председателя Ташоблисполкома.
Елизавета Павловна, когда Харьковский транспортный институт в 1944 году уезжал обратно в Харьков, получила приглашение уехать с ним, а также она получила вызовы вернуться и ещё от двух институтов, в которых работала до войны, но ясно, что её мужа с работы никто бы не отпустил. Когда стало понятно, что семья остаётся в Ташкенте надолго (а оказалось навсегда), Елизавета Павловна стала искать возможность заниматься научной работой. Она была приглашена на кафедру экспериментальной физики физмата С.А.Г.У., но уволиться из транспортного было очень трудно: в те времена ни о каких «собственных желаниях» не могло быть и речи. Тем более, транспортный институт считался военизированным, и преподаватели даже были обязаны ходить на занятия в железнодорожных мундирах. Елизавета Павловна начала работать в С.А.Г.У. с 1 сентября 1947 года ассистентом кафедры экспериментальной физики, по совместительству оставаясь в транспортном институте ассистентом кафедры общей физики. Только в 1948 году ей удалось уйти из транспортного института, и она получила возможность, кроме учебной работы, заниматься наукой. Вскоре защитила диссертацию. Елизавета Павловна Сытая проработала доцентом и замзавкафедрой, Зав проблемной лабораторией «Радиофизика», а в 1966-1968 гг. — Завкафедрой физической электроники на физфаке, в ТашГУ до выхода на пенсию в 1974 году.
И. М. Федоренко в 1952-1953 гг. работал Первым Зам. Министра пищевой промышленности УзССР. В 1953 году, когда нужно было организовывать Министерство культуры, объединяющее в себе учреждения культуры, высшего и специального среднего образования, полиграфии, печати, кинематографии, он, как опытный организатор и энергичный, деловой человек, был назначен Первым заместителем Министра культуры и проработал Замминистра культуры до выхода на пенсию в 1971 году. Был награждён тремя Орденами Трудового Красного Знамени — в 1946, 1950 и в 1967 гг. И. М. Федоренко награждался четырежды Почётными Грамотами ВС УзССР, званием Отличник Министерства культуры СССР, Отличник Госкомитета Совета Министров СССР по кинематографии, Неоднократно избирался Депутатом различных уровней, в том числе Депутатом Верховного Совета УзССР двух созывов, членом бюро обкома, горкома и ЦК партии.
Сахарная промышленность в Узбекистане процветала до 1953 года, когда было руководством страны принято решение засеивать всё хлопком. Сахарные заводы были перепрофилированы. Кокандский сахарный завод стал масложиркомбинатом, Янги-Юльский — кирпичным заводом… Специалисты направлены на работу на сахарные заводы Украины и Молдавии.
ИЗ ХАРЬКОВА В ТАШКЕНТ
До войны Укрсахаросвеклотрест находился в Харькове, недавней столице Украинской ССР.
Иван Михайлович Федоренко закончил два института: народного хозяйства по экономическому факультету и сельскохозяйственный, оба с отличием и, проработав несколько лет в Наркомзёме Украины, в 1933 году был назначен Главным агрономом и завотделом Укрсвеклосахаротреста.
Сын в 1941 году был школьником (это мой отец), супруга, Сытая Елизавета Павловна, физик, вела научную и преподавательскую работу. В УФТИ ею была сделана и опубликована работа по магнетрону, ставшая классической и упоминавшаяся в учебниках. Она подготовила диссертацию, защиту которой назначили на… сентябрь 1941 года.
Но в сентябре уже было не до Учёных Советов… Разразилась война, сломавшая миллионы судеб.
Уже на третий день после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, был создан Совет по эвакуации учреждений, военных грузов, оборудования предприятий и населения. Учреждения в Харькове закрывались в связи с «временной консервацией», предприятия готовились к эвакуации. Была запланирована эвакуация и гражданского населения. Отправка людей проводилась централизованно через эвакуационные отделы городских и партийных органов управления. Всего к 20 октября 1941 года из Харькова было эвакуировано 56 санитарных поездов и 225 эшелонов с людьми. Самостоятельно же эвакуироваться гражданскому населению было практически невозможно: заранее оставить работу и уехать было нельзя, сразу бы обвинили в паникёрстве с соответствующими выводами, билеты на железную дорогу продавались строго по предписаниям и разрешениям на эвакуацию. А когда уже немцы стояли на пороге, людям было сложно в неразберихе выехать, да и не на чём: к товарнякам не подпускала охрана, боясь диверсантов, которых засылали немцы.
Прабабушка мне рассказывала, что они не могли понять, почему немцы усиленно бомбят церковь и парк около неё, а оказалось, что там был склад боеприпасов.
Харьковчане, живя рядом, этого не знали, а немцы знали!
Иван Михайлович Федоренко с первых дней войны занимался эвакуацией сахарных заводов Восточной Украины. Дело было спешное. Немцы продвигались очень быстро. Однажды, он чуть было не попал в окружение: увидев немецкие танки на дорогах, его водитель бросил машину и сбежал, ни Иван Михайлович, ни его помощник водить машину не умели и им пришлось выбираться пешком и на лошадях. Чтобы семья — жена и сын-школьник – могли эвакуироваться вместе с Трестом, Иван Михайлович оформил свою супругу Е. П. Сытую проводником товарного вагона с элитными семенами сахарной свёклы.
Елизавета Павловна Сытая взяла с собой в эвакуацию и двух младших сестёр с детьми, у которых не было другой возможности эвакуироваться: одна — учительница, муж был мобилизован на Черноморский флот, другая — врач, муж её — инженер, был эвакуирован неизвестно куда вместе с заводом, на котором работал, так срочно, что не успел даже попрощаться с семьёй.
Сёстры Сытые с детьми, запасшись на дорогу долгосрочными продуктами — салом и сухарями – уехали в эвакуацию в самом конце сентября, сами не зная куда, в Белый Свет.
Первоначально эшелоны направили в Купянск Харьковской области, куда в начале октября были эвакуированы из Харькова ЦК КП(б)У и Правительство Украины. До Харькова фронт докатился за два месяца. За город шли ожесточённые бои, так как Харьков являлся одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза и крупнейшим стратегическим узлом железных и автомобильных дорог. Его дважды отбивали у немцев и сдавали, в этих боях полегло много народу. Фронт долго стоял под Харьковом. Город был оккупирован 24 октября 1941 года. Пункт назначения эвакоэшелонов менялся по мере продвижения немецких войск на восток.
Тяжелым был этот путь… Постоянные бомбёжки на станциях и возле мостов, да и в пути на них постоянно пикировали немецкие бомбардировщики. Валуйки, Лиски, Поворино, Балашов… Там и сейчас видны глубокие воронки, тянущиеся непрерывными цепочками по обе стороны железнодорожного полотна. При бомбёжках поезд останавливался, и народ разбегался прятаться. Сёстры Сытые при бомбёжке разбегались в разные стороны, каждая со своим сыном, чтобы не погибнуть под одной бомбой сразу всем вместе. Цифры уехавших в эвакуацию и зарегистрированных по месту прибытия разнятся на несколько миллионов человек. Это те, кто пропал под бомбёжками.
Ближе к зиме начался холод, иней на стенах вагона. Из-за скудного и однообразного питания младший из детей — четырехлетний Володя, сын Анны Павловны, начал болеть, так как сало оказалось для него слишком тяжёлой пищей, и есть его он не мог, приходилось у местных для него покупать или выменивать что-то из одежды на подходящие ребёнку продукты: молоко, яйца, если удавалось, то курицу. Поезд продвигался медленно: из-за бомбёжек возникали заторы на путях, нужно было растаскивать разбитые вагоны, ремонтировать пути. На станциях в первую очередь давали зелёный свет воинским эшелонам и эшелонам со стратегически важными грузами, с большим трудом проводникам удавалось добиваться у железнодорожного начальства продвижения вагонов на магистраль с запасных путей, куда их постоянно загоняли.
К зиме вагоны с имуществом и работниками сахаротреста прибыли на станцию Богатое под Куйбышевом. Иван Михайлович Федоренко вместе со всем руководством Треста был направлен в Среднюю Азию для подготовки ко встрече оборудования, работников и изучения местных агротехнических условий. А эвакуированные эшелоны остались зимовать на ст. Богатое: люди разместились кто в теплушках вагонов, кто на квартирах у местных.
Со временем обнаружилась ещё одна проблема — довольствие выдавалось только на проводников, и когда у «пассажиров», которых полулегально взяли с собой новоиспечённые проводники, закончились запасённая провизия и деньги, они стали продавать из вагонов всё, что только можно было продать. Противостоять голодным людям, которым нечем кормить детей, было невозможно, а не довезти вверенное — тоже: по закону военного времени разговор был бы коротким. Но Елизавете Павловне удалось довезти почти всё, правда, уже без тары.
В Ташкент они прибыли в начале апреля, как раз к посевной. Население Ташкента за счёт эвакуированных выросло почти втрое. Эвакуированные рассказывали, что берега Салара в районе вокзала были сплошь застроены шанхаями — люди рыли землянки, лепили мазанки, строили себе жилища из подручных материалов.
Эвакуированных «сахарников» – работников Укрсахсвеклотреста – поселили в Ташкенте на ул. Гоголя 47, там тогда был театр оперетты, артисты которого жили во дворе театра в общежитиях барачного типа, вот их и уплотнили (позже в здании театра был кинотеатр «30 лет ВЛКСМ»). Посередине барака шёл широкий коридор, по обе стороны которого были двери в комнаты, у дверей стояли столики с примусами и керогазами. Семью Федоренко поселили в одну комнату — четверо взрослых и трое детей. У эвакуированных с собой ничего не было и Елизавета Павловна, сразу принявшись за устройство быта, как и положено физику, накрутила спираль из проволоки, продолбила канавки в кирпичах, и, подключив к сети, поставила кипятить чайник. Смотреть на это «чудо» — вода кипит на кирпичах — сбежался весь барак и артисты, прямо в сценических костюмах. На одной любопытной, но неосторожной актрисе загорелись перья боа, их потушили сразу, но на сцену она так и пошла, распространяя едкий запах горелых перьев.
В первое время эвакуированные ночевали даже в зрительном зале самого театра оперетты, сдвинув кресла после спектаклей, и на сцене. Хорошо ещё что ташкентский климат позволял спать и во дворе. Потом как-то расселились посвободней, что-то подстроили, кто-то ушёл на квартиру к местным.
Сам Иван Михайлович Федоренко был всё время в разъездах, по делам Сахсвеклостреста. Сразу же, весной 1942 года, сахарной свёклой, новой для Средней Азии культурой, засеяли поливные поля, первыми в совхозе «Малек» Сырдарьинской области, где Главным агрономом был Ф. Гребенник, и к осени 1942 года был получен первый урожай.
Эвакуированные свекловоды были в большом затруднении: климат и почвы в Средней Азии были не те, что на Украине, а у местных дехкан не было опыта по выращиванию сахарной свёклы. В связи с этим возникало много вопросов. И. М. Федоренко написал брошюру-инструкцию, а позже он выпустил книгу по выращиванию, хранению, борьбе с вредителями и переработке сахарной свёклы. Там был обобщён опыт первого года на новых землях и собраны рекомендации агрономов и учёных-почвоведов обо всём, что касалось сахарной свёклы.
Кроме работы в Тресте с первых чисел февраля 1942 года Иван Михайлович исполнял обязанности директора строящегося сахарного завода в г. Янги-Юле Ташкентской области и занимался организацией его монтажа. Прибывающие эшелоны быстро разгружались и сразу же начинался скоростной монтаж оборудования, люди работали круглосуточно, в три смены, часто отказываясь от выходных.
Елизавета Павловна Сытая в первый же месяц устроилась работать ассистентом на кафедру общей физики в эвакуированный в Ташкент Харьковский транспортный институт: нужно было зарабатывать продуктовые карточки и деньги на обустройство, с собой ведь ничего не привезли. Всё, годами нажитое, было в Харькове заперто в квартире на ключ и всё! Одна сестра Е. П. Сытой, Александра Павловна, устроилась работать в школу учительницей, другая — Анна Павловна — врачом в госпиталь, через полгода, случайно узнав, что завод, на котором работал её муж, эвакуирован в Барнаул, она по вызову уехала с сыном к нему. Школьники, пропустив год учёбы, пошли в школу в класс с ускоренной, за счёт сокращения гуманитарных предметов, программой, чтобы догнать сверстников.
Время было очень тяжёлым. Елизавета Павловна рассказывала, что транспорт работал плохо, приходилось идти пешком, выходить рано, чтобы успеть к первой паре и на улицах приходилось видеть ужасную картину: ехали узбекские арбы с большими колёсами и собирали на улицах умерших за ночь от голода. У многих эвакуировавшихся не было никаких документов — не успели взять с собой или бумаги пропали под бомбёжкой. И люди оставались без возможности устроиться на работу, а, значит, и без карточек…
У работающих тоже было с питанием туговато. Крупные предприятия по воскресеньям организовывали специальный грузовик для желающих, чтобы люди могли подкормиться: поехать в степь и набрать там черепах для черепахового супа.
В Узбекистане сахарная свёкла многих спасла от голода, как приезжих, так и местных. И население Ташкентской, Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской областей ещё и в семидесятые-восьмидесятые годы с благодарностью вспоминало об этом. Сахарная свёкла частично реализовывалась населению, и люди научились готовить из неё различные блюда, кроме того, выписывались работникам побочные продукты производства сахара, содержащие много питательных веществ: жом (-0,3% сах), ботва на корм скоту, мелясса — кормовая патока, содержащая большой процент сахара.
В марте 1943 года Узбсахсвеклотресту из Наркомата ПП СССР было дано строгое указание развивать дополнительные отрасли хозяйства: огородное, садоводное, рыбное, пчеловодное, откорм птицы для работников и плана поставок.
На выращивании сахарной свёклы в Узбекистане специализировались Самаркандская, Ферганская, Ташкентская и Кашкадарьинская области. В Джизакском и Пастдаргомском районах собрали особенно богатый урожай.
В феврале 1943 года после перевода Ронжина М.И. на другую работу, Федоренко Ивана Михайловича назначили Управляющим Узбсахсвеклотрестом, тогда же ему с семьёй выделили квартиру на Первомайской 75: одну комнату с просторной прихожей, в которой можно было организовать кухню. Комнату сразу же перегородили и получилось две комнаты, хоть и маленькие. По тем временам это были прекрасные условия. Водопровод и туалет — в общем дворе, баня — через три квартала.
Несмотря на все трудности первого года войны, в начале 1943 года в Узбекистане уже работали четыре сахарных завода: в Коканде, Янги-Юле, Зирабулаке и Красногвардейске.
В конце 1943 года, когда Харьков уже был освобождён от немцев, часть работников Треста отправили на Украину, где надо было возрождать сахарную промышленность. Заводы и, естественно, их работников из Узбекистана обратно не отпустили, 1-й Секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Усман Юсупович Юсупов специально ездил в Москву, требуя не оголять Республику, сохранить кадры промышленных предприятий, эвакуированные в Узбекистан. Тем самым высоко поднял развитие промышленности в Узбекистане. Уехали в основном те, кто с производством связан не был и эвакуировавшиеся самотёком.
И. М. Федоренко в 1944 году отзывали на работу в Москву, но его Республиканское руководство не отпустило. Потом в 1948 году Министр пищевой промышленности СССР В. П. Зотов приглашал И. М. Федоренко на должность начальника «Главсахара» НК ПП СССР с правами замминистра. Но его опять не отпустило партийное руководство УзССР.
Иван Михайлович Федоренко проработал в должности Управляющего Узбсахсвеклотреста до 1950 года, до избрания его Первым заместителем Председателя Ташоблисполкома.
Елизавета Павловна, когда Харьковский транспортный институт в 1944 году уезжал обратно в Харьков, получила приглашение уехать с ним, а также она получила вызовы вернуться и ещё от двух институтов, в которых работала до войны, но ясно, что её мужа с работы никто бы не отпустил. Когда стало понятно, что семья остаётся в Ташкенте надолго (а оказалось навсегда), Елизавета Павловна стала искать возможность заниматься научной работой. Она была приглашена на кафедру экспериментальной физики физмата С.А.Г.У., но уволиться из транспортного было очень трудно: в те времена ни о каких «собственных желаниях» не могло быть и речи. Тем более, транспортный институт считался военизированным, и преподаватели даже были обязаны ходить на занятия в железнодорожных мундирах. Елизавета Павловна начала работать в С.А.Г.У. с 1 сентября 1947 года ассистентом кафедры экспериментальной физики, по совместительству оставаясь в транспортном институте ассистентом кафедры общей физики. Только в 1948 году ей удалось уйти из транспортного института, и она получила возможность, кроме учебной работы, заниматься наукой. Вскоре защитила диссертацию. Елизавета Павловна Сытая проработала доцентом и замзавкафедрой, Зав проблемной лабораторией «Радиофизика», а в 1966-1968 гг. — Завкафедрой физической электроники на физфаке, в ТашГУ до выхода на пенсию в 1974 году.
И. М. Федоренко в 1952-1953 гг. работал Первым Зам. Министра пищевой промышленности УзССР. В 1953 году, когда нужно было организовывать Министерство культуры, объединяющее в себе учреждения культуры, высшего и специального среднего образования, полиграфии, печати, кинематографии, он, как опытный организатор и энергичный, деловой человек, был назначен Первым заместителем Министра культуры и проработал Замминистра культуры до выхода на пенсию в 1971 году. Был награждён тремя Орденами Трудового Красного Знамени — в 1946, 1950 и в 1967 гг. И. М. Федоренко награждался четырежды Почётными Грамотами ВС УзССР, званием Отличник Министерства культуры СССР, Отличник Госкомитета Совета Министров СССР по кинематографии, Неоднократно избирался Депутатом различных уровней, в том числе Депутатом Верховного Совета УзССР двух созывов, членом бюро обкома, горкома и ЦК партии.
Сахарная промышленность в Узбекистане процветала до 1953 года, когда было руководством страны принято решение засеивать всё хлопком. Сахарные заводы были перепрофилированы. Кокандский сахарный завод стал масложиркомбинатом, Янги-Юльский — кирпичным заводом… Специалисты направлены на работу на сахарные заводы Украины и Молдавии.
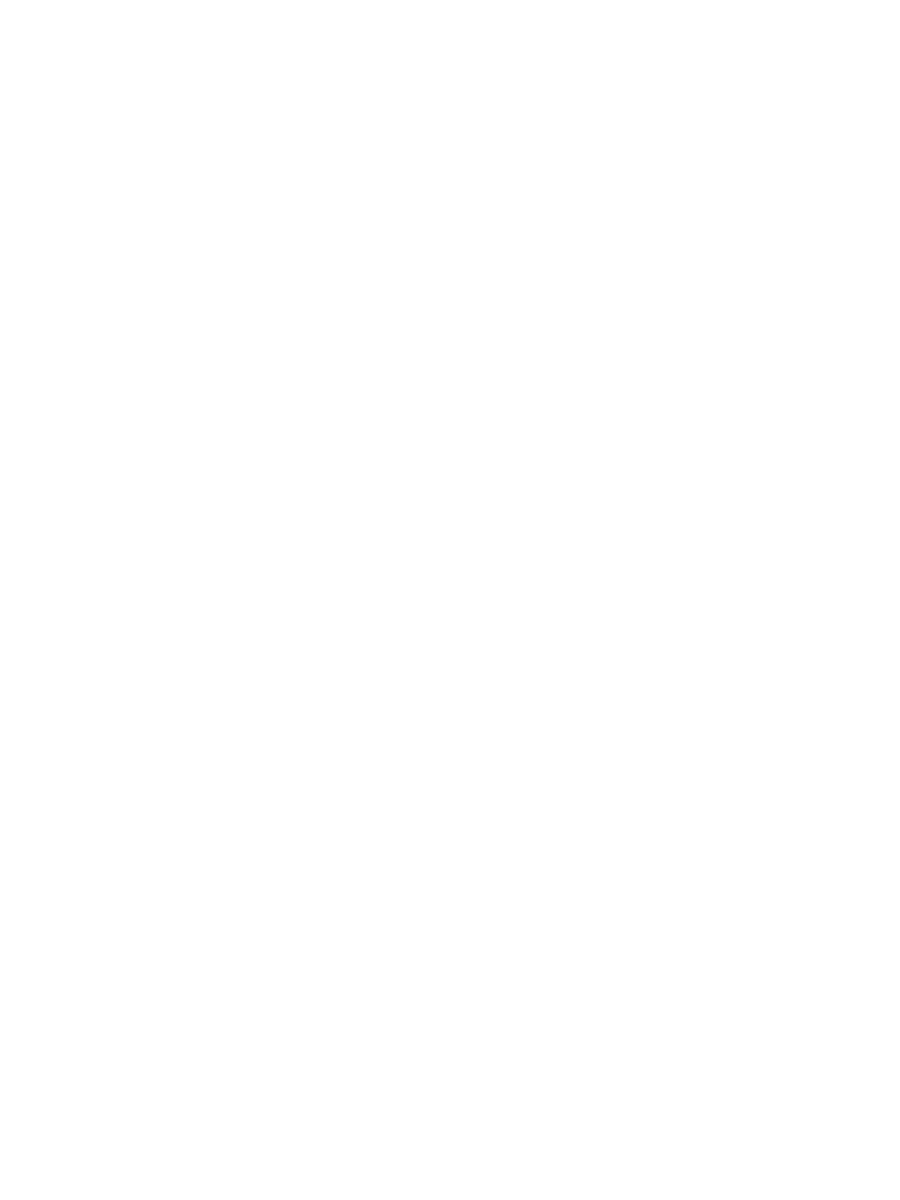
Екатерина ФИЛЮК
Родилась в 1981 г. в городе Шелехов Иркутской области. Закончила Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт экономики и права, Татарский институт содействия бизнесу. Индивидуальный предприниматель, занимается бухгалтерским, юридическим сопровождением малого и среднего бизнеса. Номинирована на премии: «Поэт года 2023», «Поэт года 2024», «Писатель года 2024», «Наследие 2024», «Наследие 2025», «Русь моя 2024», «Русь моя 2025»; вошла в «Антологию русской поэзии 2024», «Антологию русской прозы 2024», «Современные писатели 2024». Награждена общественными наградами: медалью Лермонтова, медалью Пушкина, медалью Есенина, двумя звездами третьего ранга «Наследие 2024». Издан сборник стихов автора под названием «Тетрадь». Произведения автора вошли в сборники: «Дикие лепестки», «Любовь-сокровище души», «Золотая роса», «По снежной тропинке», литературно-художественный журнал «Культурная Россия». Периодически публикуется в интернет-журнале «Женский шарм». Член Российского союза писателей.
Родилась в 1981 г. в городе Шелехов Иркутской области. Закончила Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт экономики и права, Татарский институт содействия бизнесу. Индивидуальный предприниматель, занимается бухгалтерским, юридическим сопровождением малого и среднего бизнеса. Номинирована на премии: «Поэт года 2023», «Поэт года 2024», «Писатель года 2024», «Наследие 2024», «Наследие 2025», «Русь моя 2024», «Русь моя 2025»; вошла в «Антологию русской поэзии 2024», «Антологию русской прозы 2024», «Современные писатели 2024». Награждена общественными наградами: медалью Лермонтова, медалью Пушкина, медалью Есенина, двумя звездами третьего ранга «Наследие 2024». Издан сборник стихов автора под названием «Тетрадь». Произведения автора вошли в сборники: «Дикие лепестки», «Любовь-сокровище души», «Золотая роса», «По снежной тропинке», литературно-художественный журнал «Культурная Россия». Периодически публикуется в интернет-журнале «Женский шарм». Член Российского союза писателей.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Он родился в семье, где родители жили только желанием выпить. Никогда не надеясь стать кем-то значимым, он в тайне называл себя «безымянный». Целью жизни с самого детства была добыча еды и укромный угол в доме, чтобы поспать перед школой, не слыша криков родителей.
Жизнь в школе была не легче. Одноклассники постоянно издевались над безымянным и не давали ему прохода только по причине отсутствия у него достойной одежды и наличных денег.
В старших классах его избили до такой степени, что не выдержало ребро с левой стороны. Но в больнице этому не придали значение, глядя на оборванца в поношенной одежде, и трещина еще напоминала безымянному о себе сквозь годы.
Безымянный никогда ни на что не надеялся. Он даже боялся мечтать о солидной работе, доме или роскошной красотке. Безымянный понимал, что этим мечтам не суждено будет сбыться и все, что его ждет – новое разочарование.
Он часто жалел о том, что родился, часто просто хотел не проснуться и не проживать еще один ненавистный день. Одиночество изъедало его изнутри, он менялся и сам понимал, что из веселого мальчишки, гоняющегося за щенком во дворе, становится отшельником, желающим спрятаться в самый дальний угол и с ненавистью смотреть на этот мир, где нет места таким, как он. Как же он ненавидел свое бессилие, мечтая стать злодеем из комиксов и отомстить всем своим обидчикам.
Школа закончилась. Техникум агрессивному и озлобленному подростку дался легко, и, получив рабочую специальность, безымянный устроился работать в автосервис.
Коллектив в сервисе был добродушный, но любящий злостные шутки. Впрочем, мужчины не задались вопросом, когда молодой парень представился им как «безымянный».
Сначала его пытались принять, как «сына полка», поговорить о проблемах и чем-то помочь, но вскоре его молчание всех убедило, что даже не стоит делать попыток дружить со столь хмурым парнем.
Однажды работники автосервиса отмечали день рождения сотрудника. Безымянный не пил алкоголя, он презирал алкоголь за разбитую жизнь. Но не только алкоголь был виновником – безымянный винил абсолютно всех. В середине торжества слегка подпитые мужчины стали вновь устраивать допрос парню о его жизни и уговаривали его выпить хотя бы стопку. Тогда это случилось впервые.
Ненависть накрыла безымянного, он не отдавал отчета своим действиям и накинулся на людей. Его быстро посадили на стул и успокоили, но само состояние гнева и ярости очень понравилось парню. Тихо ночами в съёмной квартире он вспоминал всю свою злость и давал ярости полный ход. Утром после таких упражнений он чувствовал себя счастливым. Только так он мог не только достигнуть уровня ненавистных ему людей, жизнь которых не была сплошной нищетой, но и возвыситься над ними.
Через пару лет безымянный встретил ничем не примечательную девушку Аню и стал с ней встречаться. Аня громко смеялась и всегда говорила, что внутри злюки наверняка добрый и пушистый зайчик. Их жизнь не отличалась от других пар – кино, дешевые кафе, прогулки, но безымянный не торопился предлагать Анне съехаться.
Прошел год, и Аня забеременела. Она стала настаивать на том, что они должны жить вместе и воспитывать ребенка. Безымянный был не только не готов к этому, он не хотел ребенка и еще до рождения ненавидел его. И он ушел. Просто пропал. Сменил съёмную квартиру, работу и номер телефона. Город он тоже сменил, чтобы избежать случайной встречи.
На новой работе платили значительно больше, но безымянный и не думал брать кредит на приобретение жилья. Он не хотел ничего, ограничивающего его свободу. Все, чем он жил – его вечерние ритуалы по выпуску ярости на волю, только это делало его счастливым и состоявшимся. Только это он считал своей жизнью.
Прошло еще пять лет. Ничего значительного в жизни безымянного не происходило. Но все чаще щемило треснувшее ребро. «Вот и тридцать промчалось и пришли болезни» – думал безымянный.
Однажды безымянный пришел в гости к коллеге, тот очень долго настаивал на этом. У коллеги была большая семья, но дети, словно что-то чувствуя, обходили безымянного стороной. Младший ребенок, посмотрев на дяденьку, начал истошно плакать. Недоумение сменилось неловкостью, и безымянный ретировался, даже не отведав обещанный ему пирог.
Придя домой, он долго сидел на кровати и смотрел в точку. Что-то шевельнулось в его душе. Какое-то отвращение к самому себе закралось в его голову. Всю ночь проведя без сна, мужчина вышел на улицу и разбитый побрел в сторону стоянки, как вдруг сильная боль в ребре заставила его потерять сознание.
Очнулся он в больнице. Было тяжело дышать, но он был рад тому, что жив. Попытка встать не увенчалась успехом, и безымянный попытался снова заснуть.
Он не представлял, сколько прошло времени, пока в палате не появился доктор. Он долго с интересом его осматривал и задавал огромное количество вопросов, в том числе о родителях безымянного.
Безымянный не мог понять, что от него хотят, и очень тянуло снова уснуть. Когда он проснулся в следующий раз, солнце было высоко в небе. Небо было голубым и чистым. Безымянный понял, что он впервые смотрит на небо и радуется. Он просто радуется солнцу и чистому небу. Такого не было раньше никогда. Это возбуждало и пугало одновременно.
Безымянный сел на кровати и с ужасом осознал, что он абсолютно другой человек. Чувства, которые были неведомы ему до этого дня, разрывали его на части – тоска, любовь, радость, боль, сострадание. Безымянный обхватил руками голову и заплакал. Первый раз в жизни он плакал. Плакал навзрыд за все годы боли и страданий. Плакал о потерянной Анне, о сыне, о родителях, на чьи похороны он даже не пришел.
Позже снова пришел доктор. Разговор их был очень долгим. Более странного разговора не было еще в жизни безымянного. Из этого разговора оказалось, что безымянный, на самом деле, – Алексей, но это имя ему казалось постыдно привязанным к нему по рождению пьющими родителями. Алексей болен тяжелой мутацией, которая нарушает работу мозга и гормонов безымянного парня, что мучало всю его жизнь. Поэтому Алексей не мог контролировать себя, вся его жизнь была огромным гормональным сбоем, в результате которого он мог, со слов доктора, превратиться в ходячую машину убийств. Доктор не понимал, что же ограничивало безымянного перейти черту, за которой нет возврата, но был рад, что этого не случилось.
В тот вечер Алексей услышал много новых слов, но больше его удивляло, что он радовался вместе с доктором тому, что при должном лечении, безымянный не вернется в жизнь Алексея.
Потом принесли чай, доктор что-то достал из портфеля. Алексей первый раз ел домашнюю еду и был в полном восторге.
Они еще долго вели непринужденную беседу, пока доктор не сказал, что самый прекрасный факт – отсутствие детей у Алексея, поскольку болезнь наверняка передалась бы им….
И тут у Алексея появилось еще одно новое чувство – все внутри сжалось и похолодело. Алексей тогда еще не знал, что это чувство – страх. Страх того, что где-то уже подрастает новый безымянный, а Алексей не имеет понятия, как найти Анну и спасти сына.
Он родился в семье, где родители жили только желанием выпить. Никогда не надеясь стать кем-то значимым, он в тайне называл себя «безымянный». Целью жизни с самого детства была добыча еды и укромный угол в доме, чтобы поспать перед школой, не слыша криков родителей.
Жизнь в школе была не легче. Одноклассники постоянно издевались над безымянным и не давали ему прохода только по причине отсутствия у него достойной одежды и наличных денег.
В старших классах его избили до такой степени, что не выдержало ребро с левой стороны. Но в больнице этому не придали значение, глядя на оборванца в поношенной одежде, и трещина еще напоминала безымянному о себе сквозь годы.
Безымянный никогда ни на что не надеялся. Он даже боялся мечтать о солидной работе, доме или роскошной красотке. Безымянный понимал, что этим мечтам не суждено будет сбыться и все, что его ждет – новое разочарование.
Он часто жалел о том, что родился, часто просто хотел не проснуться и не проживать еще один ненавистный день. Одиночество изъедало его изнутри, он менялся и сам понимал, что из веселого мальчишки, гоняющегося за щенком во дворе, становится отшельником, желающим спрятаться в самый дальний угол и с ненавистью смотреть на этот мир, где нет места таким, как он. Как же он ненавидел свое бессилие, мечтая стать злодеем из комиксов и отомстить всем своим обидчикам.
Школа закончилась. Техникум агрессивному и озлобленному подростку дался легко, и, получив рабочую специальность, безымянный устроился работать в автосервис.
Коллектив в сервисе был добродушный, но любящий злостные шутки. Впрочем, мужчины не задались вопросом, когда молодой парень представился им как «безымянный».
Сначала его пытались принять, как «сына полка», поговорить о проблемах и чем-то помочь, но вскоре его молчание всех убедило, что даже не стоит делать попыток дружить со столь хмурым парнем.
Однажды работники автосервиса отмечали день рождения сотрудника. Безымянный не пил алкоголя, он презирал алкоголь за разбитую жизнь. Но не только алкоголь был виновником – безымянный винил абсолютно всех. В середине торжества слегка подпитые мужчины стали вновь устраивать допрос парню о его жизни и уговаривали его выпить хотя бы стопку. Тогда это случилось впервые.
Ненависть накрыла безымянного, он не отдавал отчета своим действиям и накинулся на людей. Его быстро посадили на стул и успокоили, но само состояние гнева и ярости очень понравилось парню. Тихо ночами в съёмной квартире он вспоминал всю свою злость и давал ярости полный ход. Утром после таких упражнений он чувствовал себя счастливым. Только так он мог не только достигнуть уровня ненавистных ему людей, жизнь которых не была сплошной нищетой, но и возвыситься над ними.
Через пару лет безымянный встретил ничем не примечательную девушку Аню и стал с ней встречаться. Аня громко смеялась и всегда говорила, что внутри злюки наверняка добрый и пушистый зайчик. Их жизнь не отличалась от других пар – кино, дешевые кафе, прогулки, но безымянный не торопился предлагать Анне съехаться.
Прошел год, и Аня забеременела. Она стала настаивать на том, что они должны жить вместе и воспитывать ребенка. Безымянный был не только не готов к этому, он не хотел ребенка и еще до рождения ненавидел его. И он ушел. Просто пропал. Сменил съёмную квартиру, работу и номер телефона. Город он тоже сменил, чтобы избежать случайной встречи.
На новой работе платили значительно больше, но безымянный и не думал брать кредит на приобретение жилья. Он не хотел ничего, ограничивающего его свободу. Все, чем он жил – его вечерние ритуалы по выпуску ярости на волю, только это делало его счастливым и состоявшимся. Только это он считал своей жизнью.
Прошло еще пять лет. Ничего значительного в жизни безымянного не происходило. Но все чаще щемило треснувшее ребро. «Вот и тридцать промчалось и пришли болезни» – думал безымянный.
Однажды безымянный пришел в гости к коллеге, тот очень долго настаивал на этом. У коллеги была большая семья, но дети, словно что-то чувствуя, обходили безымянного стороной. Младший ребенок, посмотрев на дяденьку, начал истошно плакать. Недоумение сменилось неловкостью, и безымянный ретировался, даже не отведав обещанный ему пирог.
Придя домой, он долго сидел на кровати и смотрел в точку. Что-то шевельнулось в его душе. Какое-то отвращение к самому себе закралось в его голову. Всю ночь проведя без сна, мужчина вышел на улицу и разбитый побрел в сторону стоянки, как вдруг сильная боль в ребре заставила его потерять сознание.
Очнулся он в больнице. Было тяжело дышать, но он был рад тому, что жив. Попытка встать не увенчалась успехом, и безымянный попытался снова заснуть.
Он не представлял, сколько прошло времени, пока в палате не появился доктор. Он долго с интересом его осматривал и задавал огромное количество вопросов, в том числе о родителях безымянного.
Безымянный не мог понять, что от него хотят, и очень тянуло снова уснуть. Когда он проснулся в следующий раз, солнце было высоко в небе. Небо было голубым и чистым. Безымянный понял, что он впервые смотрит на небо и радуется. Он просто радуется солнцу и чистому небу. Такого не было раньше никогда. Это возбуждало и пугало одновременно.
Безымянный сел на кровати и с ужасом осознал, что он абсолютно другой человек. Чувства, которые были неведомы ему до этого дня, разрывали его на части – тоска, любовь, радость, боль, сострадание. Безымянный обхватил руками голову и заплакал. Первый раз в жизни он плакал. Плакал навзрыд за все годы боли и страданий. Плакал о потерянной Анне, о сыне, о родителях, на чьи похороны он даже не пришел.
Позже снова пришел доктор. Разговор их был очень долгим. Более странного разговора не было еще в жизни безымянного. Из этого разговора оказалось, что безымянный, на самом деле, – Алексей, но это имя ему казалось постыдно привязанным к нему по рождению пьющими родителями. Алексей болен тяжелой мутацией, которая нарушает работу мозга и гормонов безымянного парня, что мучало всю его жизнь. Поэтому Алексей не мог контролировать себя, вся его жизнь была огромным гормональным сбоем, в результате которого он мог, со слов доктора, превратиться в ходячую машину убийств. Доктор не понимал, что же ограничивало безымянного перейти черту, за которой нет возврата, но был рад, что этого не случилось.
В тот вечер Алексей услышал много новых слов, но больше его удивляло, что он радовался вместе с доктором тому, что при должном лечении, безымянный не вернется в жизнь Алексея.
Потом принесли чай, доктор что-то достал из портфеля. Алексей первый раз ел домашнюю еду и был в полном восторге.
Они еще долго вели непринужденную беседу, пока доктор не сказал, что самый прекрасный факт – отсутствие детей у Алексея, поскольку болезнь наверняка передалась бы им….
И тут у Алексея появилось еще одно новое чувство – все внутри сжалось и похолодело. Алексей тогда еще не знал, что это чувство – страх. Страх того, что где-то уже подрастает новый безымянный, а Алексей не имеет понятия, как найти Анну и спасти сына.