Текст альманаха «ЗАПИСНАЯ КНИЖКА» №3 2025 год
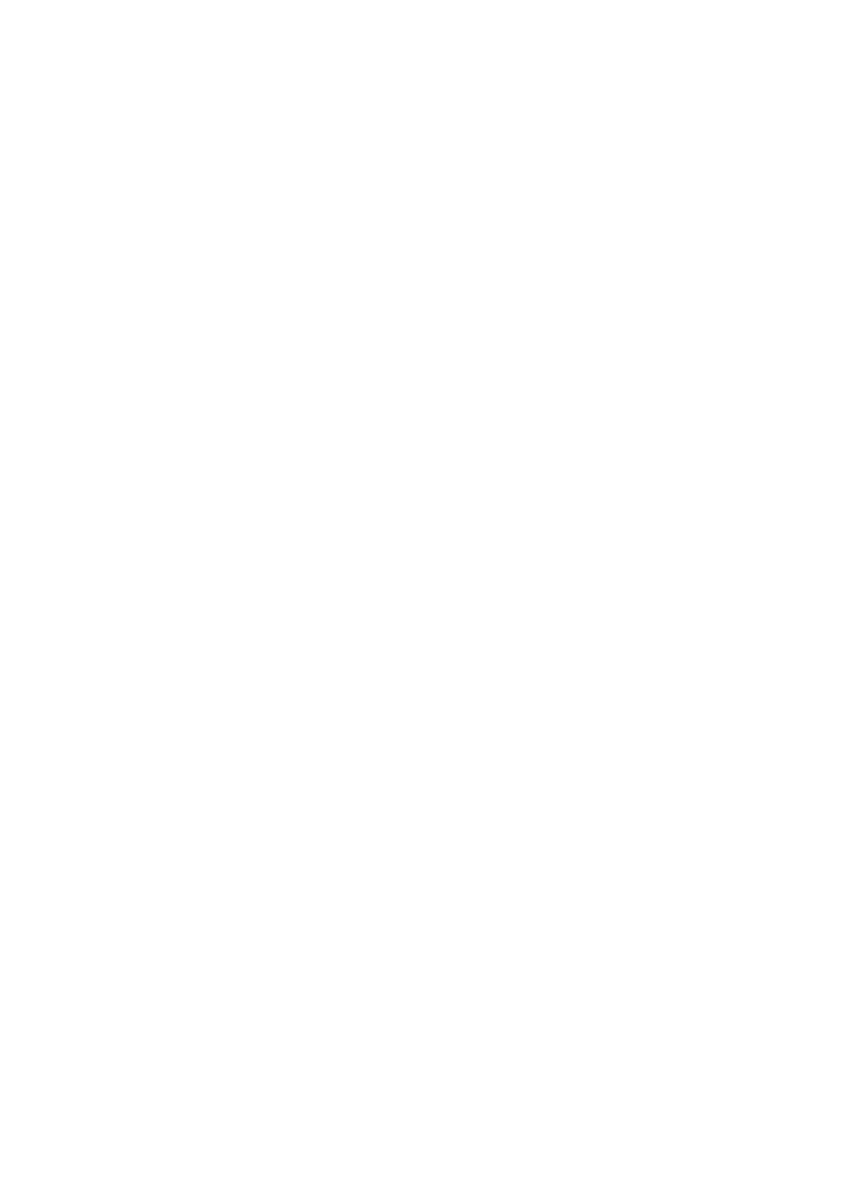
АЛЬМАНАХ «ЗАПИСНАЯ КНИЖКА» №3-2025
Содержание:
Диана АСНИНА - «Кофе в постель», «Дозанимались...»
Альбина МЕЛЬНИКОВА - «Ласковый лай»
Максим ЛАЗАРЕВ - «Не пишется...»
Наталья СЕЛИВАНОВА - «Выходные трели», «Вишенка»
Владимир ЛОКТЕВ - «Грязовец, друзья, встречи»
Сергей БЕСПАЛОВ - «День космонавтики»
Анастасия АФОНИНА - «Доброго утречка не желаете?»
Владимир КОНЬКОВ - «Жители записной книжки»
Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ - «Часовщик»
Илья САДЫРЕВ - «Сергач»
Ольга ЗАБРОДИНА - «Берегите ноги»
Белка МИХАЙЛОВА - «Качели»
Вячеслав ЛЕСОВ - «Завод по ремонту настроений»
Виталина УСТИНОВА - «Один день из жизни охотника»
Светлана БОНДАРЕВСКАЯ - «Как родилось одно чудо»
Василий МОРСКОЙ - «Случай в метро»
Юлия ПРОСВИРЯКОВА - «Лодка, лошадь и маленькое чудо»
Максим ФЕДОСОВ - «Зюзя»
Ольга АМАН - «Кошачий Арбат: итальянская философия счастья»
Ольга ЯРУШНИКОВА - «Картофельное сердце»
Евгений КОЧУНОВ - «Луся, история городской скамейки»
Софья МАЛЬЦЕВА - «Беляшик», «Бельчонок», «Метель»
Полина САВОЯРДИ - «Далила»
Георгий ЗАБЕЛЬЯН - «Наваждение в метро», «Мамочка»
Виталий БУЛАТ - «Фото»
Ирина ВОЛКОВА - «Максим», «Гениально!», «Коммуналка»
Татьяна ЛАТЫНСКАЯ - «Воспоминание о любви», «Ревность»
Александр БАЖЕНОВ - «Звездная пыль», «Непризнанный поэт»
Тамара ТИМОШКИНА - «Любовь деда», «Счастливая»
Виталий ВАСИЛЬЕВ - «Велосипед, или Манифест сюрреализма»
Аглая РОДНИЦКАЯ - «Лето»
Дмитрий ВОСТРЯКОВ - «Спасение курсового проекта»
Содержание:
Диана АСНИНА - «Кофе в постель», «Дозанимались...»
Альбина МЕЛЬНИКОВА - «Ласковый лай»
Максим ЛАЗАРЕВ - «Не пишется...»
Наталья СЕЛИВАНОВА - «Выходные трели», «Вишенка»
Владимир ЛОКТЕВ - «Грязовец, друзья, встречи»
Сергей БЕСПАЛОВ - «День космонавтики»
Анастасия АФОНИНА - «Доброго утречка не желаете?»
Владимир КОНЬКОВ - «Жители записной книжки»
Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ - «Часовщик»
Илья САДЫРЕВ - «Сергач»
Ольга ЗАБРОДИНА - «Берегите ноги»
Белка МИХАЙЛОВА - «Качели»
Вячеслав ЛЕСОВ - «Завод по ремонту настроений»
Виталина УСТИНОВА - «Один день из жизни охотника»
Светлана БОНДАРЕВСКАЯ - «Как родилось одно чудо»
Василий МОРСКОЙ - «Случай в метро»
Юлия ПРОСВИРЯКОВА - «Лодка, лошадь и маленькое чудо»
Максим ФЕДОСОВ - «Зюзя»
Ольга АМАН - «Кошачий Арбат: итальянская философия счастья»
Ольга ЯРУШНИКОВА - «Картофельное сердце»
Евгений КОЧУНОВ - «Луся, история городской скамейки»
Софья МАЛЬЦЕВА - «Беляшик», «Бельчонок», «Метель»
Полина САВОЯРДИ - «Далила»
Георгий ЗАБЕЛЬЯН - «Наваждение в метро», «Мамочка»
Виталий БУЛАТ - «Фото»
Ирина ВОЛКОВА - «Максим», «Гениально!», «Коммуналка»
Татьяна ЛАТЫНСКАЯ - «Воспоминание о любви», «Ревность»
Александр БАЖЕНОВ - «Звездная пыль», «Непризнанный поэт»
Тамара ТИМОШКИНА - «Любовь деда», «Счастливая»
Виталий ВАСИЛЬЕВ - «Велосипед, или Манифест сюрреализма»
Аглая РОДНИЦКАЯ - «Лето»
Дмитрий ВОСТРЯКОВ - «Спасение курсового проекта»
СОЛНЦЕ В КАПЛЕ ВОДЫ
Миниатюра – особый бриллиант короткой прозы, именно поэтому мы так любим по крупицам собирать эти «сказочные лоскутки прозы». Так любим, что посвятили этому жанру целый альманах – вот перед вами уже третий номер «Записной книжки», в который мы бережно отбираем миниатюры, зарисовки, истории, достойные внимания наших читателей.
Известный советский литературовед и переводчик Валентина Дынник писала: «Задача миниатюры – показать солнце в малой капле воды», а австрийский писатель и драматург Стефан Цвейг повторял, что «некоторые миниатюры чаще живут дольше толстых романов». Видимо, миниатюра есть не просто короткий рассказ, а такая история, в которой одно маленькое событие способно выразить огромный, глубокий смысл. Для создания подобного произведения не нужен длинный и витиеватый сюжет, в целом – вообще сюжет не нужен, нужно уметь буквально в паре абзацев зафиксировать место и обстоятельства истории, характер героя, описать произошедший случай сочно, ярко и так, чтобы передать атмосферу события, его запах, ощущение, то чувство невыразимого, которое пытается выразить каждый, кто берет ручку и белый лист бумаги.
Этот номер богат на новые имена, широк как по диапазону возраста авторов, так и по жанрам – тут есть и короткие истории о любви, истории о путешествиях в новые страны, о новых открытиях как в самом себе, так и чего-то нового в окружающих нас людях.
И словно вспоминая вместе с авторами про «отблески солнца в малой капле воды», мы с вами легко и быстро прочитаем все миниатюры этого номера и порадуемся за авторов и их героев. Открывает этот номер победитель конкурса на лучшую миниатюру – Диана Аснина (стр.7 – «Кофе в постель», «Бабье лето», «Мечта идиота», «Дозанимались»). Коротко, сочно, ярко – и со смыслом и чувством. Среди удачных миниатюр также хочется отметить произведения Натальи Селивановой, Максима Лазарева, Владимира Конькова, Ольги Аман, Татьяны Латынской и Александра Баженова. Уверены, что новый сборник талантливых авторов понравится широкому кругу читателей, влюбленных в короткую прозу.
Надеюсь, что наши авторы пришли на «литературную сцену» надолго, а значит – авторы заинтересованы в выстраивании своей литературной биографии, формировании некоторого объема публикаций для старта в следующий «сезон», в создании масштабных литературных произведений, издании собственной книги, участии в литературных мероприятиях и книжных выставках. Именно для этого мы и создаем не только регулярные сборники в разных жанрах, но и крупные тематические сборники, объединенные интересной и яркой темой. Так, в 2026 году наших авторов ждет большой новый тематический сборник рассказов под названием «Истории любви» в твердом переплете с оригинальным подарком внутри (такой сборник можно преподнести в качестве подарка). Также авторов ждут сборники «Битва» (фантастика и фэнтези), поэтический сборник «Линии», сборник пьес и сценариев «Театральная Премьера», обновленная «Книжная полка», сборник воспоминаний «Река времени» и традиционная «Записная книжка». А пока открываем следующую страницу и наслаждаемся чтением коротких миниатюр.
Максим Федосов,
руководитель проекта литературных сборников
издательского сервиса «Новое Слово»
Миниатюра – особый бриллиант короткой прозы, именно поэтому мы так любим по крупицам собирать эти «сказочные лоскутки прозы». Так любим, что посвятили этому жанру целый альманах – вот перед вами уже третий номер «Записной книжки», в который мы бережно отбираем миниатюры, зарисовки, истории, достойные внимания наших читателей.
Известный советский литературовед и переводчик Валентина Дынник писала: «Задача миниатюры – показать солнце в малой капле воды», а австрийский писатель и драматург Стефан Цвейг повторял, что «некоторые миниатюры чаще живут дольше толстых романов». Видимо, миниатюра есть не просто короткий рассказ, а такая история, в которой одно маленькое событие способно выразить огромный, глубокий смысл. Для создания подобного произведения не нужен длинный и витиеватый сюжет, в целом – вообще сюжет не нужен, нужно уметь буквально в паре абзацев зафиксировать место и обстоятельства истории, характер героя, описать произошедший случай сочно, ярко и так, чтобы передать атмосферу события, его запах, ощущение, то чувство невыразимого, которое пытается выразить каждый, кто берет ручку и белый лист бумаги.
Этот номер богат на новые имена, широк как по диапазону возраста авторов, так и по жанрам – тут есть и короткие истории о любви, истории о путешествиях в новые страны, о новых открытиях как в самом себе, так и чего-то нового в окружающих нас людях.
И словно вспоминая вместе с авторами про «отблески солнца в малой капле воды», мы с вами легко и быстро прочитаем все миниатюры этого номера и порадуемся за авторов и их героев. Открывает этот номер победитель конкурса на лучшую миниатюру – Диана Аснина (стр.7 – «Кофе в постель», «Бабье лето», «Мечта идиота», «Дозанимались»). Коротко, сочно, ярко – и со смыслом и чувством. Среди удачных миниатюр также хочется отметить произведения Натальи Селивановой, Максима Лазарева, Владимира Конькова, Ольги Аман, Татьяны Латынской и Александра Баженова. Уверены, что новый сборник талантливых авторов понравится широкому кругу читателей, влюбленных в короткую прозу.
Надеюсь, что наши авторы пришли на «литературную сцену» надолго, а значит – авторы заинтересованы в выстраивании своей литературной биографии, формировании некоторого объема публикаций для старта в следующий «сезон», в создании масштабных литературных произведений, издании собственной книги, участии в литературных мероприятиях и книжных выставках. Именно для этого мы и создаем не только регулярные сборники в разных жанрах, но и крупные тематические сборники, объединенные интересной и яркой темой. Так, в 2026 году наших авторов ждет большой новый тематический сборник рассказов под названием «Истории любви» в твердом переплете с оригинальным подарком внутри (такой сборник можно преподнести в качестве подарка). Также авторов ждут сборники «Битва» (фантастика и фэнтези), поэтический сборник «Линии», сборник пьес и сценариев «Театральная Премьера», обновленная «Книжная полка», сборник воспоминаний «Река времени» и традиционная «Записная книжка». А пока открываем следующую страницу и наслаждаемся чтением коротких миниатюр.
Максим Федосов,
руководитель проекта литературных сборников
издательского сервиса «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Диана АСНИНА
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение».
Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Почётный работник культуры г. Москвы.
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение».
Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Почётный работник культуры г. Москвы.
КОФЕ В ПОСТЕЛЬ
– Тебе кофе в постель когда-нибудь подавали? – спросила меня кузина.
– Подавали, – улыбнулась я.
– Счастливая, – позавидовала мне она. – А моему Славику никогда даже в голову не пришло это сделать, – с горечью произнесла она.
– Грех тебе жаловаться на мужа. Вы вместе уже столько (около сорока) лет! Слава любит тебя, предан, как говорят, телом и душой. Помню, как я гостила у вас. Утром Слава, проснувшись раньше тебя, шёл на кухню и начинал чистить картошку. «Вот проснётся Элечка, а её ждёт жареная картошечка. Она так её любит!» – говорил он. Ночью не ты, а Слава вставал к ребёнку. Утром, пока ты спала, шёл с малышом гулять, давая возможность тебе выспаться. Ему ничего для тебя не жалко. Ты для него самая красивая, самая любимая, самая желанная!
– Да, конечно. Мне очень повезло с мужем. Я с ним как «за каменной стеной». Даже не представляю себе жизни без него. Но… кофе в постель… – вздохнула она.
Дочь моей подруги, будучи студенткой первого курса института, влюбилась в хорошего мальчика, своего сокурсника, и вышла за него замуж. Подруга очень волновалась: «Какое ещё замужество! Девочке ещё учиться и учиться». Парень пообещал, что он даст Светочке возможность спокойно окончить институт, что детей они в ближайшее время не планируют, только, когда «встанут на ноги». Юноша перевелся на заочное отделение и устроился на работу, чтобы ни от кого не зависеть. Сергей оказался чудесным мужем – всё для любимой Светочки, чтобы она была довольна и счастлива. Цветы, подарки… Любое Светочкино желание – закон.
Но Светочка, как и многие другие, у которых с самого начала всё в жизни складывалось удачно, не умела это ценить, не понимала, как ей повезло. Ей, как и моей кузине, не хватало «кофе в постель…»
Наверно, если бы хоть раз девушкам пришлось на себе испытать, что может быть иначе, они бы ценили то, что имеют.
Но… «Что имеем – не храним,
Потерявши – плачем».
Они завидуют мне… Кофе в постель – приятно, незабываемо, но…
Да, Вадим любил меня. Но у нас с ним, как говорят, была любовь на расстоянии; приехал – уехал, приехал – уехал. (Он жил в другом городе). А я летала к нему. И так продолжалось много лет. Когда Вадим приезжал в Москву, он баловал меня – делал чудесные подарки, дарил цветы, мы интересно проводили время: выставки, концерты, театр… Он старался делать мне приятное, в том числе «кофе в постель». Мы любили друг друга. Вадим был в курсе всех моих дел, поддерживал меня во всём. Но всё бросить и соединить свою жизнь со мной он не решился. Да, были причины и объективные, и субъективные: одинокая сестра, на которую он не мог оставить больного отца, и у самого Вадима были проблемы со здоровьем. И он считал, что не имеет права усложнять мою жизнь. Это не верно. И в горе, и в радости любящие сердца должны идти по жизни рядом. Мы и шли, только на расстоянии. Приехал – счастье, радость! Уехал – и… пустота, тишина. Это длилось много лет. Когда Вадима не стало, жизнь для меня остановилась, я «впала в спячку». Почему мы всё откладываем на потом, почему не ценим то, что есть?
Кофе в постель – приятно, незабываемо, но…
БАБЬЕ ЛЕТО
– Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
Б. Пастернак «Бабье лето»
Осень… Красота неимоверная! Красные, желтые, светло-зелёные листья кружатся и падают на землю. Стоят последние тёплые денёчки. Ничто не предвещает скорой холодной зимы. В это время начинали делать заготовки на зиму – солить, мариновать, варить варенье… Занимались этими работами, в основном, женщины.
Золотая осень – это вторая молодость, «бабье лето». «В сорок пять баба ягодка опять». Почему только в сорок пять? В любом возрасте женщина хочет быть счастливой, любимой «ягодкой».
Одна моя знакомая, которая очень весело отмечала 75-летие, подняла тост, переделав поговорку: «Нет, не в 45, а в 75!». И все, разумеется, с ней согласились.
К моей маме часто заходила соседка, Лия Моисеевна. И вели они разговоры о любви.
– О какой любви она говорит? – думала я. – Она такая старая (Лие Моисеевне было шестьдесят лет), такая толстая!
– Душа должна петь! – утверждала она.
Глаза у Лии Моисеевны горели. Она была влюблена. «Ягодка опять».
Моя тётушка Полина влюбилась в шестьдесят восемь лет. Её невозможно было узнать – юная Джульетта. Она смотрела на своего избранника восторженными глазами, цитировала его, полностью растворилась в нём.
Вот вам и «бабий век короток».
Мы собрались по поводу 25-летия окончания школы. Интересно, узнаем ли мы друг друга? Какие все стали взрослые! Охи, ахи, воспоминания…
Наши мальчики почему-то на встречу пришли со своими молоденькими женами. Самое интересное, что вскоре они с восторгом смотрели на «ягодок».
– Где я раньше был? Куда смотрел? Какая ты стала шикарная женщина!
Да, «ягодка» может дать фору молодой. Зрелая женщина, с ней интереснее.
«Бабье лето» – короткий период. На смену придут дожди, похолодает… А пока…
«В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад».
МЕЧТА ИДИОТА
Когда я была маленькой, я так хотела, чтобы мне подарили плюшевую обезьянку. Я ее видела в одном доме. Она сидела на пальме и, скорчив рожицу, смотрела на меня. Интересно, взрослые догадаются или нет, что я хочу такую игрушку? Естественно, никому в голову не пришло подарить мне ее.
Став постарше, я мечтала стать принцессой, и чтобы принц, обязательно на белом коне, прискакал за мной.
А еще мне ужасно хотелось побывать в Рио-де-Жанейро на карнавале. Почему именно Рио-де-Жанейро, ведь карнавалы устраивают и в Венеции, и других городах мира? Не знаю.
Естественно, принцессой я не стала. И принц за мной так и не приехал. В Рио-де-Жанейро не была – очень далеко и не по карману. А вот обезьяну мне подарила дочь с первой своей зарплаты.
– Мамочка, ты так хотела в детстве иметь эту игрушку, что я решила осуществить твою мечту и подарить тебе плюшевую обезьянку Джузи.
Обезьяна была большая, мягкая и совсем не такая, о которой я мечтала в детстве. Мне она была уже совсем не нужна – все должно быть вовремя. Но я так тебе благодарна, девочка моя, за твое внимание, доброту, любовь! Это лучший подарок в моей жизни. Я посадила игрушку в кресло. Обезьяна хитро смотрела на меня, посмеивалась.
С годами я поняла, что нельзя себе всегда во всем отказывать. Вот захотелось куда-то поехать – надо ехать, захотелось что-то купить – надо покупать. Нельзя ничего откладывать на потом. Ведь это потом может и не наступить.
Я всегда мечтала: вот вырастет дочь, и я буду с ней везде ходить – в театры, на концерты, выставки. Мы будем с ней, как подруги. Дочь выросла, но ей было неинтересно ходить с мамой, у нее своя молодая жизнь, своя компания. Это естественно, на это не надо обижаться. Но когда я первый раз услышала: «Ты не хочешь Новый год встретить с тетей Томой, а мы бы с друзьями собрались у нас?» или «Тебе что, не с кем пойти на выставку, что ты хочешь со мной?», «Ты чего живешь моей жизнью? Живи своей», – как-то стало не по себе.
Я научилась жить «своей», отдельной от нее жизнью, не задавать лишних вопросов, не давать ненужных советов. «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом?» Матерью не легче, если не сложнее.
Но вот, наконец, повзрослев, поумнев, набив немало шишек, дочь уже сама предлагает:
– Ты не хотела бы пойти со мной на… , как ты думаешь…, как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной отдыхать, а потом к нам присоединится Саша?
Ну, что ж, поехали.
На отдыхе сбылась еще одна мечта: я купила себе комбинезон. Комбинезоны всегда мне нравились. Молоденькие, стройненькие девушки в них смотрятся великолепно или, как теперь говорят, «отпадно». Но я не молоденькая и далеко не стройненькая.
– Примерьте, – предложила мне продавщица.
Как же мне здорово в комбинезоне! Я не стала переодеваться и прямо в нем вернулась домой.
Во дворе меня встретил хозяин. Лицо его выражало восторг.
– Во! – воскликнул он и поднял кверху большой палец.
– Мать, ты даешь! – восхитилась дочь. – Ты только не комплексуй. Ты красивая женщина. А комбинезон воспринимается, как вечерний туалет.
В тот же вечер в новом наряде (с голой спиной и плечами), надев красивые длинные серьги и кулон, я отправилась в город на концерт. Ощущаю себя женщиной.
– Обязательно пойди в комбинезоне на работу, – советует мне дочь. – Ты всех сразишь наповал.
– Что ты такое говоришь? Я же в школе работаю.
– Так не на занятия же я тебе предлагаю в нем пойти, а на педсовет. В крайнем случае, накинь сверху маленькую прозрачную накидку или свяжи ажурное болеро. Будет эффект разорвавшейся бомбы.
Мечты должны сбываться. Без этого нельзя. И хорошо, когда это происходит вовремя.
Есть у меня еще одно желание, но о нем пока рано говорить. Пусть исполнится.
ДОЗАНИМАЛИСЬ…
– Не доглядела, упустила мальчика! – сокрушалась Валентина Васильевна. – Что я скажу его родителям, когда они приедут? – убивалась она.
Валентина Васильевна была директором школы, в которой я когда-то работала. Умная, деловая, человек прекрасный, педагог от Бога. Мы ее очень любили. Муж Валентины Васильевны погиб в автокатастрофе, и она одна вырастила сына, дала ему образование. Федя окончил мединститут, ординатуру, поступил в аспирантуру. Вскоре он знакомит мать с девушкой:
– Это Катя – моя жена, по совместительству – моя медсестра. Прошу любить и жаловать.
Как же так: тайком от матери жениться, не сыграть свадьбу? Комок стоял в горле. Только бы не расплакаться!
– Поздравляю, – еле выдавила из себя Валентина Васильевна.
– Мы с Катей решили поработать заграницей.
«Мы с Катей… А мое мнение уже ничего не значит», – отметила про себя Валентина Васильевна. – «Обидно!»
– А как же аспирантура? – робко задала она вопрос.
Сын только махнул рукой.
– Там будет видно.
Вскоре у Федора родился сын. Когда мальчику исполнилось пять лет, родители решили: пусть воспитанием ребенка занимается бабушка – она педагог, Заслуженный учитель, а им надо работать. «Деньги зарабатывать», – как сказала Катя.
Маленький Тема видел родителей только, когда они приезжали в отпуск. Валентина Васильевна была ему и бабушкой, и мамой.
Я была классным руководителем Темы. Он был очень способным, хорошо воспитанным мальчиком, занимался спортом, учился в музыкальной школе. Тема был гордостью школы. Он участвовал во всевозможных конкурсах, олимпиадах, школу окончил с золотой медалью, готовился к поступлению в университет.
Я никогда не видела Валентину Васильевну такой потерянной.
– Валентина Васильевна, что случилось? – спросила я.
– Не доглядела я, Танечка, – с болью в голосе сказала она. – Тема хотел стать юристом. Он и его одноклассница Света Лисицына занимались на курсах по подготовке к экзаменам. Тема успешно сдал экзамены и был принят в университет.
– Поздравляю. Я так рада за Вас, за Тему! Но что же с ним случилось, что на Вас лица нет?
Валентина Васильевна тяжело вздохнула:
– Тема скоро станет отцом. Света беременна. Я ничего не имею против Светы, она хорошая девочка, воспитанная, целеустремленная, но им только семнадцать лет. О какой женитьбе может идти речь?
– Боже мой! – ахнула я. – Как это могло случиться? Им же еще учиться и учиться!
– Мама Светы уговорила меня отпустить Тему к ним на дачу, чтобы ребята готовились к экзаменам не в душном городе, а на свежем воздухе. Мне и в голову не могло прийти, что ребята там будут предоставлены сами себе, одни, без взрослых. Ну, и дозанимались, – с горечью в голосе сказала Валентина Васильевна.
– А что Светина мама?
– Алла Михайловна очень рада, что ее дочь ждет ребенка. «Света никогда бы не встретила такого чудесного мальчика, как Ваш Тема. Такой шанс выпадает один на тысячу, и его нельзя было упускать. Я сделала все для того, чтобы моя дочь была счастлива, и горжусь собой. А учеба? Света еще успеет. И даже если у нее не будет высшего образования, это не главное. Главное, что она сумела заполучить Тему», – цинично заявила Алла Михайловна.
– Ну и ну, – только и могла сказать я, – ничего себе мамочка! И что же это будет?
– Тема переводится на заочное отделение и идет работать, – с болью сказала Валентина Васильевна. – На днях бракосочетание Светы и Темы.
Я удивилась:
– Им же нет восемнадцати!
– В экстренных случаях, когда должен родиться ребенок, регистрируют брак в семнадцать лет.
Валентина Васильевна заплакала.
– Не надо так убиваться, ничего страшного не произошло, – попыталась я ее утешить. – Кто знает, может, это и к лучшему – Тема не будет бегать по девочкам, Вы не будете волноваться, где он и с кем он. Света девочка неплохая. Все будет хорошо.
– Может быть, Вы и правы, Танечка. Глаза у Темы светятся от счастья. Он горд, что скоро станет отцом, водит Свету в женскую консультацию, смотрит на нее влюбленными глазами, гладит животик.
– Вот видите. Не надо думать о плохом. Любовь – это большое счастье.
К сожалению, больше я Валентину Васильевну не встречала и не знаю, как разворачивались события дальше. Но хочется верить, что все у Темы будет хорошо – и университет он окончит, и со Светой будет счастлив.
– Тебе кофе в постель когда-нибудь подавали? – спросила меня кузина.
– Подавали, – улыбнулась я.
– Счастливая, – позавидовала мне она. – А моему Славику никогда даже в голову не пришло это сделать, – с горечью произнесла она.
– Грех тебе жаловаться на мужа. Вы вместе уже столько (около сорока) лет! Слава любит тебя, предан, как говорят, телом и душой. Помню, как я гостила у вас. Утром Слава, проснувшись раньше тебя, шёл на кухню и начинал чистить картошку. «Вот проснётся Элечка, а её ждёт жареная картошечка. Она так её любит!» – говорил он. Ночью не ты, а Слава вставал к ребёнку. Утром, пока ты спала, шёл с малышом гулять, давая возможность тебе выспаться. Ему ничего для тебя не жалко. Ты для него самая красивая, самая любимая, самая желанная!
– Да, конечно. Мне очень повезло с мужем. Я с ним как «за каменной стеной». Даже не представляю себе жизни без него. Но… кофе в постель… – вздохнула она.
Дочь моей подруги, будучи студенткой первого курса института, влюбилась в хорошего мальчика, своего сокурсника, и вышла за него замуж. Подруга очень волновалась: «Какое ещё замужество! Девочке ещё учиться и учиться». Парень пообещал, что он даст Светочке возможность спокойно окончить институт, что детей они в ближайшее время не планируют, только, когда «встанут на ноги». Юноша перевелся на заочное отделение и устроился на работу, чтобы ни от кого не зависеть. Сергей оказался чудесным мужем – всё для любимой Светочки, чтобы она была довольна и счастлива. Цветы, подарки… Любое Светочкино желание – закон.
Но Светочка, как и многие другие, у которых с самого начала всё в жизни складывалось удачно, не умела это ценить, не понимала, как ей повезло. Ей, как и моей кузине, не хватало «кофе в постель…»
Наверно, если бы хоть раз девушкам пришлось на себе испытать, что может быть иначе, они бы ценили то, что имеют.
Но… «Что имеем – не храним,
Потерявши – плачем».
Они завидуют мне… Кофе в постель – приятно, незабываемо, но…
Да, Вадим любил меня. Но у нас с ним, как говорят, была любовь на расстоянии; приехал – уехал, приехал – уехал. (Он жил в другом городе). А я летала к нему. И так продолжалось много лет. Когда Вадим приезжал в Москву, он баловал меня – делал чудесные подарки, дарил цветы, мы интересно проводили время: выставки, концерты, театр… Он старался делать мне приятное, в том числе «кофе в постель». Мы любили друг друга. Вадим был в курсе всех моих дел, поддерживал меня во всём. Но всё бросить и соединить свою жизнь со мной он не решился. Да, были причины и объективные, и субъективные: одинокая сестра, на которую он не мог оставить больного отца, и у самого Вадима были проблемы со здоровьем. И он считал, что не имеет права усложнять мою жизнь. Это не верно. И в горе, и в радости любящие сердца должны идти по жизни рядом. Мы и шли, только на расстоянии. Приехал – счастье, радость! Уехал – и… пустота, тишина. Это длилось много лет. Когда Вадима не стало, жизнь для меня остановилась, я «впала в спячку». Почему мы всё откладываем на потом, почему не ценим то, что есть?
Кофе в постель – приятно, незабываемо, но…
БАБЬЕ ЛЕТО
– Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
Б. Пастернак «Бабье лето»
Осень… Красота неимоверная! Красные, желтые, светло-зелёные листья кружатся и падают на землю. Стоят последние тёплые денёчки. Ничто не предвещает скорой холодной зимы. В это время начинали делать заготовки на зиму – солить, мариновать, варить варенье… Занимались этими работами, в основном, женщины.
Золотая осень – это вторая молодость, «бабье лето». «В сорок пять баба ягодка опять». Почему только в сорок пять? В любом возрасте женщина хочет быть счастливой, любимой «ягодкой».
Одна моя знакомая, которая очень весело отмечала 75-летие, подняла тост, переделав поговорку: «Нет, не в 45, а в 75!». И все, разумеется, с ней согласились.
К моей маме часто заходила соседка, Лия Моисеевна. И вели они разговоры о любви.
– О какой любви она говорит? – думала я. – Она такая старая (Лие Моисеевне было шестьдесят лет), такая толстая!
– Душа должна петь! – утверждала она.
Глаза у Лии Моисеевны горели. Она была влюблена. «Ягодка опять».
Моя тётушка Полина влюбилась в шестьдесят восемь лет. Её невозможно было узнать – юная Джульетта. Она смотрела на своего избранника восторженными глазами, цитировала его, полностью растворилась в нём.
Вот вам и «бабий век короток».
Мы собрались по поводу 25-летия окончания школы. Интересно, узнаем ли мы друг друга? Какие все стали взрослые! Охи, ахи, воспоминания…
Наши мальчики почему-то на встречу пришли со своими молоденькими женами. Самое интересное, что вскоре они с восторгом смотрели на «ягодок».
– Где я раньше был? Куда смотрел? Какая ты стала шикарная женщина!
Да, «ягодка» может дать фору молодой. Зрелая женщина, с ней интереснее.
«Бабье лето» – короткий период. На смену придут дожди, похолодает… А пока…
«В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад».
МЕЧТА ИДИОТА
Когда я была маленькой, я так хотела, чтобы мне подарили плюшевую обезьянку. Я ее видела в одном доме. Она сидела на пальме и, скорчив рожицу, смотрела на меня. Интересно, взрослые догадаются или нет, что я хочу такую игрушку? Естественно, никому в голову не пришло подарить мне ее.
Став постарше, я мечтала стать принцессой, и чтобы принц, обязательно на белом коне, прискакал за мной.
А еще мне ужасно хотелось побывать в Рио-де-Жанейро на карнавале. Почему именно Рио-де-Жанейро, ведь карнавалы устраивают и в Венеции, и других городах мира? Не знаю.
Естественно, принцессой я не стала. И принц за мной так и не приехал. В Рио-де-Жанейро не была – очень далеко и не по карману. А вот обезьяну мне подарила дочь с первой своей зарплаты.
– Мамочка, ты так хотела в детстве иметь эту игрушку, что я решила осуществить твою мечту и подарить тебе плюшевую обезьянку Джузи.
Обезьяна была большая, мягкая и совсем не такая, о которой я мечтала в детстве. Мне она была уже совсем не нужна – все должно быть вовремя. Но я так тебе благодарна, девочка моя, за твое внимание, доброту, любовь! Это лучший подарок в моей жизни. Я посадила игрушку в кресло. Обезьяна хитро смотрела на меня, посмеивалась.
С годами я поняла, что нельзя себе всегда во всем отказывать. Вот захотелось куда-то поехать – надо ехать, захотелось что-то купить – надо покупать. Нельзя ничего откладывать на потом. Ведь это потом может и не наступить.
Я всегда мечтала: вот вырастет дочь, и я буду с ней везде ходить – в театры, на концерты, выставки. Мы будем с ней, как подруги. Дочь выросла, но ей было неинтересно ходить с мамой, у нее своя молодая жизнь, своя компания. Это естественно, на это не надо обижаться. Но когда я первый раз услышала: «Ты не хочешь Новый год встретить с тетей Томой, а мы бы с друзьями собрались у нас?» или «Тебе что, не с кем пойти на выставку, что ты хочешь со мной?», «Ты чего живешь моей жизнью? Живи своей», – как-то стало не по себе.
Я научилась жить «своей», отдельной от нее жизнью, не задавать лишних вопросов, не давать ненужных советов. «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом?» Матерью не легче, если не сложнее.
Но вот, наконец, повзрослев, поумнев, набив немало шишек, дочь уже сама предлагает:
– Ты не хотела бы пойти со мной на… , как ты думаешь…, как ты смотришь на то, чтобы поехать со мной отдыхать, а потом к нам присоединится Саша?
Ну, что ж, поехали.
На отдыхе сбылась еще одна мечта: я купила себе комбинезон. Комбинезоны всегда мне нравились. Молоденькие, стройненькие девушки в них смотрятся великолепно или, как теперь говорят, «отпадно». Но я не молоденькая и далеко не стройненькая.
– Примерьте, – предложила мне продавщица.
Как же мне здорово в комбинезоне! Я не стала переодеваться и прямо в нем вернулась домой.
Во дворе меня встретил хозяин. Лицо его выражало восторг.
– Во! – воскликнул он и поднял кверху большой палец.
– Мать, ты даешь! – восхитилась дочь. – Ты только не комплексуй. Ты красивая женщина. А комбинезон воспринимается, как вечерний туалет.
В тот же вечер в новом наряде (с голой спиной и плечами), надев красивые длинные серьги и кулон, я отправилась в город на концерт. Ощущаю себя женщиной.
– Обязательно пойди в комбинезоне на работу, – советует мне дочь. – Ты всех сразишь наповал.
– Что ты такое говоришь? Я же в школе работаю.
– Так не на занятия же я тебе предлагаю в нем пойти, а на педсовет. В крайнем случае, накинь сверху маленькую прозрачную накидку или свяжи ажурное болеро. Будет эффект разорвавшейся бомбы.
Мечты должны сбываться. Без этого нельзя. И хорошо, когда это происходит вовремя.
Есть у меня еще одно желание, но о нем пока рано говорить. Пусть исполнится.
ДОЗАНИМАЛИСЬ…
– Не доглядела, упустила мальчика! – сокрушалась Валентина Васильевна. – Что я скажу его родителям, когда они приедут? – убивалась она.
Валентина Васильевна была директором школы, в которой я когда-то работала. Умная, деловая, человек прекрасный, педагог от Бога. Мы ее очень любили. Муж Валентины Васильевны погиб в автокатастрофе, и она одна вырастила сына, дала ему образование. Федя окончил мединститут, ординатуру, поступил в аспирантуру. Вскоре он знакомит мать с девушкой:
– Это Катя – моя жена, по совместительству – моя медсестра. Прошу любить и жаловать.
Как же так: тайком от матери жениться, не сыграть свадьбу? Комок стоял в горле. Только бы не расплакаться!
– Поздравляю, – еле выдавила из себя Валентина Васильевна.
– Мы с Катей решили поработать заграницей.
«Мы с Катей… А мое мнение уже ничего не значит», – отметила про себя Валентина Васильевна. – «Обидно!»
– А как же аспирантура? – робко задала она вопрос.
Сын только махнул рукой.
– Там будет видно.
Вскоре у Федора родился сын. Когда мальчику исполнилось пять лет, родители решили: пусть воспитанием ребенка занимается бабушка – она педагог, Заслуженный учитель, а им надо работать. «Деньги зарабатывать», – как сказала Катя.
Маленький Тема видел родителей только, когда они приезжали в отпуск. Валентина Васильевна была ему и бабушкой, и мамой.
Я была классным руководителем Темы. Он был очень способным, хорошо воспитанным мальчиком, занимался спортом, учился в музыкальной школе. Тема был гордостью школы. Он участвовал во всевозможных конкурсах, олимпиадах, школу окончил с золотой медалью, готовился к поступлению в университет.
Я никогда не видела Валентину Васильевну такой потерянной.
– Валентина Васильевна, что случилось? – спросила я.
– Не доглядела я, Танечка, – с болью в голосе сказала она. – Тема хотел стать юристом. Он и его одноклассница Света Лисицына занимались на курсах по подготовке к экзаменам. Тема успешно сдал экзамены и был принят в университет.
– Поздравляю. Я так рада за Вас, за Тему! Но что же с ним случилось, что на Вас лица нет?
Валентина Васильевна тяжело вздохнула:
– Тема скоро станет отцом. Света беременна. Я ничего не имею против Светы, она хорошая девочка, воспитанная, целеустремленная, но им только семнадцать лет. О какой женитьбе может идти речь?
– Боже мой! – ахнула я. – Как это могло случиться? Им же еще учиться и учиться!
– Мама Светы уговорила меня отпустить Тему к ним на дачу, чтобы ребята готовились к экзаменам не в душном городе, а на свежем воздухе. Мне и в голову не могло прийти, что ребята там будут предоставлены сами себе, одни, без взрослых. Ну, и дозанимались, – с горечью в голосе сказала Валентина Васильевна.
– А что Светина мама?
– Алла Михайловна очень рада, что ее дочь ждет ребенка. «Света никогда бы не встретила такого чудесного мальчика, как Ваш Тема. Такой шанс выпадает один на тысячу, и его нельзя было упускать. Я сделала все для того, чтобы моя дочь была счастлива, и горжусь собой. А учеба? Света еще успеет. И даже если у нее не будет высшего образования, это не главное. Главное, что она сумела заполучить Тему», – цинично заявила Алла Михайловна.
– Ну и ну, – только и могла сказать я, – ничего себе мамочка! И что же это будет?
– Тема переводится на заочное отделение и идет работать, – с болью сказала Валентина Васильевна. – На днях бракосочетание Светы и Темы.
Я удивилась:
– Им же нет восемнадцати!
– В экстренных случаях, когда должен родиться ребенок, регистрируют брак в семнадцать лет.
Валентина Васильевна заплакала.
– Не надо так убиваться, ничего страшного не произошло, – попыталась я ее утешить. – Кто знает, может, это и к лучшему – Тема не будет бегать по девочкам, Вы не будете волноваться, где он и с кем он. Света девочка неплохая. Все будет хорошо.
– Может быть, Вы и правы, Танечка. Глаза у Темы светятся от счастья. Он горд, что скоро станет отцом, водит Свету в женскую консультацию, смотрит на нее влюбленными глазами, гладит животик.
– Вот видите. Не надо думать о плохом. Любовь – это большое счастье.
К сожалению, больше я Валентину Васильевну не встречала и не знаю, как разворачивались события дальше. Но хочется верить, что все у Темы будет хорошо – и университет он окончит, и со Светой будет счастлив.
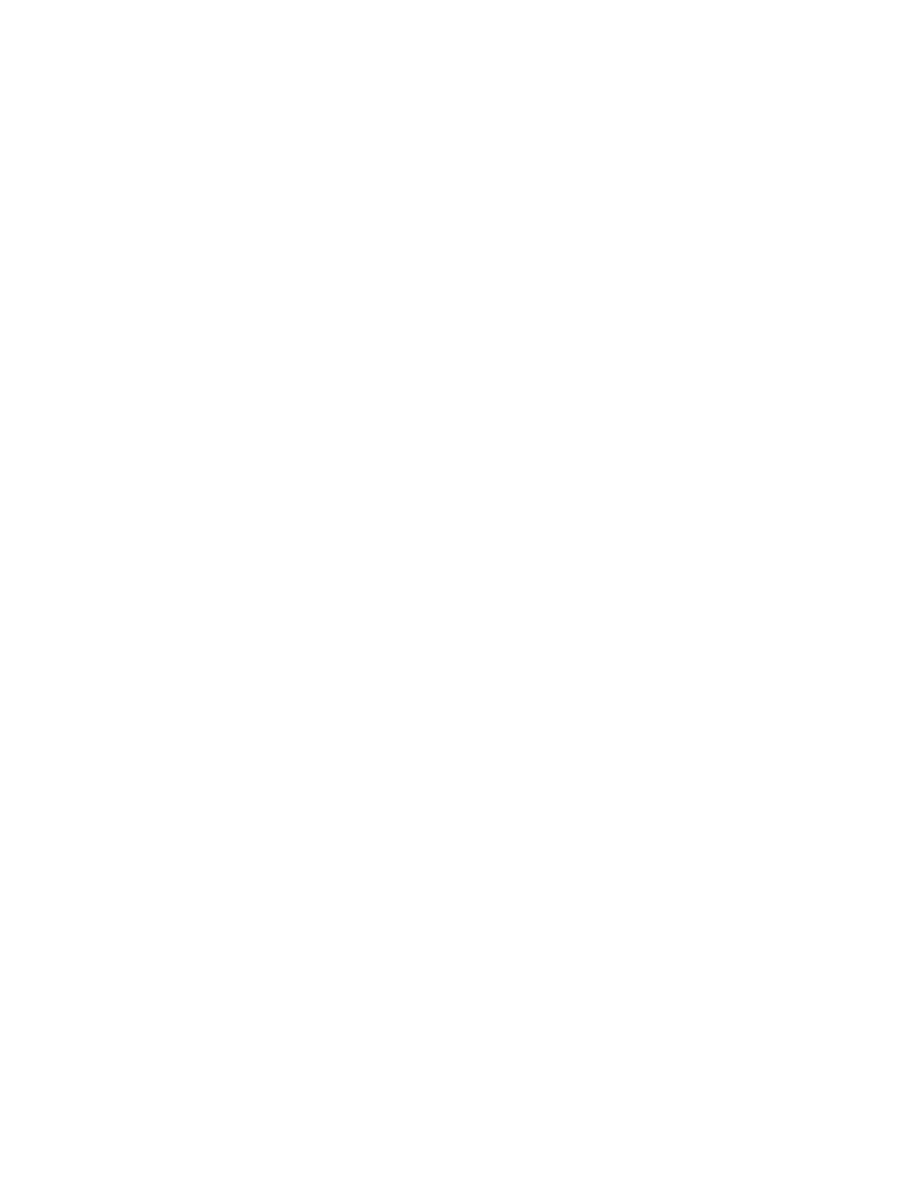
Альбина МЕЛЬНИКОВА
Является студенткой второго курса факультета лингвистики и педагогики. Обучается в ММА (Московской международной академии) города Москвы. Родилась в городе Первоуральске. С самого рождения проживает в селе Платоново Свердловской области. Призер Всероссийского литературного конкурса «Время писать книги 2024». Автор романов «Благослови меня», «Лучезарные берега», а также рассказа «Ты гори моя свеча». Кроме того, на протяжении многих лет активная участница конкурсов: «Живая Классика», «Конкурс стихов АИФ», «Медвяный звон» и других…
Является студенткой второго курса факультета лингвистики и педагогики. Обучается в ММА (Московской международной академии) города Москвы. Родилась в городе Первоуральске. С самого рождения проживает в селе Платоново Свердловской области. Призер Всероссийского литературного конкурса «Время писать книги 2024». Автор романов «Благослови меня», «Лучезарные берега», а также рассказа «Ты гори моя свеча». Кроме того, на протяжении многих лет активная участница конкурсов: «Живая Классика», «Конкурс стихов АИФ», «Медвяный звон» и других…
ЛАСКОВЫЙ ЛАЙ
Всё это случилось ночью, дворняжка Дайна принесла щенка. Русский майор Пётр Петрович взял его на руки и спросил у своих товарищей, как лучше назвать щенка. Один солдат-пулемётчик предложил назвать его Лёнькой, солдаты поддержали:
– Леонид Петрович, звучит неплохо, по-нашему.
Рос Леонид Петрович на окраине Ленинграда, в погребе у майора, Дайна жила недалеко по соседству в штабе.
Леонид Петрович рос не по дням, а по часам. Вырос он большим псом, но в один ужасный день его мама умерла. Все солдаты сняли шапки, нашли поломанное железо, разогнули его, оно стало похоже на маленький гробик.
Началась минута прощания, собаку положили в гробик и закрыли. Старая вдова прочла молитву и перекрестила гроб. Солдаты похоронили её.
Леонид словно читал по лицам, из его глаз катились слёзы. Когда все вернулись в погреб, он взял пустую консервную банку и начал её грызть.
Впервые он завыл, он знал, что случилось горе, которое нужно пережить, но не знал как. Хорошо, что рядом были верные друзья.
Позже он узнал, что его мать застрелили немцы. Солдатам дали очередное задание, Дайна пошла с ними, она была старая, но быстрая и проворная.
Был разгар войны, русские были в разведке, они должны были проверить окрестности реки Невы. Готовился прорыв блокады Ленинграда, Нева была замёрзшая, засыпанная снегом.
В какой-то момент наши разведчики подошли слишком близко к врагу. Мимо наших солдат прошёл немец, он заметил издали пулемётчика Ивана. Иван стоял спиной и не видел врага. Когда немец прицелился и почти нажал на курок автомата, Дайна выскочила, как молния, на врага, закрывая собой товарища.
Борька Костоухин кричал: «Дайна, куда, вернись!»
Дайна вцепилась в колени немца своими острыми зубами. Немец взвыл от боли, он плохо говорил по-русски, у него получилось только: «А, а вридная собака, осанн, осанн». И он выстрелил в Дайну, его боли прекратились, а Дайна упала.
Когда русские окружили фрица, он плакал и говорил: «Я не хотель, не убивайт», он только и мог навредить и сдаться, потому что был трусом. Наши разведчики вернулись в лагерь, привели врага и добыли важную информацию. Но Дайны, которую любили всем взводом, больше не было.
И даже на базе Леонид в этот момент почувствовал что-то неладное, услышал выстрел, навострил уши, услышал голоса, его сердце билось сильно-сильно.
Иван говорил о том, что Дайна спасла ему жизнь, и он будет благодарен ей до конца дней. Вот так закончилось очередное задание, Лёнька на всю жизнь запомнил, что немцы – это зло, и с этим нужно бороться, чтобы никогда в жизни не терять больше своих близких людей.
И так шёл год за годом, день за днём, минута за минутой.
Девятьсот героических, страшных дней длилась блокада. Каждый день и час были испытания человеческих качеств и человеческих ценностей.
Каждый день Пётр Петрович с товарищами ходили на задание в разведку и брали с собой Лёньку. Когда в дивизии кто-то получал ранение, Лёнька нёс бинты, приносил фляжку с водой. Он всё понимал и всегда знал, где свои, где чужие, где опасность, где нужна помощь. Он очень походил на свою мать: тот же чепрачный окрас, с чёрными пятнами, его глаза всегда были внимательны, он серьёзно относился к заданиям.
Много было собак на войне, но таких, как Лёнька, не было. Скольких людей он вынес из-под обломков! А скольких с поля боя и не сосчитать. Каждый ленинградец знал Лёньку и доверял ему, как себе. В один из дней вся дивизия была на задании, а Лёнька порезал лапу и вынужден был ждать остальных.
Русские тихо и незаметно начали пробиваться во вражескую базу, где было около ста человек, но у каждого был автомат и гранаты. Наших же было всего двенадцать человек, но каких: Пётр Петрович, Иван Козырьков, Борис Костоухин, Марат Алибулин, Алексей Потапов, Михаил Кочерыжка, Митя Мойбулов, Саша Дубников, Николай Семёнов, Василий Карабулов и две девчонки – Алёна Пулиналова и Ольга Комелькова.
Раздалась смесь громогласного звона. Около наших взорвалась бомба, всех отбросило в сторону. Они попали под завалы строений, истекали кровью.
Лёнька это тоже услышал, его сердце забилось так быстро и так сильно. Он вдруг ясно представил, что его семья, его друзья в опасности. Его лапы побежали так быстро, как не бегали никогда, сейчас бы даже самая быстрая машина не смогла его догнать. Навстречу ему попадали фашисты, они пытались стрелять в бегущую собаку, рядом взрывались снаряды, но Лёньке все было нипочем, он был словно «заколдованный». Ему не страшны были никакие угрозы. Наверное, сам Бог, увидев смелость четвероногого, решил ему помочь. Когда Лёнька нашел своих знакомых, он увидел, что они под завалами и им нужна помощь.
Он рванул в сторону, добежал до санитаров и потащил их за собой. Санитары сначала сопротивлялись, но позже они узнали Лёньку-Ленинградца.
Помощь пришла вовремя, многих госпитализировали, все благодарили пса. Когда его попытались погладить, то он завизжал от боли, оказывается, он сам был ранен. После госпиталя ему вручили пятую медаль за спасение раненых.
Долго и славно служил Лёнька, ни разу не подвёл, не был предателем, никогда не спасал себя, а только тех, кто нуждался в помощи. Он будто знал, как им плохо, и твердил себе: «Лёнька, беги, им сейчас хуже, чем тебе».
Леонид возмужал. Наши солдаты освобождали все новые территории, находясь далеко от своей родины, но не на секунду не забывая о ней. Они гнали ненавистных фашистов, которые причинили столько горя, бед каждой семье, неважно какой национальности. Они надеялись разлучить семьи, убить мужчин, поработить женщин и детей и властвовать над всеми. Они очень ошибались. Никто не сможет сломить веру и лишить родной земли, Родины тех, кто так любит жизнь.
Наступил праздник девятое мая сорок пятого года, все праздновали победу. Женщины обнимали мужей, сыновей, братьев. В глазах стояли слёзы радости. Звучала музыка, Лёнька лежал и наблюдал за окружающими. Пётр Петрович танцевал, а Василий Карабулов весело играл на гармонике. Все веселились и поздравляли друг друга.
Вдруг в заброшенном доме показалось какое-то движение. В проеме стоял немец и поднимал автомат. Он прицелился прямо в Петра Петровича, Лёнька заметил это, прыгнул, закрывая собой самого дорогого человека, раздалась автоматная очередь. Началось движение, немца поймали, а Пётр Петрович плакал, держа Леньку на руках. Медсестры организовали помощь Лёньке и все молились, ожидая чудо.
Вскоре выбежала медсестра Алёнка и позвала Петра Петровича. Когда он с товарищами переступил порог полевого госпиталя, все увидели Лёньку, лежащего на операционном столе. Спиной к ним стояла Варвара Николаевна, она смотрела в окно и о чём-то думала. Она повернулась, сказав: «Нам не удалось его спасти», и разревелась так, как умела женщина.
Мужчины, прятав скупые слезы, сняли головные уборы, а женщины, не скрывая слёз, плакали от бессилия. Петр Петрович, вынося Леньку, говорил:
– Он спас мне жизнь.
Иван сказал:
– А ведь почти так же Дайна спасла меня.
Похоронили Лёньку и зажгли на его могиле одинокую свечу, начался дождь, а она всё не угасала, казалось, что будет вечно гореть дух смелости, верности и чести.
Пётр Петрович сказал:
– Женщины, дети, старики, солдаты, все, кто любит свою родину, несмотря на национальность, приближали День Великой Победы. Даже животные, погибая сами, спасали других. Не это ли великий народ, победить который не сможет никто. Самое главное, чтобы последующие поколения берегли в памяти этот подвиг и такой хрупкий мир. А все-таки какой у моего Леонида Петровича был ласковый лай.
Всё это случилось ночью, дворняжка Дайна принесла щенка. Русский майор Пётр Петрович взял его на руки и спросил у своих товарищей, как лучше назвать щенка. Один солдат-пулемётчик предложил назвать его Лёнькой, солдаты поддержали:
– Леонид Петрович, звучит неплохо, по-нашему.
Рос Леонид Петрович на окраине Ленинграда, в погребе у майора, Дайна жила недалеко по соседству в штабе.
Леонид Петрович рос не по дням, а по часам. Вырос он большим псом, но в один ужасный день его мама умерла. Все солдаты сняли шапки, нашли поломанное железо, разогнули его, оно стало похоже на маленький гробик.
Началась минута прощания, собаку положили в гробик и закрыли. Старая вдова прочла молитву и перекрестила гроб. Солдаты похоронили её.
Леонид словно читал по лицам, из его глаз катились слёзы. Когда все вернулись в погреб, он взял пустую консервную банку и начал её грызть.
Впервые он завыл, он знал, что случилось горе, которое нужно пережить, но не знал как. Хорошо, что рядом были верные друзья.
Позже он узнал, что его мать застрелили немцы. Солдатам дали очередное задание, Дайна пошла с ними, она была старая, но быстрая и проворная.
Был разгар войны, русские были в разведке, они должны были проверить окрестности реки Невы. Готовился прорыв блокады Ленинграда, Нева была замёрзшая, засыпанная снегом.
В какой-то момент наши разведчики подошли слишком близко к врагу. Мимо наших солдат прошёл немец, он заметил издали пулемётчика Ивана. Иван стоял спиной и не видел врага. Когда немец прицелился и почти нажал на курок автомата, Дайна выскочила, как молния, на врага, закрывая собой товарища.
Борька Костоухин кричал: «Дайна, куда, вернись!»
Дайна вцепилась в колени немца своими острыми зубами. Немец взвыл от боли, он плохо говорил по-русски, у него получилось только: «А, а вридная собака, осанн, осанн». И он выстрелил в Дайну, его боли прекратились, а Дайна упала.
Когда русские окружили фрица, он плакал и говорил: «Я не хотель, не убивайт», он только и мог навредить и сдаться, потому что был трусом. Наши разведчики вернулись в лагерь, привели врага и добыли важную информацию. Но Дайны, которую любили всем взводом, больше не было.
И даже на базе Леонид в этот момент почувствовал что-то неладное, услышал выстрел, навострил уши, услышал голоса, его сердце билось сильно-сильно.
Иван говорил о том, что Дайна спасла ему жизнь, и он будет благодарен ей до конца дней. Вот так закончилось очередное задание, Лёнька на всю жизнь запомнил, что немцы – это зло, и с этим нужно бороться, чтобы никогда в жизни не терять больше своих близких людей.
И так шёл год за годом, день за днём, минута за минутой.
Девятьсот героических, страшных дней длилась блокада. Каждый день и час были испытания человеческих качеств и человеческих ценностей.
Каждый день Пётр Петрович с товарищами ходили на задание в разведку и брали с собой Лёньку. Когда в дивизии кто-то получал ранение, Лёнька нёс бинты, приносил фляжку с водой. Он всё понимал и всегда знал, где свои, где чужие, где опасность, где нужна помощь. Он очень походил на свою мать: тот же чепрачный окрас, с чёрными пятнами, его глаза всегда были внимательны, он серьёзно относился к заданиям.
Много было собак на войне, но таких, как Лёнька, не было. Скольких людей он вынес из-под обломков! А скольких с поля боя и не сосчитать. Каждый ленинградец знал Лёньку и доверял ему, как себе. В один из дней вся дивизия была на задании, а Лёнька порезал лапу и вынужден был ждать остальных.
Русские тихо и незаметно начали пробиваться во вражескую базу, где было около ста человек, но у каждого был автомат и гранаты. Наших же было всего двенадцать человек, но каких: Пётр Петрович, Иван Козырьков, Борис Костоухин, Марат Алибулин, Алексей Потапов, Михаил Кочерыжка, Митя Мойбулов, Саша Дубников, Николай Семёнов, Василий Карабулов и две девчонки – Алёна Пулиналова и Ольга Комелькова.
Раздалась смесь громогласного звона. Около наших взорвалась бомба, всех отбросило в сторону. Они попали под завалы строений, истекали кровью.
Лёнька это тоже услышал, его сердце забилось так быстро и так сильно. Он вдруг ясно представил, что его семья, его друзья в опасности. Его лапы побежали так быстро, как не бегали никогда, сейчас бы даже самая быстрая машина не смогла его догнать. Навстречу ему попадали фашисты, они пытались стрелять в бегущую собаку, рядом взрывались снаряды, но Лёньке все было нипочем, он был словно «заколдованный». Ему не страшны были никакие угрозы. Наверное, сам Бог, увидев смелость четвероногого, решил ему помочь. Когда Лёнька нашел своих знакомых, он увидел, что они под завалами и им нужна помощь.
Он рванул в сторону, добежал до санитаров и потащил их за собой. Санитары сначала сопротивлялись, но позже они узнали Лёньку-Ленинградца.
Помощь пришла вовремя, многих госпитализировали, все благодарили пса. Когда его попытались погладить, то он завизжал от боли, оказывается, он сам был ранен. После госпиталя ему вручили пятую медаль за спасение раненых.
Долго и славно служил Лёнька, ни разу не подвёл, не был предателем, никогда не спасал себя, а только тех, кто нуждался в помощи. Он будто знал, как им плохо, и твердил себе: «Лёнька, беги, им сейчас хуже, чем тебе».
Леонид возмужал. Наши солдаты освобождали все новые территории, находясь далеко от своей родины, но не на секунду не забывая о ней. Они гнали ненавистных фашистов, которые причинили столько горя, бед каждой семье, неважно какой национальности. Они надеялись разлучить семьи, убить мужчин, поработить женщин и детей и властвовать над всеми. Они очень ошибались. Никто не сможет сломить веру и лишить родной земли, Родины тех, кто так любит жизнь.
Наступил праздник девятое мая сорок пятого года, все праздновали победу. Женщины обнимали мужей, сыновей, братьев. В глазах стояли слёзы радости. Звучала музыка, Лёнька лежал и наблюдал за окружающими. Пётр Петрович танцевал, а Василий Карабулов весело играл на гармонике. Все веселились и поздравляли друг друга.
Вдруг в заброшенном доме показалось какое-то движение. В проеме стоял немец и поднимал автомат. Он прицелился прямо в Петра Петровича, Лёнька заметил это, прыгнул, закрывая собой самого дорогого человека, раздалась автоматная очередь. Началось движение, немца поймали, а Пётр Петрович плакал, держа Леньку на руках. Медсестры организовали помощь Лёньке и все молились, ожидая чудо.
Вскоре выбежала медсестра Алёнка и позвала Петра Петровича. Когда он с товарищами переступил порог полевого госпиталя, все увидели Лёньку, лежащего на операционном столе. Спиной к ним стояла Варвара Николаевна, она смотрела в окно и о чём-то думала. Она повернулась, сказав: «Нам не удалось его спасти», и разревелась так, как умела женщина.
Мужчины, прятав скупые слезы, сняли головные уборы, а женщины, не скрывая слёз, плакали от бессилия. Петр Петрович, вынося Леньку, говорил:
– Он спас мне жизнь.
Иван сказал:
– А ведь почти так же Дайна спасла меня.
Похоронили Лёньку и зажгли на его могиле одинокую свечу, начался дождь, а она всё не угасала, казалось, что будет вечно гореть дух смелости, верности и чести.
Пётр Петрович сказал:
– Женщины, дети, старики, солдаты, все, кто любит свою родину, несмотря на национальность, приближали День Великой Победы. Даже животные, погибая сами, спасали других. Не это ли великий народ, победить который не сможет никто. Самое главное, чтобы последующие поколения берегли в памяти этот подвиг и такой хрупкий мир. А все-таки какой у моего Леонида Петровича был ласковый лай.
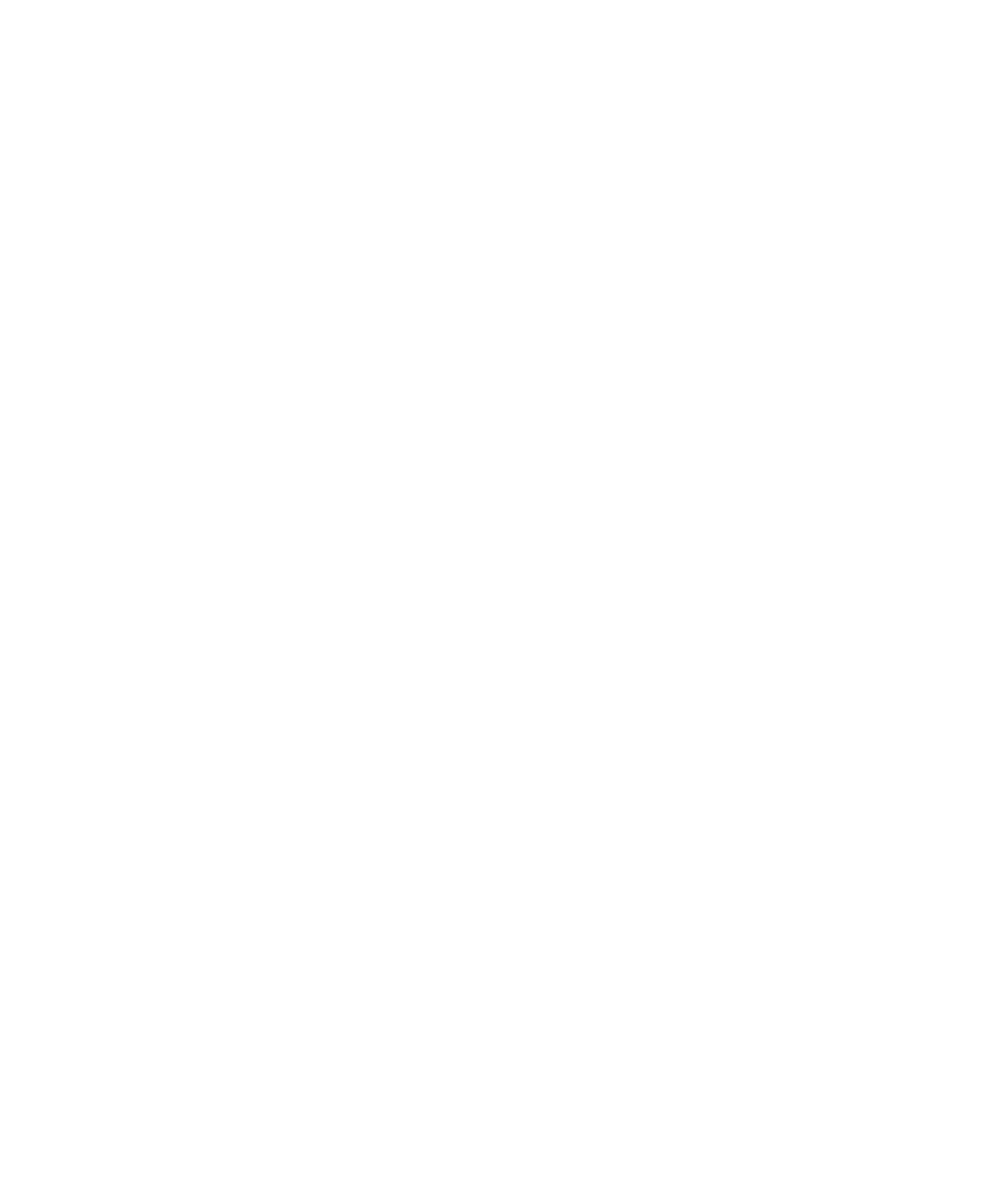
Максим ЛАЗАРЕВ
Родился в 1966 году в г. Москве. Член Союза Писателей России. Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша», «Стихи. Избранное». Более 40 публикаций в различных альманахах и сборниках Прозы и Поэзии. Многократный Лауреат Международных и Всероссийских литературных Конкурсов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии Искусств «IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA (2024)».
Лауреат Национальной Премии «Золотое Перо Руси» (2024 г.). Диплом Союза Писателей России «За мастерство» (2024 г.). Финалист Международного Литературного Конкурса Союза Писателей России им. Андрея Платонова «Умное сердце» (2024 г.). Номинант на Премию ФСБ России (2024 г.). Финалист Международного Литературного Конкурса им. Р. Казаковой (2025 г.). Финалист Литературной Премии им. Н. Рубцова (2025 г.).
Родился в 1966 году в г. Москве. Член Союза Писателей России. Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша», «Стихи. Избранное». Более 40 публикаций в различных альманахах и сборниках Прозы и Поэзии. Многократный Лауреат Международных и Всероссийских литературных Конкурсов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии Искусств «IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA (2024)».
Лауреат Национальной Премии «Золотое Перо Руси» (2024 г.). Диплом Союза Писателей России «За мастерство» (2024 г.). Финалист Международного Литературного Конкурса Союза Писателей России им. Андрея Платонова «Умное сердце» (2024 г.). Номинант на Премию ФСБ России (2024 г.). Финалист Международного Литературного Конкурса им. Р. Казаковой (2025 г.). Финалист Литературной Премии им. Н. Рубцова (2025 г.).
НЕ ПИШЕТСЯ...
Эссе
Я стою у окна на кухне и курю. По стеклу медленно сползают дорожки воды, ещё полминуты назад бывшие снегом, который швырял в окно тот самый, знаменитый с семнадцатого года прошлого века, безжалостный ноябрьский ветер. Сумерки... Беспросветные и холодные. По мокрым черным ветвям уснувших на полгода лип скачет белка, то ли проверяя свои летние закладки, то ли просто желая похвастаться совсем новой, с серебряным отливом, шубкой. Где-то внизу, в лужах, на усыпанном бурыми грязными листьями асфальте, словно на старой палитре неряшливого художника, в бесполезной попытке хоть как-то раскрасить накатывающую серость, аляповато расплываются желтые отблески автомобильных фар и красные кляксы стоп сигналов. Замерцал, запоздало разгораясь, одинокий фонарь. Будто подслушав всё, что творится на душе, и решив хоть, чем-то помочь, нарисовал невнятный жёлтый ореол, на фоне которого стали отчётливо видны мелкие и колкие штрихи ледяного дождя и совершенно одинокий, наверное, сумасшедший, кленовый лист. Где-то заверещала автомобильная сигнализация. И тоже совсем по-осеннему пискляво и на фальцете. Мигнув напоследок яркой инопланетной искоркой, полетел в сумрак докуренный до самого фильтра окурок сигареты. Стылый ветер, злорадно усмехаясь свистом в кухонной вытяжке, потрепал волосы и, пробежав по лицу, высыпал горсть мурашек под рубашку, заставляя поежиться и закрыть форточку. Я включаю свет в попытке выгнать из себя промозглость и наконец сесть за стол и начать писать. Вот уже третий день я хожу кругами вокруг ноутбука и боюсь открыть крышку. Уже не донимает жена, до этого всё время напоминавшая, что вышли все сроки, обещанные издателю, а моя «Коробка» так и не опустела. Или не наполнилась... И друзья не задают вопрос «когда?», и давно не пристаёт секретарь Союза, наверное уже пожалевший о своей рекомендации. А я тупо прокручиваю в голове написанное сорок лет назад стихотворение «Умру, наверно, осенью, наверно, в ноябре...» и тупо смотрю в черный проем осеннего окна, прикуривая сигарету от сигареты, и время от времени перебирая в стотысячный раз содержимое этой проклятой коробки.
– Ну что, Максим Викторович, «Золотое перо Руси – 24», «лауреать твою мать», исписался?! – злорадно хихикает на задворках мозга одна из самых шустрых извилин.
– Не дождётесь! – скриплю я керамическими коронками и плескаю в стакан коньяку. Янтарная жидкость ловит слабый отсвет уличного фонаря и дарит маленький солнечный зайчик, заставляя губы чуть растянуться в улыбке.
– Думаешь, поможет? – опять прыскает липкой слюной та самая извилина.
– Сука, – только и могу выдавить хрипло в ответ и доливаю коньяк до полстакана. Выпиваю крупными глотками и опять, распахнув настежь форточку, закуриваю.
– Не пишется, б**** ... Не пишется... Проклятый Московский ноябрь...
Целые сутки сплошной вечер... Мгла... Тоска...
Судорожно ловлю любую, даже самую малюсенькую деталь вокруг себя, в отчаянной попытке зацепиться взглядом хоть за что-нибудь. Только бы зацепиться, только бы схватить эту тоненькую ниточку бытия, а там уж раскрутим, завяжем, и пойдет плестись паутина, превращаясь в расцвеченный персидский ковер. И вроде бы как всегда рисует замысловатый узор серебристый дым сигареты, четкий, изысканный, как будто профессиональным гравером вырезанный, на подсвеченным с улицы оконном стекле. И холодный ветер, всегда волновавший мысли, и сейчас так же покалывает щеки и теребит волосы. И коньяк уже расслабил нервы и размывает зрение, превращая графическую картинку за окном в размытую и ласкающее сердце осеннюю акварель. Вот-вот! Ещё мгновение! Ещё совсем чуть-чуть, и родится сюжет! И полетят тогда пальцы по клавишам, превращая живые частички жизни, все эти пылинки материи в чёрные буковки на экране монитора. А буквы эти сложатся в слова, а слова в предложения, абзацы и страницы. И не успеет автор оглянуться, а перед ним уже лежит нечто, что родилось именно в его мозгу и сердце. И долго ещё автор будет перечитывать написанное, искать изъяны в своём калейдоскопе и изнывать от единственного вопроса, какая же судьба ждёт это его творение. И никто на планете Земля не ответит ему в этот момент. Может случится чудо, сойдутся вдруг звёзды на млечном пути, и этот набор букв и слов вознесет автора на вершину человеческой славы, и облако истории будет качать его ещё не одну сотню лет, а может ударит грубо лицом об стол безмолвным забвением или липким ехидным смехом критиков. Но как далеко ещё до этого трепетного мига! Ведь чтобы это понять, ещё нужно, чтобы это «что-то» родилось! И стучит сердце, всё время убыстряя ритм: надо, надо, надо! И сжимается до онемения рука в кулак, и скрипят зубы от бессилья. Ведь должно же! Сейчас! Да! Ну?! Ну, давай! Надо! Нужно!
Но ничего не происходит.
Ни-че-го...
Эссе
Я стою у окна на кухне и курю. По стеклу медленно сползают дорожки воды, ещё полминуты назад бывшие снегом, который швырял в окно тот самый, знаменитый с семнадцатого года прошлого века, безжалостный ноябрьский ветер. Сумерки... Беспросветные и холодные. По мокрым черным ветвям уснувших на полгода лип скачет белка, то ли проверяя свои летние закладки, то ли просто желая похвастаться совсем новой, с серебряным отливом, шубкой. Где-то внизу, в лужах, на усыпанном бурыми грязными листьями асфальте, словно на старой палитре неряшливого художника, в бесполезной попытке хоть как-то раскрасить накатывающую серость, аляповато расплываются желтые отблески автомобильных фар и красные кляксы стоп сигналов. Замерцал, запоздало разгораясь, одинокий фонарь. Будто подслушав всё, что творится на душе, и решив хоть, чем-то помочь, нарисовал невнятный жёлтый ореол, на фоне которого стали отчётливо видны мелкие и колкие штрихи ледяного дождя и совершенно одинокий, наверное, сумасшедший, кленовый лист. Где-то заверещала автомобильная сигнализация. И тоже совсем по-осеннему пискляво и на фальцете. Мигнув напоследок яркой инопланетной искоркой, полетел в сумрак докуренный до самого фильтра окурок сигареты. Стылый ветер, злорадно усмехаясь свистом в кухонной вытяжке, потрепал волосы и, пробежав по лицу, высыпал горсть мурашек под рубашку, заставляя поежиться и закрыть форточку. Я включаю свет в попытке выгнать из себя промозглость и наконец сесть за стол и начать писать. Вот уже третий день я хожу кругами вокруг ноутбука и боюсь открыть крышку. Уже не донимает жена, до этого всё время напоминавшая, что вышли все сроки, обещанные издателю, а моя «Коробка» так и не опустела. Или не наполнилась... И друзья не задают вопрос «когда?», и давно не пристаёт секретарь Союза, наверное уже пожалевший о своей рекомендации. А я тупо прокручиваю в голове написанное сорок лет назад стихотворение «Умру, наверно, осенью, наверно, в ноябре...» и тупо смотрю в черный проем осеннего окна, прикуривая сигарету от сигареты, и время от времени перебирая в стотысячный раз содержимое этой проклятой коробки.
– Ну что, Максим Викторович, «Золотое перо Руси – 24», «лауреать твою мать», исписался?! – злорадно хихикает на задворках мозга одна из самых шустрых извилин.
– Не дождётесь! – скриплю я керамическими коронками и плескаю в стакан коньяку. Янтарная жидкость ловит слабый отсвет уличного фонаря и дарит маленький солнечный зайчик, заставляя губы чуть растянуться в улыбке.
– Думаешь, поможет? – опять прыскает липкой слюной та самая извилина.
– Сука, – только и могу выдавить хрипло в ответ и доливаю коньяк до полстакана. Выпиваю крупными глотками и опять, распахнув настежь форточку, закуриваю.
– Не пишется, б**** ... Не пишется... Проклятый Московский ноябрь...
Целые сутки сплошной вечер... Мгла... Тоска...
Судорожно ловлю любую, даже самую малюсенькую деталь вокруг себя, в отчаянной попытке зацепиться взглядом хоть за что-нибудь. Только бы зацепиться, только бы схватить эту тоненькую ниточку бытия, а там уж раскрутим, завяжем, и пойдет плестись паутина, превращаясь в расцвеченный персидский ковер. И вроде бы как всегда рисует замысловатый узор серебристый дым сигареты, четкий, изысканный, как будто профессиональным гравером вырезанный, на подсвеченным с улицы оконном стекле. И холодный ветер, всегда волновавший мысли, и сейчас так же покалывает щеки и теребит волосы. И коньяк уже расслабил нервы и размывает зрение, превращая графическую картинку за окном в размытую и ласкающее сердце осеннюю акварель. Вот-вот! Ещё мгновение! Ещё совсем чуть-чуть, и родится сюжет! И полетят тогда пальцы по клавишам, превращая живые частички жизни, все эти пылинки материи в чёрные буковки на экране монитора. А буквы эти сложатся в слова, а слова в предложения, абзацы и страницы. И не успеет автор оглянуться, а перед ним уже лежит нечто, что родилось именно в его мозгу и сердце. И долго ещё автор будет перечитывать написанное, искать изъяны в своём калейдоскопе и изнывать от единственного вопроса, какая же судьба ждёт это его творение. И никто на планете Земля не ответит ему в этот момент. Может случится чудо, сойдутся вдруг звёзды на млечном пути, и этот набор букв и слов вознесет автора на вершину человеческой славы, и облако истории будет качать его ещё не одну сотню лет, а может ударит грубо лицом об стол безмолвным забвением или липким ехидным смехом критиков. Но как далеко ещё до этого трепетного мига! Ведь чтобы это понять, ещё нужно, чтобы это «что-то» родилось! И стучит сердце, всё время убыстряя ритм: надо, надо, надо! И сжимается до онемения рука в кулак, и скрипят зубы от бессилья. Ведь должно же! Сейчас! Да! Ну?! Ну, давай! Надо! Нужно!
Но ничего не происходит.
Ни-че-го...
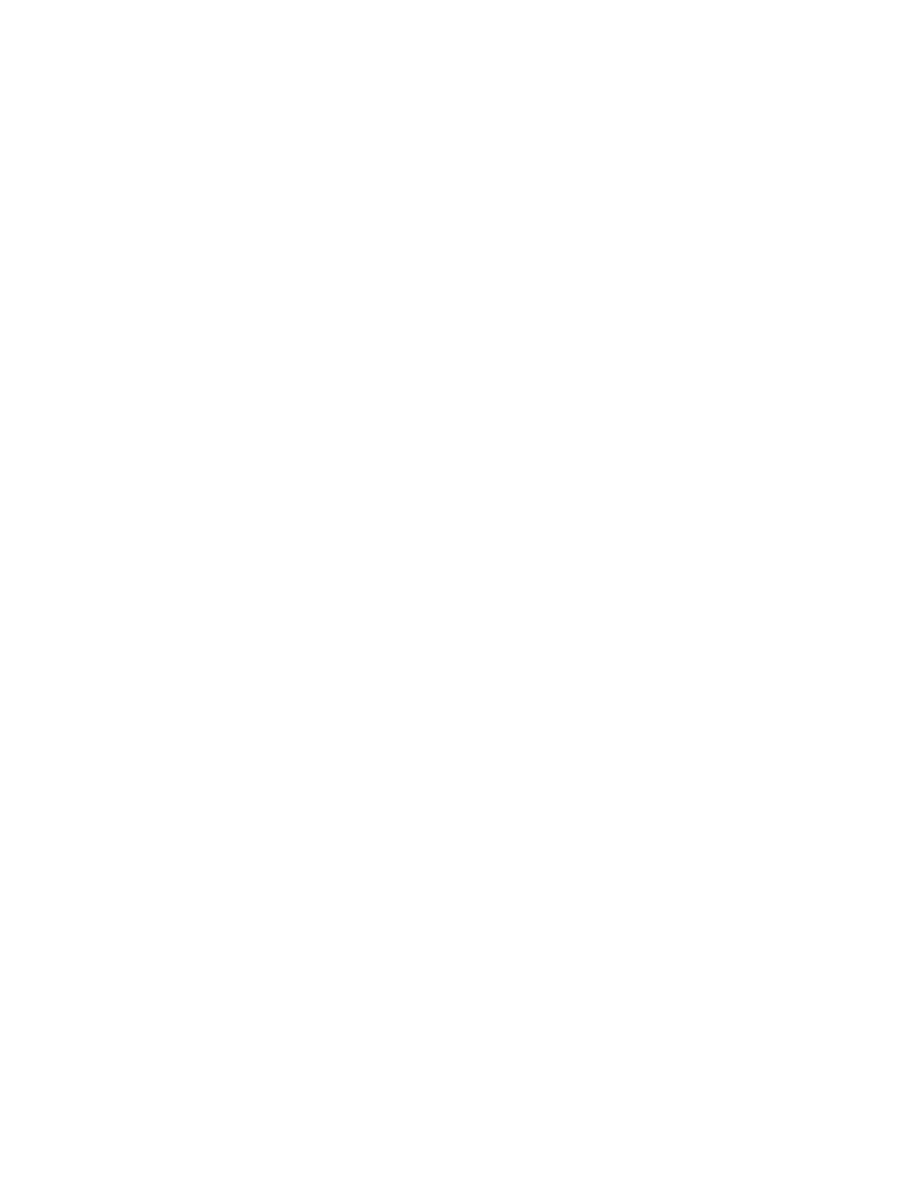
Наталья СЕЛИВАНОВА
Наталья Селиванова пишет стихи с самого раннего детства. Сама говорит так: «Сколько себя помню, столько искала ручку с тетрадкой, чтобы записать приходящие строки. Я не ищу рифмы, ничего не сочиняю, не пишу стихи, стихи пишут меня...» Наталья принципиально не поехала учиться на литературный факультет. Так она решила проверить, истинно ли её стихотворчество. «Стихи писала всегда, – говорит Наталья. – Нет тем любимых или нелюбимых, нет любимых или нелюбимых поэтов, всё так, как устроила судьба...». Когда от шёпота творений стало невыносимо, решила выпустить первую книгу. Выпуск стал дебютом. Дорогой и необычный сборник стихов «Записки юной Леди» (Москва: ООО «Сам Полиграфист, 2015. – 108 с.: ил.) С 2019 года занимается в литературном обществе «Лебедь». Наталья – участница многих проектов г. Наб. Челны и участница многих литобъединений города. Неоднократно публиковалась в альманахе «Линии» (Москва.: Литературная мастерская «Новое Слово»), в поэтических сборниках «Авторская поэзия 21 века», (Москва, издательский дом «ИздатНик»), принимала участие и выигрывала конкурсные отборы в интереснейших проектах издательства «Союз писателей».
Наталья Селиванова пишет стихи с самого раннего детства. Сама говорит так: «Сколько себя помню, столько искала ручку с тетрадкой, чтобы записать приходящие строки. Я не ищу рифмы, ничего не сочиняю, не пишу стихи, стихи пишут меня...» Наталья принципиально не поехала учиться на литературный факультет. Так она решила проверить, истинно ли её стихотворчество. «Стихи писала всегда, – говорит Наталья. – Нет тем любимых или нелюбимых, нет любимых или нелюбимых поэтов, всё так, как устроила судьба...». Когда от шёпота творений стало невыносимо, решила выпустить первую книгу. Выпуск стал дебютом. Дорогой и необычный сборник стихов «Записки юной Леди» (Москва: ООО «Сам Полиграфист, 2015. – 108 с.: ил.) С 2019 года занимается в литературном обществе «Лебедь». Наталья – участница многих проектов г. Наб. Челны и участница многих литобъединений города. Неоднократно публиковалась в альманахе «Линии» (Москва.: Литературная мастерская «Новое Слово»), в поэтических сборниках «Авторская поэзия 21 века», (Москва, издательский дом «ИздатНик»), принимала участие и выигрывала конкурсные отборы в интереснейших проектах издательства «Союз писателей».
ВЫХОДНЫЕ ТРЕЛИ
Хмурые проспекты...
Стройка, краны, высотки, дома.
Вот. Вот. Строительный кран движется, сажая на крючок, словно рыбу на удочку, кирпич, плиту или какой другой строительный материал.
В стройке я, к сожалению, не сильна. Для меня что кирпич, что плита – всё одно, только отличаются размером.
А город всё разрастается, растёт, и растут в нём высотки, как грибы после дождя. Стройка. Высотки в самом центре заполонили всё свободное пространство, как будто вакансии на Head Hunter.
Хорошо, что хоть скверы и парки оставили. И на том спасибо. Зелени в новых районах города настолько мало, что кажется, там воздух такой приторно-тяжёлый, смольный какой-то, наполненный «ароматизатором» с примесью запаха бензина и машинного масла.
В других частях города поприятнее с воздухом. В парке «Гренада» возможность увидеть велосипедистов, паркурщиков, скейтбордистов, и воздух там совсем другой – с запахом стремления к свободе. Там для меня веет сильнее свободолюбивый ветер.
А ветер в парке «Прибрежный» совсем другой. Певучий. Сижу на лавочке в иной выходной день и размышляю, какая же это птица запела?
А певунья моя всё заливается, будто читает мои мысли «фи-ить», «фи-ить». А с другой стороны «фи-уть», «фи-уть», что за птица поёт «фи-ить»? А как представить публике птицу, что сейчас заливисто поёт «фи-ить»?
К сожалению, в птицах я тоже не сильна…
Могу отличить ворону от воробья. Но разве ж это дело?
Пусть все птицы, что сейчас надо мной поют, будут моими добрыми друзьями.
Полчасика-часик музыкального сопровождения мне сейчас не помешает. В центре города душно и… скучно. Нет этих «фи-уть» и «фи-ить».
ВИШЕНКА
– Поехали!
– Куда!
– За духами!
– А может, завтра?
– Нет, сегодня. Я делаю тебе ещё один подарок!
– О! Правда, что ли?
– Правда. На день мамы. Ты у меня самая лучшая, самая-самая мама... Моя... Мама. Мамочка.
И наша машина благополучно припарковалась у магазина, где ранее мы набрали немного вещичек для комфорта и уюта дома, немного косметики, чтобы себя побаловать (два пакета).
Подъехав с тележкой к кассе, я сказала продавцу:
– А началось всё с влажной туалетной бумаги!..
Милейшая Татьяна улыбалась. Но ничего не сказала. Но глаза её выдавали задорную искорку улыбки, которую она прятала на лице.
Я выбирала духи. Точнее, парфюмерную воду. Мама, брызнув на запястье из другого флакончики, спросила:
– Ну как? – и вытянула руку прямо мне под нос!
– Ммм. Вкусно. Прям вишенкой пахнет.
– Да? Вот и мне понравилась эта композиция. Вкусный запах.
– Мама, не запах, а аромат. Так правильнее.
– Ах, простите, простите...
– Та-а-а-к. А здесь мы ещё не проезжали! – сказала я, останавливаясь с тележкой ещё у одной полки с косметикой.
– Вот только вас я ещё не купила, – пропела я, обращаясь к косметике для век.
Тени искушенно смотрели на меня завораживающими зелёно-лилово-сиренево-бордовыми квадратными очами. Подойдя к моему шикарному выбору, мамуля произнесла:
– Это совсем никуда не годится. Ты что же, не понимаешь, что ли?! Должна придерживаться чувству стиля.
– Ладно, ладно...
Посмотрела я на тени. И – раз. Пелена с глаз пропадает. Кстати, очень полезный момент. В жизни им надо почаще пользоваться!
Мама продолжила:
– И мой выбор духов мне перестал нравиться.
Её рука внезапно оказалась перед моим носом.
М-да. Аромат стал раскрываться совсем по-другому.
– Дихлофос! – всегда нарекаю я неприятный мне запах.
Позже мы поехали ещё в один магазин, в котором я шла, принюхиваясь к маме, наслаждаясь ароматом. Сейчас парфюмерия раскрывалась нотой сердца и издавала очень даже приятный аромат. Он был ну просто чудесный...
– За вишенкой! – быстро скомандовала я, мы поехали обратно.
Хмурые проспекты...
Стройка, краны, высотки, дома.
Вот. Вот. Строительный кран движется, сажая на крючок, словно рыбу на удочку, кирпич, плиту или какой другой строительный материал.
В стройке я, к сожалению, не сильна. Для меня что кирпич, что плита – всё одно, только отличаются размером.
А город всё разрастается, растёт, и растут в нём высотки, как грибы после дождя. Стройка. Высотки в самом центре заполонили всё свободное пространство, как будто вакансии на Head Hunter.
Хорошо, что хоть скверы и парки оставили. И на том спасибо. Зелени в новых районах города настолько мало, что кажется, там воздух такой приторно-тяжёлый, смольный какой-то, наполненный «ароматизатором» с примесью запаха бензина и машинного масла.
В других частях города поприятнее с воздухом. В парке «Гренада» возможность увидеть велосипедистов, паркурщиков, скейтбордистов, и воздух там совсем другой – с запахом стремления к свободе. Там для меня веет сильнее свободолюбивый ветер.
А ветер в парке «Прибрежный» совсем другой. Певучий. Сижу на лавочке в иной выходной день и размышляю, какая же это птица запела?
А певунья моя всё заливается, будто читает мои мысли «фи-ить», «фи-ить». А с другой стороны «фи-уть», «фи-уть», что за птица поёт «фи-ить»? А как представить публике птицу, что сейчас заливисто поёт «фи-ить»?
К сожалению, в птицах я тоже не сильна…
Могу отличить ворону от воробья. Но разве ж это дело?
Пусть все птицы, что сейчас надо мной поют, будут моими добрыми друзьями.
Полчасика-часик музыкального сопровождения мне сейчас не помешает. В центре города душно и… скучно. Нет этих «фи-уть» и «фи-ить».
ВИШЕНКА
– Поехали!
– Куда!
– За духами!
– А может, завтра?
– Нет, сегодня. Я делаю тебе ещё один подарок!
– О! Правда, что ли?
– Правда. На день мамы. Ты у меня самая лучшая, самая-самая мама... Моя... Мама. Мамочка.
И наша машина благополучно припарковалась у магазина, где ранее мы набрали немного вещичек для комфорта и уюта дома, немного косметики, чтобы себя побаловать (два пакета).
Подъехав с тележкой к кассе, я сказала продавцу:
– А началось всё с влажной туалетной бумаги!..
Милейшая Татьяна улыбалась. Но ничего не сказала. Но глаза её выдавали задорную искорку улыбки, которую она прятала на лице.
Я выбирала духи. Точнее, парфюмерную воду. Мама, брызнув на запястье из другого флакончики, спросила:
– Ну как? – и вытянула руку прямо мне под нос!
– Ммм. Вкусно. Прям вишенкой пахнет.
– Да? Вот и мне понравилась эта композиция. Вкусный запах.
– Мама, не запах, а аромат. Так правильнее.
– Ах, простите, простите...
– Та-а-а-к. А здесь мы ещё не проезжали! – сказала я, останавливаясь с тележкой ещё у одной полки с косметикой.
– Вот только вас я ещё не купила, – пропела я, обращаясь к косметике для век.
Тени искушенно смотрели на меня завораживающими зелёно-лилово-сиренево-бордовыми квадратными очами. Подойдя к моему шикарному выбору, мамуля произнесла:
– Это совсем никуда не годится. Ты что же, не понимаешь, что ли?! Должна придерживаться чувству стиля.
– Ладно, ладно...
Посмотрела я на тени. И – раз. Пелена с глаз пропадает. Кстати, очень полезный момент. В жизни им надо почаще пользоваться!
Мама продолжила:
– И мой выбор духов мне перестал нравиться.
Её рука внезапно оказалась перед моим носом.
М-да. Аромат стал раскрываться совсем по-другому.
– Дихлофос! – всегда нарекаю я неприятный мне запах.
Позже мы поехали ещё в один магазин, в котором я шла, принюхиваясь к маме, наслаждаясь ароматом. Сейчас парфюмерия раскрывалась нотой сердца и издавала очень даже приятный аромат. Он был ну просто чудесный...
– За вишенкой! – быстро скомандовала я, мы поехали обратно.

Владимир ЛОКТЕВ
Родился в 1945 году, в Архангельске. Окончил школу в Грязовце Вологодской области, техникум в Кировограде, институт в Одессе. Трудовая деятельность с 1963 года: тракторист, слесарь, лаборант, с 1970 года в Астрахани. Кандидат технических наук, доцент, почетный ветеран Астраханского государственного технического университета, автор больше ста научных публикаций, в том числе за рубежом (Англия, Германия, Израиль). Публиковался в журналах «Студенческий меридиан», «Журналист», в газете «Волга» и других региональных изданиях, в вузовских многотиражках Москвы и Астрахани. Призёр конкурсов журнала «Крокодил», еженедельника «Аргументы и факты». Член литературной студии «Тамариск» (Астрахань), участник опросов еженедельника «АиФ», член редколлегии журнала «Новая литература» (Москва). Лауреат региональных литературных конкурсов, Всероссийского литературного конкурса «Герои великой Победы-2025».
Родился в 1945 году, в Архангельске. Окончил школу в Грязовце Вологодской области, техникум в Кировограде, институт в Одессе. Трудовая деятельность с 1963 года: тракторист, слесарь, лаборант, с 1970 года в Астрахани. Кандидат технических наук, доцент, почетный ветеран Астраханского государственного технического университета, автор больше ста научных публикаций, в том числе за рубежом (Англия, Германия, Израиль). Публиковался в журналах «Студенческий меридиан», «Журналист», в газете «Волга» и других региональных изданиях, в вузовских многотиражках Москвы и Астрахани. Призёр конкурсов журнала «Крокодил», еженедельника «Аргументы и факты». Член литературной студии «Тамариск» (Астрахань), участник опросов еженедельника «АиФ», член редколлегии журнала «Новая литература» (Москва). Лауреат региональных литературных конкурсов, Всероссийского литературного конкурса «Герои великой Победы-2025».
ГРЯЗОВЕЦ, ДРУЗЬЯ, ВСТРЕЧИ
(очерк)
Борьба! Какое, скажут, слово-то,
Давно оскомину набило,
Но в мире, надвое расколотом,
Меня оно всегда будило.
Василий Белов
1956 год
Наши семьи переехали в новый двухэтажный кирпичный дом на улице Карла Маркса. Там мы встретились и познакомились с Колей Гусевым. Я перешел в пятый класс, он годом старше. Нашу мужскую компанию пополнил мой одноклассник Витёк. Кому-то пришла идея строительство продолжить. Соседнее с нашим домом здание Грязовецкой районной типографии отделялось хлипким деревянным забором, почерневшим от времени. Из остатков строительных материалов – тёса, осколков кирпича и шифера, сухой травы и сена пристроили к забору шалашик. Там мы покуривали папиросы «Север», там обсуждали взрослые проблемы, планировали очередные мальчишеские забавы. За одной из них, когда на деревянном полусгнившем тротуаре мы сооружали «ловушку» для прохожих, нас застал внешне знакомый дядька, которого мы не раз видели из шалашика через дырку в заборе. Он подозвал к себе Колю:
– Ты здесь, поди, главный?
О чем они говорили, мы с Витькой не слышали. Когда дядька ушел, Коля всерьез приказал нам:
– Ладно, ребя, хорош. Дядя Вася в газете работает. Он сказал, что делом надо заниматься, а не бездельем. Звал меня, завтра схожу к нему в типографию.
1960 год
Загорелый, усталый от летнего отдыха у бабушки в Украи-
не, к концу лета я вернулся домой. Районный центр Грязовец – хоть и юг Вологодской области, встретил меня осенним холодом, неприятным моросящим дождем и, совсем не неожиданно, грязью. Скоро выяснилось, что наша соседская компания поредела. Учиться в последнем классе средней школы наш с Олей старший товарищ Коля Гусев уехал к родственникам в Сочи.
С Олей Ульяновой мы давно уже, с четвертого класса, и соседи, и одноклассники, и друзья. Первым делом в маминых географических атласах и книгах мы изучили, где и что это за Сочи? Оказывается, город Сочи еще южнее Украины. Он ближе к экватору, чем к Северному полюсу, рядом море, и зимы там практически нет.
Настал 1961 год, денежная реформа Хрущева, слетал в космос Гагарин… Но связь с Колей не прервалась, по маршруту Грязовец – Сочи и обратно отправлялись почтовые конверты со стандартными призывами: «Лети с приветом, вернись с ответом», «Жду ответа, как соловей лета».
В одном письме из Сочи читаю ностальгические строки:
– Володя, пришли мне, пожалуйста, кусочек снега, а я тебе пришлю кусочек солнца.
Это было очень образно, трогательно, эти строчки из Колиного письма я запомнил навсегда. Позже осознал, что уже тогда в нем проявился будущий журналист, исследователь, писатель.
1964 год
С аттестатом зрелости Коля вернулся в северные края и поступил в Вологодский педагогический институт. Мы с родителями вскоре переехали из Грязовца на Украину. Опять судьба нас с Колей развела по местам жительства, но дружба, письма, встречи продолжались. Одна из них состоялась в начале 1964.
По приглашению родственников я погостил в Ленинграде, на обратном пути сделал короткую остановку в Грязовце. Вечером собрались у Коли. На улице мороз, снег, метель, а в доме натоплено, тепло, уютно. Я напомнил ему строчки его письма из Сочи. Он оживился и предложил мне, показывая на вьюгу за окном, забрать с собой не кусочек, а целый сугроб снега. А ты, сказал он, пришли мне с Украины не кусочек, а хотя бы половинку солнца.
Оля Ульянова теперь тоже студентка пединститута, она с восторгом рассказывала мне, какой умница наш старший товарищ:
– Представляешь, Коля любому бездельнику буквально за одну ночь может так ясно и четко втолковать историю или философию, что этот двоечник на следующий день спокойно может сдать экзамен.
Позже, обучаясь в техническом вузе и готовясь к самым сложным для меня экзаменам по истории КПСС, марксистско-ленинской философии, научному коммунизму, часто вспоминал и думал: «Повезло же вологодским двоечникам!»
1983 год
Почти через двадцать лет я снова приехал в Грязовец, на встречу школьных друзей. Ульянова стала Артемьевой Ольгой Васильевной и мамой двоих детишек, она учительница физики в нашей же школе. Виктор Александрович Моргунов стал военным, по долгу службы в Афгане приехать на встречу не смог...
Из редкой, но непрекращающейся переписки с Николаем Васильевичем Гусевым я знал, что успешный журналист районной газеты к тому времени стал многодетным отцом. На два-три дня в Грязовце я остановился у своего друга. Он был для меня и гидом, и экскурсоводом по городку, который сильно изменился. За станцией выстроен жилой микрорайон, появились панельные хрущевки, улицы стали чище. Да и как иначе, если как-то в центральном издании «Аргументы и факты» Грязовец назвали столицей газотранспортной сети. Но самое главное: я с удивлением узнал, что к тому времени у Коли было не трое, как я думал, а пятеро детей.
Небольшой стайкой они бродили по лужайкам возле пятиэтажки. Я спросил отца, не трудно ли управляться с таким количеством малышей, не страшно ли, что они гуляют без присмотра взрослых?
– Все нормально, Володя, они же Гусевы, вот и гуляют гуськом, друг за другом смотрят. И в жизни им проще будет, в трудную годину кто-нибудь, да поможет.
В то время у меня в семье была только одна дочь. Через несколько лет появились еще двое детей, по примеру друга я тоже стал многодетным отцом. Но Коля после этого снова, и не раз, побил свой рекорд, детей в его «гусиной стайке» стало восемь!
2007 год
Я переслал Николаю рукопись первой части своей книги «В семье», и в ответ получил одно за другим несколько писем, его журналистских работ, фотографий. Так случился некий период оживления нашей переписки и перезвонов. По-современному говоря, это тоже были встречи, только дистанционные.
Оказывается, совсем недавно Николай Васильевич стал одним из победителей и призеров в конкурсе «Вологодчина – любовь моя и гордость».
– А наш дружок Витька, помнишь? – Взахлеб рассказывает Коля в телефонную трубку. – Он теперь майор в отставке, вернулся в Грязовец и служит в казачьей охране.
О нем, нашем общем друге Викторе Моргунове, журналист Николай Гусев рассказал в районной газете «Сельская правда» в очерке под названием «Был дан приказ ему». А рукопись мою, оказывается, прочитали и Виктор, и Ольга. Моргунов пришел в восторг, Ульяновой тоже понравилось. Николай похвалил мою работу и написал замечание: «Я по сию пору не знаю английский, увлекался я тогда немецким и французским языками».
И еще одно событие напомнил мне Николай:
– Ты помнишь, мы с Витьком «ловушку» на тротуаре делали? Люди спотыкались, проваливались, а мы смотрели из шалашика нашего, хихикали.
– Помню, конечно. Дураки были.
– А дядю Васю помнишь? Он нас застал, когда мы очередную «ловушку» мастерили.
– Конечно, помню. Тебя потом, как подменили.
– Так это знаешь, кто был? Сейчас он известный писатель, можешь найти его в Википедии: Белов Василий Иванович. Тогда он молодой еще, только начал работать корреспондентом в нашей районной газете «Коммунар». Он и мне предлагал писать о школьных делах, пионерских сборах. Я сначала-то не очень, а все равно в журналистику пришел. Наверное, наши с Беловым встречи в подсознании отложились.
– А у меня и Грязовец, и друзья, и все наши встречи в памяти навсегда...
2023 год
В Грязовце на здании типографии установлена мемориальная доска с текстом:
В этом здании в 1956–1957 гг.
работал русский писатель
Василий Иванович Белов
(очерк)
Борьба! Какое, скажут, слово-то,
Давно оскомину набило,
Но в мире, надвое расколотом,
Меня оно всегда будило.
Василий Белов
1956 год
Наши семьи переехали в новый двухэтажный кирпичный дом на улице Карла Маркса. Там мы встретились и познакомились с Колей Гусевым. Я перешел в пятый класс, он годом старше. Нашу мужскую компанию пополнил мой одноклассник Витёк. Кому-то пришла идея строительство продолжить. Соседнее с нашим домом здание Грязовецкой районной типографии отделялось хлипким деревянным забором, почерневшим от времени. Из остатков строительных материалов – тёса, осколков кирпича и шифера, сухой травы и сена пристроили к забору шалашик. Там мы покуривали папиросы «Север», там обсуждали взрослые проблемы, планировали очередные мальчишеские забавы. За одной из них, когда на деревянном полусгнившем тротуаре мы сооружали «ловушку» для прохожих, нас застал внешне знакомый дядька, которого мы не раз видели из шалашика через дырку в заборе. Он подозвал к себе Колю:
– Ты здесь, поди, главный?
О чем они говорили, мы с Витькой не слышали. Когда дядька ушел, Коля всерьез приказал нам:
– Ладно, ребя, хорош. Дядя Вася в газете работает. Он сказал, что делом надо заниматься, а не бездельем. Звал меня, завтра схожу к нему в типографию.
1960 год
Загорелый, усталый от летнего отдыха у бабушки в Украи-
не, к концу лета я вернулся домой. Районный центр Грязовец – хоть и юг Вологодской области, встретил меня осенним холодом, неприятным моросящим дождем и, совсем не неожиданно, грязью. Скоро выяснилось, что наша соседская компания поредела. Учиться в последнем классе средней школы наш с Олей старший товарищ Коля Гусев уехал к родственникам в Сочи.
С Олей Ульяновой мы давно уже, с четвертого класса, и соседи, и одноклассники, и друзья. Первым делом в маминых географических атласах и книгах мы изучили, где и что это за Сочи? Оказывается, город Сочи еще южнее Украины. Он ближе к экватору, чем к Северному полюсу, рядом море, и зимы там практически нет.
Настал 1961 год, денежная реформа Хрущева, слетал в космос Гагарин… Но связь с Колей не прервалась, по маршруту Грязовец – Сочи и обратно отправлялись почтовые конверты со стандартными призывами: «Лети с приветом, вернись с ответом», «Жду ответа, как соловей лета».
В одном письме из Сочи читаю ностальгические строки:
– Володя, пришли мне, пожалуйста, кусочек снега, а я тебе пришлю кусочек солнца.
Это было очень образно, трогательно, эти строчки из Колиного письма я запомнил навсегда. Позже осознал, что уже тогда в нем проявился будущий журналист, исследователь, писатель.
1964 год
С аттестатом зрелости Коля вернулся в северные края и поступил в Вологодский педагогический институт. Мы с родителями вскоре переехали из Грязовца на Украину. Опять судьба нас с Колей развела по местам жительства, но дружба, письма, встречи продолжались. Одна из них состоялась в начале 1964.
По приглашению родственников я погостил в Ленинграде, на обратном пути сделал короткую остановку в Грязовце. Вечером собрались у Коли. На улице мороз, снег, метель, а в доме натоплено, тепло, уютно. Я напомнил ему строчки его письма из Сочи. Он оживился и предложил мне, показывая на вьюгу за окном, забрать с собой не кусочек, а целый сугроб снега. А ты, сказал он, пришли мне с Украины не кусочек, а хотя бы половинку солнца.
Оля Ульянова теперь тоже студентка пединститута, она с восторгом рассказывала мне, какой умница наш старший товарищ:
– Представляешь, Коля любому бездельнику буквально за одну ночь может так ясно и четко втолковать историю или философию, что этот двоечник на следующий день спокойно может сдать экзамен.
Позже, обучаясь в техническом вузе и готовясь к самым сложным для меня экзаменам по истории КПСС, марксистско-ленинской философии, научному коммунизму, часто вспоминал и думал: «Повезло же вологодским двоечникам!»
1983 год
Почти через двадцать лет я снова приехал в Грязовец, на встречу школьных друзей. Ульянова стала Артемьевой Ольгой Васильевной и мамой двоих детишек, она учительница физики в нашей же школе. Виктор Александрович Моргунов стал военным, по долгу службы в Афгане приехать на встречу не смог...
Из редкой, но непрекращающейся переписки с Николаем Васильевичем Гусевым я знал, что успешный журналист районной газеты к тому времени стал многодетным отцом. На два-три дня в Грязовце я остановился у своего друга. Он был для меня и гидом, и экскурсоводом по городку, который сильно изменился. За станцией выстроен жилой микрорайон, появились панельные хрущевки, улицы стали чище. Да и как иначе, если как-то в центральном издании «Аргументы и факты» Грязовец назвали столицей газотранспортной сети. Но самое главное: я с удивлением узнал, что к тому времени у Коли было не трое, как я думал, а пятеро детей.
Небольшой стайкой они бродили по лужайкам возле пятиэтажки. Я спросил отца, не трудно ли управляться с таким количеством малышей, не страшно ли, что они гуляют без присмотра взрослых?
– Все нормально, Володя, они же Гусевы, вот и гуляют гуськом, друг за другом смотрят. И в жизни им проще будет, в трудную годину кто-нибудь, да поможет.
В то время у меня в семье была только одна дочь. Через несколько лет появились еще двое детей, по примеру друга я тоже стал многодетным отцом. Но Коля после этого снова, и не раз, побил свой рекорд, детей в его «гусиной стайке» стало восемь!
2007 год
Я переслал Николаю рукопись первой части своей книги «В семье», и в ответ получил одно за другим несколько писем, его журналистских работ, фотографий. Так случился некий период оживления нашей переписки и перезвонов. По-современному говоря, это тоже были встречи, только дистанционные.
Оказывается, совсем недавно Николай Васильевич стал одним из победителей и призеров в конкурсе «Вологодчина – любовь моя и гордость».
– А наш дружок Витька, помнишь? – Взахлеб рассказывает Коля в телефонную трубку. – Он теперь майор в отставке, вернулся в Грязовец и служит в казачьей охране.
О нем, нашем общем друге Викторе Моргунове, журналист Николай Гусев рассказал в районной газете «Сельская правда» в очерке под названием «Был дан приказ ему». А рукопись мою, оказывается, прочитали и Виктор, и Ольга. Моргунов пришел в восторг, Ульяновой тоже понравилось. Николай похвалил мою работу и написал замечание: «Я по сию пору не знаю английский, увлекался я тогда немецким и французским языками».
И еще одно событие напомнил мне Николай:
– Ты помнишь, мы с Витьком «ловушку» на тротуаре делали? Люди спотыкались, проваливались, а мы смотрели из шалашика нашего, хихикали.
– Помню, конечно. Дураки были.
– А дядю Васю помнишь? Он нас застал, когда мы очередную «ловушку» мастерили.
– Конечно, помню. Тебя потом, как подменили.
– Так это знаешь, кто был? Сейчас он известный писатель, можешь найти его в Википедии: Белов Василий Иванович. Тогда он молодой еще, только начал работать корреспондентом в нашей районной газете «Коммунар». Он и мне предлагал писать о школьных делах, пионерских сборах. Я сначала-то не очень, а все равно в журналистику пришел. Наверное, наши с Беловым встречи в подсознании отложились.
– А у меня и Грязовец, и друзья, и все наши встречи в памяти навсегда...
2023 год
В Грязовце на здании типографии установлена мемориальная доска с текстом:
В этом здании в 1956–1957 гг.
работал русский писатель
Василий Иванович Белов
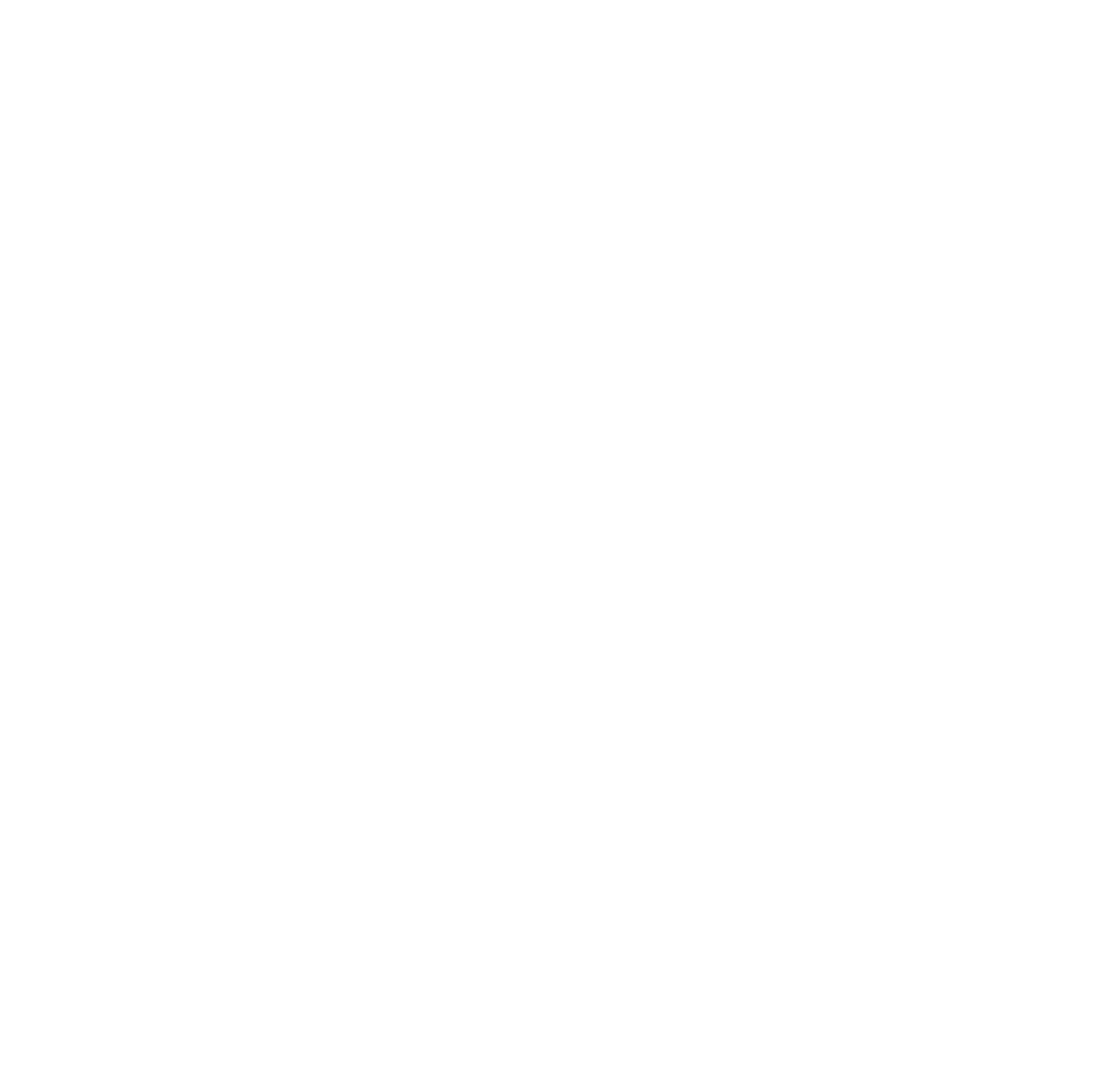
Сергей БЕСПАЛОВ
Родился в 1972 году, в Калининградской области, в городе Гвардейске (во времена Восточной Пруссии этот городок назывался Тапиау). В 1989 году поехал в Ленинград поступать в Можайку (Военно-инженерный институт им. А.Ф. Можайского). Поступил, но не закончил: в конце второго курса ушел по собственному желанию, разочаровался в военной карьере. После армии перевелся в Калининградский государственный университет, который в 1995 году закончил, получив диплом инженера-радиофизика. Писать начал сравнительно недавно, чуть больше года тому назад. В настоящее время живёт и работает в Москве.
Родился в 1972 году, в Калининградской области, в городе Гвардейске (во времена Восточной Пруссии этот городок назывался Тапиау). В 1989 году поехал в Ленинград поступать в Можайку (Военно-инженерный институт им. А.Ф. Можайского). Поступил, но не закончил: в конце второго курса ушел по собственному желанию, разочаровался в военной карьере. После армии перевелся в Калининградский государственный университет, который в 1995 году закончил, получив диплом инженера-радиофизика. Писать начал сравнительно недавно, чуть больше года тому назад. В настоящее время живёт и работает в Москве.
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Справедливости ради надо сказать, что мой самый первый полет на летательном аппарате тяжелее воздуха с аэродинамикой примерно, как у кирпича, состоялся, когда мне было пять лет, 12 апреля 1977 года, аккурат в День космонавтики. Как известно, в этот день в 1961 году Ю. А. Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос.
Дело было в Гвардейске (ссылка внизу), маленьком городке в Калининградской области. Отец тогда служил там, и там же в 1972 году родились мы с сестрой. До нашего очередного дня рождения оставалась неделя, но я уже знал, что отец «через товаровед и директор магазин» приобрёл мне в подарок велосипед «Бабочка». Видимо, название все же намекало на то, что его конструкция предусматривает выполнение на нем непродолжительных пилотируемых полетов. Это был мой первый долгожданный новенький велосипед. Но все мои попытки выпросить его у родителей раньше срока, чтобы не ждать дня рождения, были напрасны.
Вернувшись двенадцатого апреля из детского сада, я предпринял очередную попытку, но ожидаемо получил отказ. Старший брат пожалел меня и взял с собой прогуляться в компании его сверстников в школьный сад, который находился напротив дома и примыкал к отделенной высоким забором территории воинской части, в которой служил отец.
Пятнадцатилетние приятели моего брата развлекались тем, что оттачивали свои навыки на точность метания различных предметов. В тот день таким предметом была металлическая зелёная коробка от противогаза весом около килограмма, найденная около забора воинской части, а целью – узкое окно-бойница на втором этаже старого немецкого здания – склада. Очередной метатель швырнул коробку, она срикошетила, отскочив от решётки на окне, и угодила мне точно в голову. В следующий момент школьный сад наполнился душераздирающим криком. Реакция брата была мгновенной: он снял с себя новенькую тельняшку – подарок отца, обмотал ей мою окровавленную голову и, взвалив меня на плечо, помчался в травмпункт, который, к счастью, находился неподалеку. Скучающий дежурный врач-травматолог осмотрел меня, обработал рану, наложил повязку и со словами «до свадьбы заживет» отпустил домой.
Помню, брат очень переживал, а я чувствовал себя героем – во время манипуляций врача я, стиснув зубы, держался и не плакал. Удивительно, но мама почти не ругала старшего сына, увидев его подопечного (т. е. меня) с марлевой повязкой на голове. «Молодец, что не растерялся и пошёл с Серёжей сразу в травмпункт», – успокоившись, сказала она.
Ближе к вечеру брат собрался пойти во двор поиграть в настольный теннис. Я решил воспользоваться моментом: надавить на жалость и все-таки выклянчить велосипед. На этот раз сработало – при условии, что я буду под присмотром брата, мне вручили долгожданный велосипед и разрешили его обкатать. Освободив его от упаковки и протерев от смазки, мы с братом отправились во двор. Надо сказать, что кататься на велосипеде я тогда ещё не умел. Это был мой первый опыт освоения двухколесного транспорта. Теннисный стол стоял на небольшой площадке, расположенной на пригорке напротив нашего дома. Между домом и этим пригорком проходила асфальтированная дорога, которая шла под уклон, прорезая этот бугор насквозь. Одна сторона этого «оврага», укреплённая бетоном, была высокая, около трёх метров, и наверху располагалась площадка с теннисным столом. Вторая была почти вровень с основанием нашего дома, примыкая к нему по всей его длине. Около подъездов стояли мусорные баки, доверху набитые мусором и всяким хламом.
Брат был увлечен игрой, а я осваивал новый велосипед, наматывая круги вокруг теннисной площадки. Уже смеркалось, когда я почувствовал уверенность в управлении «железным конём» и самовольно покинул отведенную мне для тренировок территорию. Скатившись с пригорка, достигнув края бетонной стены и набрав достаточную для отрыва скорость, мой велосипед «Бабочка» вместе со мной взмыл в воздух с высоты трёх метров. Полёт продолжался не долго, всего несколько секунд, существенно меньше, чем у Гагарина, после чего я жёстко, но точно приземлился с грохотом в районе мусорных баков.
Второй раз за сегодняшний день в округе был слышен мой душераздирающий вопль, только на это раз гораздо громче.
Действия брата были уже отработаны – меня на плечо, но только на этот раз он побежал домой. В тот день отец был на дежурстве в части, а мама с сестрой уже готовились ко сну. Мама, сдерживая эмоции, молча осмотрела пострадавшего «космонавта», и сказала: «Раны глубокие, надо зашивать! Бегом в травмпункт!», а сама накинула на себя какое-то пальто, закрыла дверь и бросилась догонять старшего сына со мной на плече.
Уже знакомый нам дежурный травматолог, увидев меня опять на плече у брата, но теперь в гораздо более плачевном состоянии, спросил: «Вы что с ним делаете?! Второй раз за день приносите парня в крови!» Брат и мама не нашлись, что ответить. «Быстро в операционную!» – скомандовал он. «Вы со мной, будете его держать», – сказал он маме. «А ты останься, сиди здесь и жди! После операции понесешь его домой», – получил указания брат. Носить меня на плече ему было уже привычно… Мама зашла в операционную, стала снимать пальто и вдруг остановилась, запахнув его обратно. Растерянно глядя на хирурга, она сказала: «Доктор, простите, пожалуйста. Вы можете дать мне халат? У меня под пальто… э… только ночная рубашка… Сами понимаете – собирались впопыхах». Врач улыбнулся и передал маме белый халат.
Зашивали меня долго, наложили несколько швов. Были сильно рассечены подбородок и нижняя губа. Уже за полночь мы вернулись домой, идти было недалеко. Вконец измотанный сегодняшним днём, полным событий, я быстро уснул. А мама и старший брат, наверное, ещё долго не спали, переживая случившееся в этот день. Кстати, велосипед хоть и пострадал изрядно, но умелыми руками отца и брата был со временем восстановлен путем полной замены части деталей. Крепкий оказался «летательный аппарат»! Умели раньше делать, не то что сейчас.
Примерно через месяц, в течение которого меня кормили с ложечки куриным бульоном, я восстановился. Швы сняли, раны и ссадины зажили как на собаке. Удивительно, что после такого полёта и жёсткого приземления я ничего не сломал. Мама говорит, что я всегда умел падать, с десяти месяцев, как пошёл. Теперь о том полете напоминает лишь несколько шрамов, один из которых хорошо заметен у меня на подбородке, и то, если я побреюсь.
Мои сыновья, услышав как-то от меня эту историю из моего детства, иногда просят меня рассказать им, как однажды в детстве я отметил День космонавтики. А в прошлом году, в очередной наш приезд в Калининград, я отвез семью на свою малую родину, в город Гвардейск, показал дом, где я родился, и то место, где состоялся мой первый «космический» полёт в околодомное пространство.
(1) Старое немецкое название г. Гвардейска – Тапиау. Это название существовало до 1946 года, когда территория восточной Пруссии, центром которой был Кенигсберг, по итогам великой отечественной войны стала частью СССР. Тогда же Кенигсберг был переименован в Калининград, и все районные городки тоже получили новые названия. Например, старинный прусский городок Тильзит, известный своим знаменитым театром, был переименован в Советск, а, например, город Пиллау, где до 1946 года располагалась база немецкого балтийского военно-морского флота, а теперь находится база балтийского флота России, называется Балтийск. Жемчужина балтийского взморья, излюбленное место отдыха европейцев, город Раушен, получил имя Светлогорск, а Зеленоградск, находясь в составе Восточной Пруссии назывался Кранц.
Справедливости ради надо сказать, что мой самый первый полет на летательном аппарате тяжелее воздуха с аэродинамикой примерно, как у кирпича, состоялся, когда мне было пять лет, 12 апреля 1977 года, аккурат в День космонавтики. Как известно, в этот день в 1961 году Ю. А. Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос.
Дело было в Гвардейске (ссылка внизу), маленьком городке в Калининградской области. Отец тогда служил там, и там же в 1972 году родились мы с сестрой. До нашего очередного дня рождения оставалась неделя, но я уже знал, что отец «через товаровед и директор магазин» приобрёл мне в подарок велосипед «Бабочка». Видимо, название все же намекало на то, что его конструкция предусматривает выполнение на нем непродолжительных пилотируемых полетов. Это был мой первый долгожданный новенький велосипед. Но все мои попытки выпросить его у родителей раньше срока, чтобы не ждать дня рождения, были напрасны.
Вернувшись двенадцатого апреля из детского сада, я предпринял очередную попытку, но ожидаемо получил отказ. Старший брат пожалел меня и взял с собой прогуляться в компании его сверстников в школьный сад, который находился напротив дома и примыкал к отделенной высоким забором территории воинской части, в которой служил отец.
Пятнадцатилетние приятели моего брата развлекались тем, что оттачивали свои навыки на точность метания различных предметов. В тот день таким предметом была металлическая зелёная коробка от противогаза весом около килограмма, найденная около забора воинской части, а целью – узкое окно-бойница на втором этаже старого немецкого здания – склада. Очередной метатель швырнул коробку, она срикошетила, отскочив от решётки на окне, и угодила мне точно в голову. В следующий момент школьный сад наполнился душераздирающим криком. Реакция брата была мгновенной: он снял с себя новенькую тельняшку – подарок отца, обмотал ей мою окровавленную голову и, взвалив меня на плечо, помчался в травмпункт, который, к счастью, находился неподалеку. Скучающий дежурный врач-травматолог осмотрел меня, обработал рану, наложил повязку и со словами «до свадьбы заживет» отпустил домой.
Помню, брат очень переживал, а я чувствовал себя героем – во время манипуляций врача я, стиснув зубы, держался и не плакал. Удивительно, но мама почти не ругала старшего сына, увидев его подопечного (т. е. меня) с марлевой повязкой на голове. «Молодец, что не растерялся и пошёл с Серёжей сразу в травмпункт», – успокоившись, сказала она.
Ближе к вечеру брат собрался пойти во двор поиграть в настольный теннис. Я решил воспользоваться моментом: надавить на жалость и все-таки выклянчить велосипед. На этот раз сработало – при условии, что я буду под присмотром брата, мне вручили долгожданный велосипед и разрешили его обкатать. Освободив его от упаковки и протерев от смазки, мы с братом отправились во двор. Надо сказать, что кататься на велосипеде я тогда ещё не умел. Это был мой первый опыт освоения двухколесного транспорта. Теннисный стол стоял на небольшой площадке, расположенной на пригорке напротив нашего дома. Между домом и этим пригорком проходила асфальтированная дорога, которая шла под уклон, прорезая этот бугор насквозь. Одна сторона этого «оврага», укреплённая бетоном, была высокая, около трёх метров, и наверху располагалась площадка с теннисным столом. Вторая была почти вровень с основанием нашего дома, примыкая к нему по всей его длине. Около подъездов стояли мусорные баки, доверху набитые мусором и всяким хламом.
Брат был увлечен игрой, а я осваивал новый велосипед, наматывая круги вокруг теннисной площадки. Уже смеркалось, когда я почувствовал уверенность в управлении «железным конём» и самовольно покинул отведенную мне для тренировок территорию. Скатившись с пригорка, достигнув края бетонной стены и набрав достаточную для отрыва скорость, мой велосипед «Бабочка» вместе со мной взмыл в воздух с высоты трёх метров. Полёт продолжался не долго, всего несколько секунд, существенно меньше, чем у Гагарина, после чего я жёстко, но точно приземлился с грохотом в районе мусорных баков.
Второй раз за сегодняшний день в округе был слышен мой душераздирающий вопль, только на это раз гораздо громче.
Действия брата были уже отработаны – меня на плечо, но только на этот раз он побежал домой. В тот день отец был на дежурстве в части, а мама с сестрой уже готовились ко сну. Мама, сдерживая эмоции, молча осмотрела пострадавшего «космонавта», и сказала: «Раны глубокие, надо зашивать! Бегом в травмпункт!», а сама накинула на себя какое-то пальто, закрыла дверь и бросилась догонять старшего сына со мной на плече.
Уже знакомый нам дежурный травматолог, увидев меня опять на плече у брата, но теперь в гораздо более плачевном состоянии, спросил: «Вы что с ним делаете?! Второй раз за день приносите парня в крови!» Брат и мама не нашлись, что ответить. «Быстро в операционную!» – скомандовал он. «Вы со мной, будете его держать», – сказал он маме. «А ты останься, сиди здесь и жди! После операции понесешь его домой», – получил указания брат. Носить меня на плече ему было уже привычно… Мама зашла в операционную, стала снимать пальто и вдруг остановилась, запахнув его обратно. Растерянно глядя на хирурга, она сказала: «Доктор, простите, пожалуйста. Вы можете дать мне халат? У меня под пальто… э… только ночная рубашка… Сами понимаете – собирались впопыхах». Врач улыбнулся и передал маме белый халат.
Зашивали меня долго, наложили несколько швов. Были сильно рассечены подбородок и нижняя губа. Уже за полночь мы вернулись домой, идти было недалеко. Вконец измотанный сегодняшним днём, полным событий, я быстро уснул. А мама и старший брат, наверное, ещё долго не спали, переживая случившееся в этот день. Кстати, велосипед хоть и пострадал изрядно, но умелыми руками отца и брата был со временем восстановлен путем полной замены части деталей. Крепкий оказался «летательный аппарат»! Умели раньше делать, не то что сейчас.
Примерно через месяц, в течение которого меня кормили с ложечки куриным бульоном, я восстановился. Швы сняли, раны и ссадины зажили как на собаке. Удивительно, что после такого полёта и жёсткого приземления я ничего не сломал. Мама говорит, что я всегда умел падать, с десяти месяцев, как пошёл. Теперь о том полете напоминает лишь несколько шрамов, один из которых хорошо заметен у меня на подбородке, и то, если я побреюсь.
Мои сыновья, услышав как-то от меня эту историю из моего детства, иногда просят меня рассказать им, как однажды в детстве я отметил День космонавтики. А в прошлом году, в очередной наш приезд в Калининград, я отвез семью на свою малую родину, в город Гвардейск, показал дом, где я родился, и то место, где состоялся мой первый «космический» полёт в околодомное пространство.
(1) Старое немецкое название г. Гвардейска – Тапиау. Это название существовало до 1946 года, когда территория восточной Пруссии, центром которой был Кенигсберг, по итогам великой отечественной войны стала частью СССР. Тогда же Кенигсберг был переименован в Калининград, и все районные городки тоже получили новые названия. Например, старинный прусский городок Тильзит, известный своим знаменитым театром, был переименован в Советск, а, например, город Пиллау, где до 1946 года располагалась база немецкого балтийского военно-морского флота, а теперь находится база балтийского флота России, называется Балтийск. Жемчужина балтийского взморья, излюбленное место отдыха европейцев, город Раушен, получил имя Светлогорск, а Зеленоградск, находясь в составе Восточной Пруссии назывался Кранц.
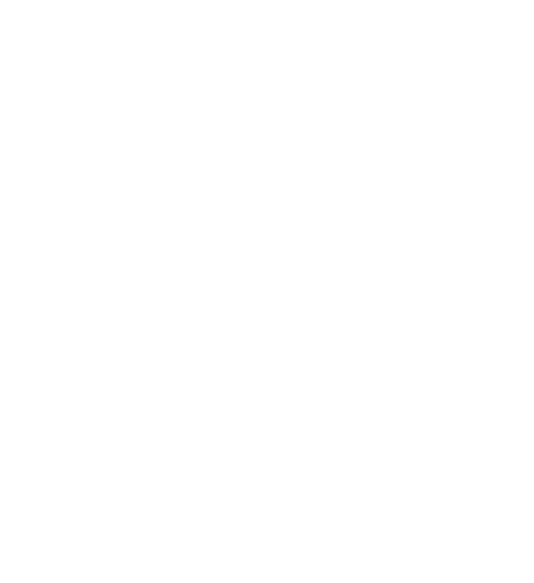
Анастасия АФОНИНА
Проза вошла в мою жизнь еще в школьные годы. Писательство для меня – это не просто увлечение. В своих рукописях я всегда стремлюсь вложить первозданный свет, который смог бы разжечь искры в сердцах читателей, побуждая желание жить и мечтать. Искренне верю, что из-под пера счастливого человека рождается настоящее волшебство, способное исцелять и вдохновлять. В 2023 году я дебютировала с первым масштабным романом «Геном дракона», а в 2024 году мир познакомился с великолепным юмористическим приключением «Оконце в Навь». Люблю писать в жанре фэнтези, шагая в неизведанные дали. Именно там в переплетении реальности и фантазии создаются зеркала, где каждый сможет найти отражение собственных надежд, почувствовать тепло и притянуть вместе с обаятельными героями чудеса.
Проза вошла в мою жизнь еще в школьные годы. Писательство для меня – это не просто увлечение. В своих рукописях я всегда стремлюсь вложить первозданный свет, который смог бы разжечь искры в сердцах читателей, побуждая желание жить и мечтать. Искренне верю, что из-под пера счастливого человека рождается настоящее волшебство, способное исцелять и вдохновлять. В 2023 году я дебютировала с первым масштабным романом «Геном дракона», а в 2024 году мир познакомился с великолепным юмористическим приключением «Оконце в Навь». Люблю писать в жанре фэнтези, шагая в неизведанные дали. Именно там в переплетении реальности и фантазии создаются зеркала, где каждый сможет найти отражение собственных надежд, почувствовать тепло и притянуть вместе с обаятельными героями чудеса.
ДОБРОГО УТРЕЧКА НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Именно так, с этой легкой, почти танцующей фразы, начиналось каждое утро Володи и Лёньки в бабушкином доме. Это был не просто вопрос, а приглашение в мир душевного тепла, заботы и уюта. Аромат свежеиспеченного пирога уже щекотал ноздри, а бабушка с солнцем в глазах и лучезарной улыбкой разливала по чашкам янтарный травяной чай. Отказываться от такого утречка было бы кощунственно и означало утрату частички самого себя и связи с теми важными ценностями, которые формировали жизнь.
С годами Владимир, успешно состоявшийся мужчина и семьянин, осознал, что в бабушкином утреннем приветствии заключалась целая философия – умение любить каждый момент.
И вот Володя, стоя у распахнутого окна, наблюдал, как лучи рассвета пробиваются сквозь изумрудную листву и ласкают его лицо. Он вдыхал терпкий аромат просыпающейся земли, и в душе всплывали приятные воспоминания. Хотелось остановить этот миг, чтобы поделиться его красотой с близкими людьми. В голове, словно эхо из далекого детства, зазвучало бабушкино «Доброго утречка не желаете?» Может быть, сегодняшний день стоит начать с чего-то особенного, что наполнит сердце радостью?
По просьбе Володи его жена воссоздала ту самую атмосферу: накрыла стол белоснежной скатертью, украсила вазой с полевыми цветами, заварила чай с душицей и мятой, достала из духовки дымящийся яблочный пирог – все так, как делала бабушка Вовы. И позвала семью. Дети, удивленные внезапной переменой в обыденном распорядке дня, недоверчиво поглядывали на стол, но запах пирога и тепло, исходящее от чашек, сделали свое дело. Так семья собралась вместе. За неспешной беседой рождались планы и мечты. Володя смотрел на своих детей и жену, их сияющие глаза и заливистый смех и понимал, что именно в этом заключается истинное счастье – в простых моментах, разделенных с близкими людьми, в ощущении мира и добрых словах, сказанных от чистого сердца.
После завтрака Володя решил позвонить своему брату Лёньке, с которым не общался, наверное, месяц. К удивлению, в трубке отозвался женский голос и сообщил, что Леонид в реанимации после аварии, и идет операция. Услышав это, Вова замер, словно его ударило током. Он наскоро собрал рюкзак и уже через двадцать минут мчал по трассе, вдавливая педаль газа в пол. Три с половиной часа – и Володя прибыл в город.
В больнице его встретила жена Леонида и сказала, что операция прошла успешно, его брат жив, но состояние, по словам врачей, пока нестабильное. Обе ноги повреждены, потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
Ожидание тянулось невыносимо, мучительно долго. Когда Леонид пришел в себя, Володя тихонько шагнул в палату. Вид перебинтованных ног заставил сердце болезненно сжаться, а в голове поднялся вихрь хаотичных мыслей. Но тут Лёня открыл глаза и слабо улыбнулся:
– Пахнет яблочным пирогом, – прошептал он, с усилием шевеля губами, – совсем как бабушка пекла. Помнишь, как она нас по утрам звала?
Володя с облегчением кивнул, и в его глазах блеснула влага. Он распахнул рюкзак и увидел среди наспех собранных вещей аккуратно завернутый кусок пирога и термос с чаем – жена позаботилась. В дороге, поглощенный тревогой за брата, он совершенно забыл о голоде. Появление Вовы вдохнуло в Леонида новые силы, как и тепло воспоминаний, что он привез с собой. Никакие деньги или достижения не заменят человеческой любви и поддержки родных и близких – это связь, что сильнее времени и расстояния.
Леонид поправился, но после выписки его ждал долгий путь реабилитации. Тяжелые травмы заставили его оставить прежнюю работу, требующую физических усилий, но, как ни странно, именно эта вынужденная перемена помогла ему найти дело по душе. Братья стали чаще созваниваться и видеться. Спустя несколько лет Леонид восстановился и встал на ноги. Он решил осуществить давнюю мечту – навестить Володю.
Неспешно, на трамвае, он доехал до центрального автовокзала, купил билет и сел на скамейку. Среди томящихся в ожидании рейса пассажиров его внимание привлекла соседка – молодая женщина, погруженная в чтение электронной книги. Впрочем, сюжет не спешил завладевать ее воображением. Отложив гаджет, она принялась рассеянно изучать вокзальный пейзаж, скользя взглядом по веренице прибывающих и отбывающих автобусов. Леонид ненавязчиво заговорил с ней и, к собственному удивлению, встретил искренний интерес. Его мысли были заняты долгожданной встречей с братом, а незнакомка ехала навестить бабушку. Узнав об этом, Леонид поделился воспоминаниями о своей, ее мудрости и богатом жизненном опыте.
Рассказ тронул женщину до глубины души. Даже после прощания, сидя в автобусе, она продолжала обдумывать его слова – человека, прошедшего через горнило испытаний. Сколько же сил ему понадобилось, чтобы принять новую реальность и заново научиться ходить? Поддержка семьи и ценности, заложенные еще в детстве, помогли ему двигаться вперед.
Та женщина оказалась писательницей. Вдохновленная, она решила рассказать историю Леонида миру. Она хотела показать, как важно беречь своих близких, и как семья может стать опорой в самые темные времена. И, конечно, помнить о мудрости старшего поколения и тех знаниях, которые помогают нам оставаться людьми.
Именно так, с этой легкой, почти танцующей фразы, начиналось каждое утро Володи и Лёньки в бабушкином доме. Это был не просто вопрос, а приглашение в мир душевного тепла, заботы и уюта. Аромат свежеиспеченного пирога уже щекотал ноздри, а бабушка с солнцем в глазах и лучезарной улыбкой разливала по чашкам янтарный травяной чай. Отказываться от такого утречка было бы кощунственно и означало утрату частички самого себя и связи с теми важными ценностями, которые формировали жизнь.
С годами Владимир, успешно состоявшийся мужчина и семьянин, осознал, что в бабушкином утреннем приветствии заключалась целая философия – умение любить каждый момент.
И вот Володя, стоя у распахнутого окна, наблюдал, как лучи рассвета пробиваются сквозь изумрудную листву и ласкают его лицо. Он вдыхал терпкий аромат просыпающейся земли, и в душе всплывали приятные воспоминания. Хотелось остановить этот миг, чтобы поделиться его красотой с близкими людьми. В голове, словно эхо из далекого детства, зазвучало бабушкино «Доброго утречка не желаете?» Может быть, сегодняшний день стоит начать с чего-то особенного, что наполнит сердце радостью?
По просьбе Володи его жена воссоздала ту самую атмосферу: накрыла стол белоснежной скатертью, украсила вазой с полевыми цветами, заварила чай с душицей и мятой, достала из духовки дымящийся яблочный пирог – все так, как делала бабушка Вовы. И позвала семью. Дети, удивленные внезапной переменой в обыденном распорядке дня, недоверчиво поглядывали на стол, но запах пирога и тепло, исходящее от чашек, сделали свое дело. Так семья собралась вместе. За неспешной беседой рождались планы и мечты. Володя смотрел на своих детей и жену, их сияющие глаза и заливистый смех и понимал, что именно в этом заключается истинное счастье – в простых моментах, разделенных с близкими людьми, в ощущении мира и добрых словах, сказанных от чистого сердца.
После завтрака Володя решил позвонить своему брату Лёньке, с которым не общался, наверное, месяц. К удивлению, в трубке отозвался женский голос и сообщил, что Леонид в реанимации после аварии, и идет операция. Услышав это, Вова замер, словно его ударило током. Он наскоро собрал рюкзак и уже через двадцать минут мчал по трассе, вдавливая педаль газа в пол. Три с половиной часа – и Володя прибыл в город.
В больнице его встретила жена Леонида и сказала, что операция прошла успешно, его брат жив, но состояние, по словам врачей, пока нестабильное. Обе ноги повреждены, потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
Ожидание тянулось невыносимо, мучительно долго. Когда Леонид пришел в себя, Володя тихонько шагнул в палату. Вид перебинтованных ног заставил сердце болезненно сжаться, а в голове поднялся вихрь хаотичных мыслей. Но тут Лёня открыл глаза и слабо улыбнулся:
– Пахнет яблочным пирогом, – прошептал он, с усилием шевеля губами, – совсем как бабушка пекла. Помнишь, как она нас по утрам звала?
Володя с облегчением кивнул, и в его глазах блеснула влага. Он распахнул рюкзак и увидел среди наспех собранных вещей аккуратно завернутый кусок пирога и термос с чаем – жена позаботилась. В дороге, поглощенный тревогой за брата, он совершенно забыл о голоде. Появление Вовы вдохнуло в Леонида новые силы, как и тепло воспоминаний, что он привез с собой. Никакие деньги или достижения не заменят человеческой любви и поддержки родных и близких – это связь, что сильнее времени и расстояния.
Леонид поправился, но после выписки его ждал долгий путь реабилитации. Тяжелые травмы заставили его оставить прежнюю работу, требующую физических усилий, но, как ни странно, именно эта вынужденная перемена помогла ему найти дело по душе. Братья стали чаще созваниваться и видеться. Спустя несколько лет Леонид восстановился и встал на ноги. Он решил осуществить давнюю мечту – навестить Володю.
Неспешно, на трамвае, он доехал до центрального автовокзала, купил билет и сел на скамейку. Среди томящихся в ожидании рейса пассажиров его внимание привлекла соседка – молодая женщина, погруженная в чтение электронной книги. Впрочем, сюжет не спешил завладевать ее воображением. Отложив гаджет, она принялась рассеянно изучать вокзальный пейзаж, скользя взглядом по веренице прибывающих и отбывающих автобусов. Леонид ненавязчиво заговорил с ней и, к собственному удивлению, встретил искренний интерес. Его мысли были заняты долгожданной встречей с братом, а незнакомка ехала навестить бабушку. Узнав об этом, Леонид поделился воспоминаниями о своей, ее мудрости и богатом жизненном опыте.
Рассказ тронул женщину до глубины души. Даже после прощания, сидя в автобусе, она продолжала обдумывать его слова – человека, прошедшего через горнило испытаний. Сколько же сил ему понадобилось, чтобы принять новую реальность и заново научиться ходить? Поддержка семьи и ценности, заложенные еще в детстве, помогли ему двигаться вперед.
Та женщина оказалась писательницей. Вдохновленная, она решила рассказать историю Леонида миру. Она хотела показать, как важно беречь своих близких, и как семья может стать опорой в самые темные времена. И, конечно, помнить о мудрости старшего поколения и тех знаниях, которые помогают нам оставаться людьми.
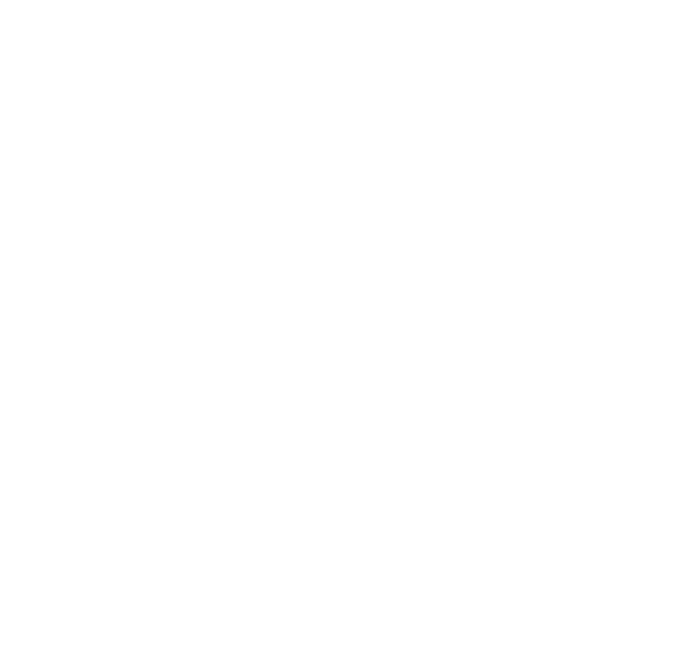
Владимир КОНЬКОВ
Родился в 1994 году в Республике Саха (Якутия). Детство и юность провел в посёлке Ясашная Свердловской области. В настоящее время живёт в городе Алапаевске. Работает учителем русского языка и литературы.
Родился в 1994 году в Республике Саха (Якутия). Детство и юность провел в посёлке Ясашная Свердловской области. В настоящее время живёт в городе Алапаевске. Работает учителем русского языка и литературы.
ЖИТЕЛИ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Хорош совет: «Можешь не писать – не пиши!» Вот спасибочки! Это уж, будьте спокойны, у меня получается чудесно – третий год не могу выдать ни одного рассказа, всё какие-то жалкие наброски да зарисовки.
Впрочем, если полистать мой блокнот, то можно найти кое-что интересное. Ну вот, зачту:
«Идёт Олеся Баклашкина, соседка. С глубокого похмелья. Под глазом фингал. Синющий!
Спрашиваю: «Олеська, откуда синяк-то?» – хотя знаю, что муж приложил, бил он её до́бро.
«А, – говорит, – в глаз что-то попало».
Во баба молодец! Какой хороший ответ! И не соврала, и всей правды не сказала. Ну как о такой не написать?
А вот ещё:
К маме часто приходила соседка баба Люба. С телефоном. То интернет пропал (случайно отключила передачу данных, а включить обратно не может), то деньги надо с одного счета на другой перекинуть, то фотки в одноклассниках не открываются почему-то. А маме неохота было с ней сидеть. Баба Люба старушка добрая, но страшно дотошная. Дел на десять минут, а час-полтора отдай. Мало сделать, надо ещё всё популярно объяснить, на бумажке записать. А это время, своих дел невпроворот.
И вот снова пришла баба Люба. Мама вздохнула тяжело, но не отказала. Решила помочь, старушка всё-таки.
– Ты уж ради бога извини, понимаю, достала, но не лажу с техникой-то, – извинялась баба Люба.
– Да ничего-ничего, – говорила мама, пальцем тыча в телефоне.
В это время брат на крыльце вязал берёзовые веники. Соберет пучок, проволокой заделает – готово, соберёт пучок – заделает – готово. И решил один веник бабе Любе подарить. Просто так. Выбрал попышней, подошел к ней с веником, как с букетом цветов, подаёт и говорит:
– Это вам подарок! Парьтесь на здоровье!
Баба Люба веник взяла, «спасибо, спасибо», обниматься лезет. Потом подумала и говорит:
– Меня ещё никто так вежливо не посылал в баню!
* * *
А однажды мне в парикмахерской чуть уши не отрезали. Сижу в кресле, меня стригут. Моя парикмахерша рассказывает другой о своём пожилом отце.
Тот хотел утром выпить. Налил в стопку, взял. А рука старческая трясётся, не держит. Стопка выскользнула – хлобысь! – на пол. Осколки в стороны, водка между половицами затекла.
Папаша на пол смотрит, насупился и говорит:
– Ну и где я её буду искать!!!
Я чуть с кресла не свалился, когда услышал: он ещё найти надеется!
* * *
Наблюдение из школы.
Шестиклассники пришли в столовую, сели за стол. Каждый потянул к себе тарелку, осталась одна лишняя. Рома Ведёрников спрашивает Нину Сергеевну:
– Можно мне лишнюю порцию взять?
– Ты сначала свою съешь, потом возьмёшь.
– Хорошо.
Пока Рома ел, кто-то эту лишнюю тарелку прихватил. Рома хватился – а нету.
– Нина Сергеевна, а где порция, ну которая оставалась?
– А что, унесли?
– Нету.
– Ну всё значит, – пожала плечами Нина Сергеевна. – Забрали.
Рома посмотрел в свою пустую тарелку и сказал:
– Я что, зря ел, что ли?
* * *
Ещё наблюдашка. Сам видел.
Подвыпивший кочегар ошибся в телефонной книжке: записал номер и подписал: «Бухалтерия».
* * *
Крыли мы как-то с отцом крышу в церковном приходе. Конец рабочего дня. Отец говорит:
– Доски остались. Убрать надо, а то упрут.
Баба Люся, главная в приходе, и говорит:
– А чё упрут – ничего не упрут! Мы их покрестим и всё!
Суперзащита!
* * *
Сын нашей учительницы Лидии Николаевны читал «Муму». Начал возмущаться:
– Я не согласен с Герасимом!
– Почему?
– Он из-за Тани сильно поссорился с Капитоном!
– Как поссорился? – в том смысле, что Герасим немой.
– На пальцах, – ответил мальчик.
* * *
А тут долго смеялся над своей глупостью: пожарил котлеты и, чтобы они не остыли до прихода гостей, убрал в холодильник.
* * *
И последнее. Веду урок литературы. Вижу – две девочки «на Камчатке» занимаются посторонними вещами. Тихонько подхожу, интересуюсь:
– Ну-с, чем заняты? – и гляжу у них на парте зеркальце, губная помада и колода карт.
– Та-а-ак, – иронично говорю. – Ну и зачем вы это разложили?
– А мы тут это….
– Что «мы это»?
– Пиковую даму вызываем.
– На уроке?.. Зачем?
– Чтоб страшно было.
– Хотите урок сорвать?
– Не дай боже, что вы!
– Тогда зачем?
– Просто… Интересно же.
– Убирайте, дома будете вызывать.
– Владлен Александрович, а вы умеете пиковую даму вызывать? Давайте с нами потом.
– Нет, не умею.
– А у вас есть что-нибудь красное?
– Зачем?
– Можно ещё скелета Васю вызвать. Он любит красное. Вызовем – знаете, как страшно будет!
– У меня есть красная ручка – я умею родителей вызывать!
«Можешь, – говорят, – не писать – не пиши!» Да, могу не писать, могу! Очень даже хорошо у меня это получается. Но как же не писать, когда вокруг так много забавного и смешного, а некоторые герои сами в записную книжку просятся...
Хорош совет: «Можешь не писать – не пиши!» Вот спасибочки! Это уж, будьте спокойны, у меня получается чудесно – третий год не могу выдать ни одного рассказа, всё какие-то жалкие наброски да зарисовки.
Впрочем, если полистать мой блокнот, то можно найти кое-что интересное. Ну вот, зачту:
«Идёт Олеся Баклашкина, соседка. С глубокого похмелья. Под глазом фингал. Синющий!
Спрашиваю: «Олеська, откуда синяк-то?» – хотя знаю, что муж приложил, бил он её до́бро.
«А, – говорит, – в глаз что-то попало».
Во баба молодец! Какой хороший ответ! И не соврала, и всей правды не сказала. Ну как о такой не написать?
А вот ещё:
К маме часто приходила соседка баба Люба. С телефоном. То интернет пропал (случайно отключила передачу данных, а включить обратно не может), то деньги надо с одного счета на другой перекинуть, то фотки в одноклассниках не открываются почему-то. А маме неохота было с ней сидеть. Баба Люба старушка добрая, но страшно дотошная. Дел на десять минут, а час-полтора отдай. Мало сделать, надо ещё всё популярно объяснить, на бумажке записать. А это время, своих дел невпроворот.
И вот снова пришла баба Люба. Мама вздохнула тяжело, но не отказала. Решила помочь, старушка всё-таки.
– Ты уж ради бога извини, понимаю, достала, но не лажу с техникой-то, – извинялась баба Люба.
– Да ничего-ничего, – говорила мама, пальцем тыча в телефоне.
В это время брат на крыльце вязал берёзовые веники. Соберет пучок, проволокой заделает – готово, соберёт пучок – заделает – готово. И решил один веник бабе Любе подарить. Просто так. Выбрал попышней, подошел к ней с веником, как с букетом цветов, подаёт и говорит:
– Это вам подарок! Парьтесь на здоровье!
Баба Люба веник взяла, «спасибо, спасибо», обниматься лезет. Потом подумала и говорит:
– Меня ещё никто так вежливо не посылал в баню!
* * *
А однажды мне в парикмахерской чуть уши не отрезали. Сижу в кресле, меня стригут. Моя парикмахерша рассказывает другой о своём пожилом отце.
Тот хотел утром выпить. Налил в стопку, взял. А рука старческая трясётся, не держит. Стопка выскользнула – хлобысь! – на пол. Осколки в стороны, водка между половицами затекла.
Папаша на пол смотрит, насупился и говорит:
– Ну и где я её буду искать!!!
Я чуть с кресла не свалился, когда услышал: он ещё найти надеется!
* * *
Наблюдение из школы.
Шестиклассники пришли в столовую, сели за стол. Каждый потянул к себе тарелку, осталась одна лишняя. Рома Ведёрников спрашивает Нину Сергеевну:
– Можно мне лишнюю порцию взять?
– Ты сначала свою съешь, потом возьмёшь.
– Хорошо.
Пока Рома ел, кто-то эту лишнюю тарелку прихватил. Рома хватился – а нету.
– Нина Сергеевна, а где порция, ну которая оставалась?
– А что, унесли?
– Нету.
– Ну всё значит, – пожала плечами Нина Сергеевна. – Забрали.
Рома посмотрел в свою пустую тарелку и сказал:
– Я что, зря ел, что ли?
* * *
Ещё наблюдашка. Сам видел.
Подвыпивший кочегар ошибся в телефонной книжке: записал номер и подписал: «Бухалтерия».
* * *
Крыли мы как-то с отцом крышу в церковном приходе. Конец рабочего дня. Отец говорит:
– Доски остались. Убрать надо, а то упрут.
Баба Люся, главная в приходе, и говорит:
– А чё упрут – ничего не упрут! Мы их покрестим и всё!
Суперзащита!
* * *
Сын нашей учительницы Лидии Николаевны читал «Муму». Начал возмущаться:
– Я не согласен с Герасимом!
– Почему?
– Он из-за Тани сильно поссорился с Капитоном!
– Как поссорился? – в том смысле, что Герасим немой.
– На пальцах, – ответил мальчик.
* * *
А тут долго смеялся над своей глупостью: пожарил котлеты и, чтобы они не остыли до прихода гостей, убрал в холодильник.
* * *
И последнее. Веду урок литературы. Вижу – две девочки «на Камчатке» занимаются посторонними вещами. Тихонько подхожу, интересуюсь:
– Ну-с, чем заняты? – и гляжу у них на парте зеркальце, губная помада и колода карт.
– Та-а-ак, – иронично говорю. – Ну и зачем вы это разложили?
– А мы тут это….
– Что «мы это»?
– Пиковую даму вызываем.
– На уроке?.. Зачем?
– Чтоб страшно было.
– Хотите урок сорвать?
– Не дай боже, что вы!
– Тогда зачем?
– Просто… Интересно же.
– Убирайте, дома будете вызывать.
– Владлен Александрович, а вы умеете пиковую даму вызывать? Давайте с нами потом.
– Нет, не умею.
– А у вас есть что-нибудь красное?
– Зачем?
– Можно ещё скелета Васю вызвать. Он любит красное. Вызовем – знаете, как страшно будет!
– У меня есть красная ручка – я умею родителей вызывать!
«Можешь, – говорят, – не писать – не пиши!» Да, могу не писать, могу! Очень даже хорошо у меня это получается. Но как же не писать, когда вокруг так много забавного и смешного, а некоторые герои сами в записную книжку просятся...
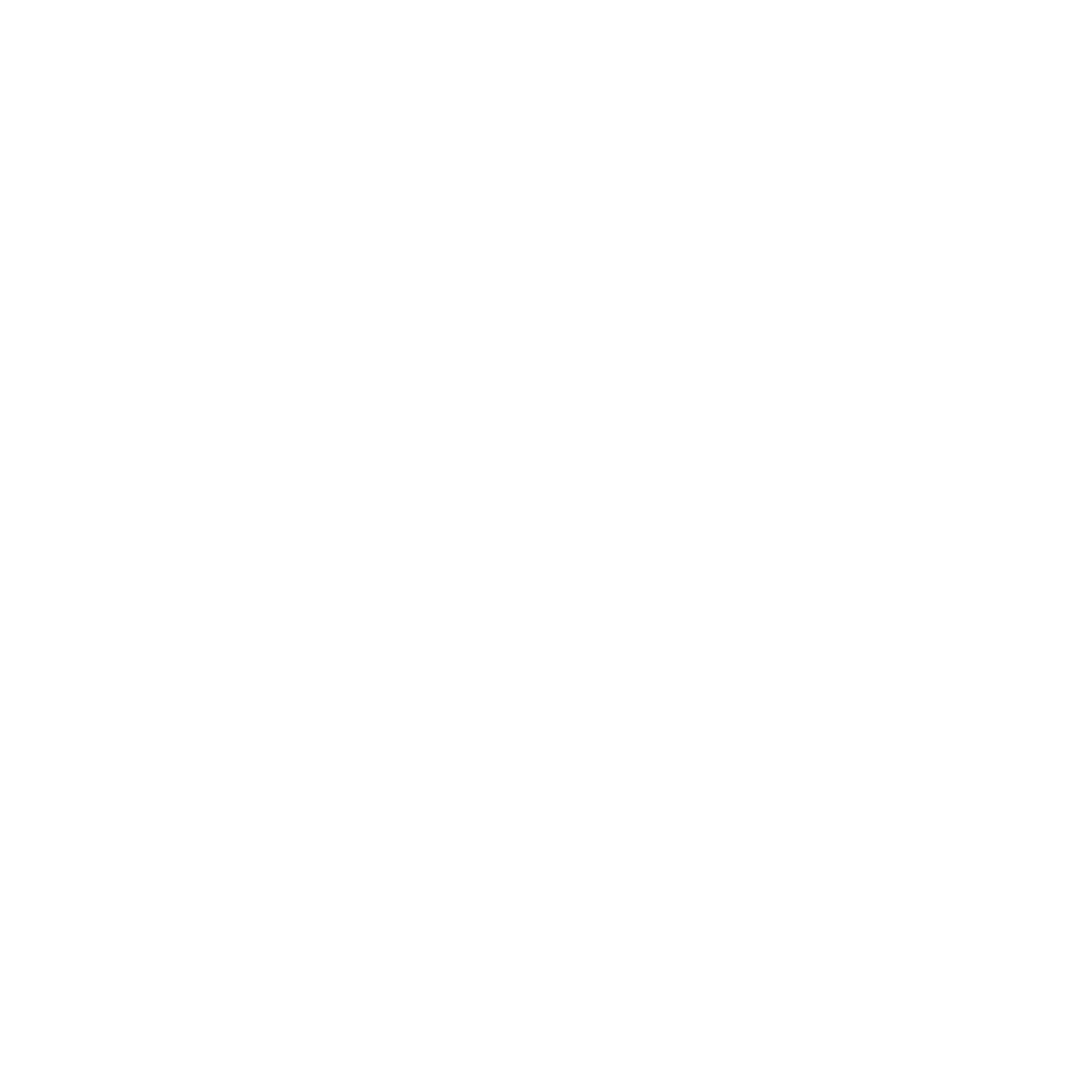
Дмитрий ЗАМЫШЛЯЕВ
Родился в 1975 году в г. Новгороде (сейчас Великий Новгород). Пишу стихи и тексты для песен со студенческих времен. Пишу рассказы в жанре фантастики. Номинант литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя» 2024 года. Публиковался в литературных альманахах «Линии» , «Поэт года», «Русь моя» , «Маринистика», «Речьпорт».
Родился в 1975 году в г. Новгороде (сейчас Великий Новгород). Пишу стихи и тексты для песен со студенческих времен. Пишу рассказы в жанре фантастики. Номинант литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя» 2024 года. Публиковался в литературных альманахах «Линии» , «Поэт года», «Русь моя» , «Маринистика», «Речьпорт».
ЧАСОВЩИК
За пять минут до полудня из его окон раздавался громкий перезвон, бряцанье, звук колокольчика, треск будильника и пение птиц, играло несколько мелодий, и даже начинал бить маленький колокол…
Проходящие мимо владельцы соседних лавок, привычно закрывая уши, ворчали, а некоторые и говорили во весь голос:
– Ларс, да когда же это кончится… чтоб твоя лавка сгорела!
Пять минут невероятного шума проходили.
И на городской ратуше куранты били двенадцать раз.
– Мало того, что его часы устраивают дикий шум, так еще и идут неправильно, – возмущались соседи.
Ларс ничего не отвечал. Виновато улыбнувшись, он выходил на крыльцо, долго смотрел на свой карманный хронометр, разводил руками, извинялся и уходил в свою лавку.
Ларс Ульссон был часовщиком. Казалось, он был всегда. Каждый, кто родился в Уппсале, еще ребенком помнил лавку Ульссона и эту дикую симфонию звуков, которая начиналась за пять минут до полудня.
И тем не менее, часы у Ульссона покупали.
Подороже, подешевле, в подарок, в качестве сувенира.
У него было все – от миниатюр с причудливыми пейзажами и портретами на циферблатах, на которых и время-то разглядеть было невозможно, только если в большое увеличительное стекло, до больших настенных часов с выплывающими замками, фигурами рыцарей и балерин.
Ларс был вечным, так многим казалось.
Его уважали, его поругивали и даже побаивались. Рассказывали, что как-то сам король побывал в его лавке, и теперь во дворце есть часы Ларса Ульссона, а еще из-за беседы с ним король задержался с отъездом на пять минут. Ровно в двенадцать рухнул старый мост, по которому король должен был пересечь реку Фирис. Монарх, трепетно относившийся к знакам судьбы, уехал из Уппсалы по другой дороге и через неделю прислал Ларсу дарственную грамоту, которая отныне висела в его мастерской.
Поэтому, как ни ворчали по поводу шума соседи, Ульссона по-своему любили и прощали его странности.
Никто не спрашивал, сколько ему лет. Кожа его была похожа на старый пергамент, ходил старик медленно, но как только он брал в руки часы, движения его становились ловкими и глаза загорались.
Часто он сидел на ступеньках лавки и показывал очередное творение местным мальчишкам и любопытным прохожим. Это были поистине удивительные вещи. Часы в виде корабля, земного шара, серебряной табакерки. Ларс долго и старательно объяснял, как они устроены, почему движется механизм, из какого материала сделаны фигурки, и порой до темноты, пока матери не начинали загонять мальчишек домой и не расходились последние покупатели, слышался его тихий голос.
У Ларса была масса секретов. Никто не знал, где он брал материалы для своих творений, кто доставлял ему слоновую кость, серебро, редкие породы дерева. Что за инструменты хранил он в обшитом красном бархатом маленьком саквояже.
И главное, почему раз в год, в мае, старик Ульссон закрывал лавку и уходил в сторону старого порта Уппсалы, давно забытого и заброшенного.
Ларс одевался в лучший костюм, тщательно расчесывал седые волосы, его согбенная спина выпрямлялась, и он уходил с саквояжем по Ремесленной улице, до поворота на Королевскую площадь, с которой проулками выходил на набережную. Обитатели Ремесленной улицы шептались и немного посмеивались над его нарядным видом:
– Свататься пошел, не иначе.
Но делали это с улыбкой, беззлобно.
Мальчишки часто бежали с ним до площади, но теряли его фигуру из вида в маленьких улочках старого города. Годами его маршрут не менялся, и к этой причуде все привыкли, как и к полуденному шуму его часов.
Ульссон проходил через весь город и по набережной достигал свой цели – старого маяка в Вестланде у заброшенного причала. Теперь корабли здесь не стояли, и людей почти не было. Но Ларс помнил другие, лучшие времена.
Часовщик присаживался на скамейку у маяка и доставал из своего саквояжа хронометр цвета слоновой кости.
Он долго и тщательно заводил его и, вращая стрелки, выставлял время. Часовщик долго вглядывался в морскую даль, в пустую бухту, словно ждал чего-то. Потом грустно вздыхал и возвращался домой.
После своей прогулки Ларс на неделю становился мрачным, нелюдимым и не принимал заказов. Закрыв лавку, он возился с хронометром, пытаясь решить одному ему известную задачу.
Немного погодя жизнь возвращалась в прежнее русло.
Вот и сегодня, в пригожий майский день, часовщик привычной дорогой пошел к старому маяку. Так же достал из саквояжа хронометр и бережно завел его. Он долго не решался переводить стрелки. Его руки тряслись от волнения. Наконец Ларс повернул крохотную головку механизма, и минутная стрелка стала двигаться назад.
Что-то изменилось. Воздух стал сначала прозрачным, потом густым, задул ветер, море заволновалось и успокоилось. Загорелись огни маяка. Ожил Вестланд, и бухта стала наполняться кораблями. Пароходы и пакетботы пропитали бухту черным угольным дымом, у шумного причала из пустоты возник корабль, на который поднимались сотни пассажиров…
Ларс с надеждой вглядывался в лица людей, словно искал кого-то. Он изменился. Его согнутые временем плечи распрямились, пропали морщины, ушла в прошлое пергаментная кожа, в черной смоли волос растворилась седина.
Он смотрел то на часы, то на корабль, тщетно пытаясь найти знакомую фигуру. И вдруг с верхней палубы раздался крик, перекрывший на секунду портовый шум:
– Ларс! Ларс, я здесь! – молодая светловолосая девушка махала ему рукой с верхней палубы.
Ульссон увидел ее, схватил свой саквояж и бросился к ней, пробиваясь сквозь толпу.
Он мельком бросил взгляд на хронометр. У него оставалось менее двух минут…
В отчаянии он перепрыгнул заграждение, канат, добрался до сходни. Вытащил из сюртука пожелтевший от времени билет.
Контролер долго и придирчиво изучал его.
– Ларс! – звала его девушка.
Осталось тридцать секунд, двадцать… Наконец его пропустили, и Ларс Ульссон сделал шаг на корабль за десять секунд до конца тех самых пяти минут, которых ему когда-то не хватило, чтобы успеть на корабль, тех самых пяти минут, что спасли жизнь королю, когда рухнул мост через Фирис.
Пять минут, за которые он боролся долгие годы и которые так донимали соседей и прохожих громким предполуденным звоном.
Ларс, молодой, красивый, бежал к девушке, а она – ему навстречу. Они поцеловались.
– Я так боялась, что ты опоздаешь… Я так боялась, – повторяла она.
Он ничего не говорил. Он просто обнимал ее, стараясь не вспоминать тот роковой день и двести лет, которые он прожил на Ремесленной улице, пытаясь совершить чудо и исправить свою ошибку.
Корабль выходил из бухты и отправлялся в Новый Свет. Они смеялись и говорили о чем-то. О чем-то хорошем, что ждет их там, в будущем.
Ульссон знал, что в прежней его жизни маяк погас, Вестланд затих, старый порт снова опустел.
Он подумал, что завтра часы в последний раз сыграют свою мелодию без пяти минут двенадцать.
Потом его мысли вернулись к любимой, а прежняя жизнь потускнела и испарилась…
Соседи не удивились исчезновению старика. В конце концов, никто не живет вечно. А может быть… Впрочем, разве с этим Ульссоном что-то можно понять?
Часовую мастерскую вскоре купили, но никто не задерживался там надолго, ни ювелиры, ни пекари, ни торговцы сладостями.
Лишь одно не меняется. В каждой лавке и в каждом доме на Ремесленной улице есть часы, сделанные Ларсом, и за пять минут до двенадцати они начинают бить, петь, звенеть, и как их хозяева ни переводят стрелки, механизмы их не слушаются.
Постепенно люди привыкли к этому.
Кто знает, Возможно, эти пять минут жизни, подаренные Ларсом, – самое ценное, что может быть на свете?
За пять минут до полудня из его окон раздавался громкий перезвон, бряцанье, звук колокольчика, треск будильника и пение птиц, играло несколько мелодий, и даже начинал бить маленький колокол…
Проходящие мимо владельцы соседних лавок, привычно закрывая уши, ворчали, а некоторые и говорили во весь голос:
– Ларс, да когда же это кончится… чтоб твоя лавка сгорела!
Пять минут невероятного шума проходили.
И на городской ратуше куранты били двенадцать раз.
– Мало того, что его часы устраивают дикий шум, так еще и идут неправильно, – возмущались соседи.
Ларс ничего не отвечал. Виновато улыбнувшись, он выходил на крыльцо, долго смотрел на свой карманный хронометр, разводил руками, извинялся и уходил в свою лавку.
Ларс Ульссон был часовщиком. Казалось, он был всегда. Каждый, кто родился в Уппсале, еще ребенком помнил лавку Ульссона и эту дикую симфонию звуков, которая начиналась за пять минут до полудня.
И тем не менее, часы у Ульссона покупали.
Подороже, подешевле, в подарок, в качестве сувенира.
У него было все – от миниатюр с причудливыми пейзажами и портретами на циферблатах, на которых и время-то разглядеть было невозможно, только если в большое увеличительное стекло, до больших настенных часов с выплывающими замками, фигурами рыцарей и балерин.
Ларс был вечным, так многим казалось.
Его уважали, его поругивали и даже побаивались. Рассказывали, что как-то сам король побывал в его лавке, и теперь во дворце есть часы Ларса Ульссона, а еще из-за беседы с ним король задержался с отъездом на пять минут. Ровно в двенадцать рухнул старый мост, по которому король должен был пересечь реку Фирис. Монарх, трепетно относившийся к знакам судьбы, уехал из Уппсалы по другой дороге и через неделю прислал Ларсу дарственную грамоту, которая отныне висела в его мастерской.
Поэтому, как ни ворчали по поводу шума соседи, Ульссона по-своему любили и прощали его странности.
Никто не спрашивал, сколько ему лет. Кожа его была похожа на старый пергамент, ходил старик медленно, но как только он брал в руки часы, движения его становились ловкими и глаза загорались.
Часто он сидел на ступеньках лавки и показывал очередное творение местным мальчишкам и любопытным прохожим. Это были поистине удивительные вещи. Часы в виде корабля, земного шара, серебряной табакерки. Ларс долго и старательно объяснял, как они устроены, почему движется механизм, из какого материала сделаны фигурки, и порой до темноты, пока матери не начинали загонять мальчишек домой и не расходились последние покупатели, слышался его тихий голос.
У Ларса была масса секретов. Никто не знал, где он брал материалы для своих творений, кто доставлял ему слоновую кость, серебро, редкие породы дерева. Что за инструменты хранил он в обшитом красном бархатом маленьком саквояже.
И главное, почему раз в год, в мае, старик Ульссон закрывал лавку и уходил в сторону старого порта Уппсалы, давно забытого и заброшенного.
Ларс одевался в лучший костюм, тщательно расчесывал седые волосы, его согбенная спина выпрямлялась, и он уходил с саквояжем по Ремесленной улице, до поворота на Королевскую площадь, с которой проулками выходил на набережную. Обитатели Ремесленной улицы шептались и немного посмеивались над его нарядным видом:
– Свататься пошел, не иначе.
Но делали это с улыбкой, беззлобно.
Мальчишки часто бежали с ним до площади, но теряли его фигуру из вида в маленьких улочках старого города. Годами его маршрут не менялся, и к этой причуде все привыкли, как и к полуденному шуму его часов.
Ульссон проходил через весь город и по набережной достигал свой цели – старого маяка в Вестланде у заброшенного причала. Теперь корабли здесь не стояли, и людей почти не было. Но Ларс помнил другие, лучшие времена.
Часовщик присаживался на скамейку у маяка и доставал из своего саквояжа хронометр цвета слоновой кости.
Он долго и тщательно заводил его и, вращая стрелки, выставлял время. Часовщик долго вглядывался в морскую даль, в пустую бухту, словно ждал чего-то. Потом грустно вздыхал и возвращался домой.
После своей прогулки Ларс на неделю становился мрачным, нелюдимым и не принимал заказов. Закрыв лавку, он возился с хронометром, пытаясь решить одному ему известную задачу.
Немного погодя жизнь возвращалась в прежнее русло.
Вот и сегодня, в пригожий майский день, часовщик привычной дорогой пошел к старому маяку. Так же достал из саквояжа хронометр и бережно завел его. Он долго не решался переводить стрелки. Его руки тряслись от волнения. Наконец Ларс повернул крохотную головку механизма, и минутная стрелка стала двигаться назад.
Что-то изменилось. Воздух стал сначала прозрачным, потом густым, задул ветер, море заволновалось и успокоилось. Загорелись огни маяка. Ожил Вестланд, и бухта стала наполняться кораблями. Пароходы и пакетботы пропитали бухту черным угольным дымом, у шумного причала из пустоты возник корабль, на который поднимались сотни пассажиров…
Ларс с надеждой вглядывался в лица людей, словно искал кого-то. Он изменился. Его согнутые временем плечи распрямились, пропали морщины, ушла в прошлое пергаментная кожа, в черной смоли волос растворилась седина.
Он смотрел то на часы, то на корабль, тщетно пытаясь найти знакомую фигуру. И вдруг с верхней палубы раздался крик, перекрывший на секунду портовый шум:
– Ларс! Ларс, я здесь! – молодая светловолосая девушка махала ему рукой с верхней палубы.
Ульссон увидел ее, схватил свой саквояж и бросился к ней, пробиваясь сквозь толпу.
Он мельком бросил взгляд на хронометр. У него оставалось менее двух минут…
В отчаянии он перепрыгнул заграждение, канат, добрался до сходни. Вытащил из сюртука пожелтевший от времени билет.
Контролер долго и придирчиво изучал его.
– Ларс! – звала его девушка.
Осталось тридцать секунд, двадцать… Наконец его пропустили, и Ларс Ульссон сделал шаг на корабль за десять секунд до конца тех самых пяти минут, которых ему когда-то не хватило, чтобы успеть на корабль, тех самых пяти минут, что спасли жизнь королю, когда рухнул мост через Фирис.
Пять минут, за которые он боролся долгие годы и которые так донимали соседей и прохожих громким предполуденным звоном.
Ларс, молодой, красивый, бежал к девушке, а она – ему навстречу. Они поцеловались.
– Я так боялась, что ты опоздаешь… Я так боялась, – повторяла она.
Он ничего не говорил. Он просто обнимал ее, стараясь не вспоминать тот роковой день и двести лет, которые он прожил на Ремесленной улице, пытаясь совершить чудо и исправить свою ошибку.
Корабль выходил из бухты и отправлялся в Новый Свет. Они смеялись и говорили о чем-то. О чем-то хорошем, что ждет их там, в будущем.
Ульссон знал, что в прежней его жизни маяк погас, Вестланд затих, старый порт снова опустел.
Он подумал, что завтра часы в последний раз сыграют свою мелодию без пяти минут двенадцать.
Потом его мысли вернулись к любимой, а прежняя жизнь потускнела и испарилась…
Соседи не удивились исчезновению старика. В конце концов, никто не живет вечно. А может быть… Впрочем, разве с этим Ульссоном что-то можно понять?
Часовую мастерскую вскоре купили, но никто не задерживался там надолго, ни ювелиры, ни пекари, ни торговцы сладостями.
Лишь одно не меняется. В каждой лавке и в каждом доме на Ремесленной улице есть часы, сделанные Ларсом, и за пять минут до двенадцати они начинают бить, петь, звенеть, и как их хозяева ни переводят стрелки, механизмы их не слушаются.
Постепенно люди привыкли к этому.
Кто знает, Возможно, эти пять минут жизни, подаренные Ларсом, – самое ценное, что может быть на свете?
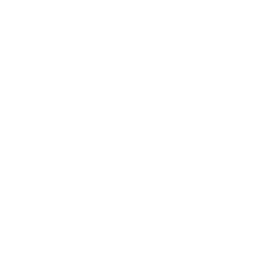
Илья САДЫРЕВ
Родился в 1972 году в г. Сарапуле Удмуртия. Авторство: трилогия о смешных и познавательных историях на охоте и рыбалке «Охота на земле и под водой» (готовится к изданию первая книга «Мужские игры или чего женщины не знают об охоте»), сборник рассказов авто-фикшн «Пчёлы выбрали меня», сборник детских рассказов «Сергач», сборник детских рассказов «Лагерь Смена», сборник стихов «Уставший Пегас», сказка для взрослых в стихах «Настя, сокол Елисей и противник их Кощей», детская сказка «От чего у лося рога», фельетон «Ярмарка мёда или Лох Серебристый», фельетон «Кабан-диверсант» (произведения готовятся к изданию).
Родился в 1972 году в г. Сарапуле Удмуртия. Авторство: трилогия о смешных и познавательных историях на охоте и рыбалке «Охота на земле и под водой» (готовится к изданию первая книга «Мужские игры или чего женщины не знают об охоте»), сборник рассказов авто-фикшн «Пчёлы выбрали меня», сборник детских рассказов «Сергач», сборник детских рассказов «Лагерь Смена», сборник стихов «Уставший Пегас», сказка для взрослых в стихах «Настя, сокол Елисей и противник их Кощей», детская сказка «От чего у лося рога», фельетон «Ярмарка мёда или Лох Серебристый», фельетон «Кабан-диверсант» (произведения готовятся к изданию).
СЕРГАЧ
В Сергаче всё было другое и особенное. Особенный старинный купеческий дом из плотного красного кирпича с полукруглыми вверху окнами и большой обитой толстым слоем железа дверью (великая нераскрытая тайна всех внуков), ведущей в подвал дома со стороны улицы с огромнейшим навесным кованым замком. Дом и в улице стоял по-особому, как бы возвышаясь над соседними домами. Особенная круглая печь до потолка, так же обитая крашеным в блестящий чёрный цвет железом, напоминавшая поставленный стоймя паровоз, которая располагалась в самой большой комнате. Особенный, ни с чем не сравнимый запах всего, что находилось в этом мрачноватом, но таком прекрасном и умеющем веселиться доме. На парадном крыльце этого особенного дома давали особенные концерты, на которые заранее приглашались все ближайшие соседи и все, кто увидел единственную афишу на придорожном столбе, нарисованную дефицитными фломастерами на листе серой писчей бумаги. Маринка, самая младшая из Илюшиных тёток, она была старше племянников всего на шесть лет, виртуозно играла на трофейном немецком аккордеоне, а Илюша и его двоюродный брат Серёжка, как заправские матросы, отплясывали «яблочко» и пели какие-то взрослые песни. Зрители, которых собиралось немало, то пускали слезу, то смеялись до слёз над залихватским выступлением маленьких лицедеев и певцов, но неизменно аплодировали после каждого номера раскрасневшимся артистам и их молоденькой красавице аккомпаниаторше.
Там даже чай пили по-особому – из самовара (пусть и электрического) и с блюдца. Чаепитие в Сергаче – это отдельная церемония. Фронтовик деда Лёша был главный распорядитель. Все, от мала до велика, сидели за большим овальным столом на летней веранде и с восхищением смотрели на его колдовство. Как он ополаскивает красивый заварочный чайник из белого фарфора кипятком из носика клокочущего, наполированного до зеркального блеска, самовара. Как горстью отмеряет из изумрудной жестяной банки индийский чёрный чай и заливает сморщенные сухие листочки булькающей парящейся водой. Пока чай заваривается, начинается главное представление. Деда Лёша открывал серебряную крышечку стеклянной сахарницы и доставал большой белоснежный кусок сахара. Этот сахар реально особенный. Илюша такого сахара больше нигде не видел. Он был твёрдый-твёрдый, как белый камень, и квадратной формы. Его бесполезно грызть зубами (Илюша не раз пробовал), его можно только сначала расколоть, размочить и вот потом…
Деда Лёша оставлял квадратный кусок каменного сахара в своей раскрытой мозолистой правой ладони, брал в левую руку большой и острый, как бритва, кухонный нож с зелёной пластмассовой ручкой и с размаху ударял остриём по сахару. Детвора с ужасом зажмуривала глаза. Раздавался глухой звук металла ударяющегося о камень. И малыши, открыв свои глазёнки, с удивлением обнаруживали в большой ладони Деды Лёши два идеально ровных куска сахара! Восхищению ребятишек не было предела. А «чайный распорядитель» проделывал этот фокус ещё несколько раз и к блюдцу с тёплым чаем каждого члена семьи ложился кусочек белого вкуснейшего сахара с острыми от скола краями. Вот теперь его можно было размачивать в блюдце с чаем и смаковать.
В Сергаче всё было другое и особенное. Особенный старинный купеческий дом из плотного красного кирпича с полукруглыми вверху окнами и большой обитой толстым слоем железа дверью (великая нераскрытая тайна всех внуков), ведущей в подвал дома со стороны улицы с огромнейшим навесным кованым замком. Дом и в улице стоял по-особому, как бы возвышаясь над соседними домами. Особенная круглая печь до потолка, так же обитая крашеным в блестящий чёрный цвет железом, напоминавшая поставленный стоймя паровоз, которая располагалась в самой большой комнате. Особенный, ни с чем не сравнимый запах всего, что находилось в этом мрачноватом, но таком прекрасном и умеющем веселиться доме. На парадном крыльце этого особенного дома давали особенные концерты, на которые заранее приглашались все ближайшие соседи и все, кто увидел единственную афишу на придорожном столбе, нарисованную дефицитными фломастерами на листе серой писчей бумаги. Маринка, самая младшая из Илюшиных тёток, она была старше племянников всего на шесть лет, виртуозно играла на трофейном немецком аккордеоне, а Илюша и его двоюродный брат Серёжка, как заправские матросы, отплясывали «яблочко» и пели какие-то взрослые песни. Зрители, которых собиралось немало, то пускали слезу, то смеялись до слёз над залихватским выступлением маленьких лицедеев и певцов, но неизменно аплодировали после каждого номера раскрасневшимся артистам и их молоденькой красавице аккомпаниаторше.
Там даже чай пили по-особому – из самовара (пусть и электрического) и с блюдца. Чаепитие в Сергаче – это отдельная церемония. Фронтовик деда Лёша был главный распорядитель. Все, от мала до велика, сидели за большим овальным столом на летней веранде и с восхищением смотрели на его колдовство. Как он ополаскивает красивый заварочный чайник из белого фарфора кипятком из носика клокочущего, наполированного до зеркального блеска, самовара. Как горстью отмеряет из изумрудной жестяной банки индийский чёрный чай и заливает сморщенные сухие листочки булькающей парящейся водой. Пока чай заваривается, начинается главное представление. Деда Лёша открывал серебряную крышечку стеклянной сахарницы и доставал большой белоснежный кусок сахара. Этот сахар реально особенный. Илюша такого сахара больше нигде не видел. Он был твёрдый-твёрдый, как белый камень, и квадратной формы. Его бесполезно грызть зубами (Илюша не раз пробовал), его можно только сначала расколоть, размочить и вот потом…
Деда Лёша оставлял квадратный кусок каменного сахара в своей раскрытой мозолистой правой ладони, брал в левую руку большой и острый, как бритва, кухонный нож с зелёной пластмассовой ручкой и с размаху ударял остриём по сахару. Детвора с ужасом зажмуривала глаза. Раздавался глухой звук металла ударяющегося о камень. И малыши, открыв свои глазёнки, с удивлением обнаруживали в большой ладони Деды Лёши два идеально ровных куска сахара! Восхищению ребятишек не было предела. А «чайный распорядитель» проделывал этот фокус ещё несколько раз и к блюдцу с тёплым чаем каждого члена семьи ложился кусочек белого вкуснейшего сахара с острыми от скола краями. Вот теперь его можно было размачивать в блюдце с чаем и смаковать.
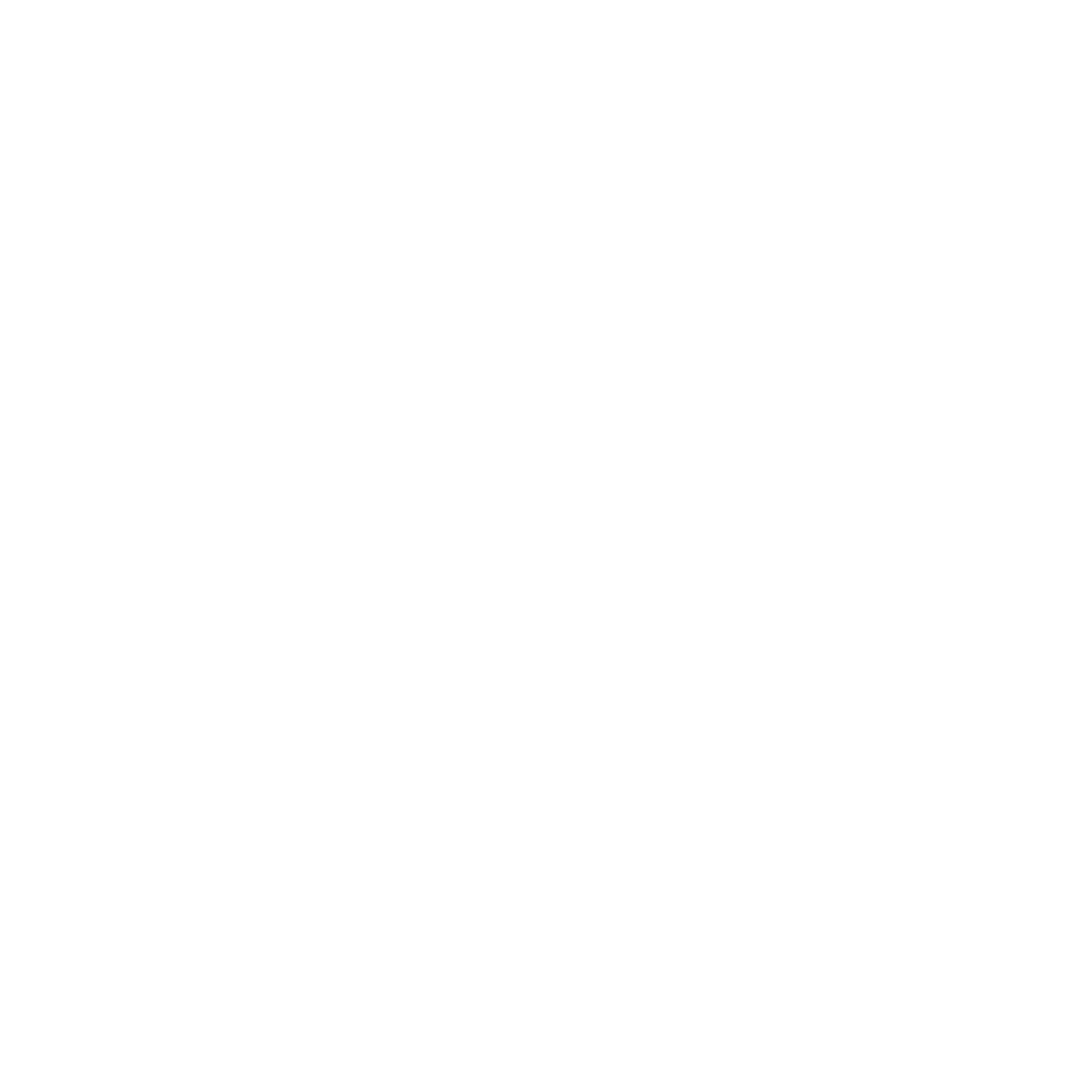
Ольга ЗАБРОДИНА
Родилась и живет в Сибири. По образованию математик, но уже 15 лет руководит детской Театральной студией. Пишет в основном сценарии, иногда рассказы и новеллы. Это первая официальная публикация автора, представленная на суд читателей.
Родилась и живет в Сибири. По образованию математик, но уже 15 лет руководит детской Театральной студией. Пишет в основном сценарии, иногда рассказы и новеллы. Это первая официальная публикация автора, представленная на суд читателей.
БЕРЕГИТЕ НОГИ
(Из серии рассказов «Ностальгия по СССР»)
Это было в 1992 году. Во времена ПЕРЕСТРОЙКИ. Тем, кто слишком юн, и кто этого слова не касался, – советую не заморачиваться (вам повезло, ребята, что вам сказать!). А у меня были сапоги. Одни! Такие из себя заграничные! По понятиям производителя – зимние, а по-нашему – осенние. Красивые, с узкой голяшкой. И без замка! Скользкие.
А городские дороги (а также трамвайные рельсы, подходы к ним, тротуары и прочее) были нечищеные. Логично. Шел март, весна была не за горами, и местная власть резонно решила, что лишних денег нет, а снег все равно растает. Когда-нибудь.
А то, что на мартовском солнышке снег немного подтаивает, потом замерзает и образует плотную ледяную корку, в народе называемую не очень литературно, ну это… радоваться надо. Весна идет.
В общем, на таком катке я и поскользнулась. Нога плавно съехала со льда на трамвайный рельс и… Я не удержалась и всей своею тушей (55 кг, плюс дубленка и сумка с непроверенными тетрадями двух классов) рухнула на ногу сверху.
Надо сказать, что мне помогли встать. Чтоб трамваю не мешала, видимо. И я еще попробовала пойти. Быстро поняла, что не получается, села и так сидя на льду скорую и ждала.
Потом еще час в приемном покое сидела в ожидании дежурного доктора. Это у нас норма ожидания тогда была. Я догадываюсь, почему. Приезжает такой возмущенный человек. Шумит, ругается. Врача требует. Кричит: «Что у вас здесь за порядки?» Потом заведующего требовать начинает. А потом устает. Кто угодно за час выдохнется. А у него ж еще и болит что-то, иногда сильно болит, не зря ж он сюда приперся. Выдохнется он, и тогда, именно в этот момент, врач и появляется.
Появился и задал мне сакраментальный вопрос: «Сапог резать? Или снимать?»
Угадайте с одного раза, что я ответила… Конечно, «снимать». Это какая ж девушка по доброй воле сапоги единственные, заграничные даст разрезать без шансов восстановления.
Сапог стянули. Было больно. Позже стало ясно, что не надо было этого делать. Вердикт рентгенолога был неутешителен: перелом лодыжки со смещением. Итог – лангета (такой гипс незаконченный, я бы сказала).
Наша городская больница №1 (больница скорой помощи) заслуживает отдельной саги!
Но сейчас мы не будем отвлекаться. И воспримем Первую городскую того времени, как персонаж моего рассказа: большой, старый, не ремонтированный.
Я попала в шестиместную палату, длинную, как коридор, с одним окном в конце ее. Потом поняла, что повезло – и восьми, и десятиместные палаты в наличии имелись.
Все пациентки лежачие. Все, кроме одной бабули – ей было всего семьдесят с гаком, но мне, двадцатидвухлетней, она казалась просто древней. Пять человек лежали, как королевы, с переломанными ногами в разных вариациях. А у бабули Тани был перелом руки и пары ребер. И она бегала. Причем не только бегала…
В этот день в больнице потравили тараканов. Я очень удивлю нынешнюю молодежь этой фразой, но тараканы в те годы встречались в общественных зданиях, тем более тех, что в старческих трещинах, мечтали о ремонте.
Потравили их чем-то интересным. Тараканы носились по стенам и потолку, как оглашенные. Периодически падали на кровати больных, выскакивали в самый неподходящий момент из судна, поставленного сами понимаете куда, или из стакана на тумбочке… В общем, было видно: тараканам то ли сильно весело, то ли сильно страшно. Но жизненной силы у них прям прибавилось. И дохнуть они явно не собирались.
Санитарка тетя Вера, которую мы все же докричались вшестером, войдя в палату, успокоила: «Да они и не должны были сразу то подохнуть! Три дня с ума посходЮт и потом все уйдут. Так что не волнуйтесь, лечитесь, а с нашими тараканами мы сами разберемся».
Учитывая, что городская больница № 1 стоит посреди собственного парка, а через дорогу кожвендиспансер … мы задумались – куда ж они все уйдут-то? В парке тараканы не живут, им без людей скучно. А что они через дорогу побегут, мы сильно сомневались. Тараканы, конечно, умом не блещут, но в кожвен-то им зачем?
Когда тетя Вера гордо удалилась, баба Таня вздохнула, достала из-под подушки шерстяные носки, надела их. Взяла в руки свой тапок. И с фразой «Я с вами лучше по старинке, а то три дня я может не доживу, а помирать без вас приятней», стала лупить по стенам, тумбочкам и полу. В смысле, по бегающим тараканам. После первого десятка убитых мы вынуждены были согласиться, что бабуля – профессионал, и что этот способ действительно надежный. После второго десятка зрители из соседних палат подтянулись. Кто двигаться мог, конечно. В основном публика была на костылях, посему не хлопали –руки заняты были. А аплодисментов баба Таня явно заслужила. Тогда меня очень удивило, почему медперсонал подошел только к концу представления. Видите ли, я первый день в больнице была, еще не знала, что персонал к нам на первый этаж не торопится. Ну, об этом позже.
Итак, медицина подтянулась, когда баба Таня выдохлась. Стукаток, похожий на канонаду, пореже стал. И даже зрители хотели уже разойтись.
Но медицина пришла в лице врача, дежурной медсестры и уже известной нам санитарки тети Веры. Этот персонаж моего повествования все же достоин отдельного описания. Работа санитарки тяжелая, зарплата маленькая, никто идти не хочет. К тому же, родственники или ходячие больные вполне с суднами справляются. А единственная закрытая ставка санитарки на первом этаже и была эта самая Вера. И была она из категории гром-баба. И то, что оказала милость и два раза за день к нам в палату вошла – было вообще явление из ряда вон выходящее, мирными переговорами не пахнущее.
И вот, раздвинув врача и сестру, она вплыла в палату, как крейсер Аврора, пылая справедливым гневом. Палата наша представляла картину, что называется, маслом. Пять кроватей с лежачими больными, высунувшими только кончик носа из-под одеяла. Это потому, что трупы тараканьи и на нас летели тоже. На шестой кровати сидит баба Таня и чистит тапок картонкой. Все стены в коричнево-черных кляксах от недавнего боя. И весь пол усыпан трупами.
И громогласный тети Верин бас: «Что вы себе позволяете? Кто это все убирать будет?», и чистый взгляд бабы Тани: «Тапочки свои я сама помою. А с вашими тараканами вы давеча сказали, сами разберетесь.»
Немая сцена.
Я тогда, подумала, что все самое интересное мне в первый день в больнице выпало. Наивная!!! Все еще только начиналось.
Через пару дней огромный отек на моей ноге стал проходить, и лангета стала болтаться.
Я уже говорила, что первый этаж медперсонал не особо жаловал. Причину я видела только одну: ординаторская была на третьем, и на первый спускаться далеко было. Хотя до второго они доходили. Там была нейрохирургия. Лежал интересный народ, в основном с пробитыми головами. От наркоза отходили трудно. И весело. И мне кажется, врачам самим было интересно посмотреть, что в результате их труда получилось? Может я, конечно, и не права. Но я честно описываю, как это выглядело со стороны.
Я не врач, и не знала, как должна вести себя на ноге лангета. А на ногу мою никто не глядел, даже если и доходил до нашего этажа. Результат: контрольный рентген и вердикт: нога сложена неправильно.
Фиксируем еще раз. В полноценный гипс. Ногу очень больно. Я ною. Мне говорят, что так должно быть. Я плачу. Ко мне никто не подходит. Прошу позвать дежурного врача – ноль реакции. Я честно рыдала часа два. В подушку. Потом у меня слезы и силы закончились. А может просто второе дыхание открылось. Сажусь я с этим новым дыханием на кровати и начинаю верещать. Громко. Зло. Употребляя разную ненормативную лексику. И, главное, не делая пауз. Сначала палата наша застыла. Ступор прошел быстро, и у них округлились глаза и зашевелились уши. Через минуту от начала моего сольного выступления соседние палаты подтянулись. Через пять – нашлась дежурная сестра. Через пятнадцать – у кровати были два врача. Через двадцать – меня везли на рентген. Рентген показал – сложили неправильно.
Еще раз ломаем и складываем. Нога болит. Колют убойную дозу снотворного и обезболивающего. Утром, не дожидаясь второго акта моего Марлезонского балета, «эту психическую» везут на рентген.
Рентгенолог встречает, как родную, и тихонько говорит моему врачу: «Ты что мне ее каждый день возишь? Я из ее снимков галерею могу сделать уже!»
Но рентген дает ожидаемый результат – сложили неправильно.
На следующий день – профессорский обход. К нам в палату приходит зав отделением и мой врач. Фамилию врача я помню до сих пор! Так я его полюбила! Но называть ее, конечно, не буду. Пусть он будет доктор Н.
Завотделением (его фамилию я тоже запомнила!!!) смотрит все снимки и говорит: нужно резать и ставить болт-стяжку. Я на кровати сижу, почти рыдаю и говорю: «Может, кто-то другой мне сложить ногу попробует, раз у доктора Н не выходит».
И тут звучит фраза заведующего, которую я потом не единожды цитировала: «Доктору Н тоже надо НА КОМ-ТО УЧИТЬСЯ. Пусть делает операцию и тренируется!»
Как говорится – комментарии излишни!
Про то, как я этот болт вытаскивала, я напишу в следующей части…
(Из серии рассказов «Ностальгия по СССР»)
Это было в 1992 году. Во времена ПЕРЕСТРОЙКИ. Тем, кто слишком юн, и кто этого слова не касался, – советую не заморачиваться (вам повезло, ребята, что вам сказать!). А у меня были сапоги. Одни! Такие из себя заграничные! По понятиям производителя – зимние, а по-нашему – осенние. Красивые, с узкой голяшкой. И без замка! Скользкие.
А городские дороги (а также трамвайные рельсы, подходы к ним, тротуары и прочее) были нечищеные. Логично. Шел март, весна была не за горами, и местная власть резонно решила, что лишних денег нет, а снег все равно растает. Когда-нибудь.
А то, что на мартовском солнышке снег немного подтаивает, потом замерзает и образует плотную ледяную корку, в народе называемую не очень литературно, ну это… радоваться надо. Весна идет.
В общем, на таком катке я и поскользнулась. Нога плавно съехала со льда на трамвайный рельс и… Я не удержалась и всей своею тушей (55 кг, плюс дубленка и сумка с непроверенными тетрадями двух классов) рухнула на ногу сверху.
Надо сказать, что мне помогли встать. Чтоб трамваю не мешала, видимо. И я еще попробовала пойти. Быстро поняла, что не получается, села и так сидя на льду скорую и ждала.
Потом еще час в приемном покое сидела в ожидании дежурного доктора. Это у нас норма ожидания тогда была. Я догадываюсь, почему. Приезжает такой возмущенный человек. Шумит, ругается. Врача требует. Кричит: «Что у вас здесь за порядки?» Потом заведующего требовать начинает. А потом устает. Кто угодно за час выдохнется. А у него ж еще и болит что-то, иногда сильно болит, не зря ж он сюда приперся. Выдохнется он, и тогда, именно в этот момент, врач и появляется.
Появился и задал мне сакраментальный вопрос: «Сапог резать? Или снимать?»
Угадайте с одного раза, что я ответила… Конечно, «снимать». Это какая ж девушка по доброй воле сапоги единственные, заграничные даст разрезать без шансов восстановления.
Сапог стянули. Было больно. Позже стало ясно, что не надо было этого делать. Вердикт рентгенолога был неутешителен: перелом лодыжки со смещением. Итог – лангета (такой гипс незаконченный, я бы сказала).
Наша городская больница №1 (больница скорой помощи) заслуживает отдельной саги!
Но сейчас мы не будем отвлекаться. И воспримем Первую городскую того времени, как персонаж моего рассказа: большой, старый, не ремонтированный.
Я попала в шестиместную палату, длинную, как коридор, с одним окном в конце ее. Потом поняла, что повезло – и восьми, и десятиместные палаты в наличии имелись.
Все пациентки лежачие. Все, кроме одной бабули – ей было всего семьдесят с гаком, но мне, двадцатидвухлетней, она казалась просто древней. Пять человек лежали, как королевы, с переломанными ногами в разных вариациях. А у бабули Тани был перелом руки и пары ребер. И она бегала. Причем не только бегала…
В этот день в больнице потравили тараканов. Я очень удивлю нынешнюю молодежь этой фразой, но тараканы в те годы встречались в общественных зданиях, тем более тех, что в старческих трещинах, мечтали о ремонте.
Потравили их чем-то интересным. Тараканы носились по стенам и потолку, как оглашенные. Периодически падали на кровати больных, выскакивали в самый неподходящий момент из судна, поставленного сами понимаете куда, или из стакана на тумбочке… В общем, было видно: тараканам то ли сильно весело, то ли сильно страшно. Но жизненной силы у них прям прибавилось. И дохнуть они явно не собирались.
Санитарка тетя Вера, которую мы все же докричались вшестером, войдя в палату, успокоила: «Да они и не должны были сразу то подохнуть! Три дня с ума посходЮт и потом все уйдут. Так что не волнуйтесь, лечитесь, а с нашими тараканами мы сами разберемся».
Учитывая, что городская больница № 1 стоит посреди собственного парка, а через дорогу кожвендиспансер … мы задумались – куда ж они все уйдут-то? В парке тараканы не живут, им без людей скучно. А что они через дорогу побегут, мы сильно сомневались. Тараканы, конечно, умом не блещут, но в кожвен-то им зачем?
Когда тетя Вера гордо удалилась, баба Таня вздохнула, достала из-под подушки шерстяные носки, надела их. Взяла в руки свой тапок. И с фразой «Я с вами лучше по старинке, а то три дня я может не доживу, а помирать без вас приятней», стала лупить по стенам, тумбочкам и полу. В смысле, по бегающим тараканам. После первого десятка убитых мы вынуждены были согласиться, что бабуля – профессионал, и что этот способ действительно надежный. После второго десятка зрители из соседних палат подтянулись. Кто двигаться мог, конечно. В основном публика была на костылях, посему не хлопали –руки заняты были. А аплодисментов баба Таня явно заслужила. Тогда меня очень удивило, почему медперсонал подошел только к концу представления. Видите ли, я первый день в больнице была, еще не знала, что персонал к нам на первый этаж не торопится. Ну, об этом позже.
Итак, медицина подтянулась, когда баба Таня выдохлась. Стукаток, похожий на канонаду, пореже стал. И даже зрители хотели уже разойтись.
Но медицина пришла в лице врача, дежурной медсестры и уже известной нам санитарки тети Веры. Этот персонаж моего повествования все же достоин отдельного описания. Работа санитарки тяжелая, зарплата маленькая, никто идти не хочет. К тому же, родственники или ходячие больные вполне с суднами справляются. А единственная закрытая ставка санитарки на первом этаже и была эта самая Вера. И была она из категории гром-баба. И то, что оказала милость и два раза за день к нам в палату вошла – было вообще явление из ряда вон выходящее, мирными переговорами не пахнущее.
И вот, раздвинув врача и сестру, она вплыла в палату, как крейсер Аврора, пылая справедливым гневом. Палата наша представляла картину, что называется, маслом. Пять кроватей с лежачими больными, высунувшими только кончик носа из-под одеяла. Это потому, что трупы тараканьи и на нас летели тоже. На шестой кровати сидит баба Таня и чистит тапок картонкой. Все стены в коричнево-черных кляксах от недавнего боя. И весь пол усыпан трупами.
И громогласный тети Верин бас: «Что вы себе позволяете? Кто это все убирать будет?», и чистый взгляд бабы Тани: «Тапочки свои я сама помою. А с вашими тараканами вы давеча сказали, сами разберетесь.»
Немая сцена.
Я тогда, подумала, что все самое интересное мне в первый день в больнице выпало. Наивная!!! Все еще только начиналось.
Через пару дней огромный отек на моей ноге стал проходить, и лангета стала болтаться.
Я уже говорила, что первый этаж медперсонал не особо жаловал. Причину я видела только одну: ординаторская была на третьем, и на первый спускаться далеко было. Хотя до второго они доходили. Там была нейрохирургия. Лежал интересный народ, в основном с пробитыми головами. От наркоза отходили трудно. И весело. И мне кажется, врачам самим было интересно посмотреть, что в результате их труда получилось? Может я, конечно, и не права. Но я честно описываю, как это выглядело со стороны.
Я не врач, и не знала, как должна вести себя на ноге лангета. А на ногу мою никто не глядел, даже если и доходил до нашего этажа. Результат: контрольный рентген и вердикт: нога сложена неправильно.
Фиксируем еще раз. В полноценный гипс. Ногу очень больно. Я ною. Мне говорят, что так должно быть. Я плачу. Ко мне никто не подходит. Прошу позвать дежурного врача – ноль реакции. Я честно рыдала часа два. В подушку. Потом у меня слезы и силы закончились. А может просто второе дыхание открылось. Сажусь я с этим новым дыханием на кровати и начинаю верещать. Громко. Зло. Употребляя разную ненормативную лексику. И, главное, не делая пауз. Сначала палата наша застыла. Ступор прошел быстро, и у них округлились глаза и зашевелились уши. Через минуту от начала моего сольного выступления соседние палаты подтянулись. Через пять – нашлась дежурная сестра. Через пятнадцать – у кровати были два врача. Через двадцать – меня везли на рентген. Рентген показал – сложили неправильно.
Еще раз ломаем и складываем. Нога болит. Колют убойную дозу снотворного и обезболивающего. Утром, не дожидаясь второго акта моего Марлезонского балета, «эту психическую» везут на рентген.
Рентгенолог встречает, как родную, и тихонько говорит моему врачу: «Ты что мне ее каждый день возишь? Я из ее снимков галерею могу сделать уже!»
Но рентген дает ожидаемый результат – сложили неправильно.
На следующий день – профессорский обход. К нам в палату приходит зав отделением и мой врач. Фамилию врача я помню до сих пор! Так я его полюбила! Но называть ее, конечно, не буду. Пусть он будет доктор Н.
Завотделением (его фамилию я тоже запомнила!!!) смотрит все снимки и говорит: нужно резать и ставить болт-стяжку. Я на кровати сижу, почти рыдаю и говорю: «Может, кто-то другой мне сложить ногу попробует, раз у доктора Н не выходит».
И тут звучит фраза заведующего, которую я потом не единожды цитировала: «Доктору Н тоже надо НА КОМ-ТО УЧИТЬСЯ. Пусть делает операцию и тренируется!»
Как говорится – комментарии излишни!
Про то, как я этот болт вытаскивала, я напишу в следующей части…
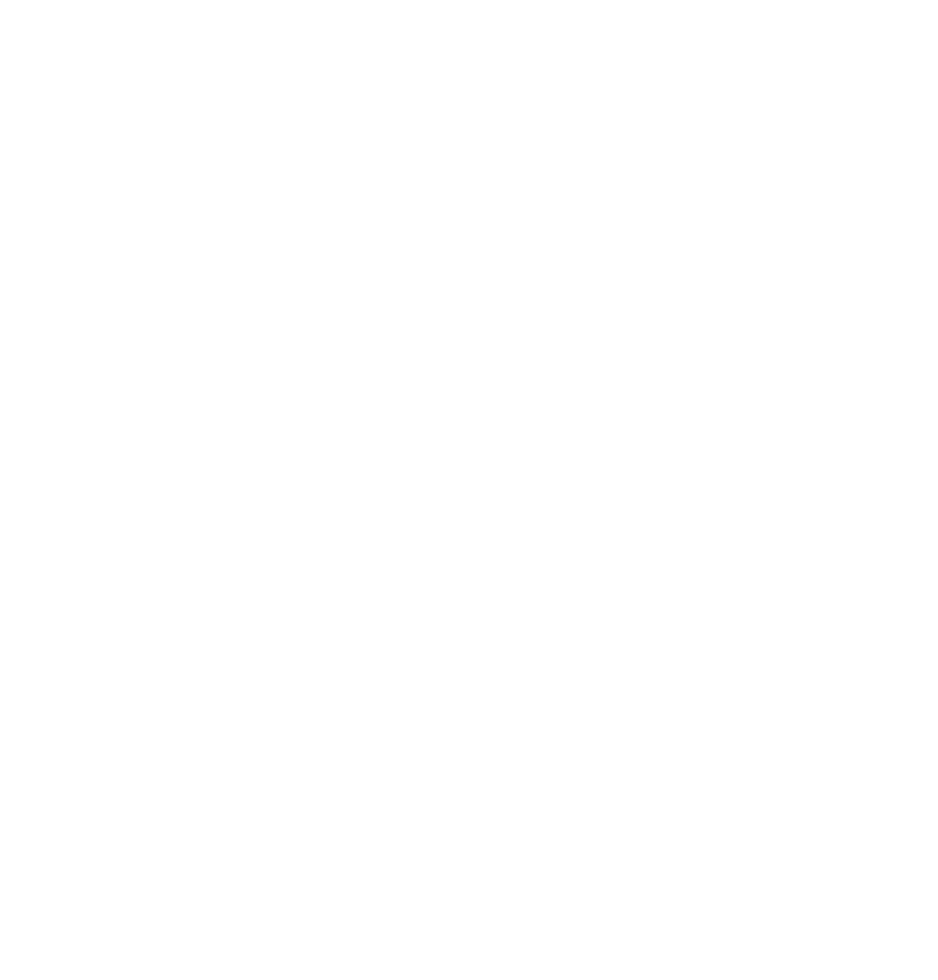
Белка МИХАЙЛОВА
Настоящий человек-оркестр петербургской культуры: директор по развитию Независимого режиссёрского проекта Юлии Паниной «Пан.Театр», организатор событий, актриса и, что важнее всего, – тонкий и вдумчивый автор.
Закончив «культурную» альма-матер, посвятила себя служению искусству в самых разных его проявлениях – от театра «Особняк» до Юсуповского дворца. Всю жизнь её верной спутницей была литература, которая из тихого увлечения переросла в настоящую страсть. Её дебют в альманахе «Питер – 2025» – закономерный и яркий старт нового пути. Её талант – это умение разглядеть целую вселенную в одном мимолетном образе: в поле подсолнухов, в чашке кофе, в скрипе качелей. Это не просто рассказы, это – настроение, запах, вкус жизни, поданные с изящной метафорой и тонким чувством стиля. Её произведения – это билет в иное измерение, где реальность переплетается с волшебством, а каждая строчка дышит жизнью.
Настоящий человек-оркестр петербургской культуры: директор по развитию Независимого режиссёрского проекта Юлии Паниной «Пан.Театр», организатор событий, актриса и, что важнее всего, – тонкий и вдумчивый автор.
Закончив «культурную» альма-матер, посвятила себя служению искусству в самых разных его проявлениях – от театра «Особняк» до Юсуповского дворца. Всю жизнь её верной спутницей была литература, которая из тихого увлечения переросла в настоящую страсть. Её дебют в альманахе «Питер – 2025» – закономерный и яркий старт нового пути. Её талант – это умение разглядеть целую вселенную в одном мимолетном образе: в поле подсолнухов, в чашке кофе, в скрипе качелей. Это не просто рассказы, это – настроение, запах, вкус жизни, поданные с изящной метафорой и тонким чувством стиля. Её произведения – это билет в иное измерение, где реальность переплетается с волшебством, а каждая строчка дышит жизнью.
КАЧЕЛИ
Я помню себя маленькой девочкой. Мне пять или шесть. Мы жили на крайнем севере, с суровой полярной ночью, и каждое лето родители отвозили меня в тамбовскую деревню: к безбрежному солнцу, вольному воздуху и к «босиком по траве».
Утро. Ласковые лучи солнца, закружившись в танце с листьями садовых яблонь, весело играют бликами в окне. Нежно касаясь ресниц, тихо шепчут мне: «Просыпайся, соня».
С кухни доносятся запахи и звуки: там хлопочет бабушка. И вот уже целая стопка тончайших, как батистовые кружевные платочки, блинчиков из русской печи призывно манит завтракать: здесь и деревенский мёд, и молоко с шапкой сливок, и сметана, в которой – вот удивление! – ложка стоит, и варенье на любой вкус! Допивая на ходу вкуснейший домашний вишнёвый компот, я кричу: «Спасибо, бабуля! Я гулять!». И выбегаю из дома. Пение птиц и залихватские наперебой крики наших и соседских петухов возвещают начало ещё одного длинного счастливого дня, в котором встречи и события на каждом шагу, как это бывает только в детстве.
На заднем дворе ждут домашние питомцы. Посыплешь на землю спелых зёрнышек – бегут забавно жёлтые комочки со всех лапок, толкаясь и попискивая. Ешьте, всем хватит! Нальёшь в бутылку с соской тёплого молока – кудрявый малыш-ягнёнок торопится, недоверчиво поглядывает – не отниму ли? Но знает: накормлю досыта! Телёнок оближет благодарно ладони шершавым языком, проглотит кусочек разрезанного яблока и замрёт в ожидании: есть ещё? Конечно, милый, держи!
В палисаднике прямо с куста нарвешь в ладошку спелой малины, положишь горстью в рот и, ощущая полные сока ягоды, перекатывая и прижимая их языком к нёбу, чувствуешь, как наполняешься летним нектаром.
Вокруг деревья – больши-и-ие! Высокие, стройные, изящно колышущие ветвями берёзы, взмывают в самое небо: нежное лазурно-голубое, причудливо разрисованное облаками.
За палисадом огород с тропинкой прямиком до речки. Бежишь по ней босиком, радостно сорвёшь молодую «красную девицу», что сидит в темнице, а коса на улице, да там же в речке и помоешь. И захрустишь бесхитростным оранжевым лакомством.
А речка! Что за Чудо! Укрытая кронами вековых плакучих ив сверкающая прохлада, звенящая свежесть, целительный источник! Ворона река глубокая, но вода в ней тёплая, прозрачная: видно дно и всех обитателей волшебного речного царства: шустрых головастиков, глазастых жаб, ярких краснопёрок, полосатых окуньков, медлительных раков и даже щук, что плещут хвостами по глади воды! А над рекой – хороводы попрыгуний стрекоз и красавиц бабочек! И белоснежные кувшинки. Нырнёшь в воду, плывешь под её толщей: звуки приглушённые, а ты словно ещё не родился, в покое и безопасности. И я здесь как рыба в воде!
Деревня большая, частые дома по одной улице. Оседлаешь двухколёсного коня и катать часами от края до края! Ветер в волосах, в душе восторг, в глазах – все краски лета! В начале села дорога, бегущая вдаль, по её сторонам поля: золотая рожь и шёлковый цветной ковёр трав волнуются на ветру в завораживающем танце. В конце – смолистые, тёмно-зелёные могучие сосны шумят о своих сокровенных тайнах. Здесь мы с папой собираем грибы: сверкающие росой, бриллиантовой россыпью рыжики, крепыши маслята и седые мудрые бородачи белые. Наберешь целое ведёрко и гордо несёшь домой лесной урожай.
Есть у меня и тайное «место силы» – вековая плакучая ива, то ли сросшаяся из двух, то ли раздвоившаяся на две в виде буквы «V». Победа, значит. И здесь я могу сидеть часами, набираясь мощи и мудрости природы, думая, мечтая в тени листвы, петь или молча наблюдать за таким живым и таким настоящим в своей естественной простоте миром вокруг.
А тихим вечером, сидя на ступеньках крыльца, я смотрю на алеющий закат пурпурно-розовый, апельсиново-оранжевый, ярко-красный. И слушаю разливающееся над ним бесконечное «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!».
С моим любимым, самым лучшим в мире дедушкой Серёжей мы стережём коров и овец, ездим на велосипеде в библиотеку в соседнее село, играем и смеёмся. Его четвероногий верный друг и помощник, любимица-умница Мушка – беспородная, но преданная и очень добрая собака – везде с нами!
И каждое лето дедушка строит для меня качели в саду. Самые простые из возможных: два толстых столба, вверху перекладина и надёжная верёвка с деревянной дощечкой на ней. Я их обожаю! Я сажусь на качели, раскачиваюсь всё сильнее, взмываю всё выше и… лечу! Лечу навстречу миру: лазурному небу, кудрявым облакам, яркому тёплому солнцу, высоким и мудрым деревьям, лёгким, парящим и свободным птицам! В груди что-то ласково щекочет, волосы развеваются, и я смеюсь! Весь мир у моих ног! С каждым взлётом он всё ближе, всё больше и зовёт меня за собой в Прекрасное Далёко! И каждое падение – только предвкушение новой вершины!
Мне совсем не страшно! Я доверяю себе, своей внутренней силе и целой Вселенной, которая, улыбаясь, смотрит на меня!
И сегодня я бережно храню в своей памяти и сердце моё бесценное босоногое деревенское детство. А эта девочка всё еще живёт во мне.
И потому всё обязательно сбудется!
Всё будет хорошо!
Я помню себя маленькой девочкой. Мне пять или шесть. Мы жили на крайнем севере, с суровой полярной ночью, и каждое лето родители отвозили меня в тамбовскую деревню: к безбрежному солнцу, вольному воздуху и к «босиком по траве».
Утро. Ласковые лучи солнца, закружившись в танце с листьями садовых яблонь, весело играют бликами в окне. Нежно касаясь ресниц, тихо шепчут мне: «Просыпайся, соня».
С кухни доносятся запахи и звуки: там хлопочет бабушка. И вот уже целая стопка тончайших, как батистовые кружевные платочки, блинчиков из русской печи призывно манит завтракать: здесь и деревенский мёд, и молоко с шапкой сливок, и сметана, в которой – вот удивление! – ложка стоит, и варенье на любой вкус! Допивая на ходу вкуснейший домашний вишнёвый компот, я кричу: «Спасибо, бабуля! Я гулять!». И выбегаю из дома. Пение птиц и залихватские наперебой крики наших и соседских петухов возвещают начало ещё одного длинного счастливого дня, в котором встречи и события на каждом шагу, как это бывает только в детстве.
На заднем дворе ждут домашние питомцы. Посыплешь на землю спелых зёрнышек – бегут забавно жёлтые комочки со всех лапок, толкаясь и попискивая. Ешьте, всем хватит! Нальёшь в бутылку с соской тёплого молока – кудрявый малыш-ягнёнок торопится, недоверчиво поглядывает – не отниму ли? Но знает: накормлю досыта! Телёнок оближет благодарно ладони шершавым языком, проглотит кусочек разрезанного яблока и замрёт в ожидании: есть ещё? Конечно, милый, держи!
В палисаднике прямо с куста нарвешь в ладошку спелой малины, положишь горстью в рот и, ощущая полные сока ягоды, перекатывая и прижимая их языком к нёбу, чувствуешь, как наполняешься летним нектаром.
Вокруг деревья – больши-и-ие! Высокие, стройные, изящно колышущие ветвями берёзы, взмывают в самое небо: нежное лазурно-голубое, причудливо разрисованное облаками.
За палисадом огород с тропинкой прямиком до речки. Бежишь по ней босиком, радостно сорвёшь молодую «красную девицу», что сидит в темнице, а коса на улице, да там же в речке и помоешь. И захрустишь бесхитростным оранжевым лакомством.
А речка! Что за Чудо! Укрытая кронами вековых плакучих ив сверкающая прохлада, звенящая свежесть, целительный источник! Ворона река глубокая, но вода в ней тёплая, прозрачная: видно дно и всех обитателей волшебного речного царства: шустрых головастиков, глазастых жаб, ярких краснопёрок, полосатых окуньков, медлительных раков и даже щук, что плещут хвостами по глади воды! А над рекой – хороводы попрыгуний стрекоз и красавиц бабочек! И белоснежные кувшинки. Нырнёшь в воду, плывешь под её толщей: звуки приглушённые, а ты словно ещё не родился, в покое и безопасности. И я здесь как рыба в воде!
Деревня большая, частые дома по одной улице. Оседлаешь двухколёсного коня и катать часами от края до края! Ветер в волосах, в душе восторг, в глазах – все краски лета! В начале села дорога, бегущая вдаль, по её сторонам поля: золотая рожь и шёлковый цветной ковёр трав волнуются на ветру в завораживающем танце. В конце – смолистые, тёмно-зелёные могучие сосны шумят о своих сокровенных тайнах. Здесь мы с папой собираем грибы: сверкающие росой, бриллиантовой россыпью рыжики, крепыши маслята и седые мудрые бородачи белые. Наберешь целое ведёрко и гордо несёшь домой лесной урожай.
Есть у меня и тайное «место силы» – вековая плакучая ива, то ли сросшаяся из двух, то ли раздвоившаяся на две в виде буквы «V». Победа, значит. И здесь я могу сидеть часами, набираясь мощи и мудрости природы, думая, мечтая в тени листвы, петь или молча наблюдать за таким живым и таким настоящим в своей естественной простоте миром вокруг.
А тихим вечером, сидя на ступеньках крыльца, я смотрю на алеющий закат пурпурно-розовый, апельсиново-оранжевый, ярко-красный. И слушаю разливающееся над ним бесконечное «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!».
С моим любимым, самым лучшим в мире дедушкой Серёжей мы стережём коров и овец, ездим на велосипеде в библиотеку в соседнее село, играем и смеёмся. Его четвероногий верный друг и помощник, любимица-умница Мушка – беспородная, но преданная и очень добрая собака – везде с нами!
И каждое лето дедушка строит для меня качели в саду. Самые простые из возможных: два толстых столба, вверху перекладина и надёжная верёвка с деревянной дощечкой на ней. Я их обожаю! Я сажусь на качели, раскачиваюсь всё сильнее, взмываю всё выше и… лечу! Лечу навстречу миру: лазурному небу, кудрявым облакам, яркому тёплому солнцу, высоким и мудрым деревьям, лёгким, парящим и свободным птицам! В груди что-то ласково щекочет, волосы развеваются, и я смеюсь! Весь мир у моих ног! С каждым взлётом он всё ближе, всё больше и зовёт меня за собой в Прекрасное Далёко! И каждое падение – только предвкушение новой вершины!
Мне совсем не страшно! Я доверяю себе, своей внутренней силе и целой Вселенной, которая, улыбаясь, смотрит на меня!
И сегодня я бережно храню в своей памяти и сердце моё бесценное босоногое деревенское детство. А эта девочка всё еще живёт во мне.
И потому всё обязательно сбудется!
Всё будет хорошо!
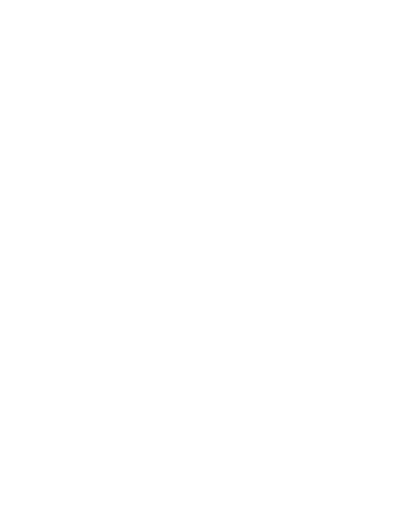
Вячеслав ЛЕСОВ
Родился в Минске. Более 35 лет живёт в Израиле. Окончил кинофакультет Тель-Авивского университета, работает режиссёром и сценаристом на израильском телевидении. Помимо сценарной работы пишет прозу и поэзию на иврите и русском языке.
Родился в Минске. Более 35 лет живёт в Израиле. Окончил кинофакультет Тель-Авивского университета, работает режиссёром и сценаристом на израильском телевидении. Помимо сценарной работы пишет прозу и поэзию на иврите и русском языке.
ЗАВОД ПО РЕМОНТУ НАСТРОЕНИЙ
Мы называли это просто – завод. На вывеске: «малая механика эмоциональных состояний». На деле: мастерская на первом этаже бывшего ЖЭКа. Сюда приносят то, что перестало включаться: утро, смех, терпение, сон. Мы разбираем, чистим от пыли чужих слов, меняем местами, где осторожность перетёрлась с трусостью, собираем, чтобы запускалось с первого щелчка.
Я веду первичную диагностику. На столе – осциллограф, банка болтов. В голубой коробке – личное: катушка чёрной плёнки. Тридцать секунд маминого смеха: девяносто девятый год, кухня, кипит чайник, за окном трамвай сдаёт назад. Она говорит: «Счастье – это когда не жалко». Тогда не понял.
Утром очередь.
– Не заводится понедельник, – говорит женщина в клетчатом жакете. – Будильник орёт, а внутри – пусто. Ключ не подходит.
– Ключ, – говорю.
Она выкладывает: телефон, колечко с блёстками, фото кота. Не то. Её понедельник стреляет от запаха хлорки в школьном спортзале, там однажды «ласточка» вышла. Достаём махровое полотенце, старые кроссовки с синей молнией. Переношу якорь, ставлю ограничитель на «передумать». Щёлк – в глазах появляется тяга.
У мужчины сломан «не обижаться». У подростка: «не брать неизвестные номера». У беременной: «засыпать без новостей». У всех – гарантия до первого снега.
К обеду приходит мальчик. Сидит на краю стула, локтем прижимает колени, держит себя, чтобы не рассыпаться.
– Мне…– он глотает воздух. – Надо поправить смех.
– Кто сломал? – спрашиваю, как про дверцу у шкафа.
– Я, – смотрит прямо. – Папа застрял в лифте и звонил. А я не снял. Мультик. Теперь смех… как слышу – выворачивает.
Осциллограф рисует ровную линию.
– Смех чей?
– Мамин. Она смеётся, а у меня не получается.
Тянусь к «детскому» набору, но рука ложится на голубую коробку. Плёнка шуршит так, как шуршат годы, если вынуть их из шкафа.
– Будем пробовать, – говорю. – Назад не будет.
– Согласен, – отвечает сразу. И впервые моргает.
Включаю катушечник. Комнату наполняет кухня: кипит, скрипит, крошки с батона шуршат по столу. И мамин смех. Живой, с переломом на третьей секунде, она глотает воздух, чтобы договорить «не жалко». Мальчик вздрагивает, сжимается, лицо пустеет, потом становится мягким. Он тянет руку и, не касаясь плёнки, шепчет:
– Можно?
Внутри поднимается волна: либо я остаюсь с записью и его виной, либо отдаю и теряю то, что меня держало двадцать лет. Пальцы ищут привычный вес катушки. Пусто.
– Забирай, – говорю.
Тяну нож к плёнке. Нож входит тихо. Тридцать секунд распадаются на полосы. Выбираю средние десять там, где смех расправляет плечи, и вкладываю их в прозрачный кармашек на его свитере. Чужая система принимает только живое. Мальчик гладит пальцем пластик. По щеке идёт одна чистая слеза. Он улыбается – не идеально, но по-настоящему. Смешок держится.
– Она не исчезнет? – шепчет, про людей, не про плёнку.
– Дом сама найдёт, – отвечаю.
Он уходит, держа ладонь на кармашке. В дверях оборачивается:
– Сегодня возьму трубку. Даже если не он.
Дверь закрывается. За окном шуршит сирень. Я стою среди инструмента и понимаю: сделал единственное верное движение за день. Катушки почти не осталось. Ночью будет нечем чинить себя. Вечером идём к остановке. У водителя висит пластмассовая канарейка, жёлтая, с чёрной бусиной глаза. Всегда считал её дешёвой шутихой.
– Для проверки держу, – кивает водитель. – Если кто-то ещё на неё смотрит, то мир не сломан.
У киоска режут хлеб. Сухой скрип. Продавщица, увидев, что батон распался на смешные, кривые ломти, подмигивает мальчишке и говорит: «Акция! За улыбку второй кусок бесплатно». Он улыбается так, что этого хватает на троих. С балкона вытряхивают половик; пыль садится на капот, где пацан рисует пальцем дороги и добавляет им поворот туда, где «море».
Телефон вибрирует. Неизвестный номер. Смотрю так долго, что звонок почти уходит в тишину. Большой палец падает на зелёную кнопку.
– Алло.
На том конце пауза. Потом кашель. Голос: «Пётр?» Я: «Да». Мы начинаем говорить одновременно и смеяться, как люди, которые разучились, а сейчас вспоминают ходы. Недолго. Ровно настолько, чтобы мир чуть сдвинулся и встал на место.
– У меня для вас чайник свистит, – говорит он вдруг. – Настоящий. Эмалированный. Нужен?
– Очень, – отвечаю. И слышу, как канарейка тихо чирикает от ветра. Проверка пройдена.
Ночью в мастерской тепло. Сидим на табуретах и считаем тишину, как считают деньги перед зарплатой. Канарейка на шнуре покачивается. На стене висит новая табличка, белый пластик, простые буквы. Я написал её маркером в обед, пока ждал мальчика:
«Мы не чиним дни. Мы чиним начать».
Утром первый – старик с ровной линией на лице:
– Вернуть бы аппетит к жизни.
Я не ищу катушки. Ставлю чайник, режу хлеб, открываю форточку. Чайник свистит, крошки шуршат, свежий сквозняк вносит запах мокрого асфальта и сладкое «пи-и» автобуса на повороте. Старик подаётся вперёд и морщит нос от удовольствия, как ребёнок.
– О, – говорит. – Слышно.
Мы меняем среду, и вещь заводится сама. Где-то в глубине большой механизм щёлкает. Уже.
А на дверях, рядом с графиком приёма, висит жёлтая канарейка. Иногда её касаются дети – на удачу. Она качается, и мир, кажется, слегка кивает в ответ.
Мы называли это просто – завод. На вывеске: «малая механика эмоциональных состояний». На деле: мастерская на первом этаже бывшего ЖЭКа. Сюда приносят то, что перестало включаться: утро, смех, терпение, сон. Мы разбираем, чистим от пыли чужих слов, меняем местами, где осторожность перетёрлась с трусостью, собираем, чтобы запускалось с первого щелчка.
Я веду первичную диагностику. На столе – осциллограф, банка болтов. В голубой коробке – личное: катушка чёрной плёнки. Тридцать секунд маминого смеха: девяносто девятый год, кухня, кипит чайник, за окном трамвай сдаёт назад. Она говорит: «Счастье – это когда не жалко». Тогда не понял.
Утром очередь.
– Не заводится понедельник, – говорит женщина в клетчатом жакете. – Будильник орёт, а внутри – пусто. Ключ не подходит.
– Ключ, – говорю.
Она выкладывает: телефон, колечко с блёстками, фото кота. Не то. Её понедельник стреляет от запаха хлорки в школьном спортзале, там однажды «ласточка» вышла. Достаём махровое полотенце, старые кроссовки с синей молнией. Переношу якорь, ставлю ограничитель на «передумать». Щёлк – в глазах появляется тяга.
У мужчины сломан «не обижаться». У подростка: «не брать неизвестные номера». У беременной: «засыпать без новостей». У всех – гарантия до первого снега.
К обеду приходит мальчик. Сидит на краю стула, локтем прижимает колени, держит себя, чтобы не рассыпаться.
– Мне…– он глотает воздух. – Надо поправить смех.
– Кто сломал? – спрашиваю, как про дверцу у шкафа.
– Я, – смотрит прямо. – Папа застрял в лифте и звонил. А я не снял. Мультик. Теперь смех… как слышу – выворачивает.
Осциллограф рисует ровную линию.
– Смех чей?
– Мамин. Она смеётся, а у меня не получается.
Тянусь к «детскому» набору, но рука ложится на голубую коробку. Плёнка шуршит так, как шуршат годы, если вынуть их из шкафа.
– Будем пробовать, – говорю. – Назад не будет.
– Согласен, – отвечает сразу. И впервые моргает.
Включаю катушечник. Комнату наполняет кухня: кипит, скрипит, крошки с батона шуршат по столу. И мамин смех. Живой, с переломом на третьей секунде, она глотает воздух, чтобы договорить «не жалко». Мальчик вздрагивает, сжимается, лицо пустеет, потом становится мягким. Он тянет руку и, не касаясь плёнки, шепчет:
– Можно?
Внутри поднимается волна: либо я остаюсь с записью и его виной, либо отдаю и теряю то, что меня держало двадцать лет. Пальцы ищут привычный вес катушки. Пусто.
– Забирай, – говорю.
Тяну нож к плёнке. Нож входит тихо. Тридцать секунд распадаются на полосы. Выбираю средние десять там, где смех расправляет плечи, и вкладываю их в прозрачный кармашек на его свитере. Чужая система принимает только живое. Мальчик гладит пальцем пластик. По щеке идёт одна чистая слеза. Он улыбается – не идеально, но по-настоящему. Смешок держится.
– Она не исчезнет? – шепчет, про людей, не про плёнку.
– Дом сама найдёт, – отвечаю.
Он уходит, держа ладонь на кармашке. В дверях оборачивается:
– Сегодня возьму трубку. Даже если не он.
Дверь закрывается. За окном шуршит сирень. Я стою среди инструмента и понимаю: сделал единственное верное движение за день. Катушки почти не осталось. Ночью будет нечем чинить себя. Вечером идём к остановке. У водителя висит пластмассовая канарейка, жёлтая, с чёрной бусиной глаза. Всегда считал её дешёвой шутихой.
– Для проверки держу, – кивает водитель. – Если кто-то ещё на неё смотрит, то мир не сломан.
У киоска режут хлеб. Сухой скрип. Продавщица, увидев, что батон распался на смешные, кривые ломти, подмигивает мальчишке и говорит: «Акция! За улыбку второй кусок бесплатно». Он улыбается так, что этого хватает на троих. С балкона вытряхивают половик; пыль садится на капот, где пацан рисует пальцем дороги и добавляет им поворот туда, где «море».
Телефон вибрирует. Неизвестный номер. Смотрю так долго, что звонок почти уходит в тишину. Большой палец падает на зелёную кнопку.
– Алло.
На том конце пауза. Потом кашель. Голос: «Пётр?» Я: «Да». Мы начинаем говорить одновременно и смеяться, как люди, которые разучились, а сейчас вспоминают ходы. Недолго. Ровно настолько, чтобы мир чуть сдвинулся и встал на место.
– У меня для вас чайник свистит, – говорит он вдруг. – Настоящий. Эмалированный. Нужен?
– Очень, – отвечаю. И слышу, как канарейка тихо чирикает от ветра. Проверка пройдена.
Ночью в мастерской тепло. Сидим на табуретах и считаем тишину, как считают деньги перед зарплатой. Канарейка на шнуре покачивается. На стене висит новая табличка, белый пластик, простые буквы. Я написал её маркером в обед, пока ждал мальчика:
«Мы не чиним дни. Мы чиним начать».
Утром первый – старик с ровной линией на лице:
– Вернуть бы аппетит к жизни.
Я не ищу катушки. Ставлю чайник, режу хлеб, открываю форточку. Чайник свистит, крошки шуршат, свежий сквозняк вносит запах мокрого асфальта и сладкое «пи-и» автобуса на повороте. Старик подаётся вперёд и морщит нос от удовольствия, как ребёнок.
– О, – говорит. – Слышно.
Мы меняем среду, и вещь заводится сама. Где-то в глубине большой механизм щёлкает. Уже.
А на дверях, рядом с графиком приёма, висит жёлтая канарейка. Иногда её касаются дети – на удачу. Она качается, и мир, кажется, слегка кивает в ответ.
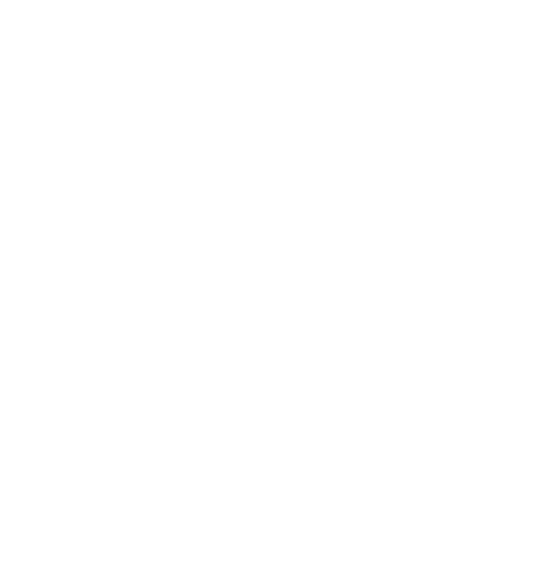
Виталина УСТИНОВА
Родилась в Свердловской области, г. Нижний Тагил в 1976 году. Состоит в Международном союзе русскоязычных писателей под руководством Ирины Коробейниковой. Лауреат II степени «Слово мастера» (CMZ-фест, 2023); шорт-лист «Стирка», стихи для детей, 2024; лауреат III степени «ПРОгород. Пейзажная лирика» 2025. Участие в литературных мастерских от АСПИР в 2023-2024 годах. Сборник стихов от Ридеро «Ведьмы не рукописи, они горят», 2022. Публикации в журнале «Серебро слов» (февраль 2022); «Ёрш» (2024), альманах «Вдохновение» (2024); электронном журнале «Пашня» от CWS в 2024-2025 годах.
Родилась в Свердловской области, г. Нижний Тагил в 1976 году. Состоит в Международном союзе русскоязычных писателей под руководством Ирины Коробейниковой. Лауреат II степени «Слово мастера» (CMZ-фест, 2023); шорт-лист «Стирка», стихи для детей, 2024; лауреат III степени «ПРОгород. Пейзажная лирика» 2025. Участие в литературных мастерских от АСПИР в 2023-2024 годах. Сборник стихов от Ридеро «Ведьмы не рукописи, они горят», 2022. Публикации в журнале «Серебро слов» (февраль 2022); «Ёрш» (2024), альманах «Вдохновение» (2024); электронном журнале «Пашня» от CWS в 2024-2025 годах.
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ОХОТНИКА
Почему именно Охотник? Ведь этот голубоглазый джентльмен не носил с собой лук и стрелы. Не умел бросать копьё. Не владел никаким видом огнестрельного оружия. Некоторый вариант «холодного» оружия колюще-режущего типа у него при себе был. От природы. Но и этот комплект джентльмен пускал в ход только по серьёзному поводу.
Охотник не жил в шалаше, землянке или вигваме. В его безраздельной собственности была отличная благоустроенная «трёшка» в центре города.
Всё просто: счастливая жизнь не изнежила этого джентльмена, боевой охотничий задор в нём не угас.
Однажды летним днём Охотник лежал на диване и размышлял:
«Хорошее у меня, всё-таки, жилище! Тёплое, просторное. И крыша не протекает. Гораздо лучше, чем в коробке на остановке валяться. Тут со мной живут ещё две самочки породы «человек». Я их про себя называю «Большая» и «Малая». Тоже хорошие человеки, обо мне заботятся. Правда, Малая постоянно что-то забывает, а Большая на неё потом ругается. Но это мелочи. Главное, что не на меня ругается. И что я ничего не забываю».
Охотник решил немного прогуляться по своему жилищу. Он остановился перед окном и задумался:
«Вот вроде всё у меня хорошо, грех жаловаться. Но иногда хочется чего-то… Нет, не есть. С кормёжкой, слава всем охотничьим богам, здесь без проблем. Тянет меня куда-то… Нет, не на подвиги. Подвигов мне в прошлой, дико-коробочной жизни хватило. Куда тянет, сам понять не могу. Поймать, что ли, птичку?»
За окном летали тучи резвых острокрылых птиц. Они нарезали над крышами круг за кругом, неустанно ловили мошек. Завтракали. А заодно обедали и ужинали.
Охотник продолжал размышлять:
«Как же их много, этих птиц! Я даже знаю, как они называются на человеческом – «стрижи»! Большая часто приговаривает: «Стрижи низко летают – к дождю!» И верхней лапой, которые у человеков руки, на этих птичек показывает. Дождь – это когда мокро и противно, а птички – славные. Название у них очень вкусное. Почти как у курицы, которую Большая иногда готовит. Только курица огромная, а стрижи эти – вот, совсем мелкие! Хотя, наверное, это один и тот же стриж. Не важно, как он умудрился размножиться. Вот если бы меня было так много, я бы не стал жадничать. Подарил бы парочку себя Большой на воротник. И парочку Малой на шапку. Эти стрижи тоже не должны жадничать, я считаю. Решено! Поймаю одного, на пробу».
«Когда птичка будет поймана, приготовить её? Ощиплю, выпотрошу… Подсматривал, как Большая готовит огромную вкусную птицу, курицу. Иногда Малая Большой помогает. Берут они эту самую курицу, потрошат, обмазывают сначала беленьким, жирненьким… Как там её… Ага, вспомнил – сметаной! Сметану можно и так просто есть, саму по себе. И даже с курицы слизать можно попытаться. Тогда Большая сердится. Видимо, со сметаной любая птица становится благородней на вкус. Однажды Большая и Малая обмазали курицу ещё чем-то, коричневым и гадким… Как там её… Ага, вспомнил – горчицей! Я эту горчицу попробовал слизать и так огорчился! Вообще обедать отказался.
Решено, потушу стрижа в сметане… Большая так делает, значит, и я смогу. Малая придёт домой, а на обед свежепойманный стриж! Пусть оценит, какой я хозяйственный. Она-то иногда меня покормить забывает. Не то чтобы порцию курицы в сметане положить, даже мелкие кубики со вкусом курицы мне дать забывает. Как там его… Ага, вспомнил – готовый влажный корм! Я уж Малую угостить-то не забуду. Хотя… Вдруг стриж невкусным окажется? Всё же он не курица. Да и мелкий совсем. Может, в нём и тушить-то нечего. Лучше первую добычу сам съем. В сыром виде. А для Малой потом второго и третьего стрижей поймаю».
И Охотник начал готовиться.
«Недаром все говорят, что я очень умный.
Большая светящийся ящик по вечерам смотрит, всё подряд. И я вместе с ней. В ящике разные человеки, большие и малые, но чужие, не мои. Всякие умные слова говорят. А Малая по вечерам коробочки открывает и читает их. Иногда вслух. Мне грызть эти коробочки не даёт, советует сидеть рядом спокойно и слушать. Так как там всякие умные слова написаны. Раньше я этих слов не знал, был диким. А теперь узнал. Наслушался и насмотрелся. Всё запомнил. По-умному, надо сначала охоту спланировать. Рассчитать. А потом уже бросаться».
«Малая опять окно забыла закрыть! До стрижей рукой подать, то есть верхней лапой. Делаю поправку на ветер… Ветер слабый. Ещё чтоб солнце в глаза не светило, а то плохо видно цель. Минуточку! Угол падения равен углу отражения… Ой, не то! Сложение скоростей объектов, движущихся навстречу друг другу… Теперь то! Выбираю ближайшего стрижа… Я готов!»
Охотник стал наводиться на цель. Только забыл, что у стрижей есть крылья, а у него нет. И тёплое просторное жилище, которое не коробка, находится на восьмом этаже. «Угол падения» он скоро почувствует на своей пушистой персоне.
Кот уже был в процессе полёта, когда в комнату вбежала Большая. Очень вовремя она вернулась из магазина. Мгновенно оценив обстановку, она схватила питомца за хвост. Не дала ему вывалиться из окна. И на корню зарубила «стрижиную охоту».
Вечером Охотник размышлял около своей миски:
«Меня не стали ругать. Наоборот, дополнительно покормили. Решили, что я дико голодный был, раз охотиться начал. Мелкие кубики со вкусом курицы. Как там его…Да, точно же – готовый влажный корм! Бывает ли готовый корм со вкусом стрижа? Видимо, нет. Да это неважно.
Малую вот Большая наказала. За незакрытое окно. За мою неудачную охоту. Сидит теперь Малая в комнате, коробочки с умными словами не открывает. Свет не включает. Плачет… Пойду, помурлыкаю ей! Обниму её своими лапами, верхними и нижними. Пожалею. Расскажу своими словами, что лучше курица в миске, чем стриж в небе.
А птичку мы вместе с Малой ещё поймаем! И приготовим по высшему разряду. Когда-нибудь».
На основе этой истории Малая сочинила стихотворение, на школьный конкурс чтецов. Она не знала размышлений Охотника про сметану и горчицу, поэтому в стихотворении появились мандарины. Такая вот творческая «отсебятина»:
Вечернее солнце – большой мандарин
Полощет в окнах закат.
Оранжевый лоск наливает в графин,
По капле – на шубку кота.
А кот не знает, что он красив.
Не видит, как тени лежат.
Лукавых глаз мандаринки скосив,
Мечтает поймать стрижа.
Стрижи во всё горло дают концерт,
Их плясками небо горит.
А кот, вспоминая заморский рецепт,
Резонно себе говорит:
«Хотя в мандаринах тушёный стриж,
Должно быть, приятен на вкус,
Но лучше сырым. Тагил – не Париж.
А я совсем не француз».
Почему именно Охотник? Ведь этот голубоглазый джентльмен не носил с собой лук и стрелы. Не умел бросать копьё. Не владел никаким видом огнестрельного оружия. Некоторый вариант «холодного» оружия колюще-режущего типа у него при себе был. От природы. Но и этот комплект джентльмен пускал в ход только по серьёзному поводу.
Охотник не жил в шалаше, землянке или вигваме. В его безраздельной собственности была отличная благоустроенная «трёшка» в центре города.
Всё просто: счастливая жизнь не изнежила этого джентльмена, боевой охотничий задор в нём не угас.
Однажды летним днём Охотник лежал на диване и размышлял:
«Хорошее у меня, всё-таки, жилище! Тёплое, просторное. И крыша не протекает. Гораздо лучше, чем в коробке на остановке валяться. Тут со мной живут ещё две самочки породы «человек». Я их про себя называю «Большая» и «Малая». Тоже хорошие человеки, обо мне заботятся. Правда, Малая постоянно что-то забывает, а Большая на неё потом ругается. Но это мелочи. Главное, что не на меня ругается. И что я ничего не забываю».
Охотник решил немного прогуляться по своему жилищу. Он остановился перед окном и задумался:
«Вот вроде всё у меня хорошо, грех жаловаться. Но иногда хочется чего-то… Нет, не есть. С кормёжкой, слава всем охотничьим богам, здесь без проблем. Тянет меня куда-то… Нет, не на подвиги. Подвигов мне в прошлой, дико-коробочной жизни хватило. Куда тянет, сам понять не могу. Поймать, что ли, птичку?»
За окном летали тучи резвых острокрылых птиц. Они нарезали над крышами круг за кругом, неустанно ловили мошек. Завтракали. А заодно обедали и ужинали.
Охотник продолжал размышлять:
«Как же их много, этих птиц! Я даже знаю, как они называются на человеческом – «стрижи»! Большая часто приговаривает: «Стрижи низко летают – к дождю!» И верхней лапой, которые у человеков руки, на этих птичек показывает. Дождь – это когда мокро и противно, а птички – славные. Название у них очень вкусное. Почти как у курицы, которую Большая иногда готовит. Только курица огромная, а стрижи эти – вот, совсем мелкие! Хотя, наверное, это один и тот же стриж. Не важно, как он умудрился размножиться. Вот если бы меня было так много, я бы не стал жадничать. Подарил бы парочку себя Большой на воротник. И парочку Малой на шапку. Эти стрижи тоже не должны жадничать, я считаю. Решено! Поймаю одного, на пробу».
«Когда птичка будет поймана, приготовить её? Ощиплю, выпотрошу… Подсматривал, как Большая готовит огромную вкусную птицу, курицу. Иногда Малая Большой помогает. Берут они эту самую курицу, потрошат, обмазывают сначала беленьким, жирненьким… Как там её… Ага, вспомнил – сметаной! Сметану можно и так просто есть, саму по себе. И даже с курицы слизать можно попытаться. Тогда Большая сердится. Видимо, со сметаной любая птица становится благородней на вкус. Однажды Большая и Малая обмазали курицу ещё чем-то, коричневым и гадким… Как там её… Ага, вспомнил – горчицей! Я эту горчицу попробовал слизать и так огорчился! Вообще обедать отказался.
Решено, потушу стрижа в сметане… Большая так делает, значит, и я смогу. Малая придёт домой, а на обед свежепойманный стриж! Пусть оценит, какой я хозяйственный. Она-то иногда меня покормить забывает. Не то чтобы порцию курицы в сметане положить, даже мелкие кубики со вкусом курицы мне дать забывает. Как там его… Ага, вспомнил – готовый влажный корм! Я уж Малую угостить-то не забуду. Хотя… Вдруг стриж невкусным окажется? Всё же он не курица. Да и мелкий совсем. Может, в нём и тушить-то нечего. Лучше первую добычу сам съем. В сыром виде. А для Малой потом второго и третьего стрижей поймаю».
И Охотник начал готовиться.
«Недаром все говорят, что я очень умный.
Большая светящийся ящик по вечерам смотрит, всё подряд. И я вместе с ней. В ящике разные человеки, большие и малые, но чужие, не мои. Всякие умные слова говорят. А Малая по вечерам коробочки открывает и читает их. Иногда вслух. Мне грызть эти коробочки не даёт, советует сидеть рядом спокойно и слушать. Так как там всякие умные слова написаны. Раньше я этих слов не знал, был диким. А теперь узнал. Наслушался и насмотрелся. Всё запомнил. По-умному, надо сначала охоту спланировать. Рассчитать. А потом уже бросаться».
«Малая опять окно забыла закрыть! До стрижей рукой подать, то есть верхней лапой. Делаю поправку на ветер… Ветер слабый. Ещё чтоб солнце в глаза не светило, а то плохо видно цель. Минуточку! Угол падения равен углу отражения… Ой, не то! Сложение скоростей объектов, движущихся навстречу друг другу… Теперь то! Выбираю ближайшего стрижа… Я готов!»
Охотник стал наводиться на цель. Только забыл, что у стрижей есть крылья, а у него нет. И тёплое просторное жилище, которое не коробка, находится на восьмом этаже. «Угол падения» он скоро почувствует на своей пушистой персоне.
Кот уже был в процессе полёта, когда в комнату вбежала Большая. Очень вовремя она вернулась из магазина. Мгновенно оценив обстановку, она схватила питомца за хвост. Не дала ему вывалиться из окна. И на корню зарубила «стрижиную охоту».
Вечером Охотник размышлял около своей миски:
«Меня не стали ругать. Наоборот, дополнительно покормили. Решили, что я дико голодный был, раз охотиться начал. Мелкие кубики со вкусом курицы. Как там его…Да, точно же – готовый влажный корм! Бывает ли готовый корм со вкусом стрижа? Видимо, нет. Да это неважно.
Малую вот Большая наказала. За незакрытое окно. За мою неудачную охоту. Сидит теперь Малая в комнате, коробочки с умными словами не открывает. Свет не включает. Плачет… Пойду, помурлыкаю ей! Обниму её своими лапами, верхними и нижними. Пожалею. Расскажу своими словами, что лучше курица в миске, чем стриж в небе.
А птичку мы вместе с Малой ещё поймаем! И приготовим по высшему разряду. Когда-нибудь».
На основе этой истории Малая сочинила стихотворение, на школьный конкурс чтецов. Она не знала размышлений Охотника про сметану и горчицу, поэтому в стихотворении появились мандарины. Такая вот творческая «отсебятина»:
Вечернее солнце – большой мандарин
Полощет в окнах закат.
Оранжевый лоск наливает в графин,
По капле – на шубку кота.
А кот не знает, что он красив.
Не видит, как тени лежат.
Лукавых глаз мандаринки скосив,
Мечтает поймать стрижа.
Стрижи во всё горло дают концерт,
Их плясками небо горит.
А кот, вспоминая заморский рецепт,
Резонно себе говорит:
«Хотя в мандаринах тушёный стриж,
Должно быть, приятен на вкус,
Но лучше сырым. Тагил – не Париж.
А я совсем не француз».
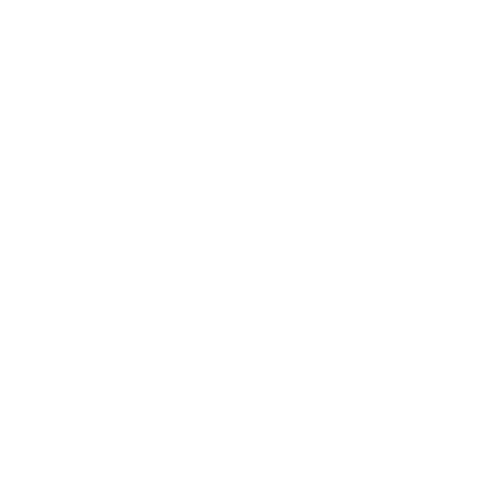
Светлана БОНДАРЕВСКАЯ
Родилась в 1976 году в Ростове-на-Дону.
Автор книг: «Петля времени» – электронная (2018 г.), «Дети Ковчега» – электронная (2024 г.). Малая проза: «Как родилось одно чудо» (2025 г.), «Сверхновая» – (2025 г.)
Родилась в 1976 году в Ростове-на-Дону.
Автор книг: «Петля времени» – электронная (2018 г.), «Дети Ковчега» – электронная (2024 г.). Малая проза: «Как родилось одно чудо» (2025 г.), «Сверхновая» – (2025 г.)
КАК РОДИЛОСЬ ОДНО ЧУДО
Узнав, что фея может появиться от простого человеческого взгляда, Алиса твёрдо заявила: «Волшебству быть!» Для чуда, говорили сказки, требуются всего лишь два ингредиента: искренняя вера и чистота помыслов. Алиса обладала ими с избытком. Её детская душа, как хрустальный ручеёк, – прозрачная, живая и полная света. Алиса верила в собственный замысел: стать той, кто вызовет фею к жизни одним только взглядом.
Всё лето она охотилась за мгновением чуда. Каждое утро, встречая рассвет, смотрела на солнце, медленно выпускающее золотые лучи. Припадала к цветам, вглядываясь в их глубину, искала искры в капельках росы, словно в каждой – тайный ключ к волшебству. Бегала по полям, где ветер наигрывал мелодию на колокольчиках, ловила взмах крыльев бабочек, надеясь, вот сейчас, вот здесь вспыхнет сияние, крошечная искорка сознания, рождённая её верой, появится фея. Но чуда не происходило.
Сначала было лишь лёгкое разочарование. Потом – тревога. А потом – гнев. Мечта, когда-то светлая и сказочная, превращалась в нечто безобразное, раздражённое, далёкое от первоначальной красоты. Алиса уже не смотрела с восхищением на цветы. Она с негодованием трясла их, осыпая, как пепел, пыльцу и требуя отдать чудо. Топтала влажную от росы траву, не чувствуя её прохлады, бросала злые взгляды на солнце. Ей казалось, оно насмехалось над ней. Волшебство ускользало.
Бабушка сокрушённо качала головой, тяжело вздыхая и приподнимая плечи, тщетно пытаясь поговорить с любимой внучкой. Та оставалась глуха ко всему: ни красивые цветы, рассыпанные по полю осколками заката, ни птицы, свободно парящие в лазурном небе, ни золотые блики, дрожащие на поверхности реки, не вызывали на лице Алисы даже намёка на улыбку. Напротив, внучка сильнее хмурилась и отворачивалась, словно в её сердце погас огонёк чуда. За всё лето Алиса так и не увидела ни одного прекрасного заката и розового рассвета, не увидела, как сияют гроздья красной смородины и брызжут соком вишни. Она не заметила, как кровавое маковое поле сменилось белым облаком ромашек, а жёлтые подсолнухи вытянулись, следуя за солнцем.
Всё больше озлобляясь, Алиса забыла об искренности и чистоте помыслов, что когда-то светились в её сердце. Гнев, как тень, сжимал холодными пальцами её душу.
Наступившая осень моментально забрала летнее тепло, окрасила небо в серый тяжёлый цвет и низко повесила облака. Дождь шёл день за днём, стуча по стёклам, словно напоминая о чём-то забытом.
Однажды, выйдя под дождь в надежде возродить утраченное волшебство, Алиса простыла и слегла с высокой температурой, кутаясь в одеяло. В болезненном бреду она умоляла о чуде, и оно к ней пришло в виде хрупкого создания, сотканного из серебристого сияния. Тонкие, прозрачные, словно из паутины света и утреннего тумана крылья феи переливались на осеннем солнце, струящиеся волосы оттенка бледного золота колыхались в невидимом ветерке вокруг её лица.
– Смотри, – словно колокольчик прозвенел голосок феи. – Как красиво!
Она протянула крохотный осенний букетик, усыпанный каплями росы. Алиса грубо отстранила виденье, отвернулась и закрыла глаза.
– Смотри, – снова прошептала фея, с трудом поднимая гроздь рябины. – Ягодки созрели. Они, как осенние рубины, можно нанизать на ниточку и будут бусы.
Алиса, не открывая глаз, раздражённо фыркнула:
– Что в этом красивого?
Фея охнула, прижав ладошки к щекам. Её свет дрогнул, как пламя свечи на ветру. Выпавшая из рук рябина, стукнувшись о стол, рассыпалась и запрыгала по полу красными мячиками.
– Во всём есть красота, – с грустью сказала фея. – Почему ты её перестала видеть?
Но Алиса уже погрузилась в беспокойный сон. Всю ночь она металась, сжигаемая жаром. И только под утро, когда первые лучи осеннего солнца коснулись подоконника, наступило улучшение.
Вкусный запах чая и яблочного пирога приятно защекотал нос. Алиса открыла глаза и увидела улыбающееся лицо бабушки. Такое родное и такое любимое. Первый глоток – обжигающе горячий, возвратил силы и как будто влил саму жизнь.
– Очень вкусно. – Алиса с аппетитом откусила пирог – сладкий, с кислинкой яблок и хрустом сахарной корочки.
И вдруг её взгляд упал на стол. Там, в небольшой вазочке стоял букетик осенних цветов. Пёстрые астры смешались с жёлтыми головками хризантем, словно краски на палитре художника, гроздья рябины яркими огоньками горели на солнечном свету. Аромат букета заполнил каждый уголок комнаты терпкостью сентябрьского сада и свежестью нового дня. Алиса замерла. Потом тихо и с трепетом произнесла:
– А ведь правда… красиво.
В этот миг что-то внутри неё впервые за долгое время оттаяло.
Выздоровление шло быстро. Вместе с силами возвращалось нечто большее – внутренний покой и ощущение радости. Каждый день приносил что-то давно забытое в восприятии Алисы, отвергнутое в пылу погони за мечтой. Она снова замечала красоту в простых вещах: шелест ветра в кронах деревьев, дрожащую на паутинке каплю росы. Вдыхала аромат осеннего сада и слушала тишину туманного утра. Сердце наконец-то улыбалось всей душой. Глаза, ещё недавно слепнувшие от гнева и разочарования, снова увидели солнце таким же ярким, каким оно казалось раньше.
Утренний золотой свет струился по стене, превращая каждый кирпичик в драгоценный слиток. Алиса открыла глаза и поняла: сегодня – тот самый день, когда мечта коснётся реальности. Накинув на плечи платок, она выбежала в яблоневый сад. Среди жёлто-зелёных красок листьев алыми сердцами светились несобранные яблочки. Солнце, играя бликами на гладкой кожице плодов, делало их похожими на драгоценные камни. Алиса вдохнула свежий, пропитанный ароматами зрелых плодов тёплый воздух и засмеялась. Не громко, а счастливо, будто впервые за долгое время вспомнила, как это – быть искренней. Чистая радость наполнила её сердце.
И тогда она увидела его – на самой дальней ветке наливной плод, собранный из самого света. Яблоко сияло, окутанное золотым ореолом утра, брызгами солнца играли капли росы на его гладкой кожице. Алиса протянула руку – не чтобы сорвать, а прикоснуться.
В это мгновение всё замерло, и даже ветер перестал дышать. И из самого центра её счастья – из искры чистейшего восхищения, из мгновения, когда сердце забыло о желаниях и просто радовалось – родилось чудо. Крошечное сознание, рождённое верой, а не требованием, обрело форму. Тонкие, невесомые крылья, рассыпая серебряную пыльцу, сделали свой первый взмах. Фея, сверкая яркой звёздочкой, упала в ладошки Алисы. Не вызванная гневом, не вызванная силой – а рождённая в момент, когда мир снова стал прекрасным.
– Смотри, – Алиса подняла руки к солнцу, чтобы новая фея увидела прекрасный мир, в котором теперь будет жить. – Какая красота!
Фея улыбнулась – вокруг неё вспыхнули искорки. Не яркие, не ослепительные, а мягкие, как осеннее солнце. И в этот миг Алиса поняла, чудо не приходит по требованию. Оно приходит, когда сердце перестаёт дрожать от нетерпения и просто начинает видеть красоту мира и радоваться.
Узнав, что фея может появиться от простого человеческого взгляда, Алиса твёрдо заявила: «Волшебству быть!» Для чуда, говорили сказки, требуются всего лишь два ингредиента: искренняя вера и чистота помыслов. Алиса обладала ими с избытком. Её детская душа, как хрустальный ручеёк, – прозрачная, живая и полная света. Алиса верила в собственный замысел: стать той, кто вызовет фею к жизни одним только взглядом.
Всё лето она охотилась за мгновением чуда. Каждое утро, встречая рассвет, смотрела на солнце, медленно выпускающее золотые лучи. Припадала к цветам, вглядываясь в их глубину, искала искры в капельках росы, словно в каждой – тайный ключ к волшебству. Бегала по полям, где ветер наигрывал мелодию на колокольчиках, ловила взмах крыльев бабочек, надеясь, вот сейчас, вот здесь вспыхнет сияние, крошечная искорка сознания, рождённая её верой, появится фея. Но чуда не происходило.
Сначала было лишь лёгкое разочарование. Потом – тревога. А потом – гнев. Мечта, когда-то светлая и сказочная, превращалась в нечто безобразное, раздражённое, далёкое от первоначальной красоты. Алиса уже не смотрела с восхищением на цветы. Она с негодованием трясла их, осыпая, как пепел, пыльцу и требуя отдать чудо. Топтала влажную от росы траву, не чувствуя её прохлады, бросала злые взгляды на солнце. Ей казалось, оно насмехалось над ней. Волшебство ускользало.
Бабушка сокрушённо качала головой, тяжело вздыхая и приподнимая плечи, тщетно пытаясь поговорить с любимой внучкой. Та оставалась глуха ко всему: ни красивые цветы, рассыпанные по полю осколками заката, ни птицы, свободно парящие в лазурном небе, ни золотые блики, дрожащие на поверхности реки, не вызывали на лице Алисы даже намёка на улыбку. Напротив, внучка сильнее хмурилась и отворачивалась, словно в её сердце погас огонёк чуда. За всё лето Алиса так и не увидела ни одного прекрасного заката и розового рассвета, не увидела, как сияют гроздья красной смородины и брызжут соком вишни. Она не заметила, как кровавое маковое поле сменилось белым облаком ромашек, а жёлтые подсолнухи вытянулись, следуя за солнцем.
Всё больше озлобляясь, Алиса забыла об искренности и чистоте помыслов, что когда-то светились в её сердце. Гнев, как тень, сжимал холодными пальцами её душу.
Наступившая осень моментально забрала летнее тепло, окрасила небо в серый тяжёлый цвет и низко повесила облака. Дождь шёл день за днём, стуча по стёклам, словно напоминая о чём-то забытом.
Однажды, выйдя под дождь в надежде возродить утраченное волшебство, Алиса простыла и слегла с высокой температурой, кутаясь в одеяло. В болезненном бреду она умоляла о чуде, и оно к ней пришло в виде хрупкого создания, сотканного из серебристого сияния. Тонкие, прозрачные, словно из паутины света и утреннего тумана крылья феи переливались на осеннем солнце, струящиеся волосы оттенка бледного золота колыхались в невидимом ветерке вокруг её лица.
– Смотри, – словно колокольчик прозвенел голосок феи. – Как красиво!
Она протянула крохотный осенний букетик, усыпанный каплями росы. Алиса грубо отстранила виденье, отвернулась и закрыла глаза.
– Смотри, – снова прошептала фея, с трудом поднимая гроздь рябины. – Ягодки созрели. Они, как осенние рубины, можно нанизать на ниточку и будут бусы.
Алиса, не открывая глаз, раздражённо фыркнула:
– Что в этом красивого?
Фея охнула, прижав ладошки к щекам. Её свет дрогнул, как пламя свечи на ветру. Выпавшая из рук рябина, стукнувшись о стол, рассыпалась и запрыгала по полу красными мячиками.
– Во всём есть красота, – с грустью сказала фея. – Почему ты её перестала видеть?
Но Алиса уже погрузилась в беспокойный сон. Всю ночь она металась, сжигаемая жаром. И только под утро, когда первые лучи осеннего солнца коснулись подоконника, наступило улучшение.
Вкусный запах чая и яблочного пирога приятно защекотал нос. Алиса открыла глаза и увидела улыбающееся лицо бабушки. Такое родное и такое любимое. Первый глоток – обжигающе горячий, возвратил силы и как будто влил саму жизнь.
– Очень вкусно. – Алиса с аппетитом откусила пирог – сладкий, с кислинкой яблок и хрустом сахарной корочки.
И вдруг её взгляд упал на стол. Там, в небольшой вазочке стоял букетик осенних цветов. Пёстрые астры смешались с жёлтыми головками хризантем, словно краски на палитре художника, гроздья рябины яркими огоньками горели на солнечном свету. Аромат букета заполнил каждый уголок комнаты терпкостью сентябрьского сада и свежестью нового дня. Алиса замерла. Потом тихо и с трепетом произнесла:
– А ведь правда… красиво.
В этот миг что-то внутри неё впервые за долгое время оттаяло.
Выздоровление шло быстро. Вместе с силами возвращалось нечто большее – внутренний покой и ощущение радости. Каждый день приносил что-то давно забытое в восприятии Алисы, отвергнутое в пылу погони за мечтой. Она снова замечала красоту в простых вещах: шелест ветра в кронах деревьев, дрожащую на паутинке каплю росы. Вдыхала аромат осеннего сада и слушала тишину туманного утра. Сердце наконец-то улыбалось всей душой. Глаза, ещё недавно слепнувшие от гнева и разочарования, снова увидели солнце таким же ярким, каким оно казалось раньше.
Утренний золотой свет струился по стене, превращая каждый кирпичик в драгоценный слиток. Алиса открыла глаза и поняла: сегодня – тот самый день, когда мечта коснётся реальности. Накинув на плечи платок, она выбежала в яблоневый сад. Среди жёлто-зелёных красок листьев алыми сердцами светились несобранные яблочки. Солнце, играя бликами на гладкой кожице плодов, делало их похожими на драгоценные камни. Алиса вдохнула свежий, пропитанный ароматами зрелых плодов тёплый воздух и засмеялась. Не громко, а счастливо, будто впервые за долгое время вспомнила, как это – быть искренней. Чистая радость наполнила её сердце.
И тогда она увидела его – на самой дальней ветке наливной плод, собранный из самого света. Яблоко сияло, окутанное золотым ореолом утра, брызгами солнца играли капли росы на его гладкой кожице. Алиса протянула руку – не чтобы сорвать, а прикоснуться.
В это мгновение всё замерло, и даже ветер перестал дышать. И из самого центра её счастья – из искры чистейшего восхищения, из мгновения, когда сердце забыло о желаниях и просто радовалось – родилось чудо. Крошечное сознание, рождённое верой, а не требованием, обрело форму. Тонкие, невесомые крылья, рассыпая серебряную пыльцу, сделали свой первый взмах. Фея, сверкая яркой звёздочкой, упала в ладошки Алисы. Не вызванная гневом, не вызванная силой – а рождённая в момент, когда мир снова стал прекрасным.
– Смотри, – Алиса подняла руки к солнцу, чтобы новая фея увидела прекрасный мир, в котором теперь будет жить. – Какая красота!
Фея улыбнулась – вокруг неё вспыхнули искорки. Не яркие, не ослепительные, а мягкие, как осеннее солнце. И в этот миг Алиса поняла, чудо не приходит по требованию. Оно приходит, когда сердце перестаёт дрожать от нетерпения и просто начинает видеть красоту мира и радоваться.
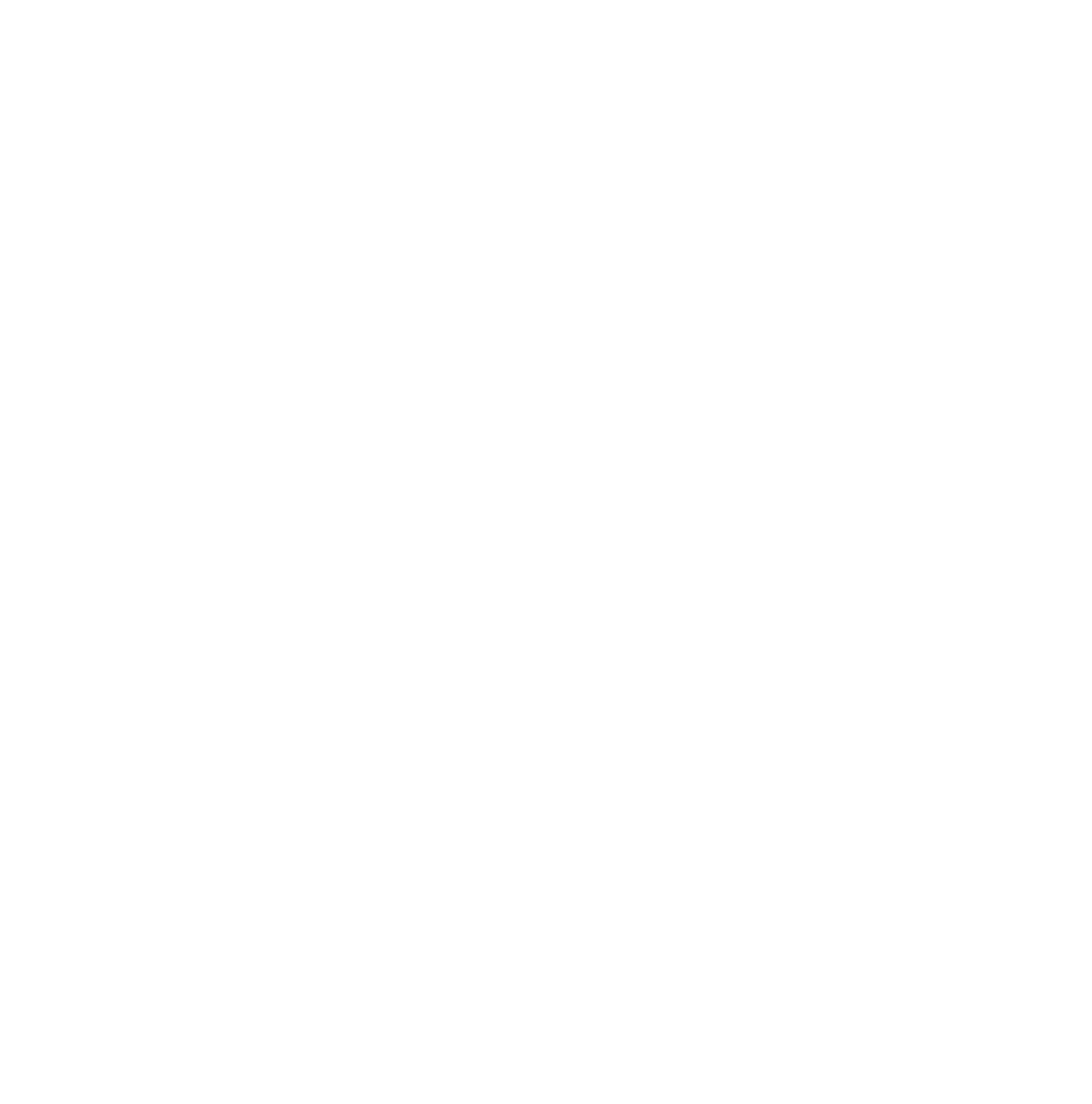
Василий МОРСКОЙ
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Более двадцати лет работал руководителем различных российских банковских учреждений. Первую свою книгу «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». В 2023 году вышла книга «Земные рассказы». Член Союза писателей России с 2021 года. Публикуется под псевдонимом Василий Морской.
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Более двадцати лет работал руководителем различных российских банковских учреждений. Первую свою книгу «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». В 2023 году вышла книга «Земные рассказы». Член Союза писателей России с 2021 года. Публикуется под псевдонимом Василий Морской.
СЛУЧАЙ В МЕТРО
Наступил сентябрь, с небес текло, как из ведра, почти каждый день! Настроение было подчас погоде. По улицам деловито шагали, перепрыгивая через лужи, прохожие, укрывшись зонтиками, надвинув шляпы и кепки, подняв воротники.
Алексей шел в своих думах к станции метро «Старая деревня», его авто стояло на техническом обслуживании уже третий день, ждали какой-то датчик, и он с досадою топал по лужам, как бы наказывая себя за лень, надо было, конечно, раньше обратиться на станцию ТО, горела лампочка неисправности. Вот теперь топай и мокни под дождем, зонт остался в машине на задней полочке. Он чувствовал себя мокрой подбитой птицей.
Алексей решил поднять себе настроение и развлечь себя рассматриванием людей в вагоне метро. Он не ездил на метро уже давно, все катался на машине, отчасти потому, что было лень бегать по эскалаторам, отчасти потому, что его работа требовала иногда поездок по городу и в Ленобласть. Когда-то ему нравилось рассматривать людей в метро, можно было рассматривать довольно подробно, ведь в метро все едут, воткнувшись в телефоны или в электронные книги, или дремлют, в общем, никогда не смотрят в лицо и поэтому, как правило, не замечают его изучающих взглядов!
Вот и сегодня он вошел со всеми вместе в первый вагон, посмотрел, как обычно распределяется народ по свободным местам на сидения, потом к торцевым местам у дверей и, наконец, кому не хватило этих «вип» мест, вставал, повисая на поручнях в середине вагона.
Сегодня в вагоне было пустовато, и Алексей сел на сидение, открыл телефон, желая проверить электронную почту и возможные сообщения по мессенджерам. Вагон тронулся с места и почти сразу от начала вагона послышался громкий голос:
– Граждане, помогите, Христа ради, инвалидам специальной военной операции!
– Вот, он без ног остался, а я – без руки!
– Помогите, кто чем может, граждане! – Алексей рассмотрел, как от начала вагона двигалась коляска, обычная тележка на четырех колесиках, на которой стоял, хотя, как он мог стоять, наверное, лежал или просто был человек без ног, отталкивающийся от пола двумя руками, держащими специальные толкатели. Лицо его было небрито и, похоже, даже выпачкано грязью, немытые и нестриженные волосы свисали из-под военной кепи, смотреть на это было больно! Сзади за ним шел довольно высокий военный без знаков отличия, но в костюме цвета хаки, и нес в одной руке перевернутую кепку, куда народ кидал деньги, а другая рука висела на привязи с вылезшим довольно грязным бинтом.
Процессия приближалась к Алексею, люди кидали им в шапку купюры, монеты, жетоны метро, высокий подносил перевернутую кепку то направо, то налево, стараясь поднести ее к каждому пассажиру вагона. Кто-то игнорировал, опуская глаза или поднимая книгу повыше, кто-то отворачивался. Алексей решил, что он должен что-то дать, хотя он не помнил, есть ли в кошельке наличка, а зачем она в нынешние времена, везде же карты принимают!
Когда тележка поравнялась с ним, то он оказался лицом к лицу с инвалидом на тележке, ему стало не по себе от его колючего, острого взгляда, Алексей всем видом своего копания в кошельке показал, что ничего у него нету. Сидящий глядел на него прямо в глаза и перевел взгляд на свою грудь, где висела картонка с номером телефона, мол, переводи... Алексей взял телефон и попытался сделать перевод, однако инвалиды двинулись дальше, а он не запомнил номер телефона, с досадой захлопнул чехол телефона. Ему действительно хотелось кинуть им денег, но номер-то сразу он не смог запомнить!
Тут его осенила мысль – надо сфотографировать их номер на свой телефон, а потом и оплатить в спокойной обстановке! Он встал и двинулся за ними, подождал, когда безногий повернется или наступит удобный момент для съемки, приготовил свой телефон. Наконец, нижний инвалид повернулся вполоборота, а Алексей стоял близко и сделал несколько кадров, с характерными звуками снимков.
Неожиданно, высокий резко повернулся к Алексею и сделал движение рукой, пытаясь вырвать у него телефон из руки, однако поезд тронулся в этот момент, и он, не удержав равновесие, отшатнулся в сторону. Нижний в этот момент подкатился к Алексею вплотную и скрипучим голосом завизжал:
– А ну-ка, сотри фото! Ты что, меня фотографируешь?! – Алексей быстро спрятал свой телефон во внутренний карман куртки и застегнул молнию! Он не успел еще даже объяснить, что хотел сфотографировать номер на груди, чтобы потом отправить деньги по СБП, как к нему уже придвинулся высокий и намеревался засунуть руку ему во внутренний карман! Алексей ретировался, наступил кому-то на ногу, создалась сутолока!
Вдруг высокий громко крикнул:
– Бежим, менты!!! Давай быстрее!! – А безногий неожиданно вскочил на ноги, сорвав покрывало и, подхватив тележку в руки, бросился в открытые двери вагона. Оказалось, он сидел на корточках под зеленым покрывалом и искусно работал безногим инвалидом. Алексей заметил краем глаза продиравшихся к ним через пассажиров двух ППС-ников. Попрошайки рванули, придержав уже захлопывающиеся двери на станции «Сенная площадь», смешавшись с интенсивным пассажиропотоком.
Словоохотливые соседи Алексея по вагону уже давали показания, он услышал, что кто-то нажал кнопку вызова полиции в вагоне и на следующей станции вышел. Уезжавший вагон увозил показывающих через окно на Алексея свидетелей происшествия и унылые лица молодых полицейских, которые, так Алексею показалось, были даже и рады, что все рассосалось само собой!
Наступил сентябрь, с небес текло, как из ведра, почти каждый день! Настроение было подчас погоде. По улицам деловито шагали, перепрыгивая через лужи, прохожие, укрывшись зонтиками, надвинув шляпы и кепки, подняв воротники.
Алексей шел в своих думах к станции метро «Старая деревня», его авто стояло на техническом обслуживании уже третий день, ждали какой-то датчик, и он с досадою топал по лужам, как бы наказывая себя за лень, надо было, конечно, раньше обратиться на станцию ТО, горела лампочка неисправности. Вот теперь топай и мокни под дождем, зонт остался в машине на задней полочке. Он чувствовал себя мокрой подбитой птицей.
Алексей решил поднять себе настроение и развлечь себя рассматриванием людей в вагоне метро. Он не ездил на метро уже давно, все катался на машине, отчасти потому, что было лень бегать по эскалаторам, отчасти потому, что его работа требовала иногда поездок по городу и в Ленобласть. Когда-то ему нравилось рассматривать людей в метро, можно было рассматривать довольно подробно, ведь в метро все едут, воткнувшись в телефоны или в электронные книги, или дремлют, в общем, никогда не смотрят в лицо и поэтому, как правило, не замечают его изучающих взглядов!
Вот и сегодня он вошел со всеми вместе в первый вагон, посмотрел, как обычно распределяется народ по свободным местам на сидения, потом к торцевым местам у дверей и, наконец, кому не хватило этих «вип» мест, вставал, повисая на поручнях в середине вагона.
Сегодня в вагоне было пустовато, и Алексей сел на сидение, открыл телефон, желая проверить электронную почту и возможные сообщения по мессенджерам. Вагон тронулся с места и почти сразу от начала вагона послышался громкий голос:
– Граждане, помогите, Христа ради, инвалидам специальной военной операции!
– Вот, он без ног остался, а я – без руки!
– Помогите, кто чем может, граждане! – Алексей рассмотрел, как от начала вагона двигалась коляска, обычная тележка на четырех колесиках, на которой стоял, хотя, как он мог стоять, наверное, лежал или просто был человек без ног, отталкивающийся от пола двумя руками, держащими специальные толкатели. Лицо его было небрито и, похоже, даже выпачкано грязью, немытые и нестриженные волосы свисали из-под военной кепи, смотреть на это было больно! Сзади за ним шел довольно высокий военный без знаков отличия, но в костюме цвета хаки, и нес в одной руке перевернутую кепку, куда народ кидал деньги, а другая рука висела на привязи с вылезшим довольно грязным бинтом.
Процессия приближалась к Алексею, люди кидали им в шапку купюры, монеты, жетоны метро, высокий подносил перевернутую кепку то направо, то налево, стараясь поднести ее к каждому пассажиру вагона. Кто-то игнорировал, опуская глаза или поднимая книгу повыше, кто-то отворачивался. Алексей решил, что он должен что-то дать, хотя он не помнил, есть ли в кошельке наличка, а зачем она в нынешние времена, везде же карты принимают!
Когда тележка поравнялась с ним, то он оказался лицом к лицу с инвалидом на тележке, ему стало не по себе от его колючего, острого взгляда, Алексей всем видом своего копания в кошельке показал, что ничего у него нету. Сидящий глядел на него прямо в глаза и перевел взгляд на свою грудь, где висела картонка с номером телефона, мол, переводи... Алексей взял телефон и попытался сделать перевод, однако инвалиды двинулись дальше, а он не запомнил номер телефона, с досадой захлопнул чехол телефона. Ему действительно хотелось кинуть им денег, но номер-то сразу он не смог запомнить!
Тут его осенила мысль – надо сфотографировать их номер на свой телефон, а потом и оплатить в спокойной обстановке! Он встал и двинулся за ними, подождал, когда безногий повернется или наступит удобный момент для съемки, приготовил свой телефон. Наконец, нижний инвалид повернулся вполоборота, а Алексей стоял близко и сделал несколько кадров, с характерными звуками снимков.
Неожиданно, высокий резко повернулся к Алексею и сделал движение рукой, пытаясь вырвать у него телефон из руки, однако поезд тронулся в этот момент, и он, не удержав равновесие, отшатнулся в сторону. Нижний в этот момент подкатился к Алексею вплотную и скрипучим голосом завизжал:
– А ну-ка, сотри фото! Ты что, меня фотографируешь?! – Алексей быстро спрятал свой телефон во внутренний карман куртки и застегнул молнию! Он не успел еще даже объяснить, что хотел сфотографировать номер на груди, чтобы потом отправить деньги по СБП, как к нему уже придвинулся высокий и намеревался засунуть руку ему во внутренний карман! Алексей ретировался, наступил кому-то на ногу, создалась сутолока!
Вдруг высокий громко крикнул:
– Бежим, менты!!! Давай быстрее!! – А безногий неожиданно вскочил на ноги, сорвав покрывало и, подхватив тележку в руки, бросился в открытые двери вагона. Оказалось, он сидел на корточках под зеленым покрывалом и искусно работал безногим инвалидом. Алексей заметил краем глаза продиравшихся к ним через пассажиров двух ППС-ников. Попрошайки рванули, придержав уже захлопывающиеся двери на станции «Сенная площадь», смешавшись с интенсивным пассажиропотоком.
Словоохотливые соседи Алексея по вагону уже давали показания, он услышал, что кто-то нажал кнопку вызова полиции в вагоне и на следующей станции вышел. Уезжавший вагон увозил показывающих через окно на Алексея свидетелей происшествия и унылые лица молодых полицейских, которые, так Алексею показалось, были даже и рады, что все рассосалось само собой!
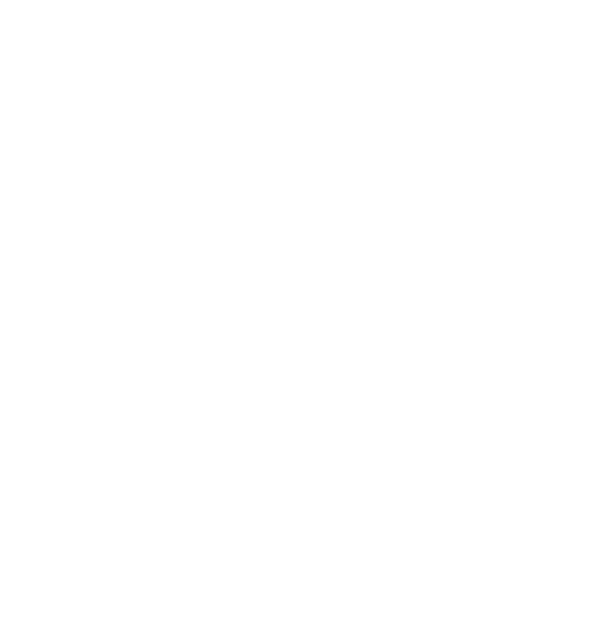
Юлия ПРОСВИРЯКОВА
Родилась в 1988 году в Мурманске.
Начинающий автор, в настоящее время работает над своими первыми литературными произведениями.
Родилась в 1988 году в Мурманске.
Начинающий автор, в настоящее время работает над своими первыми литературными произведениями.
ЛОДКА, ЛОШАДЬ И МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Наверняка почти каждый в своей жизни сталкивался с трудностями звукопроизношения – будь то в детстве, при изучении иностранного языка или даже во взрослом возрасте. Неправильное произношение звуков может вызывать дискомфорт, мешать общению и даже влиять на самооценку.
Меня, как и многих, это не обошло стороной: я не выговаривала букву «р». Бывало, одноклассники дразнили. Меня водили к логопеду. Все началось с невинного стишка. Помните этого несчастного Греку, который ехал через реку? Мой логопед заставляла меня повторять его по сто раз на дню. Через время я наконец смогла выговаривать слова, где есть буква «р». Это была победа. После стольких мучений я наконец-то победила коварную букву «р». Логопед гордо записала в моей карточке: «Звук поставлен». Все ликовали. Я радостно рычала «грека», «река», трактор»…
И тут случилось неожиданное. Куда-то подевалась буква «л»! Вместо «лодка» – «водка». Вместо «лошадь» – «вошадь».
Логопед развела руками и сказала:
– Если ставить «л», потеряете «р». Выбирайте: картавить или шепелявить.
Мама в ужасе смотрела на нее, как будто та предложила ей добровольно выбирать между хромотой и близорукостью. В итоге было решено все оставить, как есть.
Моя история с буквой «р» закончилась победой, но на смену ей пришла новая беда – коварная «л», которая никак не хотела мне поддаваться. И если с «р» меня хоть как-то немного жалели, то здесь начался настоящий ад. И всякий раз, когда я открывала рот, кто-то обязательно передразнивал или просил меня сказать «лодка» или «лошадь». Я плакала, злилась, замыкалась в себе. Казалось, лучше вообще молчать, чем становится посмешищем.
Каждый визит в детскую поликлинику заканчивался одинаково: я пыталась произнести «ла-ла-ла», слышала вздох и фразу: «Если в детстве не поставили «л», теперь уже никогда выговаривать его не будешь. Поздно, время упущено».
Моя мечта стать диктором на телевидении рассыпалась, как карточный домик от одного неловкого дуновения ветерка. Мне все говорили: «С таким произношением тебе не место в эфире». Логопеды, учителя, даже родные – все твердили, что с дефектом речи я никогда не стану диктором. И я поверила. Я представляла себе, как миллионы зрителей смеются над мои произношением. Ведь раз логопеды сказали «нет», то почему я должна спорить и возражать?
Но я решила бороться. Они говорили «невозможно». Но внутри горело: «Я сделаю невозможное возможным». Это была не просто борьба за звук, это стало моей личной миссией. Не ради телевидения, не ради чьих-то насмешек. Ради себя.
Прошли годы. Я уже не та девочка с несчастной «лодкой», а специалист в реабилитационном центре для несовершеннолетних. В этом же центре работала замечательный логопед, с которой мне довелось познакомиться, и которая изменила меня. Я рассказала ей свою историю – про насмешки, про «лодку» и «лошадь», про бесконечные отказы в поликлинике. От услышанного ее глаза наполнились искренним ужасом.
– Мне стыдно за свою профессию, если такие «специалисты» калечат детям веру в себя, – сказала она. – Речь можно исправить в любом возрасте. Просто не все хотят работать по-настоящему.
Моя коллега как-то предложила мне позаниматься с ней. Я согласилась, почти не раздумывая: в конце концов, что я теряю?
Занятия проходили в рабочее время, и директор, конечно, об этом не догадывалась. Я тихонько выскальзывала из кабинета, спускалась на первый этаж и шла в кабинет логопеда. Коллеги меня прикрывали – если кто-то спрашивал, говорили, что я «отошла».
Каждое занятие давалось мне с трудом – не столько из-за сложности, сколько из-за смеха. Эти логопедические упражнения казались мне такими нелепыми! Но я старалась сохранять серьезность, хоть внутри все переворачивалось от смеха. Дома я продолжала тренировки: стояла перед зеркалом в ванной и упорно повторяла звуки.
И – о чудо! – всего через четыре занятия у меня получилось! Я наконец-то произнесла четкое, ясное «л»!
Это было невероятно. Годы я жила с мыслью, что мое произношение уже не исправить, а тут – всего за несколько дней случилось то, о чем я даже не мечтала. Когда я осознала, что могу говорить правильно, меня накрыла волна эйфории. Хотелось кричать об этом на весь мир, делиться счастьем, будто я прозрела после долгой слепоты или вдруг услышала звуки после тишины.
Прошло уже несколько лет, но я до сих пор благодарна той случайной встрече, которая изменила мою жизнь. Иногда я ловлю себя на том, что напеваю «ла-ла-ла», «ло-ло-ло» просто, потому что могу. Какой же это кайф – говорить «ЛОДКА» и «ЛОШАДЬ» и больше не видеть в ответ смущенных улыбок.
Наверняка почти каждый в своей жизни сталкивался с трудностями звукопроизношения – будь то в детстве, при изучении иностранного языка или даже во взрослом возрасте. Неправильное произношение звуков может вызывать дискомфорт, мешать общению и даже влиять на самооценку.
Меня, как и многих, это не обошло стороной: я не выговаривала букву «р». Бывало, одноклассники дразнили. Меня водили к логопеду. Все началось с невинного стишка. Помните этого несчастного Греку, который ехал через реку? Мой логопед заставляла меня повторять его по сто раз на дню. Через время я наконец смогла выговаривать слова, где есть буква «р». Это была победа. После стольких мучений я наконец-то победила коварную букву «р». Логопед гордо записала в моей карточке: «Звук поставлен». Все ликовали. Я радостно рычала «грека», «река», трактор»…
И тут случилось неожиданное. Куда-то подевалась буква «л»! Вместо «лодка» – «водка». Вместо «лошадь» – «вошадь».
Логопед развела руками и сказала:
– Если ставить «л», потеряете «р». Выбирайте: картавить или шепелявить.
Мама в ужасе смотрела на нее, как будто та предложила ей добровольно выбирать между хромотой и близорукостью. В итоге было решено все оставить, как есть.
Моя история с буквой «р» закончилась победой, но на смену ей пришла новая беда – коварная «л», которая никак не хотела мне поддаваться. И если с «р» меня хоть как-то немного жалели, то здесь начался настоящий ад. И всякий раз, когда я открывала рот, кто-то обязательно передразнивал или просил меня сказать «лодка» или «лошадь». Я плакала, злилась, замыкалась в себе. Казалось, лучше вообще молчать, чем становится посмешищем.
Каждый визит в детскую поликлинику заканчивался одинаково: я пыталась произнести «ла-ла-ла», слышала вздох и фразу: «Если в детстве не поставили «л», теперь уже никогда выговаривать его не будешь. Поздно, время упущено».
Моя мечта стать диктором на телевидении рассыпалась, как карточный домик от одного неловкого дуновения ветерка. Мне все говорили: «С таким произношением тебе не место в эфире». Логопеды, учителя, даже родные – все твердили, что с дефектом речи я никогда не стану диктором. И я поверила. Я представляла себе, как миллионы зрителей смеются над мои произношением. Ведь раз логопеды сказали «нет», то почему я должна спорить и возражать?
Но я решила бороться. Они говорили «невозможно». Но внутри горело: «Я сделаю невозможное возможным». Это была не просто борьба за звук, это стало моей личной миссией. Не ради телевидения, не ради чьих-то насмешек. Ради себя.
Прошли годы. Я уже не та девочка с несчастной «лодкой», а специалист в реабилитационном центре для несовершеннолетних. В этом же центре работала замечательный логопед, с которой мне довелось познакомиться, и которая изменила меня. Я рассказала ей свою историю – про насмешки, про «лодку» и «лошадь», про бесконечные отказы в поликлинике. От услышанного ее глаза наполнились искренним ужасом.
– Мне стыдно за свою профессию, если такие «специалисты» калечат детям веру в себя, – сказала она. – Речь можно исправить в любом возрасте. Просто не все хотят работать по-настоящему.
Моя коллега как-то предложила мне позаниматься с ней. Я согласилась, почти не раздумывая: в конце концов, что я теряю?
Занятия проходили в рабочее время, и директор, конечно, об этом не догадывалась. Я тихонько выскальзывала из кабинета, спускалась на первый этаж и шла в кабинет логопеда. Коллеги меня прикрывали – если кто-то спрашивал, говорили, что я «отошла».
Каждое занятие давалось мне с трудом – не столько из-за сложности, сколько из-за смеха. Эти логопедические упражнения казались мне такими нелепыми! Но я старалась сохранять серьезность, хоть внутри все переворачивалось от смеха. Дома я продолжала тренировки: стояла перед зеркалом в ванной и упорно повторяла звуки.
И – о чудо! – всего через четыре занятия у меня получилось! Я наконец-то произнесла четкое, ясное «л»!
Это было невероятно. Годы я жила с мыслью, что мое произношение уже не исправить, а тут – всего за несколько дней случилось то, о чем я даже не мечтала. Когда я осознала, что могу говорить правильно, меня накрыла волна эйфории. Хотелось кричать об этом на весь мир, делиться счастьем, будто я прозрела после долгой слепоты или вдруг услышала звуки после тишины.
Прошло уже несколько лет, но я до сих пор благодарна той случайной встрече, которая изменила мою жизнь. Иногда я ловлю себя на том, что напеваю «ла-ла-ла», «ло-ло-ло» просто, потому что могу. Какой же это кайф – говорить «ЛОДКА» и «ЛОШАДЬ» и больше не видеть в ответ смущенных улыбок.
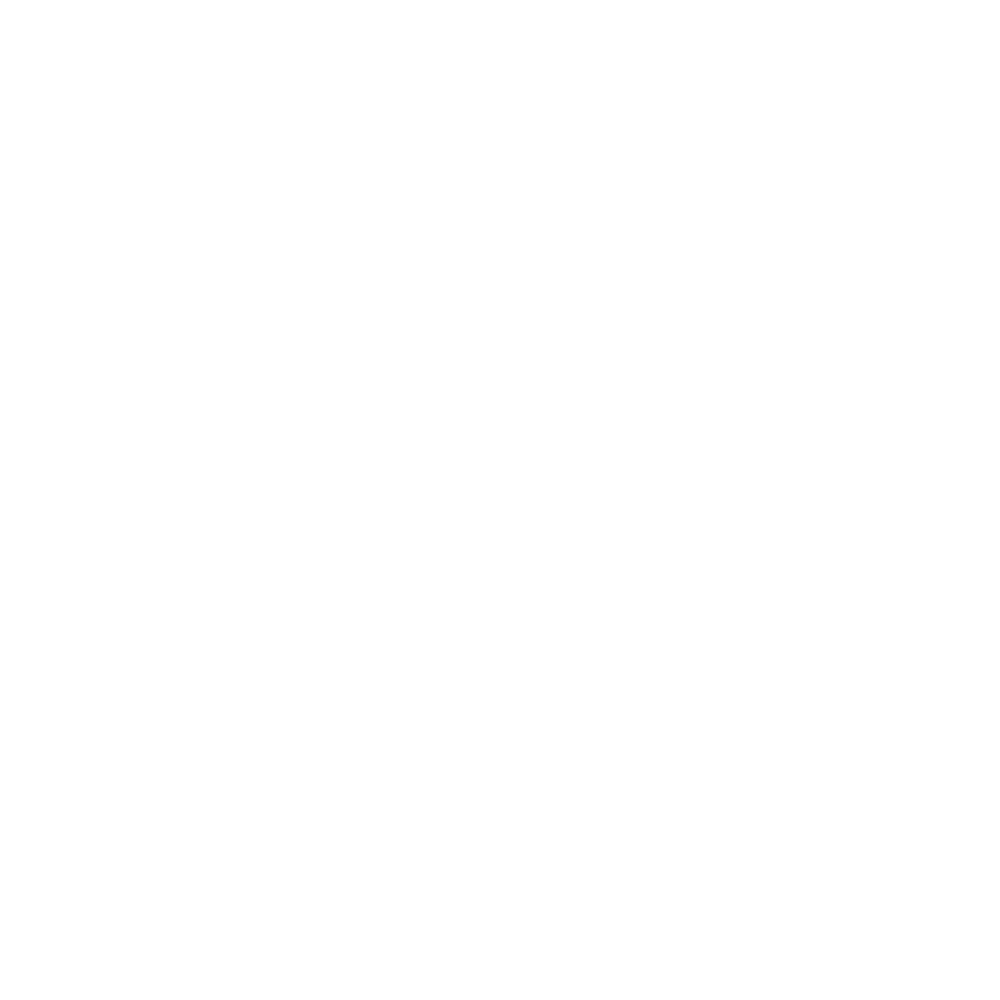
Максим ФЕДОСОВ
Родился в 1970 году. Трудовую биографию начинал в 1988 году в Мытищинской типографии с должности «ученика наборщика», затем (после службы в армии) принимал участие в создании на базе типографии настольно-издательских систем. После учебы в Высшей школе рекламы (ВШР МосГУ), с 1995 по 2005 год работал в сфере маркетинга и рекламы в крупных компаниях и банках: возглавлял рекламную службу в Мытищинском коммерческом банке (1995-1998) и в Москомприватбанке (1998-2000), работал консультантом в PR-агентстве Imageland Edelman (2004). В 2008 году создал издательство «НОВОЕ СЛОВО», возродил альманах «Новое Слово» (основан в 1896 г.), создал издательский сервис, в котором выпускаются 10 литературных сборников и публикуются более 500 авторов со всей России. Возглавляет литературную мастерскую «Новое Слово», ведет обучение в «Мастерской рассказа» на базе литературной мастерской. Член ЛИТО им. Дм. Кедрина (г. Мытищи, Московская область). В 2017 году окончил литературные курсы А.В.Воронцова (при Литинституте им. М.Горького). Публиковался в альманахе «Полдень», «Точки», «Новое Слово», «Все будет хорошо!», «Ангарские ворота». Член Союза писателей РФ с 2022 года.
Родился в 1970 году. Трудовую биографию начинал в 1988 году в Мытищинской типографии с должности «ученика наборщика», затем (после службы в армии) принимал участие в создании на базе типографии настольно-издательских систем. После учебы в Высшей школе рекламы (ВШР МосГУ), с 1995 по 2005 год работал в сфере маркетинга и рекламы в крупных компаниях и банках: возглавлял рекламную службу в Мытищинском коммерческом банке (1995-1998) и в Москомприватбанке (1998-2000), работал консультантом в PR-агентстве Imageland Edelman (2004). В 2008 году создал издательство «НОВОЕ СЛОВО», возродил альманах «Новое Слово» (основан в 1896 г.), создал издательский сервис, в котором выпускаются 10 литературных сборников и публикуются более 500 авторов со всей России. Возглавляет литературную мастерскую «Новое Слово», ведет обучение в «Мастерской рассказа» на базе литературной мастерской. Член ЛИТО им. Дм. Кедрина (г. Мытищи, Московская область). В 2017 году окончил литературные курсы А.В.Воронцова (при Литинституте им. М.Горького). Публиковался в альманахе «Полдень», «Точки», «Новое Слово», «Все будет хорошо!», «Ангарские ворота». Член Союза писателей РФ с 2022 года.
ЗЮЗЯ
С благодарностью – И.А.Крылову
Жизненное кредо Зюзи, маленькой щупленькой девочки с тонкими косичками, определилось на сцене, неожиданно, сразу – и на всю жизнь. На первой и единственной репетиции школьного спектакля по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова белокурая девочка с нескладной фамилией услышала обращенный к ней грубый голос учителя литературы. Прозвучало это как страшный вердикт и еще долго не выветривалось, словно неприятный запах где-то рядом:
– А Леночка Зюзина у нас будет исполнять роль Стрекозы. Уловила? Не слышу!?
– Угу. – Косички посыпались вниз, тонкая шейка наклонилась, краска залила лицо.
– Вот и хорошо!
Это страшное «хорошо» прозвучит в её жизни еще не раз. Роль Стрекозы сыграла с Зюзиной страшную шутку. Мало того, что на спектакле она первый раз влюбилась по-настоящему, так и маневренность её последующей жизни была похожа на движение стрекозы: она то зависала надолго в одном месте, то моментально испарялась, оказываясь совсем в другом конце этого болота под названием «жизнь».
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела.
Первой ее любовью был, конечно, Муравей. То есть Коля Пыжиков, исполняющий роль Муравья в спектакле. Коля так трудился выжимать из себя положительные черты муравьиного характера, улыбался всем, демонически сверлил глазами беззаботную Стрекозу и под конец снял все «воспитательные» аплодисменты в свой адрес. Леночка стояла рядом, чуть позади, видя, как складывается Пыжиков в благодарном поклоне. Он так и будет всю жизнь складываться, чтобы чего-то добиться. Как же, такой трудолюбивый, уравновешенный, запасливый... Кто бы предвидел дальнейшую судьбу Пыжикова, тот уже на первой части спектакля сбежал бы от скуки: получив престижную профессию и сделав неплохую карьеру, «Муравей-Пыжиков» также трудолюбиво перебрал около десятка молодых особ (Зюзина торжественно возглавляла этот список), испортив многим жизнь, здоровье и характер, прежде чем остановил свой выбор на дочери местного депутата, чтобы свою рачительность и усердие помножить на капиталы и близость к закону. Следы Пыжикова терялись где-то в Европе: бежав от тестя и проблем с тем же неудобным законом, он основал какую-то философско-религиозную секту, страшно потолстел и по-прежнему изображал трудолюбивого муравья: таскал в дом все, что плохо лежало, и в первую очередь – женщин.
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
А зима тогда катила в глаза невероятно...
В день спектакля стоял стылый, бесснежный декабрь, все уже прислушивались к бою курантов и принюхивались к оливье, но год требовал холодной отчетности и строгого порядка и никак не заканчивался. Новогодний спектакль готовили впопыхах, осточертелая комиссия местного «УпрОБРАЗа» опаздывала, и Стрекоза успела посадить огромное пятно на белое платье. Директор материл учителей, которые кроме новогоднего хоровода вокруг елки ничего умного придумать не смогли. Спасибо «литераторше», – спасла мероприятие, вспомнив известную басню Крылова. Спектакль выучили за день, отрепетировали за два, и уже в пятницу – в первых рядах пузатые дядьки и, утянутые в «сорок восьмой» тетки, радовались, словно дети, высматривая Муравья из-за кулис. Пыжиков был, как всегда, на высоте. Не подкачал. Комиссия поставила галочку в соответствующую графу и поехала согреваться в следующую школу.
Леночка Зюзина уже тогда, на спектакле, заглянула в глаза первому ряду и увидела беспричинную тоску и нескрываемое безразличие к тому, что происходило на сцене: все как один были готовы пойти за председателем муравейника и осудить, приговорить, наказать беззаботную Стрекозу, которая думала не тем местом, каким обычно думают правильные герои. Тогда уже девочка Лена поняла, что большинству людей на белом свете глубоко наплевать, что происходит с тобой, с ним, и с ним, и с ним. Каждому было нужно согреть свое собственное пузо, «вернуться» с сорок восьмого на сорок шестой, получить в новом году новую должность и своевременно отправиться на отдых в Гагры. Стрекозу, как она уже тогда поняла, можно было списать на человеческий брак, неудачную социальную попытку и отставить в сторону, как мешающий поступательному и гармоничному развитию ненужный предмет. Страна нуждалась в Пыжиковых, гармонично складывающихся пополам и несущих свой груз ради того, чтобы его родной муравейник был больше, чем в соседнем лесу. Слово «больше» стало для Пыжикова девизом всей жизни. Уже после того злополучного спектакля к Лене начали относиться как-то по-иному: не встречаться взглядами, игнорировать в разговорах. Лена стала рассеянной, невнимательной, часто пропускала уроки, отстала по многим предметам, и уже через год за ней зацепилась неприятная кликуха – Зюзя. Девочки-отличницы травили Зюзю за медлительность и рассеянность, но особенно им не нравилось, что на стройный зюзин стан и её вертлявые косички засматривались лучшие мальчики класса. Особенно Пыжиков. После концерта она стала для него особенной – именно с ней он связывал свой героический путь в новое будущее.
Зюзе нравился Пыжиков. Нравилось его упорство и настойчивость во всем. Даже в очереди за пирожками в школьной столовой. Это трудолюбие у Коли доходило до какого-то остервенения, когда он, расталкивая всех, «добивался» самых горячих пирожков и делился ими только с Зюзей. Позже он так же будет «расталкивать» всех в погоне за шубами для Зюзи, первых и единственных в её жизни бриллиантов, автомобилей…
Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!
Однако материальный достаток не стал для Леночки главной целью. Она хотела добиться «творческой реализации», то есть стать «не хуже» того самого Муравья и срывать продолжительные аплодисменты в свой адрес.
Свое второе страшное «хорошо» Леночка Зюзина услышала в свой адрес на первом песенном конкурсе, проходившем в их городе. Ей тогда «стукнуло» шестнадцать, и она решила... стать певицей. По телеку то и дело крутили юных певичек, и Зюзя была не хуже. Такие же толстые дяди и тети сидели в жюри конкурса, внимательно слушали и иногда даже подпевали конкурсантам. Потом тети и дяди становились серьезными и «скидывали» участников с конкурса умными фразами и академическими определениями. В финал вышла только дочка руководителя местного телеканала, который, собственно, всю эту «лавочку» и оплачивал. Зюзиной после выступления тоже поставили «хорошо», но сняли с конкурса. Выплакав все слезы, Зюзя решила не быть больше певицей и подалась в художественную школу.
Став старше, Леночка перепробовала еще и педагогическую школу, литобъединение, кулинарные курсы при техникуме, кружок академических танцев, и к своим двадцати у нее сложилось ощущение, что она знает в своей жизни все, что необходимо знать. Поэтому в любом разговоре она могла поддержать любого выступающего знанием некоторых особенных терминов и знакомых ей слов. Но главным её оружием в любом разговоре, в любом обществе, или в простом диалоге с кем-то – было разоружающее собеседника «Да! Я это слышала, но говорят…», произносимое ею всегда с особым придыханием. После чего шло ее собственное определение предмета разговора, в котором она демонстрировала некоторое знание сути дела. Насколько глубока была эта суть знали только те, кто знали суть действительно глубоко и подробно. Произнеся свою версию, Зюзя, как правило, отходила от разговора, чтобы не портить первое и единственное впечатление. Ей не раз говорили комплименты, в том числе за ее огромные познания в любых областях культуры и искусства, и Зюзя была на десятом небе от осознания своих способностей. Которые, однако, не прибавляли ей поклонников. После Пыжикова был какой-то застой в отношениях, который заставил Леночку изменить некоторые свои привязанности и привычки.
Ох, этот Пыжиков. Еще тогда, на сцене, Зюзя все поняла – Пыжиков далеко пойдет. Он тогда так грозно, насупив брови, страшно грозил пальчиком со сцены всем лентяям и тунеядцам, что первые ряды оборачивались. Набрав полные легкие и слегка не выговаривая букву «Р», Коля громко и отчетливо твердил:
Кумушка, мне стланно это:
Да лаботала ль ты в лето?
Леночка Зюзина не работала ни в то лето (тогда еще маленькая была), ни в какое другое. Зюзина до тридцати своих лет вообще не работала ни дня. Лето для Зюзи было сплошным отпуском, а все остальные девять месяцев – подготовкой к нему. Чтобы отдохнуть полноценно нужны были чемоданы, сумки, двадцать восемь пар пляжных аксессуаров, несколько пар очков – пока выберешь все это, купишь, проходит зима и весна. Поначалу, в их первые годы совместной жизни, Пыжиков все это достойно обеспечивал, затем, когда Коля переключился на других обитательниц муравейника, Леночка научилась находить других обеспечителей.
Третье страшное «хорошо» она услышала от преподавателя танцев. После чего занятия танцами не сложились. Зато сложились отношения с одним из партнеров. Высокий, стройно-жгучий брюнет Аркадий был явно старше Зюзи, он так легко поддерживал ее, что кажется – еще минута, и Аркадий в поддержке вознесет Зюзю над головами удивленных коллег. Аркадий приглашал в кафе, косясь на телефон и вздрагивая от каждого виброзвонка. Потом были парки, скверы, вечерние объятия на набережной, снова вздрагивания от смс-ок, и снова объятия. И уже спустя неделю и три дня – коварное «пойдем ко мне, я живу один». Конечно, Зюзя пошла, разве откажешься... Когда тебе тридцать пять и за спиной только один.
Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!
Нет, это не про Аркадия. Он равнодушно оставил её, ссылаясь на то, что всё в его жизни «сложно», и не расхлебал он еще прошлых отношений. Спустя месяц оказалось, что за спиной у него – два сломанных брака и неисчислимое количество обещаний жениться. И очередь Зюзи – на годы вперед. Конечно, и с танцами – в итоге, так и не сложилось. Словно тот самый школьный спектакль по-прежнему продолжался в ее жизни и играл некую «руководящую и направляющую» роль. Нужно было что-то менять.
И тогда Лена поменяла местожительство. Переехав в другой город, можно было начинать все заново. Но в этом понимании Лена терялась. Заново – это так же, как и было? Или – в смысле, что «с чистого листа»? А что рисовать-то на этом чистом листе? Что писать на нем?
Насчет «писать» Лене здорово повезло. В одном литературном кружке ей предложили участвовать в писательском марафоне. И Лена, вооружившись красивым псевдонимом, учебником «Как писать книги» и недорогим ноутбуком, взялась за дело. На пятой странице Лена заскучала, не зная, в какое еще место «завернуть» сюжет, чтобы читалось интересно и не скучно. Не дописав романа, она тем не менее показывала начало романа всем, и все дружно говорили то же самое – страшное «хорошо!» Роман так и не был дописан, потому что никто не подсказал ей развития сюжета, а как заканчивать роман – Лене на марафоне не объяснили. Но с него она сошла еще и «писателем». Все это обогащало ее, как она думала. На самом деле, эти поиски себя и заполняли всю ее жизнь. Лена верила, что она только готовится к жизни и ищет себя, а на календаре уже стукнуло тридцать.
До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило.
Жизнь не заканчивается и в сорок. У некоторых даже начинается. У Леночки Зюзиной жизнь начиналась несколько раз, потом в тридцать и в сорок – всё начиналось заново, а потом она потеряла счет этим «новым жизням» и жила так, как привыкла. Занятия танцами давали ей некие академические преимущества, и она начала учить детей обыкновенным сценическим движениям, и это у нее вполне неплохо получалось. Быть учителем танцев – значит быть все время в танце, быть Мастером, быть педагогом. Она мечтала выпустить своих учеников Мастерами, а они приходили, пробовали и уходили, менялись имена, косички, цвет волос, родительские конверты, но «мастеров» особо не обнаруживалось. Конкурсы и концерты проходили ровно так же, как и ее первый спектакль – репетиции, день выступления, дяди и тети, поздравительные речи, звон бокалов на фуршете и добрые слова напутствия. Куда только были эти напутствия. В какое будущее? Кому?
Пыжиков закончил еще хуже. В свои сорок он угодил в сложные бандитские разборки, остался инвалидом и передвигался на дорогом импортном кресле по огромному пустырю своей недостроенной «виллы» где-то в Чехии. Когда закончили второй этаж, он умудрился упасть прямо в кресле с недостроенного балкона и его похоронили прямо там, в саду, под единственным деревом на пустыре. Вилла так и не была достроена, а все деньги с бесчисленных счетов забрали за долги европейские банкиры. Вся его муравьиная сущность была близка к апогею, но его трудолюбивый муравейник был просто рассыпан в труху чьими-то любопытными и настойчивыми резиновыми сапогами. А может быть он изначально был построен из этой трухи?
Лена узнала об этом намного позже, на встрече одноклассников. Встреча эта была бурной, ящик водки выпили буквально за час, вспоминали школьные годы, поминали Пыжикова (как же, такой был талантливый и яркий!), перечисляли первых учителей и нечаянно вспомнили тот новогодний концерт, когда Пыжиков сорвал свои лучшие аплодисменты в жизни.
– Да, помним, помним...
Про Стрекозу так никто не вспомнил.
Лена сидела в углу и нервно сжимала в руках пустой пластмассовый стаканчик. Водку она пить не любила.
А, так ты…» – «Я без души
Лето целое всё пела».–
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!
С благодарностью – И.А.Крылову
Жизненное кредо Зюзи, маленькой щупленькой девочки с тонкими косичками, определилось на сцене, неожиданно, сразу – и на всю жизнь. На первой и единственной репетиции школьного спектакля по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова белокурая девочка с нескладной фамилией услышала обращенный к ней грубый голос учителя литературы. Прозвучало это как страшный вердикт и еще долго не выветривалось, словно неприятный запах где-то рядом:
– А Леночка Зюзина у нас будет исполнять роль Стрекозы. Уловила? Не слышу!?
– Угу. – Косички посыпались вниз, тонкая шейка наклонилась, краска залила лицо.
– Вот и хорошо!
Это страшное «хорошо» прозвучит в её жизни еще не раз. Роль Стрекозы сыграла с Зюзиной страшную шутку. Мало того, что на спектакле она первый раз влюбилась по-настоящему, так и маневренность её последующей жизни была похожа на движение стрекозы: она то зависала надолго в одном месте, то моментально испарялась, оказываясь совсем в другом конце этого болота под названием «жизнь».
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела.
Первой ее любовью был, конечно, Муравей. То есть Коля Пыжиков, исполняющий роль Муравья в спектакле. Коля так трудился выжимать из себя положительные черты муравьиного характера, улыбался всем, демонически сверлил глазами беззаботную Стрекозу и под конец снял все «воспитательные» аплодисменты в свой адрес. Леночка стояла рядом, чуть позади, видя, как складывается Пыжиков в благодарном поклоне. Он так и будет всю жизнь складываться, чтобы чего-то добиться. Как же, такой трудолюбивый, уравновешенный, запасливый... Кто бы предвидел дальнейшую судьбу Пыжикова, тот уже на первой части спектакля сбежал бы от скуки: получив престижную профессию и сделав неплохую карьеру, «Муравей-Пыжиков» также трудолюбиво перебрал около десятка молодых особ (Зюзина торжественно возглавляла этот список), испортив многим жизнь, здоровье и характер, прежде чем остановил свой выбор на дочери местного депутата, чтобы свою рачительность и усердие помножить на капиталы и близость к закону. Следы Пыжикова терялись где-то в Европе: бежав от тестя и проблем с тем же неудобным законом, он основал какую-то философско-религиозную секту, страшно потолстел и по-прежнему изображал трудолюбивого муравья: таскал в дом все, что плохо лежало, и в первую очередь – женщин.
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
А зима тогда катила в глаза невероятно...
В день спектакля стоял стылый, бесснежный декабрь, все уже прислушивались к бою курантов и принюхивались к оливье, но год требовал холодной отчетности и строгого порядка и никак не заканчивался. Новогодний спектакль готовили впопыхах, осточертелая комиссия местного «УпрОБРАЗа» опаздывала, и Стрекоза успела посадить огромное пятно на белое платье. Директор материл учителей, которые кроме новогоднего хоровода вокруг елки ничего умного придумать не смогли. Спасибо «литераторше», – спасла мероприятие, вспомнив известную басню Крылова. Спектакль выучили за день, отрепетировали за два, и уже в пятницу – в первых рядах пузатые дядьки и, утянутые в «сорок восьмой» тетки, радовались, словно дети, высматривая Муравья из-за кулис. Пыжиков был, как всегда, на высоте. Не подкачал. Комиссия поставила галочку в соответствующую графу и поехала согреваться в следующую школу.
Леночка Зюзина уже тогда, на спектакле, заглянула в глаза первому ряду и увидела беспричинную тоску и нескрываемое безразличие к тому, что происходило на сцене: все как один были готовы пойти за председателем муравейника и осудить, приговорить, наказать беззаботную Стрекозу, которая думала не тем местом, каким обычно думают правильные герои. Тогда уже девочка Лена поняла, что большинству людей на белом свете глубоко наплевать, что происходит с тобой, с ним, и с ним, и с ним. Каждому было нужно согреть свое собственное пузо, «вернуться» с сорок восьмого на сорок шестой, получить в новом году новую должность и своевременно отправиться на отдых в Гагры. Стрекозу, как она уже тогда поняла, можно было списать на человеческий брак, неудачную социальную попытку и отставить в сторону, как мешающий поступательному и гармоничному развитию ненужный предмет. Страна нуждалась в Пыжиковых, гармонично складывающихся пополам и несущих свой груз ради того, чтобы его родной муравейник был больше, чем в соседнем лесу. Слово «больше» стало для Пыжикова девизом всей жизни. Уже после того злополучного спектакля к Лене начали относиться как-то по-иному: не встречаться взглядами, игнорировать в разговорах. Лена стала рассеянной, невнимательной, часто пропускала уроки, отстала по многим предметам, и уже через год за ней зацепилась неприятная кликуха – Зюзя. Девочки-отличницы травили Зюзю за медлительность и рассеянность, но особенно им не нравилось, что на стройный зюзин стан и её вертлявые косички засматривались лучшие мальчики класса. Особенно Пыжиков. После концерта она стала для него особенной – именно с ней он связывал свой героический путь в новое будущее.
Зюзе нравился Пыжиков. Нравилось его упорство и настойчивость во всем. Даже в очереди за пирожками в школьной столовой. Это трудолюбие у Коли доходило до какого-то остервенения, когда он, расталкивая всех, «добивался» самых горячих пирожков и делился ими только с Зюзей. Позже он так же будет «расталкивать» всех в погоне за шубами для Зюзи, первых и единственных в её жизни бриллиантов, автомобилей…
Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!
Однако материальный достаток не стал для Леночки главной целью. Она хотела добиться «творческой реализации», то есть стать «не хуже» того самого Муравья и срывать продолжительные аплодисменты в свой адрес.
Свое второе страшное «хорошо» Леночка Зюзина услышала в свой адрес на первом песенном конкурсе, проходившем в их городе. Ей тогда «стукнуло» шестнадцать, и она решила... стать певицей. По телеку то и дело крутили юных певичек, и Зюзя была не хуже. Такие же толстые дяди и тети сидели в жюри конкурса, внимательно слушали и иногда даже подпевали конкурсантам. Потом тети и дяди становились серьезными и «скидывали» участников с конкурса умными фразами и академическими определениями. В финал вышла только дочка руководителя местного телеканала, который, собственно, всю эту «лавочку» и оплачивал. Зюзиной после выступления тоже поставили «хорошо», но сняли с конкурса. Выплакав все слезы, Зюзя решила не быть больше певицей и подалась в художественную школу.
Став старше, Леночка перепробовала еще и педагогическую школу, литобъединение, кулинарные курсы при техникуме, кружок академических танцев, и к своим двадцати у нее сложилось ощущение, что она знает в своей жизни все, что необходимо знать. Поэтому в любом разговоре она могла поддержать любого выступающего знанием некоторых особенных терминов и знакомых ей слов. Но главным её оружием в любом разговоре, в любом обществе, или в простом диалоге с кем-то – было разоружающее собеседника «Да! Я это слышала, но говорят…», произносимое ею всегда с особым придыханием. После чего шло ее собственное определение предмета разговора, в котором она демонстрировала некоторое знание сути дела. Насколько глубока была эта суть знали только те, кто знали суть действительно глубоко и подробно. Произнеся свою версию, Зюзя, как правило, отходила от разговора, чтобы не портить первое и единственное впечатление. Ей не раз говорили комплименты, в том числе за ее огромные познания в любых областях культуры и искусства, и Зюзя была на десятом небе от осознания своих способностей. Которые, однако, не прибавляли ей поклонников. После Пыжикова был какой-то застой в отношениях, который заставил Леночку изменить некоторые свои привязанности и привычки.
Ох, этот Пыжиков. Еще тогда, на сцене, Зюзя все поняла – Пыжиков далеко пойдет. Он тогда так грозно, насупив брови, страшно грозил пальчиком со сцены всем лентяям и тунеядцам, что первые ряды оборачивались. Набрав полные легкие и слегка не выговаривая букву «Р», Коля громко и отчетливо твердил:
Кумушка, мне стланно это:
Да лаботала ль ты в лето?
Леночка Зюзина не работала ни в то лето (тогда еще маленькая была), ни в какое другое. Зюзина до тридцати своих лет вообще не работала ни дня. Лето для Зюзи было сплошным отпуском, а все остальные девять месяцев – подготовкой к нему. Чтобы отдохнуть полноценно нужны были чемоданы, сумки, двадцать восемь пар пляжных аксессуаров, несколько пар очков – пока выберешь все это, купишь, проходит зима и весна. Поначалу, в их первые годы совместной жизни, Пыжиков все это достойно обеспечивал, затем, когда Коля переключился на других обитательниц муравейника, Леночка научилась находить других обеспечителей.
Третье страшное «хорошо» она услышала от преподавателя танцев. После чего занятия танцами не сложились. Зато сложились отношения с одним из партнеров. Высокий, стройно-жгучий брюнет Аркадий был явно старше Зюзи, он так легко поддерживал ее, что кажется – еще минута, и Аркадий в поддержке вознесет Зюзю над головами удивленных коллег. Аркадий приглашал в кафе, косясь на телефон и вздрагивая от каждого виброзвонка. Потом были парки, скверы, вечерние объятия на набережной, снова вздрагивания от смс-ок, и снова объятия. И уже спустя неделю и три дня – коварное «пойдем ко мне, я живу один». Конечно, Зюзя пошла, разве откажешься... Когда тебе тридцать пять и за спиной только один.
Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!
Нет, это не про Аркадия. Он равнодушно оставил её, ссылаясь на то, что всё в его жизни «сложно», и не расхлебал он еще прошлых отношений. Спустя месяц оказалось, что за спиной у него – два сломанных брака и неисчислимое количество обещаний жениться. И очередь Зюзи – на годы вперед. Конечно, и с танцами – в итоге, так и не сложилось. Словно тот самый школьный спектакль по-прежнему продолжался в ее жизни и играл некую «руководящую и направляющую» роль. Нужно было что-то менять.
И тогда Лена поменяла местожительство. Переехав в другой город, можно было начинать все заново. Но в этом понимании Лена терялась. Заново – это так же, как и было? Или – в смысле, что «с чистого листа»? А что рисовать-то на этом чистом листе? Что писать на нем?
Насчет «писать» Лене здорово повезло. В одном литературном кружке ей предложили участвовать в писательском марафоне. И Лена, вооружившись красивым псевдонимом, учебником «Как писать книги» и недорогим ноутбуком, взялась за дело. На пятой странице Лена заскучала, не зная, в какое еще место «завернуть» сюжет, чтобы читалось интересно и не скучно. Не дописав романа, она тем не менее показывала начало романа всем, и все дружно говорили то же самое – страшное «хорошо!» Роман так и не был дописан, потому что никто не подсказал ей развития сюжета, а как заканчивать роман – Лене на марафоне не объяснили. Но с него она сошла еще и «писателем». Все это обогащало ее, как она думала. На самом деле, эти поиски себя и заполняли всю ее жизнь. Лена верила, что она только готовится к жизни и ищет себя, а на календаре уже стукнуло тридцать.
До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило.
Жизнь не заканчивается и в сорок. У некоторых даже начинается. У Леночки Зюзиной жизнь начиналась несколько раз, потом в тридцать и в сорок – всё начиналось заново, а потом она потеряла счет этим «новым жизням» и жила так, как привыкла. Занятия танцами давали ей некие академические преимущества, и она начала учить детей обыкновенным сценическим движениям, и это у нее вполне неплохо получалось. Быть учителем танцев – значит быть все время в танце, быть Мастером, быть педагогом. Она мечтала выпустить своих учеников Мастерами, а они приходили, пробовали и уходили, менялись имена, косички, цвет волос, родительские конверты, но «мастеров» особо не обнаруживалось. Конкурсы и концерты проходили ровно так же, как и ее первый спектакль – репетиции, день выступления, дяди и тети, поздравительные речи, звон бокалов на фуршете и добрые слова напутствия. Куда только были эти напутствия. В какое будущее? Кому?
Пыжиков закончил еще хуже. В свои сорок он угодил в сложные бандитские разборки, остался инвалидом и передвигался на дорогом импортном кресле по огромному пустырю своей недостроенной «виллы» где-то в Чехии. Когда закончили второй этаж, он умудрился упасть прямо в кресле с недостроенного балкона и его похоронили прямо там, в саду, под единственным деревом на пустыре. Вилла так и не была достроена, а все деньги с бесчисленных счетов забрали за долги европейские банкиры. Вся его муравьиная сущность была близка к апогею, но его трудолюбивый муравейник был просто рассыпан в труху чьими-то любопытными и настойчивыми резиновыми сапогами. А может быть он изначально был построен из этой трухи?
Лена узнала об этом намного позже, на встрече одноклассников. Встреча эта была бурной, ящик водки выпили буквально за час, вспоминали школьные годы, поминали Пыжикова (как же, такой был талантливый и яркий!), перечисляли первых учителей и нечаянно вспомнили тот новогодний концерт, когда Пыжиков сорвал свои лучшие аплодисменты в жизни.
– Да, помним, помним...
Про Стрекозу так никто не вспомнил.
Лена сидела в углу и нервно сжимала в руках пустой пластмассовый стаканчик. Водку она пить не любила.
А, так ты…» – «Я без души
Лето целое всё пела».–
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!
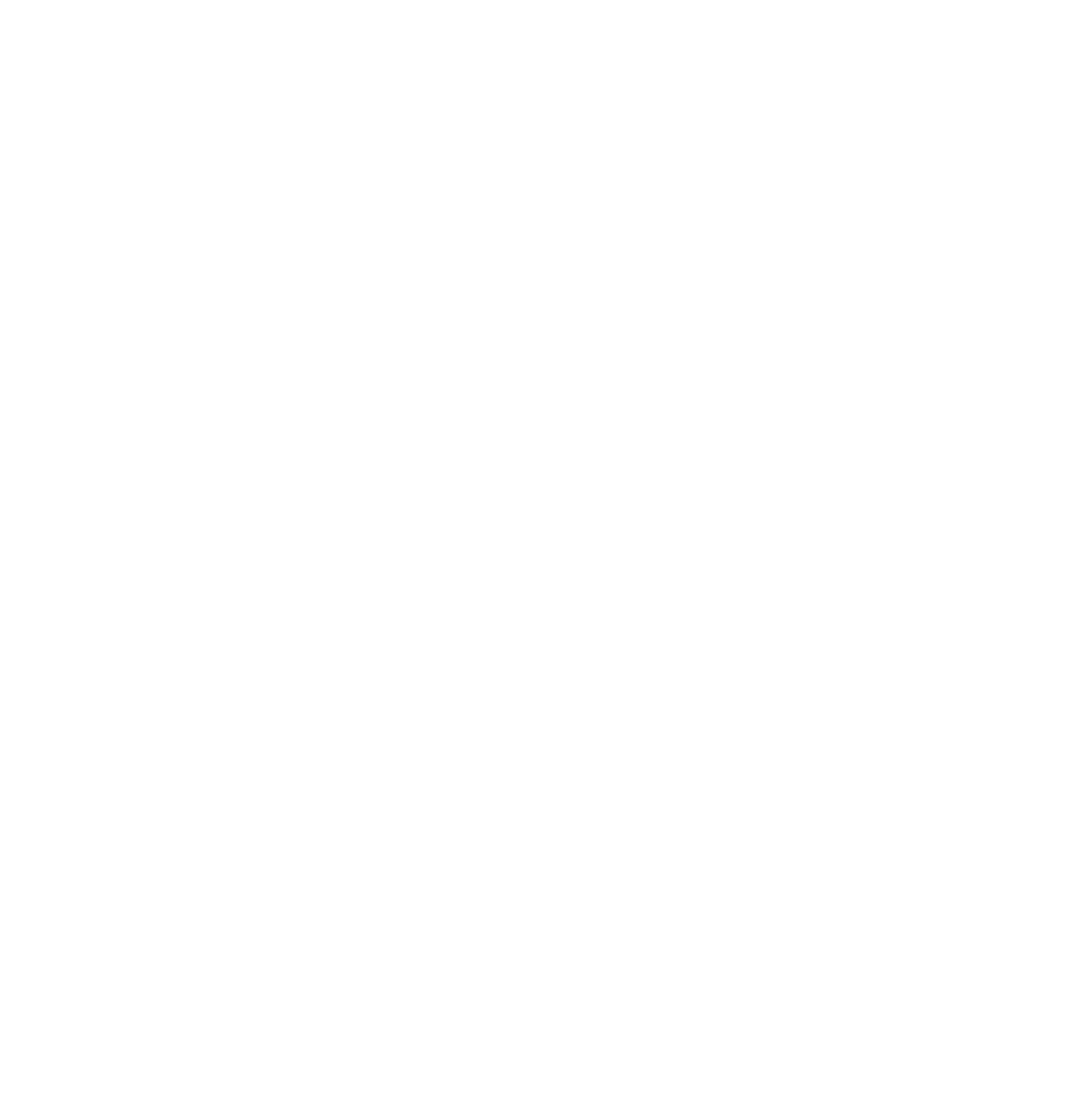
Ольга АМАН
Родилась и выросла в средневековом городе Выборге. По образованию педагог-психолог. Художник. Преподаватель истории искусства. Член ПСХР, Член СРХ, Член Общественной организации союз художников и творческих объединений мир и гармония СХТО МИГ. Успешный руководитель и творческая личность. Человек, в котором постоянно живёт вдохновение. Директор образовательного учреждения. «Добро пожаловать в мой маленький мир, где слова рождаются от сердца, а не по правилам. Я пишу для себя и для тех, кто мне дорог, делясь тем, что живет внутри. Здесь вы найдете отголоски моей жизни, а еще – волшебные истории и сказки, которые, надеюсь, согреют вашу душу. Мои истории – для каждого, ведь и маленьким, и взрослым хочется верить в добро и чудеса. Если мои слова тронут вас, если вы почувствуете что-то родное – читайте, наслаждайтесь, и пусть каждая история подарит вам частичку радости.
Родилась и выросла в средневековом городе Выборге. По образованию педагог-психолог. Художник. Преподаватель истории искусства. Член ПСХР, Член СРХ, Член Общественной организации союз художников и творческих объединений мир и гармония СХТО МИГ. Успешный руководитель и творческая личность. Человек, в котором постоянно живёт вдохновение. Директор образовательного учреждения. «Добро пожаловать в мой маленький мир, где слова рождаются от сердца, а не по правилам. Я пишу для себя и для тех, кто мне дорог, делясь тем, что живет внутри. Здесь вы найдете отголоски моей жизни, а еще – волшебные истории и сказки, которые, надеюсь, согреют вашу душу. Мои истории – для каждого, ведь и маленьким, и взрослым хочется верить в добро и чудеса. Если мои слова тронут вас, если вы почувствуете что-то родное – читайте, наслаждайтесь, и пусть каждая история подарит вам частичку радости.
КОШАЧИЙ АРБАТ:
Итальянская Философия Счастья.
В маленьком городке на острове, где воздух пропитан ароматом рыбы и солью моря, существует улица, которую я ласково прозвала «Кошачий Арбат». Это не просто место, а настоящий социальный узел, где жизнь течет в своем особенном ритме. И главные его обитатели, конечно же, – коты.
Рано утром, еще до того как первые лучи солнца коснутся крыш, на Кошачьем Арбате начинается своеобразное собрание. Коты, словно пожилые итальянцы, выходящие на утренний кофе, собираются здесь, чтобы провести свое свободное время. А времени у них предостаточно. Они возлежат на теплых плитах, греются под ласковым солнцем, наблюдают за прохожими и, кажется, ведут неспешные беседы, понятные только им самим.
Каждый кот уникален, как и каждый житель острова. Вот, например, рыжий красавец. Он сидит на улице с такой гордостью, будто только что отыграл сольный концерт. Солнечный, полный жизни и тепла, он воплощение сицилийского духа. Говорили, что этот кот самый богатый и удачливый. Беды и болезни обходят его стороной, а его причал, как он сам считает, всегда полон свежей рыбы. Откормленный и щедрый, он с радостью делится с друзьями, его хитрый прищур и нагловатый вид выдают в нем истинного островитянина.
С особой грацией, словно танцуя, проходит мимо белый кот. Погладить его считается особым везением, обещанием притянуть удачу за хвост. Он извивается змейкой, обходя всех, и разваливается посреди дороги, словно хозяин положения.
А вот и серый красавец! Символ гармонии, спокойствия и мудрости. Он смотрит на мир невозмутимо, излучая ауру умиротворения. Считается, что он является защитником от негативной энергии и способствует улучшению семейных отношений.
И, конечно же, трехцветный красавец. Гордость улицы, настоящий талисман. Он приносит счастье, богатство, здоровье и любовь, а еще служит оберегом от пожаров и других бед.
Даже черный кот, который на материке часто ассоциировался с несчастьем, здесь, на острове, переходя дорогу, приносит удачу.
И нельзя не заметить полосатого кота-боцмана. Балагур и драчун, любимец местного кока, он всегда готов к схватке, лишь бы нашелся повод. Его вид кричит: «Эй, вы, сухопутные!» А если приглядеться, можно заметить, как он держит в зубах настоящую курительную трубку.
Попытаться сосчитать всех обитателей Кошачьего Арбата было бы пустой тратой времени. Одни уходят, другие приходят, и счет быстро сбивается. Они часть этой улицы, как и старые дома, и ароматные герани в горшках.
Если бы эти коты могли говорить, и вы бы спросили их о секрете счастливой жизни, их ответ был бы прост и гениален. Они бы ответили: «Жизнь на море, морской воздух, вкусная рыба и солнце». Это их философия, их неспешный, но наполненный смыслом быт. И, глядя на них, на их безмятежность и удовлетворенность, я понимаю, что в этой простой истине кроется глубокая мудрость, которую так часто забывают люди, гонящиеся за призрачным счастьем. Кошачий Арбат с его пушистыми обитателями – живое напоминание о том, что истинное счастье часто находится совсем рядом, в простых радостях жизни, в тепле солнца и в компании друзей.
АРБУЗНАЯ ШУТКА
Солнце палило нещадно, раскаляя песок под ногами. Я сидела на старом пирсе, свесив ноги над прохладной, пахнущей солью водой. В руках у меня была огромная долька арбуза – сочная и спелая. Я только собиралась делать первый укус, как вдруг замерла.
На самой вершине арбузной горы, прямо передо мной, стояли две чайки. Белоснежные, как свежевыпавший снег, они контрастировали с ярко-алым цветом мякоти.
Чайки вытянули свои длинные шейки. Их любопытные черные глазки-бусинки, такие же, как семечки арбуза, внимательно изучали меня. Длинные красные ножки, тонкие, как палочки, качались, и птицы, казалось, с трудом удерживали равновесие на скользкой, сочной поверхности. Я замерла, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть это чудо.
Это было настолько нереально, настолько… абсурдно, что я не могла поверить своим глазам. Чайки на арбузе!
«Удивительная штука!!!» – пронеслось у меня в голове. Я моргнула, надеясь, что это всего лишь мираж, вызванный жарой. Но чайки по-прежнему стояли там, величественные и невозмутимые, словно это было самое обычное дело в мире.
Верить или нет? Мой разум отчаянно пытался найти рациональное объяснение. Может, это галлюцинация? Может, я перегрелась на солнце? Может, кто-то пошутил? Но вокруг кроме нас никого не было...
Но сердце говорило другое. Сердце шептало о магии, о чудесах, о том, что мир полон неожиданностей, которые просто нужно уметь замечать.
Я улыбнулась. Может быть, мир и не такой уж скучный, как иногда кажется. Может быть, чудеса происходят каждый день, просто мы слишком заняты, чтобы их замечать.
ТАНГО С МОРЕМ
Море сегодня неспокойное. Сердится, ворчит, бросается пеной на берег. Но я люблю, когда оно такое, в такие дни на пляже никого нет. Только я и его буйный нрав. Я не спешу в воду. Сначала постою у кромки, чувствуя, как холодные брызги обдают мои ноги. Прислушаюсь к себе, к тишине внутри, контрастирующей с яростным ревом стихии. Волны набегают одна на другую, словно стадо диких коней, несущихся к горизонту. Белая пена, как кудрявые барашки на высоком холме, вздымается и рассыпается, оставляя после себя лишь мокрый песок.
Я вхожу в воду. Медленно, давая телу привыкнуть к холоду. Подгадываю волну самую высокую, самую дерзкую и ныряю. Море обхватывает меня, как огромный, живой зверь, и несет вперед, в свою бурлящую утробу. Я не боюсь. Я уже ничего не боюсь. Я перешла свою черту страха, оставила ее далеко позади, на сухом берегу. Я кричу ему, морю, что ему меня не напугать. Мой голос тонет в его грохоте, но я знаю, что оно слышит.
Оно смеется в ответ. Не злобно, а игриво. Ласкает меня, как старый ловелас, обнимая прохладными волнами, щекоча пеной. Я бросаюсь на волны, как на верного коня, балансирую, как серфингист, чувствуя себя частью этой безумной стихии. Я играю с ним, а оно со мной. Такая негласная борьба, танец силы и воли, и в этой борьбе каждый победитель. Я отдаюсь его мощи, а оно принимает мою смелость.
Я начинаю уставать, чувствую, как силы покидают меня. Море чувствует это. Немного успокаивается, утихомиривает свой гнев, словно убаюкивая ребенка. Я касаюсь его волн, позволяю им нежно покачивать меня, смотрю на небо. Оно сегодня серое, затянутое тучами, но сквозь них пробиваются редкие лучи солнца. Наслаждаюсь каждой минутой, каждым мгновением этого единения с природой.
Капли стекают по моему телу и тут же высыхают на солнце, оставляя на коже соленый привкус. На песке остаются мои следы, глубокие, четкие. Но волны тут же подхватывают их и уносят с собой, стирая все следы моего пребывания. Как будто хотят оставить себе частичку меня, растворить ее в своей бесконечной глубине. И я не против. Я рада быть частью этого бушующего, живого, прекрасного моря. Я рада, что сегодня мы танцевали танго вдвоем.
А вечером я вернусь и приглашу на белый танец…
Итальянская Философия Счастья.
В маленьком городке на острове, где воздух пропитан ароматом рыбы и солью моря, существует улица, которую я ласково прозвала «Кошачий Арбат». Это не просто место, а настоящий социальный узел, где жизнь течет в своем особенном ритме. И главные его обитатели, конечно же, – коты.
Рано утром, еще до того как первые лучи солнца коснутся крыш, на Кошачьем Арбате начинается своеобразное собрание. Коты, словно пожилые итальянцы, выходящие на утренний кофе, собираются здесь, чтобы провести свое свободное время. А времени у них предостаточно. Они возлежат на теплых плитах, греются под ласковым солнцем, наблюдают за прохожими и, кажется, ведут неспешные беседы, понятные только им самим.
Каждый кот уникален, как и каждый житель острова. Вот, например, рыжий красавец. Он сидит на улице с такой гордостью, будто только что отыграл сольный концерт. Солнечный, полный жизни и тепла, он воплощение сицилийского духа. Говорили, что этот кот самый богатый и удачливый. Беды и болезни обходят его стороной, а его причал, как он сам считает, всегда полон свежей рыбы. Откормленный и щедрый, он с радостью делится с друзьями, его хитрый прищур и нагловатый вид выдают в нем истинного островитянина.
С особой грацией, словно танцуя, проходит мимо белый кот. Погладить его считается особым везением, обещанием притянуть удачу за хвост. Он извивается змейкой, обходя всех, и разваливается посреди дороги, словно хозяин положения.
А вот и серый красавец! Символ гармонии, спокойствия и мудрости. Он смотрит на мир невозмутимо, излучая ауру умиротворения. Считается, что он является защитником от негативной энергии и способствует улучшению семейных отношений.
И, конечно же, трехцветный красавец. Гордость улицы, настоящий талисман. Он приносит счастье, богатство, здоровье и любовь, а еще служит оберегом от пожаров и других бед.
Даже черный кот, который на материке часто ассоциировался с несчастьем, здесь, на острове, переходя дорогу, приносит удачу.
И нельзя не заметить полосатого кота-боцмана. Балагур и драчун, любимец местного кока, он всегда готов к схватке, лишь бы нашелся повод. Его вид кричит: «Эй, вы, сухопутные!» А если приглядеться, можно заметить, как он держит в зубах настоящую курительную трубку.
Попытаться сосчитать всех обитателей Кошачьего Арбата было бы пустой тратой времени. Одни уходят, другие приходят, и счет быстро сбивается. Они часть этой улицы, как и старые дома, и ароматные герани в горшках.
Если бы эти коты могли говорить, и вы бы спросили их о секрете счастливой жизни, их ответ был бы прост и гениален. Они бы ответили: «Жизнь на море, морской воздух, вкусная рыба и солнце». Это их философия, их неспешный, но наполненный смыслом быт. И, глядя на них, на их безмятежность и удовлетворенность, я понимаю, что в этой простой истине кроется глубокая мудрость, которую так часто забывают люди, гонящиеся за призрачным счастьем. Кошачий Арбат с его пушистыми обитателями – живое напоминание о том, что истинное счастье часто находится совсем рядом, в простых радостях жизни, в тепле солнца и в компании друзей.
АРБУЗНАЯ ШУТКА
Солнце палило нещадно, раскаляя песок под ногами. Я сидела на старом пирсе, свесив ноги над прохладной, пахнущей солью водой. В руках у меня была огромная долька арбуза – сочная и спелая. Я только собиралась делать первый укус, как вдруг замерла.
На самой вершине арбузной горы, прямо передо мной, стояли две чайки. Белоснежные, как свежевыпавший снег, они контрастировали с ярко-алым цветом мякоти.
Чайки вытянули свои длинные шейки. Их любопытные черные глазки-бусинки, такие же, как семечки арбуза, внимательно изучали меня. Длинные красные ножки, тонкие, как палочки, качались, и птицы, казалось, с трудом удерживали равновесие на скользкой, сочной поверхности. Я замерла, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть это чудо.
Это было настолько нереально, настолько… абсурдно, что я не могла поверить своим глазам. Чайки на арбузе!
«Удивительная штука!!!» – пронеслось у меня в голове. Я моргнула, надеясь, что это всего лишь мираж, вызванный жарой. Но чайки по-прежнему стояли там, величественные и невозмутимые, словно это было самое обычное дело в мире.
Верить или нет? Мой разум отчаянно пытался найти рациональное объяснение. Может, это галлюцинация? Может, я перегрелась на солнце? Может, кто-то пошутил? Но вокруг кроме нас никого не было...
Но сердце говорило другое. Сердце шептало о магии, о чудесах, о том, что мир полон неожиданностей, которые просто нужно уметь замечать.
Я улыбнулась. Может быть, мир и не такой уж скучный, как иногда кажется. Может быть, чудеса происходят каждый день, просто мы слишком заняты, чтобы их замечать.
ТАНГО С МОРЕМ
Море сегодня неспокойное. Сердится, ворчит, бросается пеной на берег. Но я люблю, когда оно такое, в такие дни на пляже никого нет. Только я и его буйный нрав. Я не спешу в воду. Сначала постою у кромки, чувствуя, как холодные брызги обдают мои ноги. Прислушаюсь к себе, к тишине внутри, контрастирующей с яростным ревом стихии. Волны набегают одна на другую, словно стадо диких коней, несущихся к горизонту. Белая пена, как кудрявые барашки на высоком холме, вздымается и рассыпается, оставляя после себя лишь мокрый песок.
Я вхожу в воду. Медленно, давая телу привыкнуть к холоду. Подгадываю волну самую высокую, самую дерзкую и ныряю. Море обхватывает меня, как огромный, живой зверь, и несет вперед, в свою бурлящую утробу. Я не боюсь. Я уже ничего не боюсь. Я перешла свою черту страха, оставила ее далеко позади, на сухом берегу. Я кричу ему, морю, что ему меня не напугать. Мой голос тонет в его грохоте, но я знаю, что оно слышит.
Оно смеется в ответ. Не злобно, а игриво. Ласкает меня, как старый ловелас, обнимая прохладными волнами, щекоча пеной. Я бросаюсь на волны, как на верного коня, балансирую, как серфингист, чувствуя себя частью этой безумной стихии. Я играю с ним, а оно со мной. Такая негласная борьба, танец силы и воли, и в этой борьбе каждый победитель. Я отдаюсь его мощи, а оно принимает мою смелость.
Я начинаю уставать, чувствую, как силы покидают меня. Море чувствует это. Немного успокаивается, утихомиривает свой гнев, словно убаюкивая ребенка. Я касаюсь его волн, позволяю им нежно покачивать меня, смотрю на небо. Оно сегодня серое, затянутое тучами, но сквозь них пробиваются редкие лучи солнца. Наслаждаюсь каждой минутой, каждым мгновением этого единения с природой.
Капли стекают по моему телу и тут же высыхают на солнце, оставляя на коже соленый привкус. На песке остаются мои следы, глубокие, четкие. Но волны тут же подхватывают их и уносят с собой, стирая все следы моего пребывания. Как будто хотят оставить себе частичку меня, растворить ее в своей бесконечной глубине. И я не против. Я рада быть частью этого бушующего, живого, прекрасного моря. Я рада, что сегодня мы танцевали танго вдвоем.
А вечером я вернусь и приглашу на белый танец…
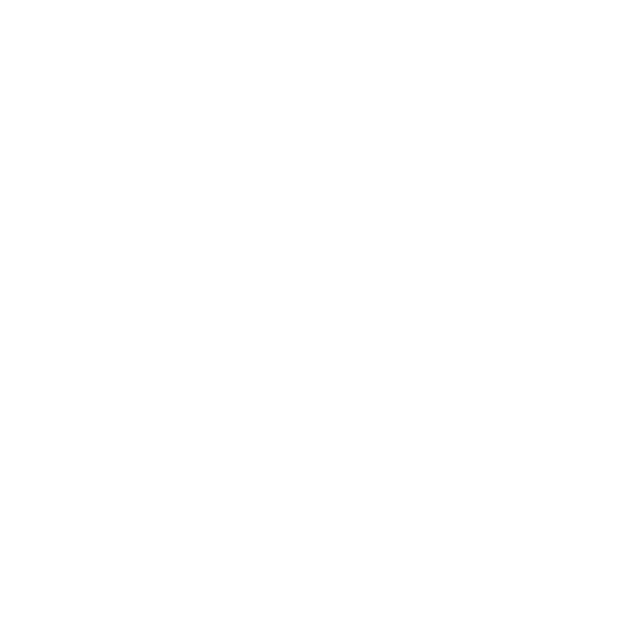
Ольга ЯРУШНИКОВА
По профессии – юрист, живёт и работает в Екатеринбурге. Рассказ «Картофельное сердце» – её дебют в литературных сборниках.
По профессии – юрист, живёт и работает в Екатеринбурге. Рассказ «Картофельное сердце» – её дебют в литературных сборниках.
КАРТОФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
Перегорела. Лампочка на первом этаже долго мигала и все-таки сдохла.
– Вшивотрясы, – орет Райка, споткнувшись о чей-то коврик. Орет с умыслом, – Вшивотрясы, да что б вы все бошки поломали, – добавляя громкости, будоражит она подъезд нашей пятиэтажки, – лампочку ввернуть не можете, жить наощупь привыкли, свет в жизнь не пускаете, кроты! – Райка скора на выводы, понимает, что говорит не в пустоту. Она любит ругаться с соседями, это ее бодрит.
Вступать в перепалку с Райкой не боится только баба Бундя – старожилка нашей «сталинки». Баба Бундя – участник всех значимых и красивых скандалов. Живет вокурат на первом этаже, знает «пульс жизни» каждого.
– Вака-то твой, опять еле живой приполз, сопли на щеке примерзли, – не без ехидства вещает она из-за двери, – Анкаголик!
Муж Райки Василий, давно ставший Вакой – алкаш. Каждое утро уходит на работу, а возвращается – это как получится. Летом, бывало, остается спать на скамье, рядом с подъездом. Верная подруга Ваки – дворовая собака Лайма, охраняет Ваку, не давая никому подойти к телу. Был случай, когда Лайма для удобства сохранности «объекта» взгромоздилась на Ваку и всю ночь проспала на нем. Это благодарность Лаймы за доброе Вакино сердце. Не подпускала она и Райку, которая хотела увести Ваку домой.
– Симосерька, – беззлобно кричала Райка на Лайму, но подойти остерегалась. Лайма хоть собачонка мелкая, но кто ее знает… А Райке руки беречь надо – она мужской мастер-парикмахер в блатном месте – гостинице «Исеть». Ее руки – деньги.
Вместе Райка с Вакой смотрятся комично. Статная, полногрудая Райка, не по возрасту яркая, с сочным рыже-оранжевым цветом волос и маленький, «сухой» Вака – старый седой мальчик.
Бундя хорошо знает Райкины «болевые» точки. Чтобы насладиться реакцией Райки, открывает дверь на ширину дверной цепочки. Райка тут же из темноты встает в полоску света и становится похожей на ангела, несущего свет и правду. Рыжая Райкина голова с модным начесом на свету смотрится ярким абажуром.
Собачиться с Райкой Бундя любит, как с равным, достойным соперником. В пререкания со слабыми, интеллигентными соседями Бундя не вступает. Не получает удовольствия.
– У тебя имени то нет, кличка как у собаки – Бундя, – входит в опасную тему Райка, – кличку поди на зоне дали? – Ходили слухи, что Бундя сидела за убийство мужа. Бундя никогда не подтверждала и не опровергала эту версию, – Ты за что мужа-то жахнула? – наслаждаясь ответным ударом, Райка подзадоривала Бундю, подпирая бока руками.
– Я мужа своего сильно любила, не то, что ты, – Бундя быстрым движением подносит пальцы к ноздре и вдыхает очередную порцию нюхательного табака, который хранит в банке из-под крема «Pani Walewska», чихает и также быстро вытирает пальцы о платье. На всех платьях у Бунди длинные табачные дорожки. – Ты шалава, Райка, крутишь шашни, а Васька тебя любит, стерву рыжеголовую, – переходя на нормальный тон, вещает Бундя.
– Разве так любят? – Райка не ожидает от Бунди такого поворота и сбавляет тон – бульбаш он и есть бульбаш, картофельный человек, даже сердце у него картофельное. Не умеет он любить. А ты заладила – любит!
– Заходи, – Бундя скидывает цепочку с замка, сторонясь, пропускает Райку в узкую прихожую, – чай поставлю…
– Сегодня цыганский барон у меня стригся, – доставая из сумки бутылку «Белого аиста», делится Райка, – привез меня на «Волге», коньяк дал!
– А убила я его, Райка, за измену. Не простила! И сейчас бы убила – вот как любила!
– А я бегала от Ваки, пряталась. Он же старше меня на пятнадцать лет. Ухаживал, картошку мешками привозил, – Райка, откупорив бутылку, разливает коньяк в приготовленные для чая чашки, – сильно меня любил, – А я – нет. Мама велела: выходи за Ваську – сыта будешь. А мне не картошки, Бундя, надо было, понимаешь? Я мечтала так любить, чтоб жизнь за любовь отдать, а оно вишь как вышло. Вака сердце свое картофельное мне отдал, вместе с картошкой, а я… я… пожалела его. Когда любишь, Бундя, все простишь… А я Ваку не прощаю – не люблю. За молодость свою не прощаю. Так без любви и маялась столько лет, по мужикам скакала и сейчас другого люблю. Вака пить начал, когда понял, что не люблю его.
– Мы по взаимности поженились. Любили… Любила, – Бундя выпивает коньяк залпом, – Люблю!
– Бундя, настоящее имя у тебя какое? – занюхивая выпитое липкой карамелькой, спрашивает Райка.
– Любашей меня звал. Никто так не звал, как он, – Бундя втягивает табак другой ноздрей и чихает, – Лю-ба-ша… Как любовь! Вот и похоронила я свое имя. Нет Любаши. Не имя – себя похоронила. А Бундя вот живет, коньяк пьет. Я как милого своего порешила, мне спокойно стало. Он только мой остался. А я – его. Навсегда!
– Пойду я, лампочку вверну, – вздохнула Райка. Хотела было назвать Бундю по имени, но не смогла, – Ваку бы попросила, да сама знаешь – не помощник.
– Лампочку я давно приготовила, вкрути, соседей просить не хотела. Не умею я просить…
Райка умерла спонтанно, как и жила. Тромб. На похоронах горше всех выла Бундя, удивляя соседей и родственников, пришедших на прощание. Лайма выла в унисон Бунде.
Вака был трезв. Он после смерти Райки не пил…
Без Райки Вака прожил два месяца. Картофельное сердце не выдержало… Перегорело…
Перегорела. Лампочка на первом этаже долго мигала и все-таки сдохла.
– Вшивотрясы, – орет Райка, споткнувшись о чей-то коврик. Орет с умыслом, – Вшивотрясы, да что б вы все бошки поломали, – добавляя громкости, будоражит она подъезд нашей пятиэтажки, – лампочку ввернуть не можете, жить наощупь привыкли, свет в жизнь не пускаете, кроты! – Райка скора на выводы, понимает, что говорит не в пустоту. Она любит ругаться с соседями, это ее бодрит.
Вступать в перепалку с Райкой не боится только баба Бундя – старожилка нашей «сталинки». Баба Бундя – участник всех значимых и красивых скандалов. Живет вокурат на первом этаже, знает «пульс жизни» каждого.
– Вака-то твой, опять еле живой приполз, сопли на щеке примерзли, – не без ехидства вещает она из-за двери, – Анкаголик!
Муж Райки Василий, давно ставший Вакой – алкаш. Каждое утро уходит на работу, а возвращается – это как получится. Летом, бывало, остается спать на скамье, рядом с подъездом. Верная подруга Ваки – дворовая собака Лайма, охраняет Ваку, не давая никому подойти к телу. Был случай, когда Лайма для удобства сохранности «объекта» взгромоздилась на Ваку и всю ночь проспала на нем. Это благодарность Лаймы за доброе Вакино сердце. Не подпускала она и Райку, которая хотела увести Ваку домой.
– Симосерька, – беззлобно кричала Райка на Лайму, но подойти остерегалась. Лайма хоть собачонка мелкая, но кто ее знает… А Райке руки беречь надо – она мужской мастер-парикмахер в блатном месте – гостинице «Исеть». Ее руки – деньги.
Вместе Райка с Вакой смотрятся комично. Статная, полногрудая Райка, не по возрасту яркая, с сочным рыже-оранжевым цветом волос и маленький, «сухой» Вака – старый седой мальчик.
Бундя хорошо знает Райкины «болевые» точки. Чтобы насладиться реакцией Райки, открывает дверь на ширину дверной цепочки. Райка тут же из темноты встает в полоску света и становится похожей на ангела, несущего свет и правду. Рыжая Райкина голова с модным начесом на свету смотрится ярким абажуром.
Собачиться с Райкой Бундя любит, как с равным, достойным соперником. В пререкания со слабыми, интеллигентными соседями Бундя не вступает. Не получает удовольствия.
– У тебя имени то нет, кличка как у собаки – Бундя, – входит в опасную тему Райка, – кличку поди на зоне дали? – Ходили слухи, что Бундя сидела за убийство мужа. Бундя никогда не подтверждала и не опровергала эту версию, – Ты за что мужа-то жахнула? – наслаждаясь ответным ударом, Райка подзадоривала Бундю, подпирая бока руками.
– Я мужа своего сильно любила, не то, что ты, – Бундя быстрым движением подносит пальцы к ноздре и вдыхает очередную порцию нюхательного табака, который хранит в банке из-под крема «Pani Walewska», чихает и также быстро вытирает пальцы о платье. На всех платьях у Бунди длинные табачные дорожки. – Ты шалава, Райка, крутишь шашни, а Васька тебя любит, стерву рыжеголовую, – переходя на нормальный тон, вещает Бундя.
– Разве так любят? – Райка не ожидает от Бунди такого поворота и сбавляет тон – бульбаш он и есть бульбаш, картофельный человек, даже сердце у него картофельное. Не умеет он любить. А ты заладила – любит!
– Заходи, – Бундя скидывает цепочку с замка, сторонясь, пропускает Райку в узкую прихожую, – чай поставлю…
– Сегодня цыганский барон у меня стригся, – доставая из сумки бутылку «Белого аиста», делится Райка, – привез меня на «Волге», коньяк дал!
– А убила я его, Райка, за измену. Не простила! И сейчас бы убила – вот как любила!
– А я бегала от Ваки, пряталась. Он же старше меня на пятнадцать лет. Ухаживал, картошку мешками привозил, – Райка, откупорив бутылку, разливает коньяк в приготовленные для чая чашки, – сильно меня любил, – А я – нет. Мама велела: выходи за Ваську – сыта будешь. А мне не картошки, Бундя, надо было, понимаешь? Я мечтала так любить, чтоб жизнь за любовь отдать, а оно вишь как вышло. Вака сердце свое картофельное мне отдал, вместе с картошкой, а я… я… пожалела его. Когда любишь, Бундя, все простишь… А я Ваку не прощаю – не люблю. За молодость свою не прощаю. Так без любви и маялась столько лет, по мужикам скакала и сейчас другого люблю. Вака пить начал, когда понял, что не люблю его.
– Мы по взаимности поженились. Любили… Любила, – Бундя выпивает коньяк залпом, – Люблю!
– Бундя, настоящее имя у тебя какое? – занюхивая выпитое липкой карамелькой, спрашивает Райка.
– Любашей меня звал. Никто так не звал, как он, – Бундя втягивает табак другой ноздрей и чихает, – Лю-ба-ша… Как любовь! Вот и похоронила я свое имя. Нет Любаши. Не имя – себя похоронила. А Бундя вот живет, коньяк пьет. Я как милого своего порешила, мне спокойно стало. Он только мой остался. А я – его. Навсегда!
– Пойду я, лампочку вверну, – вздохнула Райка. Хотела было назвать Бундю по имени, но не смогла, – Ваку бы попросила, да сама знаешь – не помощник.
– Лампочку я давно приготовила, вкрути, соседей просить не хотела. Не умею я просить…
Райка умерла спонтанно, как и жила. Тромб. На похоронах горше всех выла Бундя, удивляя соседей и родственников, пришедших на прощание. Лайма выла в унисон Бунде.
Вака был трезв. Он после смерти Райки не пил…
Без Райки Вака прожил два месяца. Картофельное сердце не выдержало… Перегорело…
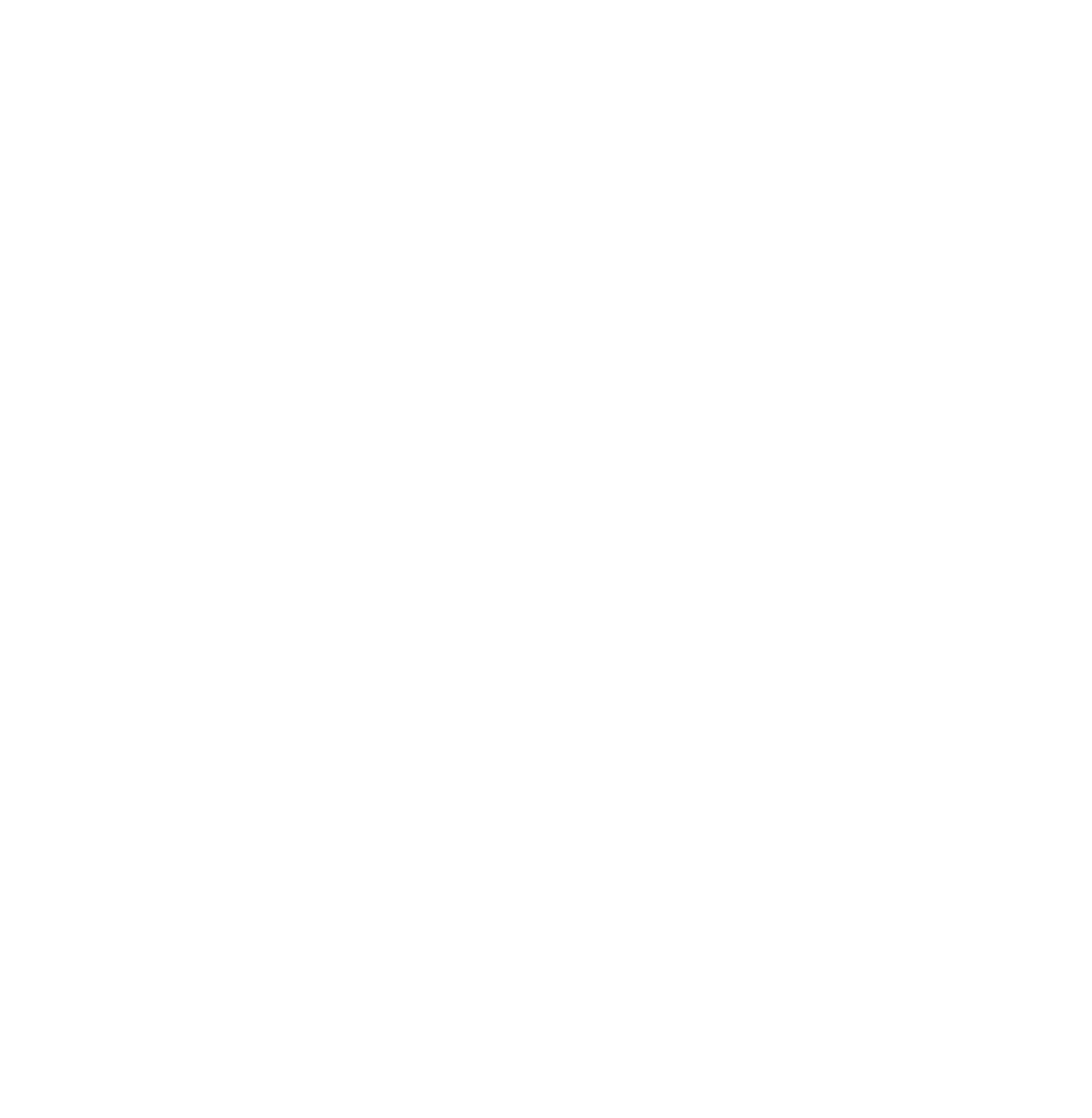
Евгений КОЧУНОВ
Писать начал лет 12-15 тому назад... Была причина, болезнь мамы....
Выбрал форму небольших рассказов... То, что видел, чувствовал. Затянуло. Стало некоей потребностью. Так и продолжаю... Что кажется интересным, записываю в записную книжку, потом редактирую и «складываю в
стопочку».
Писать начал лет 12-15 тому назад... Была причина, болезнь мамы....
Выбрал форму небольших рассказов... То, что видел, чувствовал. Затянуло. Стало некоей потребностью. Так и продолжаю... Что кажется интересным, записываю в записную книжку, потом редактирую и «складываю в
стопочку».
ЛУСЯ, ИСТОРИЯ ГОРОДСКОЙ СКАМЕЙКИ
Вышла она, как и десяток таких же, из-под рук немолодого узбека в те далёкие времена, когда все, кому не лень, открывали частные предприятия, называемые «кооперативами». Старый, списанный гараж-бокс, старые же, списанные, кое-как восстановленные станки, в постоянном шуме и табачно-сварочном дыме…
Заказ от города, треста городского хозяйства, считался достаточно «жирным»… Малые формы нужны всегда, в любом посёлке, городке, городе…
Шершавыми, морщинистыми руками, в последний раз поглаживая округлые бока, и сказав «Пока, Луся, увидимся», передал её молодому работнику на покраску… Скамейка была, конечно, так себе, не шедевр, но вещь необходимая, даже такая… покрытая в один слой краской непонятного цвета, про какие говорят «красили тем, что было на складе».
И началась её долгая, нелёгкая, но интересная жизнь.
Сначала поставили Лусю в центре города, на месте будущего сквера. Стояла на ветру, под солнцем, дождём дольше всего, под снегом… Наблюдала она жизнь центра города, что называется, онлайн…
Чаще всего присаживались молодёжь (иногда ногами на сиденье), что ей не очень нравилось… Курили, матерились, пили пиво, лузгали семечки… Иногда молодые мамочки с колясками… Эти нравились Лусе больше всего… Тихие, молчаливые, и пахло от них очень хорошо…
Были и отдельные седоки, любимчики, если можно так сказать, которых Лусе было всегда очень жалко… Была б возможность, она б их ещё и обогревала… Слышала, что проходящие называли их «бомж», всегда не очень чистые, плохо пахнувшие и чаще всего голодные…
Со временем менялась Луся, старела, выгорала… Иногда её красили, иногда меняли деревянные детали сиденья. Но время всё равно, хочешь не хочешь, берёт своё… Пришло время, и переставили её и таких же немолодых товарок со сквера кого куда… Кого-то «временно» к подъезду такого же немолодого дома, других разобрали-порезали и вывезли в странное место с названием «металлолом»… Лусе не понравилось это слово и место, скорее всего не очень нужное людям…
А её погрузили на машину, недолго везли и выгрузили в тихом, заросшем деревьями месте, пешеходной тропе между микрорайонами. Конечно же, место было скучноватое… Седоков было гораздо меньше…
Горько стало Лусе.
Особенно в осенние, холодно-промозглые вечера, когда мимо неё пробегали нечастые пешеходы. Конечно, никому и в голову не могло прийти присесть и отдохнуть… Подростки из ближней школы повесили птичью кормушку на рядом стоящее дерево… Это стало, пожалуй, одним из самых ярких событий… Кроме птиц, в кормушку забегали интересные пушистые зверьки, подслушала, что зовут их «белка»… Птицы разговаривали между собой на своём птичьем языке… Белка тоже иногда трещала что-то своё. Со временем Луся стала понимать (как ей казалось) своих весёлых, шустрых соседей. Но без людей ей было очень тоскливо.
Иногда присаживался к ней немолодой, прихрамывающий человек… Сидел недолго, бывало, напевал про себя негромко приятные мелодии… Иногда разговаривал в странную коробочку, с которыми люди были неразлучны.
Когда его долго не было, скамейка начинала волноваться, вдруг что произошло… Но нет, он снова появлялся, хотя и не всегда присаживался…
Особенно нравилось ей, когда он при расставании обязательно поглаживал её такой же немолодой, усталой ладонью, какая была у того, первого её…
Часто он был не один… Попутчица его ей тоже понравилась с первого раза… Было видно, что хромота его её беспокоит, и он показывал рукой на скамейку, присаживался… Женщина стояла рядом, не торопила… Луся снова чувствовала свою необходимость хотя бы для одного этого мужчины…
…Я знаю эту скамейку и люблю её… Жаль будет, если (время придёт) заменят её на новую, ажурную и не такую надёжную…
КАК БЫ Я ХОТЕЛ...
Каждый из нас наверняка говорил себе или другим эту фразу… И выражение глаз при этом, мимика, интонация были соответственны пожеланию…
С возрастом глаза становятся грустнее, мудрее, мимика спокойнее, интонация задумчива, чаще всего с нотками сожаления… Большинство из нас почему-то начинают с раннего детства. Видимо в подсознании нашем детство – как бы начало, старт что ли, который хотелось бы поменять, изменить… У меня не так… Всегда такое желание перемен начинается с юности… Но сожаление неизменно.
Как бы я хотел вернуть свои четырнадцать-пятнадцать лет, когда поступал в Ленинградское Нахимовское училище. Кажется, вернуть всё назад, поступил бы обязательно… Не хватило настойчивости, наглости, хитрости… Не знаю, чего… Армию вспоминаю всегда с превеликой любовью и благодарностью. Тут, что называется, без вопросов. Сослуживцы-друзья, командиры…
Дальше, позднее, незаконченное обучение в институте… Тогда оправдывался перед Богом наличием уже семьи, работы, маленькой дочери… Жалею безмерно…
Отношения с родителями… Моя любовь к ним была всегда, только выражал я эту любовь очень и очень сдержанно… Может, стеснялся, не знаю… Как бы я хотел посидеть летним вечером с мамой и папой на нашем бревне у дома, в деревне Тульской области…
Юный читатель, пишу для тебя, подумай. Чтобы лет через тридцать-сорок тебе не пришлось часто начинать свои думы с этой фразы: «Как бы я хотел».
НОВОГОДНИЙ ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ВНУЧКИ
Весь вечер пребываю под впечатлением… Очень тёплое чувство испытал сегодня.
После работы зашёл в «КБ» прикупить пару пачек сигарет… Грешен. Два кассира-продавца были заняты своими делами, один растаскивал коробки по залу, вторая забивала какие-то данные в компьютер. Только третья, совсем молоденькая девочка обслуживала немолодого покупателя.
Видимо, уже не одну минуту, судя по её голосу и глазам. Немудрено, покупатель показался мне очень немолодым (мягко говоря). Видимо, из первых жителей совсем молодого тогда ещё посёлка Нях. Явно глуховат и слеповат уже. Понятно, что терпение с такими покупателями и такт нужны немалые.
А выбирал дед (ладно, буду его уже так и называть) коробку с новогодним подарком. Перед ним стояли две, с виду одинаковых (по цене точно), празднично раскрашенных коробочки. Но загвоздка была в том, что на одной из них была надпись: «С Новым годом!», на другой нет. Но обе яркие, с Дедом Морозом, Снегурочкой, ёлочками, зверюшками… Низко наклонясь трудовыми руками дед вертел ими у себя перед глазами, искал надпись на второй коробке и не находил. Громко сетовал, что и не видит, и не слышит. Наконец выбрал всё-таки с надписью… И как бы оправдываясь, сказал: «Внучка приезжает… Горячо в груди стало, и хотелось приобнять деда, подсказать ему, что не в надписи главное…
Позже, уже дома, подумалось, а ведь внучке-то, наверное, уже за двадцать, судя по деду, а поди ж ты, так и осталась она для него маленькой девочкой… Дай Бог тебе, дед, здоровья, а внучке твоей радости от твоего подарка.
Вышла она, как и десяток таких же, из-под рук немолодого узбека в те далёкие времена, когда все, кому не лень, открывали частные предприятия, называемые «кооперативами». Старый, списанный гараж-бокс, старые же, списанные, кое-как восстановленные станки, в постоянном шуме и табачно-сварочном дыме…
Заказ от города, треста городского хозяйства, считался достаточно «жирным»… Малые формы нужны всегда, в любом посёлке, городке, городе…
Шершавыми, морщинистыми руками, в последний раз поглаживая округлые бока, и сказав «Пока, Луся, увидимся», передал её молодому работнику на покраску… Скамейка была, конечно, так себе, не шедевр, но вещь необходимая, даже такая… покрытая в один слой краской непонятного цвета, про какие говорят «красили тем, что было на складе».
И началась её долгая, нелёгкая, но интересная жизнь.
Сначала поставили Лусю в центре города, на месте будущего сквера. Стояла на ветру, под солнцем, дождём дольше всего, под снегом… Наблюдала она жизнь центра города, что называется, онлайн…
Чаще всего присаживались молодёжь (иногда ногами на сиденье), что ей не очень нравилось… Курили, матерились, пили пиво, лузгали семечки… Иногда молодые мамочки с колясками… Эти нравились Лусе больше всего… Тихие, молчаливые, и пахло от них очень хорошо…
Были и отдельные седоки, любимчики, если можно так сказать, которых Лусе было всегда очень жалко… Была б возможность, она б их ещё и обогревала… Слышала, что проходящие называли их «бомж», всегда не очень чистые, плохо пахнувшие и чаще всего голодные…
Со временем менялась Луся, старела, выгорала… Иногда её красили, иногда меняли деревянные детали сиденья. Но время всё равно, хочешь не хочешь, берёт своё… Пришло время, и переставили её и таких же немолодых товарок со сквера кого куда… Кого-то «временно» к подъезду такого же немолодого дома, других разобрали-порезали и вывезли в странное место с названием «металлолом»… Лусе не понравилось это слово и место, скорее всего не очень нужное людям…
А её погрузили на машину, недолго везли и выгрузили в тихом, заросшем деревьями месте, пешеходной тропе между микрорайонами. Конечно же, место было скучноватое… Седоков было гораздо меньше…
Горько стало Лусе.
Особенно в осенние, холодно-промозглые вечера, когда мимо неё пробегали нечастые пешеходы. Конечно, никому и в голову не могло прийти присесть и отдохнуть… Подростки из ближней школы повесили птичью кормушку на рядом стоящее дерево… Это стало, пожалуй, одним из самых ярких событий… Кроме птиц, в кормушку забегали интересные пушистые зверьки, подслушала, что зовут их «белка»… Птицы разговаривали между собой на своём птичьем языке… Белка тоже иногда трещала что-то своё. Со временем Луся стала понимать (как ей казалось) своих весёлых, шустрых соседей. Но без людей ей было очень тоскливо.
Иногда присаживался к ней немолодой, прихрамывающий человек… Сидел недолго, бывало, напевал про себя негромко приятные мелодии… Иногда разговаривал в странную коробочку, с которыми люди были неразлучны.
Когда его долго не было, скамейка начинала волноваться, вдруг что произошло… Но нет, он снова появлялся, хотя и не всегда присаживался…
Особенно нравилось ей, когда он при расставании обязательно поглаживал её такой же немолодой, усталой ладонью, какая была у того, первого её…
Часто он был не один… Попутчица его ей тоже понравилась с первого раза… Было видно, что хромота его её беспокоит, и он показывал рукой на скамейку, присаживался… Женщина стояла рядом, не торопила… Луся снова чувствовала свою необходимость хотя бы для одного этого мужчины…
…Я знаю эту скамейку и люблю её… Жаль будет, если (время придёт) заменят её на новую, ажурную и не такую надёжную…
КАК БЫ Я ХОТЕЛ...
Каждый из нас наверняка говорил себе или другим эту фразу… И выражение глаз при этом, мимика, интонация были соответственны пожеланию…
С возрастом глаза становятся грустнее, мудрее, мимика спокойнее, интонация задумчива, чаще всего с нотками сожаления… Большинство из нас почему-то начинают с раннего детства. Видимо в подсознании нашем детство – как бы начало, старт что ли, который хотелось бы поменять, изменить… У меня не так… Всегда такое желание перемен начинается с юности… Но сожаление неизменно.
Как бы я хотел вернуть свои четырнадцать-пятнадцать лет, когда поступал в Ленинградское Нахимовское училище. Кажется, вернуть всё назад, поступил бы обязательно… Не хватило настойчивости, наглости, хитрости… Не знаю, чего… Армию вспоминаю всегда с превеликой любовью и благодарностью. Тут, что называется, без вопросов. Сослуживцы-друзья, командиры…
Дальше, позднее, незаконченное обучение в институте… Тогда оправдывался перед Богом наличием уже семьи, работы, маленькой дочери… Жалею безмерно…
Отношения с родителями… Моя любовь к ним была всегда, только выражал я эту любовь очень и очень сдержанно… Может, стеснялся, не знаю… Как бы я хотел посидеть летним вечером с мамой и папой на нашем бревне у дома, в деревне Тульской области…
Юный читатель, пишу для тебя, подумай. Чтобы лет через тридцать-сорок тебе не пришлось часто начинать свои думы с этой фразы: «Как бы я хотел».
НОВОГОДНИЙ ГОСТИНЕЦ ДЛЯ ВНУЧКИ
Весь вечер пребываю под впечатлением… Очень тёплое чувство испытал сегодня.
После работы зашёл в «КБ» прикупить пару пачек сигарет… Грешен. Два кассира-продавца были заняты своими делами, один растаскивал коробки по залу, вторая забивала какие-то данные в компьютер. Только третья, совсем молоденькая девочка обслуживала немолодого покупателя.
Видимо, уже не одну минуту, судя по её голосу и глазам. Немудрено, покупатель показался мне очень немолодым (мягко говоря). Видимо, из первых жителей совсем молодого тогда ещё посёлка Нях. Явно глуховат и слеповат уже. Понятно, что терпение с такими покупателями и такт нужны немалые.
А выбирал дед (ладно, буду его уже так и называть) коробку с новогодним подарком. Перед ним стояли две, с виду одинаковых (по цене точно), празднично раскрашенных коробочки. Но загвоздка была в том, что на одной из них была надпись: «С Новым годом!», на другой нет. Но обе яркие, с Дедом Морозом, Снегурочкой, ёлочками, зверюшками… Низко наклонясь трудовыми руками дед вертел ими у себя перед глазами, искал надпись на второй коробке и не находил. Громко сетовал, что и не видит, и не слышит. Наконец выбрал всё-таки с надписью… И как бы оправдываясь, сказал: «Внучка приезжает… Горячо в груди стало, и хотелось приобнять деда, подсказать ему, что не в надписи главное…
Позже, уже дома, подумалось, а ведь внучке-то, наверное, уже за двадцать, судя по деду, а поди ж ты, так и осталась она для него маленькой девочкой… Дай Бог тебе, дед, здоровья, а внучке твоей радости от твоего подарка.
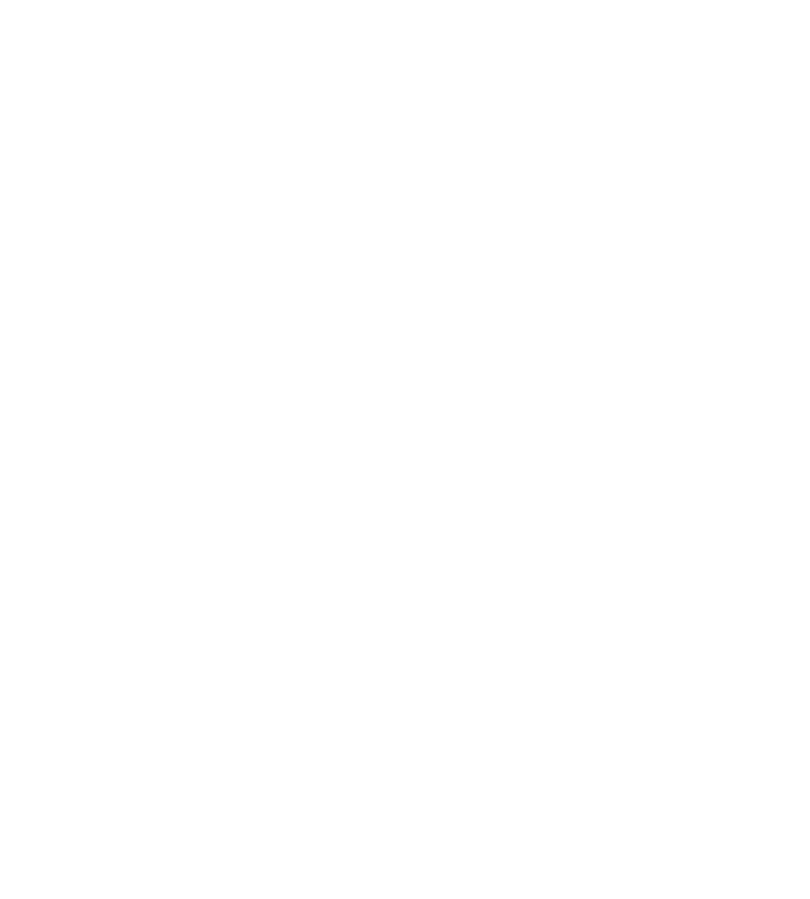
Софья МАЛЬЦЕВА
Родилась в 2014 году в г. Калининграде. Ученица 5 класса МАОУ СОШ № 56.
Лауреат II степени Всероссийского творческого конкурса «Мои любимые сказки».
В возрасте 1,5 года Софья уже умела читать самостоятельно. К 5 годам были прочитаны все книги по возрасту и литература начальной школы.
В возрасте 6 лет начала сама писать свои сказки. На данный момент собирает активно материал для издания своей книги.
Родилась в 2014 году в г. Калининграде. Ученица 5 класса МАОУ СОШ № 56.
Лауреат II степени Всероссийского творческого конкурса «Мои любимые сказки».
В возрасте 1,5 года Софья уже умела читать самостоятельно. К 5 годам были прочитаны все книги по возрасту и литература начальной школы.
В возрасте 6 лет начала сама писать свои сказки. На данный момент собирает активно материал для издания своей книги.
БЕЛЯШИК
Жил на свете маленький зайчик. Звали его Беляшик. Такое имя ему дали потому, что он был белый и зимой, и летом.
Однажды наш зайчик пошел гулять.
Прыгал, бегал и играл, ничего не подозревая. Вдруг он услышал, как завыл волк. Испугался зайчик и побежал что есть силы, увидел кустик и спрятался под него. Сидит он под кустиком, хвостик дрожит, сердце колотится. Долго сидел Беляшик. Наконец-то все затихло. Выбежал Беляшик и побежал к деревне, спрятался там маленький, беленький, пугливый комочек. У домика сел и плачет от страха. Мимо пробегал мальчик и увидел маленького Беляшика. Взял этот комочек и понес к себе домой. Показал его маме. Мама взяла маленький комочек и увидела испуганного, маленького Беляшика. Жалко его стало. Выпустить в лес обратно означало для Беляшика неминуемую смерть. Решили его оставить жить у себя в доме. Вырос Беляшик в любви, ласке и внимании. Вырос он и стал хвастунишкой, который ничего не боится. Выбежит из домика на минутку к краю леса и кричит по-заячьему: «А я в доме живу!» И убегает к дому. Забежит в дом, захлопнет дверь, и никто из леса его не найдет и не поймает. В один из очередных дней побежал Беляшик снова к лесу, встал и кричит по-заячьему: «А я в доме жив!..» Не успел докричать свою любимую фразу Беляшик. Караулил его волк и съел.
Больше никакой зайчик не хвастался.
Ни один зайчик не хотел повторить судьбу Беляшика. Ведь судьба Беляшику давала много шансов жить хорошо и правильно, а зайчик сделал неправильный поступок и потерял самое ценное, жизнь.
БЕЛЬЧОНОК
Давным-давно, в далеком и красивом лесу, жили мама с маленьким бельчонком. Звали его Рыжик. Рыжик был очень шустрый, игривый и любил много прыгать. Он любил рано утром, на заре, когда капельки росы ещё не высохли на листиках верхушек деревьев прыгать и пить их. Он представлял себя не бельчонком, а огромной и сильной птицей. Мама говорила бельчонку, что это опасно и его может поймать ястреб.
В тех краях жил ястреб по имени Коралл. Он был кровожадный и жестокий. Коралл ловил и убивал не ради еды, а ради доказательства своей ловкости и силы. Коралла боялся весь лес. Он мог летать и днем, и ночью, от него было сложно укрыться. В лесу пропадали и бельчата, и галчата, все, кто прыгал и летал высоко, пропадали.
Рыжик рос добрым, было у него много друзей, не только среди белок и галок, а также даже орлята. Все они играли на верхушках деревьев в догонялки. Однажды Коралл поймал Рыжика и унес его к себе в гнездо.
Все друзья Рыжика собрались и решили спасти его из лап злого Коралла. Полетели друзья Рыжика по домам и рассказали своим родителям о трагедии. Собрались стаи в лесу, объединились и полетели в дом к Кораллу. Коралл, когда увидел, что весь лес объединился против него, улетел и больше никогда не возвращался в этот лес.
После того дня все детки: бельчата, галчата, орлята слушались своих родителей и понимали, что их советы – это жизненный опыт.
МЕТЕЛЬ
Жила была на свете Метель. Грустно ей было пока пройдут весна, лето и осень. Пришла наконец-то зима! Метелица побежала из своего крошечного домика на улицу инеем землю, деревья, кустарники покрывать. Идёт с улыбкой до ушей. Видит, идёт ей навстречу Зимушка-королева.
Метелица подошла к Зимушке и спросила:
– Куда идёшь, царевна наша?
– Иду землю снегом покрывать, – спокойно отвечает Зимушка.
– Позвольте, царевна… Я первая пришла, – вскрикнула Метелица.
– А как же земля? Ей же холодно будет без снега, она промёрзнет, и не будет весной цветов, а осенью урожая, – спокойно сказала Зимушка.
– Мне всё равно! – разозлилась Метелица.
– А давай вместе объединимся и будем все делать на равных, – предложила мудрая Зимушка-королева.
– Хорошая идея! – сказала юная Метель.
Каждый год теперь мы видим, если метель идёт, то много снега выпадает.
Жил на свете маленький зайчик. Звали его Беляшик. Такое имя ему дали потому, что он был белый и зимой, и летом.
Однажды наш зайчик пошел гулять.
Прыгал, бегал и играл, ничего не подозревая. Вдруг он услышал, как завыл волк. Испугался зайчик и побежал что есть силы, увидел кустик и спрятался под него. Сидит он под кустиком, хвостик дрожит, сердце колотится. Долго сидел Беляшик. Наконец-то все затихло. Выбежал Беляшик и побежал к деревне, спрятался там маленький, беленький, пугливый комочек. У домика сел и плачет от страха. Мимо пробегал мальчик и увидел маленького Беляшика. Взял этот комочек и понес к себе домой. Показал его маме. Мама взяла маленький комочек и увидела испуганного, маленького Беляшика. Жалко его стало. Выпустить в лес обратно означало для Беляшика неминуемую смерть. Решили его оставить жить у себя в доме. Вырос Беляшик в любви, ласке и внимании. Вырос он и стал хвастунишкой, который ничего не боится. Выбежит из домика на минутку к краю леса и кричит по-заячьему: «А я в доме живу!» И убегает к дому. Забежит в дом, захлопнет дверь, и никто из леса его не найдет и не поймает. В один из очередных дней побежал Беляшик снова к лесу, встал и кричит по-заячьему: «А я в доме жив!..» Не успел докричать свою любимую фразу Беляшик. Караулил его волк и съел.
Больше никакой зайчик не хвастался.
Ни один зайчик не хотел повторить судьбу Беляшика. Ведь судьба Беляшику давала много шансов жить хорошо и правильно, а зайчик сделал неправильный поступок и потерял самое ценное, жизнь.
БЕЛЬЧОНОК
Давным-давно, в далеком и красивом лесу, жили мама с маленьким бельчонком. Звали его Рыжик. Рыжик был очень шустрый, игривый и любил много прыгать. Он любил рано утром, на заре, когда капельки росы ещё не высохли на листиках верхушек деревьев прыгать и пить их. Он представлял себя не бельчонком, а огромной и сильной птицей. Мама говорила бельчонку, что это опасно и его может поймать ястреб.
В тех краях жил ястреб по имени Коралл. Он был кровожадный и жестокий. Коралл ловил и убивал не ради еды, а ради доказательства своей ловкости и силы. Коралла боялся весь лес. Он мог летать и днем, и ночью, от него было сложно укрыться. В лесу пропадали и бельчата, и галчата, все, кто прыгал и летал высоко, пропадали.
Рыжик рос добрым, было у него много друзей, не только среди белок и галок, а также даже орлята. Все они играли на верхушках деревьев в догонялки. Однажды Коралл поймал Рыжика и унес его к себе в гнездо.
Все друзья Рыжика собрались и решили спасти его из лап злого Коралла. Полетели друзья Рыжика по домам и рассказали своим родителям о трагедии. Собрались стаи в лесу, объединились и полетели в дом к Кораллу. Коралл, когда увидел, что весь лес объединился против него, улетел и больше никогда не возвращался в этот лес.
После того дня все детки: бельчата, галчата, орлята слушались своих родителей и понимали, что их советы – это жизненный опыт.
МЕТЕЛЬ
Жила была на свете Метель. Грустно ей было пока пройдут весна, лето и осень. Пришла наконец-то зима! Метелица побежала из своего крошечного домика на улицу инеем землю, деревья, кустарники покрывать. Идёт с улыбкой до ушей. Видит, идёт ей навстречу Зимушка-королева.
Метелица подошла к Зимушке и спросила:
– Куда идёшь, царевна наша?
– Иду землю снегом покрывать, – спокойно отвечает Зимушка.
– Позвольте, царевна… Я первая пришла, – вскрикнула Метелица.
– А как же земля? Ей же холодно будет без снега, она промёрзнет, и не будет весной цветов, а осенью урожая, – спокойно сказала Зимушка.
– Мне всё равно! – разозлилась Метелица.
– А давай вместе объединимся и будем все делать на равных, – предложила мудрая Зимушка-королева.
– Хорошая идея! – сказала юная Метель.
Каждый год теперь мы видим, если метель идёт, то много снега выпадает.
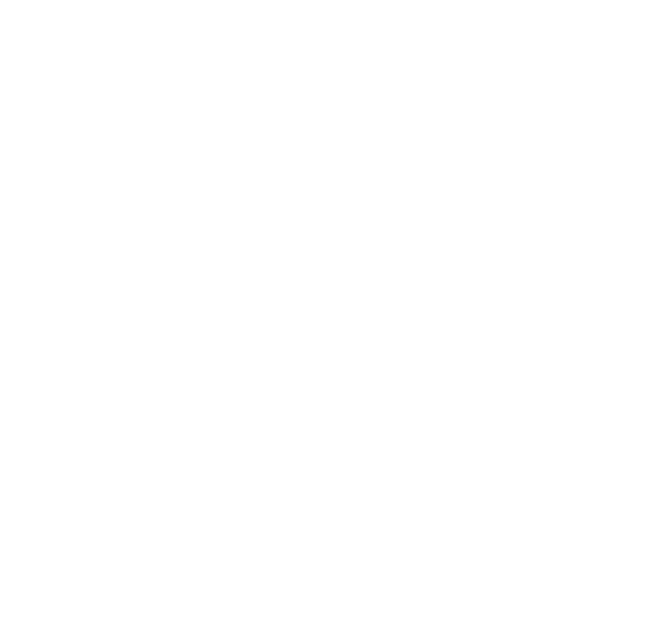
Полина САВОЯРДИ
Под псевдонимом «Полина Савоярди» публикует свои тексты историк-италинист, филолог, журналист и антиквар, обладатель глубокого гуманитарного образования, а также основатель галереи культуры и антиквариата «Другое Дело», известной в среде московской творческой интеллигенции. Полина – не писатель: рождение текстов в виде рассказов каждый раз происходит совершенно случайно, непреднамеренно и неожиданно для самого автора. Многие мудрые мира сего призывали не оглядываться на содеянное. Вот Полина Савоярди и не оглядывается.
Под псевдонимом «Полина Савоярди» публикует свои тексты историк-италинист, филолог, журналист и антиквар, обладатель глубокого гуманитарного образования, а также основатель галереи культуры и антиквариата «Другое Дело», известной в среде московской творческой интеллигенции. Полина – не писатель: рождение текстов в виде рассказов каждый раз происходит совершенно случайно, непреднамеренно и неожиданно для самого автора. Многие мудрые мира сего призывали не оглядываться на содеянное. Вот Полина Савоярди и не оглядывается.
ДАЛИЛА
Как описать вам рай на двадцать одной сотке? Как объяснить, в чем его неповторимое обаяние, если оно в осязаемом, во вдыхаемом, в ощущаемом? Как рассказать вам о любви, из рая меня изгнавшей?
Давайте представим: мы идем с электрички по щебенке дачной дороги сквозь старое садовое товарищество. Допустим, вечереет, и ласковое июньское солнце золотит верхушки деревьев, с которых льются предзакатные песни птиц.
Вы обратили внимание? Улицы, идущие к полю, называются Полевыми. А перпендикулярные к ним, идущие к лесу, Лесными. Так вот, мы выбираем лесную улицу, причем, самую последнюю в СТ, Седьмую Лесную.
Идем мимо заборов всех мастей и поколений, штакетник, профлист, снова штакетник, идем по внедряющейся уже в лес улочке. И вот там, на границе мира человеческого и мира духов лесных, за старой проржавевшей уже сеткой-рабицей, поросшей виноградом, за покосившейся калиткой – Эдем.
В этот Эдем меня ссылали на все летние каникулы из-за редкой аллергии на металлы и пластмассы, которую я потом «перерос». Вы представляете себе, каково выживать в мегаполисе с таким организмом?
Когда меня, бледного-все-венки-видно, на пятичасовой вечерней электричке вывозили, наконец, на дачу, моя встреча с Эдемом была ошеломительна. С тех пор, как умер дед, в котором бурлила страстью к земле крестьянская кровь, бабушка дала саду полную свободу. И природа пошла на медленный, но решительный бунт против порядка. «У ребенка аллергия на все эти грабли, тяпки, пилы и гвозди», – говорила бабушка и, надевая широкополую шляпу, предавалась долгожданной праздности, о которой и мечтать раньше не могла. Ведь до самой дедовой кончины она «пахала» во имя почти мифической идеи о «добром урожае», совершая ежедневные подвиги весь летний сезон.
Участок наш тонул теперь в зеленом мареве крапивы, сныти и папоротника. Одичавший малинник сплетался в колючую чащу, населенную неведомо какими «гостями». Сквозь узорчатый полог листвы сочились солнечные лучи, выхватывая из нашего садового сумрака фамильные сокровища: деревянную, обглоданную временем скамью у летнего душа, сетчатый гамак меж старых яблонь, замшелую беседку у леса, под эфирной сенью сосен. И самое интересное, что, в отличие от выхолощенных соседних участков, сад наш неистово и благодарно цвёл до самого октября.
Бабушка, надо сказать, тоже расцвела. Типичный для наших мест загар огородника сменился аристократической белизной, а сама она стала статной, вальяжной и развесёлой. Мы читали друг другу вслух бесконечные ее дамские детективы, завалявшиеся на веранде многотомники классиков и любимую бабушкину «Песнь Песней» царя Соломона, которая всякий раз ошарашивала мое детское сознание своим небиблейским эротизмом.
По утрам я через лесную калитку навещал мой лес, в котором был совсем своим. А на закате мы с бабушкой ходили играть в бадминтон на дорогу.
Единственное бабушкино вмешательство в живущей собственной жизнью Эдем произошло на самой заре моей дачной жизни, мне было года четыре: она откопала в дедовом сарае отвертку и скрутила со всех дверей металлические ручки. Потом мы сходили с бабушкой в лес, набрали «самых артистических, Ваня, коряг», и приладили их на место ручек. И это было финальным штрихом в победе природы над рукотворностью.
Как славно мы жили. Пока… Вот ведь! Почему всегда есть это «пока»? Пока не настало мое двенадцатое лето, и мне стало мало Эдема. И как ни пытался он удержать меня тихими тайнами своих зарослей, сочными дарами плодово-ягодных, я все чаще предавал свое убежище, сбегая с пацанами с Третьей Полевой улицы. Сам того не заметив, я начал жаждать их жизни. С велосипедами, лимонадами в пластике и металлическими ложками. Я возвращался в джунгли и чувствовал, что не Адам я, нет, я отщепенец.
Однако, дачная жизнь хороша тем, думал я, что инаковость не вызывает школярской травли. Она будит интерес и даже уважение. И сверстника моего, Ромы с Третьей полевой, а, главное, его старшей на год сестры Марьяны.
В августе двенадцатого лета я был счастливым влюбленным дураком.
Марьяна меня пленила.
«Из уст твоих сочится сотовый мед, невеста моя, мед и молоко под языком твоим.
Благоухание одежд твоих, как аромат ливанского кедра», – вот так ветхозаветно просыпалась во мне любовь.
Невеста моя своим протяжным «Вааааняяяяя» с раннего утра вырывала меня из теплых объятий буйного сада, чтобы весь день с пацанами с Третьей Полевой беспечно ронять меня то в радость, то в горе. Радостью были наши вылазки в лес, который был мне и отцом, и братом. Горем – их «налеты» на сельский магазин, полный враждебной мне материи.
«А пойдем, покажу тебе наш участок», – говорит она мне однажды.
И я согласился: мне очень хотелось увидеть, какой он, Марьянин рай.
Она вела меня, то забегая вперед, то равняясь со мной, стрекоча что-то на девичьем, а я смотрел то на загорелые бархатные лопатки, то на бутылочно-зелёного цвета глаза, то на золотое руно завитков у висков, и был до неприличия счастлив.
Ох, Марьяна! Я думал, ты – моя Суламифь, а ты оказалась Далилой. Хуже – змеёй!
Что было дальше, вы и сами уже, верно, догадались.
Завороженный, даже околдованный, покорный, как агнец на заклание, я прошел за Марьяной через заднюю калитку участка и черный ход дома. Опомнился я только на втором этаже. От пощечины её слов:
– Ну что, инвалид, как выбираться будешь? – Захохотала, дверь захлопнула, замком поскрежетала и, грохоча по лестнице, исчезла.
Дверь закрыта. Зато окно распахнуто, и сыпется в комнату гиенный смех ликующей стаи.
Я понял, что дети эти сильно преувеличивают тяжесть моего недуга. В комнате было не так уж много металла, не так уж много полимеров, хоть и натаскали сюда грабель и лопат, пластмассовых садовых стульев. А ручку двери можно и не трогать, закрыто.
Я выглянул в окно. Второй этаж, но прыгать не хотелось. К окну услужливо и подло была прислонена гигантская металлическая лестница.
Эти, в количестве четырех штук, задрав головы и гогоча, ожидали моей паники. Но мне было не до паники: я увидел Марьянин «рай». Вот тут она растет каждое лето: плоский геометрически выверенный участок с дорожками под прямым углом. Конусы стриженых туй. Параллелепипеды кустарников. Ковролиновая гладь газонов, по которым растерянно ездит робот-газонокосилка.
Как стало и тошно, и жалко всех. Сад мне показался сломленным волком, выстриженным под пуделя. А Марьяна – пустой, тоскующей душой.
И я спустился по этой гребаной лестнице. Не торопясь, спустился. Прошел мимо затихших, почуявших мою спокойную горечь. «Ну и вали в свою хибару, чудик», – мне в спину бросила.
Сначала я шел. Ладони, отравленные металлом, наливались тугой болью, в горле першило. Я шел быстрее. Потом бежал: спрятаться, вжаться в утробу Сада, врасти в него корнями и нервными окончаниями и больше никогда его не предавать. И вот уже моя рабица, моя калитка, виноград.
Но Рая нет. Я больше его не вижу.
Только дикие, запущенные заросли, гниющие паданцы, пыль, боль, ржавчина, разруха и распад.
Вот такое у меня было прозрение. Такое изгнание. Я тогда, помню, сильно заболел. Меня увезли в город. На дачу я, конечно, ещё возвращался. Но в Рай – никогда.
Как описать вам рай на двадцать одной сотке? Как объяснить, в чем его неповторимое обаяние, если оно в осязаемом, во вдыхаемом, в ощущаемом? Как рассказать вам о любви, из рая меня изгнавшей?
Давайте представим: мы идем с электрички по щебенке дачной дороги сквозь старое садовое товарищество. Допустим, вечереет, и ласковое июньское солнце золотит верхушки деревьев, с которых льются предзакатные песни птиц.
Вы обратили внимание? Улицы, идущие к полю, называются Полевыми. А перпендикулярные к ним, идущие к лесу, Лесными. Так вот, мы выбираем лесную улицу, причем, самую последнюю в СТ, Седьмую Лесную.
Идем мимо заборов всех мастей и поколений, штакетник, профлист, снова штакетник, идем по внедряющейся уже в лес улочке. И вот там, на границе мира человеческого и мира духов лесных, за старой проржавевшей уже сеткой-рабицей, поросшей виноградом, за покосившейся калиткой – Эдем.
В этот Эдем меня ссылали на все летние каникулы из-за редкой аллергии на металлы и пластмассы, которую я потом «перерос». Вы представляете себе, каково выживать в мегаполисе с таким организмом?
Когда меня, бледного-все-венки-видно, на пятичасовой вечерней электричке вывозили, наконец, на дачу, моя встреча с Эдемом была ошеломительна. С тех пор, как умер дед, в котором бурлила страстью к земле крестьянская кровь, бабушка дала саду полную свободу. И природа пошла на медленный, но решительный бунт против порядка. «У ребенка аллергия на все эти грабли, тяпки, пилы и гвозди», – говорила бабушка и, надевая широкополую шляпу, предавалась долгожданной праздности, о которой и мечтать раньше не могла. Ведь до самой дедовой кончины она «пахала» во имя почти мифической идеи о «добром урожае», совершая ежедневные подвиги весь летний сезон.
Участок наш тонул теперь в зеленом мареве крапивы, сныти и папоротника. Одичавший малинник сплетался в колючую чащу, населенную неведомо какими «гостями». Сквозь узорчатый полог листвы сочились солнечные лучи, выхватывая из нашего садового сумрака фамильные сокровища: деревянную, обглоданную временем скамью у летнего душа, сетчатый гамак меж старых яблонь, замшелую беседку у леса, под эфирной сенью сосен. И самое интересное, что, в отличие от выхолощенных соседних участков, сад наш неистово и благодарно цвёл до самого октября.
Бабушка, надо сказать, тоже расцвела. Типичный для наших мест загар огородника сменился аристократической белизной, а сама она стала статной, вальяжной и развесёлой. Мы читали друг другу вслух бесконечные ее дамские детективы, завалявшиеся на веранде многотомники классиков и любимую бабушкину «Песнь Песней» царя Соломона, которая всякий раз ошарашивала мое детское сознание своим небиблейским эротизмом.
По утрам я через лесную калитку навещал мой лес, в котором был совсем своим. А на закате мы с бабушкой ходили играть в бадминтон на дорогу.
Единственное бабушкино вмешательство в живущей собственной жизнью Эдем произошло на самой заре моей дачной жизни, мне было года четыре: она откопала в дедовом сарае отвертку и скрутила со всех дверей металлические ручки. Потом мы сходили с бабушкой в лес, набрали «самых артистических, Ваня, коряг», и приладили их на место ручек. И это было финальным штрихом в победе природы над рукотворностью.
Как славно мы жили. Пока… Вот ведь! Почему всегда есть это «пока»? Пока не настало мое двенадцатое лето, и мне стало мало Эдема. И как ни пытался он удержать меня тихими тайнами своих зарослей, сочными дарами плодово-ягодных, я все чаще предавал свое убежище, сбегая с пацанами с Третьей Полевой улицы. Сам того не заметив, я начал жаждать их жизни. С велосипедами, лимонадами в пластике и металлическими ложками. Я возвращался в джунгли и чувствовал, что не Адам я, нет, я отщепенец.
Однако, дачная жизнь хороша тем, думал я, что инаковость не вызывает школярской травли. Она будит интерес и даже уважение. И сверстника моего, Ромы с Третьей полевой, а, главное, его старшей на год сестры Марьяны.
В августе двенадцатого лета я был счастливым влюбленным дураком.
Марьяна меня пленила.
«Из уст твоих сочится сотовый мед, невеста моя, мед и молоко под языком твоим.
Благоухание одежд твоих, как аромат ливанского кедра», – вот так ветхозаветно просыпалась во мне любовь.
Невеста моя своим протяжным «Вааааняяяяя» с раннего утра вырывала меня из теплых объятий буйного сада, чтобы весь день с пацанами с Третьей Полевой беспечно ронять меня то в радость, то в горе. Радостью были наши вылазки в лес, который был мне и отцом, и братом. Горем – их «налеты» на сельский магазин, полный враждебной мне материи.
«А пойдем, покажу тебе наш участок», – говорит она мне однажды.
И я согласился: мне очень хотелось увидеть, какой он, Марьянин рай.
Она вела меня, то забегая вперед, то равняясь со мной, стрекоча что-то на девичьем, а я смотрел то на загорелые бархатные лопатки, то на бутылочно-зелёного цвета глаза, то на золотое руно завитков у висков, и был до неприличия счастлив.
Ох, Марьяна! Я думал, ты – моя Суламифь, а ты оказалась Далилой. Хуже – змеёй!
Что было дальше, вы и сами уже, верно, догадались.
Завороженный, даже околдованный, покорный, как агнец на заклание, я прошел за Марьяной через заднюю калитку участка и черный ход дома. Опомнился я только на втором этаже. От пощечины её слов:
– Ну что, инвалид, как выбираться будешь? – Захохотала, дверь захлопнула, замком поскрежетала и, грохоча по лестнице, исчезла.
Дверь закрыта. Зато окно распахнуто, и сыпется в комнату гиенный смех ликующей стаи.
Я понял, что дети эти сильно преувеличивают тяжесть моего недуга. В комнате было не так уж много металла, не так уж много полимеров, хоть и натаскали сюда грабель и лопат, пластмассовых садовых стульев. А ручку двери можно и не трогать, закрыто.
Я выглянул в окно. Второй этаж, но прыгать не хотелось. К окну услужливо и подло была прислонена гигантская металлическая лестница.
Эти, в количестве четырех штук, задрав головы и гогоча, ожидали моей паники. Но мне было не до паники: я увидел Марьянин «рай». Вот тут она растет каждое лето: плоский геометрически выверенный участок с дорожками под прямым углом. Конусы стриженых туй. Параллелепипеды кустарников. Ковролиновая гладь газонов, по которым растерянно ездит робот-газонокосилка.
Как стало и тошно, и жалко всех. Сад мне показался сломленным волком, выстриженным под пуделя. А Марьяна – пустой, тоскующей душой.
И я спустился по этой гребаной лестнице. Не торопясь, спустился. Прошел мимо затихших, почуявших мою спокойную горечь. «Ну и вали в свою хибару, чудик», – мне в спину бросила.
Сначала я шел. Ладони, отравленные металлом, наливались тугой болью, в горле першило. Я шел быстрее. Потом бежал: спрятаться, вжаться в утробу Сада, врасти в него корнями и нервными окончаниями и больше никогда его не предавать. И вот уже моя рабица, моя калитка, виноград.
Но Рая нет. Я больше его не вижу.
Только дикие, запущенные заросли, гниющие паданцы, пыль, боль, ржавчина, разруха и распад.
Вот такое у меня было прозрение. Такое изгнание. Я тогда, помню, сильно заболел. Меня увезли в город. На дачу я, конечно, ещё возвращался. Но в Рай – никогда.
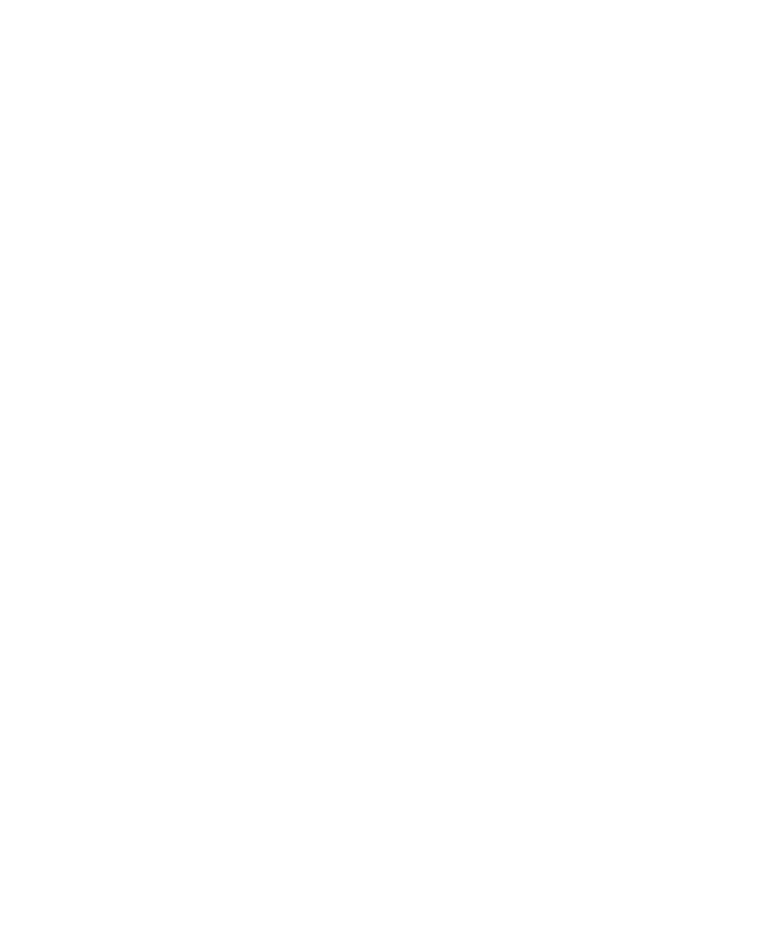
Георгий ЗАБЕЛЬЯН
Родился на Кубани в 1958 году, окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, живу и работаю в Москве. Публиковался в ежегодниках и альманахах «Падал белый снег», «Все будет хорошо», «Река времени», журналах «Час культуры», «Ёрш», «Художественное слово». Выпустил книжку коротких рассказов «О, Мадам», 2025.»
Родился на Кубани в 1958 году, окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, живу и работаю в Москве. Публиковался в ежегодниках и альманахах «Падал белый снег», «Все будет хорошо», «Река времени», журналах «Час культуры», «Ёрш», «Художественное слово». Выпустил книжку коротких рассказов «О, Мадам», 2025.»
НАВАЖДЕНИЕ В МЕТРО
Интересное дело! Это раньше пассажиры московского метро, стоя на эскалаторе, по сторонам поглядывали да исправно заглатывали настенную рекламу на радость маркетологам. Повёл глазом налево – а там работа мечты в автобусном парке, зыркнул направо – а там басурманский фастфуд, поднял глаза вверх – иди, дорогой, в помощники машиниста, а обернулся – тут тебе концерт нестареющей поп-дивы. Было, над чем поразмыслить, пока едешь в подземке. А потом рекламу сняли, остались голые стены и ничего интересного.
Назначили мне приём в присутственном месте. Друзья надоумили поехать на метро. Говорят, выйдешь из первого вагона, поднимешься на двух эскалаторах, а дальше лестница на выход, и вот оно – присутствие.
Наваждение случилось в конце пути. Народу на эскалаторе почти нет. Передо мной прошмыгнула вверх на десяток ступеней очень интересно одетая гражданка. Сказать, что на ней была короткая юбка – ничего не сказать, юбка казалась просто широким поясом. Мы люди пристойные, глаза от безобразия отводим. Смотрю по сторонам, интересуюсь, как сегодня обстоит дело с работой в автобусном парке и угомонилась ли, наконец, нестареющая поп-дива? Не прокатило. Зацепиться глазами за что-либо вокруг решительно невозможно. Зато эта микроюбка, будь она неладна, приковала взгляд железной цепью и, как бычка на веревочке, повела меня к выходу через два эскалатора и одну лестницу. Очнулся уже на улице, понял, что вышел из метро не там, где надо. Заблудился и опоздал на приём. И зачем было запрещать рекламные вывески в метро?
Граждане, летайте самолетами Аэрофлота и отдыхайте на курортах Северного Кавказа!
И будет вам счастье!
МАМОЧКА
Чтобы за две недели отдыха в Ессентуках подлечить старые болячки и пролить бальзам на израненную душу, не достаточно целебных ванн, горного воздуха и шведского стола. Ещё нужно найти гармонию с собой и окружающим миром. Озверевший от городского ритма «кефирник» (так местные за глаза называют санаторных отдыхающих) хочет на курорте расслабиться, погулять по парку и попить местную минеральную воду на радость своему ЖКТ. Вонзить, наконец, заветные пятьдесят граммов перед вечерним культурным досугом. И всё это для обретения вожделенной гармонии тела и духа.
Источниками в городе называют специально построенные для отдыхающих питьевые павильоны, куда минералка подается по трубам из далёкого центрального резервуара. Затем подогретая вода строго по расписанию, три раза в день, раздаётся из сосков в стаканы алчущих гармонии «кефирников». Вкус воды на любителя – тёплая, пахучая, чуть газированная привозной углекислотой. Доктора советуют пить её по стаканчику перед едой.
За две недели отдыха я сделал сорок подходов к соску и употребил сорок стаканов «Ессентуков», а гармонии так и не обрёл. Расскажу почему.
У каждого питьевого павильона есть свой небольшой рынок, где бредущие к воде толпы отдыхающих имеют возможность потратить привезённые из дома свои кровные. Шопингтерапия – неотъемлемая часть курортологии. А в тот год повышенным покупательским спросом пользовалась чудо-кукла на батарейках, которая, лёжа на животе, двигала руками-ногами и пела мультяшную песенку:
Дорогая мамочка нет тебя милей,
Улыбайся мамочка песенке моей…
Кукла громко пела «мамочку» непрерывно в течение часа, три раза в день, и её было слышно далеко вокруг.
Всё бы ничего, но в одном месте кукла фальшивила мелодию так гнусно, что уши скручивались в трубку, а нервы комом собирались под ложечкой. Всякий раз, подходя к водопою опрокинуть стакан и слушая «мамочку», я невольно отсчитывал про себя:
– Ну, где же это место в песенке, когда кукла «пустит петуха»? Ага, вот оно!
На обратном пути всё повторялось, «мамочка» влезала в одно ухо и вылезала из другого, успев навести в мозгах хаос. Ни о чём другом думать уже было невозможно. Разве что поразмышлять, что бы я сказал тому тугоухому айтишнику, который засовывал в куклу файл с песенкой.
Путь к источнику лежал мимо санатория имени академика Павлова. Так же, как собаки академика, увидев свет лампочки вместо еды, я реагировал на дважды бьющую по ушам и нервам фальшивую «мамочку», плюс внутрь стакан чистого сероводорода перед каждым обедом.
И всё это за будь здоров!
Наконец, программа пребывания выполнена: выпито сорок стаканов «Ессентуков» и восемьдесят раз прослушан трек «Дорогая мамочка». Боже, с каким наслаждением я ехал в поезде с курорта домой! Вагон почти пустой. Выпить, закусить и поспать – всё было в лучшем виде, а главное – целые сутки тишина!
На следующий день дома мы ждём гостей, готовимся: должна приехать внучка, соскучились уже. Внучка залетает в дом и с порога кричит:
– Дед, деда! Смотри какую куклу мне подарили! Она еще и поёт! Сейчас включу:
Дорогая мамочка нет тебя милей,
Улыбайся мамочка песенке моей…
Интересное дело! Это раньше пассажиры московского метро, стоя на эскалаторе, по сторонам поглядывали да исправно заглатывали настенную рекламу на радость маркетологам. Повёл глазом налево – а там работа мечты в автобусном парке, зыркнул направо – а там басурманский фастфуд, поднял глаза вверх – иди, дорогой, в помощники машиниста, а обернулся – тут тебе концерт нестареющей поп-дивы. Было, над чем поразмыслить, пока едешь в подземке. А потом рекламу сняли, остались голые стены и ничего интересного.
Назначили мне приём в присутственном месте. Друзья надоумили поехать на метро. Говорят, выйдешь из первого вагона, поднимешься на двух эскалаторах, а дальше лестница на выход, и вот оно – присутствие.
Наваждение случилось в конце пути. Народу на эскалаторе почти нет. Передо мной прошмыгнула вверх на десяток ступеней очень интересно одетая гражданка. Сказать, что на ней была короткая юбка – ничего не сказать, юбка казалась просто широким поясом. Мы люди пристойные, глаза от безобразия отводим. Смотрю по сторонам, интересуюсь, как сегодня обстоит дело с работой в автобусном парке и угомонилась ли, наконец, нестареющая поп-дива? Не прокатило. Зацепиться глазами за что-либо вокруг решительно невозможно. Зато эта микроюбка, будь она неладна, приковала взгляд железной цепью и, как бычка на веревочке, повела меня к выходу через два эскалатора и одну лестницу. Очнулся уже на улице, понял, что вышел из метро не там, где надо. Заблудился и опоздал на приём. И зачем было запрещать рекламные вывески в метро?
Граждане, летайте самолетами Аэрофлота и отдыхайте на курортах Северного Кавказа!
И будет вам счастье!
МАМОЧКА
Чтобы за две недели отдыха в Ессентуках подлечить старые болячки и пролить бальзам на израненную душу, не достаточно целебных ванн, горного воздуха и шведского стола. Ещё нужно найти гармонию с собой и окружающим миром. Озверевший от городского ритма «кефирник» (так местные за глаза называют санаторных отдыхающих) хочет на курорте расслабиться, погулять по парку и попить местную минеральную воду на радость своему ЖКТ. Вонзить, наконец, заветные пятьдесят граммов перед вечерним культурным досугом. И всё это для обретения вожделенной гармонии тела и духа.
Источниками в городе называют специально построенные для отдыхающих питьевые павильоны, куда минералка подается по трубам из далёкого центрального резервуара. Затем подогретая вода строго по расписанию, три раза в день, раздаётся из сосков в стаканы алчущих гармонии «кефирников». Вкус воды на любителя – тёплая, пахучая, чуть газированная привозной углекислотой. Доктора советуют пить её по стаканчику перед едой.
За две недели отдыха я сделал сорок подходов к соску и употребил сорок стаканов «Ессентуков», а гармонии так и не обрёл. Расскажу почему.
У каждого питьевого павильона есть свой небольшой рынок, где бредущие к воде толпы отдыхающих имеют возможность потратить привезённые из дома свои кровные. Шопингтерапия – неотъемлемая часть курортологии. А в тот год повышенным покупательским спросом пользовалась чудо-кукла на батарейках, которая, лёжа на животе, двигала руками-ногами и пела мультяшную песенку:
Дорогая мамочка нет тебя милей,
Улыбайся мамочка песенке моей…
Кукла громко пела «мамочку» непрерывно в течение часа, три раза в день, и её было слышно далеко вокруг.
Всё бы ничего, но в одном месте кукла фальшивила мелодию так гнусно, что уши скручивались в трубку, а нервы комом собирались под ложечкой. Всякий раз, подходя к водопою опрокинуть стакан и слушая «мамочку», я невольно отсчитывал про себя:
– Ну, где же это место в песенке, когда кукла «пустит петуха»? Ага, вот оно!
На обратном пути всё повторялось, «мамочка» влезала в одно ухо и вылезала из другого, успев навести в мозгах хаос. Ни о чём другом думать уже было невозможно. Разве что поразмышлять, что бы я сказал тому тугоухому айтишнику, который засовывал в куклу файл с песенкой.
Путь к источнику лежал мимо санатория имени академика Павлова. Так же, как собаки академика, увидев свет лампочки вместо еды, я реагировал на дважды бьющую по ушам и нервам фальшивую «мамочку», плюс внутрь стакан чистого сероводорода перед каждым обедом.
И всё это за будь здоров!
Наконец, программа пребывания выполнена: выпито сорок стаканов «Ессентуков» и восемьдесят раз прослушан трек «Дорогая мамочка». Боже, с каким наслаждением я ехал в поезде с курорта домой! Вагон почти пустой. Выпить, закусить и поспать – всё было в лучшем виде, а главное – целые сутки тишина!
На следующий день дома мы ждём гостей, готовимся: должна приехать внучка, соскучились уже. Внучка залетает в дом и с порога кричит:
– Дед, деда! Смотри какую куклу мне подарили! Она еще и поёт! Сейчас включу:
Дорогая мамочка нет тебя милей,
Улыбайся мамочка песенке моей…
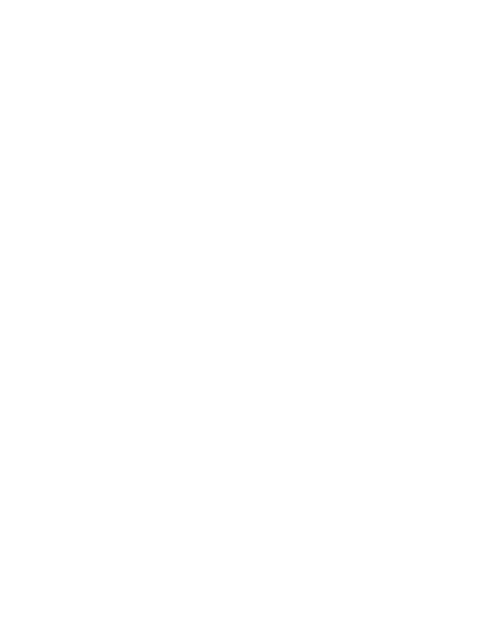
Виталий БУЛАТ
Мой отец родился на Волге, в Немецкой Автономной Республике. В 1941 году он, как и тысячи российских немцев, был депортирован в Сибирь – там родился и я. Армейская травма, из-за которой я частично утратил возможность нормально ходить, внесла неясность в мою судьбу. Хаос 90-х добавил к этому ещё больше неопределённости. Но жизнь сложилась вопреки: благодаря множеству событий, позже нашедших отражение в моих рассказах, я снова стал чемпионом России – теперь уже паралимпийским.
Затем окончил университет в США и вернулся в Россию, где работал топ-менеджером одной из ведущих нефтегазовых компаний. Сегодня я обращаюсь к литературе как к способу осмыслить пережитое – и показать, что судьба, как и история, редко бывает случайной.
Мой отец родился на Волге, в Немецкой Автономной Республике. В 1941 году он, как и тысячи российских немцев, был депортирован в Сибирь – там родился и я. Армейская травма, из-за которой я частично утратил возможность нормально ходить, внесла неясность в мою судьбу. Хаос 90-х добавил к этому ещё больше неопределённости. Но жизнь сложилась вопреки: благодаря множеству событий, позже нашедших отражение в моих рассказах, я снова стал чемпионом России – теперь уже паралимпийским.
Затем окончил университет в США и вернулся в Россию, где работал топ-менеджером одной из ведущих нефтегазовых компаний. Сегодня я обращаюсь к литературе как к способу осмыслить пережитое – и показать, что судьба, как и история, редко бывает случайной.
ФОТО
– Прикольная карточка, – вертит мой лучший друг Лёха в руках фотографию молодого офицера царской армии в полевой форме. – Сейчас фотобумага полмиллиметра толщиной, а здесь картон, как у коробки из-под телевизора! Почти сантиметр!
– Это мой дед, – с неудовольствием отвечаю я.
Школу отменили из-за морозов, но мы с Лёхой уже надели по два свитера и вторую пару байковых штанов с начёсом и всё равно собираемся идти на улицу – фотографировать деревья, покрытые длинными иголками инея. Такое бывает нечасто, потому что во время сильного мороза солнце светит особенно ярко, но ни снег, ни иней на ветках от этого не тают. И лес в белоснежном искрящемся одеянии казался особенным, сказочным, словно в мультике про Снежную королеву.
Пока я готовил фотоаппарат, Лёха листал наш семейный фотоальбом и вытянул эту фотографию, когда его не просили. Я прервал приготовления и подошёл к нему. Царские погоны на плечах моего деда в нашем мальчишеском обществе ничего хорошего не сулили. Будь он в будёновке с ромбиками на воротнике – тогда бы другое дело! А тут…
Не то что бы это было запрещено или постыдно. Нет, просто я уже предвидел, кто будет «беляком» в следующий раз, когда мы начнём играть в войну.
С другим дедом дело обстояло ещё хуже. Он был немец! Я даже поморщился от этой мысли.
Так что мой дед Иван был единственной надеждой хоть как-то выбраться из лагеря врагов.
– Это он до революции, – оправдывался я. – Вообще он крестьянин был, из деревни Мурашово, здесь у нас, недалеко. Они по реформе освоения Сибири из Питера переселились. А офицера ему в Первую мировую за боевые заслуги дали. Потом лечил ранение в этом Ораниенбауме, стал солдатским депутатом. Штурмовал Зимний.
– Чё, прям Зимний брал?! – ехидно спросил Лёха.
– Да. Взяли Зимний, а в феврале снова поехали с немцами воевать под Нарву. И его там снова ранили. Знаешь, что значит 23-е февраля? Почему его отмечают?
– День военно-морского флота, – настороженно ухмыляясь, покосился на меня Лёха.
Он сидел на моём стуле за письменным столом и листал альбом, выглядывая из-за стола, как из окопа. А я стоял над ним с фотоаппаратом в руках. И казался ему, наверное, фашистом с автоматом наперевес – как в кино показывают.
– Чтоб ты знал, 23-го февраля проверили, могут ли русские просто за Родину воевать. Старого строя уже не было, а нового ещё не было. Ни системы, ни армии, ни флота. А Родину от немцев защищать кому-то нужно. Вот мой дед и пошёл за Россию умирать, не понаслышке зная, что такое война и что при этом и убить могут! – наотмашь сказал я.
Меня распирало от негодования.
Лёхе было легко, его отец – ветеран Великой Отечественной. Поэтому Лёха от рождения «заслуженный», а мне всё самому нужно заслужить. Вот и я старался показать, что есть у меня мощный фундамент, заложенный предками, и укладывал в него, как кирпичи, всё новые и новые исторические факты:
– А потом он три года в Гражданскую воевал за красных. И его снова ранили. Вернулся домой, поработал учителем математики и в Великую Отечественную снова на фронт. Оттуда он уже без руки пришёл, – не унимался я.
Лёха недоверчиво выглянул из своего окопа и снова принялся разглядывать фотографию.
Карточка и вправду была необычная – плотный лист картона размером 8 на 12 сантиметров. На лицевой стороне – портрет, на обороте – пальма, мольберт, палитра с кистями и надпись:
Фотография М. Ф. Фёдорова
Ораниенбаум
I. Дворцовый пр-д, № 24
II. Екатерининская ул., д. Панфилова
СПЕЦIАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНIЕ ПОРТРЕТОВЪ
Негативы сохраняются
В уголке подпись: I. Скамони.
– Фамилия смешная – «Скамони», – хихикает Лёха. – А если сейчас за негативами прийти – отдадут? – и снова засмеялся своей же «остроумной» шутке.
– Зимний брал, Первая мировая, Гражданская, Великая Отечественная – это я понимаю, было где проявиться, – потянулся Лёха. – А нам ничего не досталось – только в войнушку с деревянными автоматами бегать, – вздохнул он и захлопнул альбом.
Молоденький офицер на фотографии смотрел так, будто хотел что-то сказать, и слегка усмехался.
Вечером, после нелёгкой лесной вылазки, мы с Лёхой, раскрасневшиеся от мороза, полезли на печку, которую затопила вернувшаяся с работы мама. Я подошёл к ней с фотографией в руках, решив «дореабилитировать» деда:
– Мам, а почему твой отец в офицерской форме, если он за красных воевал? – и я с торжеством посмотрел на Лёху: сейчас он увидит «кузькину мать»!
Мама молча взяла фотографию и скрылась в другой комнате. Вернулась без неё.
Тогда я попробовал «отмазать» себя и всю нашу семью:
– А почему никто из нас на него не похож? – выглянул я из-за шторки, отделявшей нашу с Лёхой «засаду» от внешнего мира.
Ничего не ответив, мама ушла на кухню. Очевидно, ей не хотелось, чтобы Лёха или я ляпнули где-то про то, что её отец был офицер царской армии. Не простой солдат, а офицер – то есть, в понимании любого человека в то время, эксплуататор трудового народа. Офицеры, в основном, были дворянского происхождения и потому воспринимались наравне с капиталистами, буржуями и прочими, кого свергла та самая революция, в которой участвовал мой дед. Потом бы, конечно, разобрались, но это было бы потом… А жить всем нужно было сейчас. Реабилитация не удалась. Хотя, в самом деле, никто в нашей семье не был похож на этого офицера.
Уже совсем стемнело, и в затянутых льдом окнах нельзя было различить скукожившиеся на морозе деревья. А мы с Лёхой лежали на горячих кирпичах русской печи, спрятавшись за занавеской, и ещё долго рисовали объятые огнём дома, поверженных врагов, столбы взрывов, раскорёженные танки с крестами и пикирующие истребители с красными звёздами на крыльях.
Становилось всё теплее. Пахло берёзовым дымком и готовящейся едой.
Мы с Лёхой слышали, как пришёл с работы отец, как он понёс воду коровам, и нас пахнуло студёным паром из открытой двери. Потом снова стало совсем тепло. Даже жарко. Как отец вернулся и как они ещё долго приглушённо говорили с мамой о чём-то, сидя на кухне.
Мы так устали за день, перелезая через валежник, барахтаясь в снегу, в который проваливались почти по пояс, несмотря на охотничьи лыжи, что, рисуя в тепле под уютное потрескивание дров, уснули, не дождавшись ужина.
Прошли годы. Теперь я и сам, как и когда-то мой дед, тоже лечу старые раны, полученные на стыке эпох, когда непонятно было, за кого воевать: систему, в которой мы выросли, уже разрушили, а новую ещё не построили. Недавно вернулся из военного санатория – прохожу там реабилитацию раз в год, как инвалид войны.
По приезде разбирал фотографии, привезённые с юга. И снова попалась та карточка деда Ивана, сделанная в 1917 году.
Теперь-то я понял, кто всё же на него похож – то же лицо, тот же взгляд, даже лёгкая усмешка на губах.
Разослал снимок друзьям по электронке. Почти все спросили одно и то же:
– Это что за фотосессия? Почему твой сын в форме офицера царской армии?
А Лёха… Лёха ничего не спросил.
Его убили в Афганистане.
– Прикольная карточка, – вертит мой лучший друг Лёха в руках фотографию молодого офицера царской армии в полевой форме. – Сейчас фотобумага полмиллиметра толщиной, а здесь картон, как у коробки из-под телевизора! Почти сантиметр!
– Это мой дед, – с неудовольствием отвечаю я.
Школу отменили из-за морозов, но мы с Лёхой уже надели по два свитера и вторую пару байковых штанов с начёсом и всё равно собираемся идти на улицу – фотографировать деревья, покрытые длинными иголками инея. Такое бывает нечасто, потому что во время сильного мороза солнце светит особенно ярко, но ни снег, ни иней на ветках от этого не тают. И лес в белоснежном искрящемся одеянии казался особенным, сказочным, словно в мультике про Снежную королеву.
Пока я готовил фотоаппарат, Лёха листал наш семейный фотоальбом и вытянул эту фотографию, когда его не просили. Я прервал приготовления и подошёл к нему. Царские погоны на плечах моего деда в нашем мальчишеском обществе ничего хорошего не сулили. Будь он в будёновке с ромбиками на воротнике – тогда бы другое дело! А тут…
Не то что бы это было запрещено или постыдно. Нет, просто я уже предвидел, кто будет «беляком» в следующий раз, когда мы начнём играть в войну.
С другим дедом дело обстояло ещё хуже. Он был немец! Я даже поморщился от этой мысли.
Так что мой дед Иван был единственной надеждой хоть как-то выбраться из лагеря врагов.
– Это он до революции, – оправдывался я. – Вообще он крестьянин был, из деревни Мурашово, здесь у нас, недалеко. Они по реформе освоения Сибири из Питера переселились. А офицера ему в Первую мировую за боевые заслуги дали. Потом лечил ранение в этом Ораниенбауме, стал солдатским депутатом. Штурмовал Зимний.
– Чё, прям Зимний брал?! – ехидно спросил Лёха.
– Да. Взяли Зимний, а в феврале снова поехали с немцами воевать под Нарву. И его там снова ранили. Знаешь, что значит 23-е февраля? Почему его отмечают?
– День военно-морского флота, – настороженно ухмыляясь, покосился на меня Лёха.
Он сидел на моём стуле за письменным столом и листал альбом, выглядывая из-за стола, как из окопа. А я стоял над ним с фотоаппаратом в руках. И казался ему, наверное, фашистом с автоматом наперевес – как в кино показывают.
– Чтоб ты знал, 23-го февраля проверили, могут ли русские просто за Родину воевать. Старого строя уже не было, а нового ещё не было. Ни системы, ни армии, ни флота. А Родину от немцев защищать кому-то нужно. Вот мой дед и пошёл за Россию умирать, не понаслышке зная, что такое война и что при этом и убить могут! – наотмашь сказал я.
Меня распирало от негодования.
Лёхе было легко, его отец – ветеран Великой Отечественной. Поэтому Лёха от рождения «заслуженный», а мне всё самому нужно заслужить. Вот и я старался показать, что есть у меня мощный фундамент, заложенный предками, и укладывал в него, как кирпичи, всё новые и новые исторические факты:
– А потом он три года в Гражданскую воевал за красных. И его снова ранили. Вернулся домой, поработал учителем математики и в Великую Отечественную снова на фронт. Оттуда он уже без руки пришёл, – не унимался я.
Лёха недоверчиво выглянул из своего окопа и снова принялся разглядывать фотографию.
Карточка и вправду была необычная – плотный лист картона размером 8 на 12 сантиметров. На лицевой стороне – портрет, на обороте – пальма, мольберт, палитра с кистями и надпись:
Фотография М. Ф. Фёдорова
Ораниенбаум
I. Дворцовый пр-д, № 24
II. Екатерининская ул., д. Панфилова
СПЕЦIАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНIЕ ПОРТРЕТОВЪ
Негативы сохраняются
В уголке подпись: I. Скамони.
– Фамилия смешная – «Скамони», – хихикает Лёха. – А если сейчас за негативами прийти – отдадут? – и снова засмеялся своей же «остроумной» шутке.
– Зимний брал, Первая мировая, Гражданская, Великая Отечественная – это я понимаю, было где проявиться, – потянулся Лёха. – А нам ничего не досталось – только в войнушку с деревянными автоматами бегать, – вздохнул он и захлопнул альбом.
Молоденький офицер на фотографии смотрел так, будто хотел что-то сказать, и слегка усмехался.
Вечером, после нелёгкой лесной вылазки, мы с Лёхой, раскрасневшиеся от мороза, полезли на печку, которую затопила вернувшаяся с работы мама. Я подошёл к ней с фотографией в руках, решив «дореабилитировать» деда:
– Мам, а почему твой отец в офицерской форме, если он за красных воевал? – и я с торжеством посмотрел на Лёху: сейчас он увидит «кузькину мать»!
Мама молча взяла фотографию и скрылась в другой комнате. Вернулась без неё.
Тогда я попробовал «отмазать» себя и всю нашу семью:
– А почему никто из нас на него не похож? – выглянул я из-за шторки, отделявшей нашу с Лёхой «засаду» от внешнего мира.
Ничего не ответив, мама ушла на кухню. Очевидно, ей не хотелось, чтобы Лёха или я ляпнули где-то про то, что её отец был офицер царской армии. Не простой солдат, а офицер – то есть, в понимании любого человека в то время, эксплуататор трудового народа. Офицеры, в основном, были дворянского происхождения и потому воспринимались наравне с капиталистами, буржуями и прочими, кого свергла та самая революция, в которой участвовал мой дед. Потом бы, конечно, разобрались, но это было бы потом… А жить всем нужно было сейчас. Реабилитация не удалась. Хотя, в самом деле, никто в нашей семье не был похож на этого офицера.
Уже совсем стемнело, и в затянутых льдом окнах нельзя было различить скукожившиеся на морозе деревья. А мы с Лёхой лежали на горячих кирпичах русской печи, спрятавшись за занавеской, и ещё долго рисовали объятые огнём дома, поверженных врагов, столбы взрывов, раскорёженные танки с крестами и пикирующие истребители с красными звёздами на крыльях.
Становилось всё теплее. Пахло берёзовым дымком и готовящейся едой.
Мы с Лёхой слышали, как пришёл с работы отец, как он понёс воду коровам, и нас пахнуло студёным паром из открытой двери. Потом снова стало совсем тепло. Даже жарко. Как отец вернулся и как они ещё долго приглушённо говорили с мамой о чём-то, сидя на кухне.
Мы так устали за день, перелезая через валежник, барахтаясь в снегу, в который проваливались почти по пояс, несмотря на охотничьи лыжи, что, рисуя в тепле под уютное потрескивание дров, уснули, не дождавшись ужина.
Прошли годы. Теперь я и сам, как и когда-то мой дед, тоже лечу старые раны, полученные на стыке эпох, когда непонятно было, за кого воевать: систему, в которой мы выросли, уже разрушили, а новую ещё не построили. Недавно вернулся из военного санатория – прохожу там реабилитацию раз в год, как инвалид войны.
По приезде разбирал фотографии, привезённые с юга. И снова попалась та карточка деда Ивана, сделанная в 1917 году.
Теперь-то я понял, кто всё же на него похож – то же лицо, тот же взгляд, даже лёгкая усмешка на губах.
Разослал снимок друзьям по электронке. Почти все спросили одно и то же:
– Это что за фотосессия? Почему твой сын в форме офицера царской армии?
А Лёха… Лёха ничего не спросил.
Его убили в Афганистане.
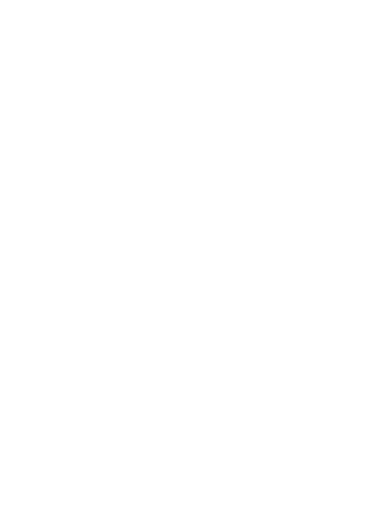
Ирина ВОЛКОВА
Люблю писать. Пишу стихи, рассказы, повести. Вышло четыре книги. Моя родина – Владикавказ. Сейчас живу в станице Динской (Краснодарский край). Работаю учителем рисования.
Люблю писать. Пишу стихи, рассказы, повести. Вышло четыре книги. Моя родина – Владикавказ. Сейчас живу в станице Динской (Краснодарский край). Работаю учителем рисования.
МАКСИМ
– Встань, когда к тебе учитель обращается! – заорала на него психологичка. Вернее, учительница по психологии.
Пришлось встать, хоть и не хотелось.
Максим сидел у окна. Наблюдал за жизнью на улице. Было интересно. Вот собака перебежала дорогу, чуть под машину не попала. Вот у девушки улетел зонт, еле поймала. Ветер. Вот скорая пролетела надрываясь. Кому-то хреново.
А тут эта, отвлекает.
– Что ты можешь нам рассказать про Песталоцци? Тема прошлого урока. – Проныла училка противным голосом.
Максим посмотрел в потолок, состроил невинную мину:
–Ну, это, Пестолоцкий…
ГЕНИАЛЬНО!
Идёт урок. Урок рисования. Дети склонились над бумагой. Учительница сказала:
– Все рисунки отправим на фронт. Бойцы вешают их над кроватями, носят в карманах гимнастёрок, как талисманы. Верят – поможет.
Убережёт от пуль. Дети устали. Рисуют почти час. Стараются. Учительница делает паузу для отдыха:
– Давайте подумаем. Что было бы, если бы войну выиграли не мы, а немцы?
Все молчат. Вопрос трудный. Тут одна девочка смотрит на учительницу большими глазами, голубыми, как небо, и произносит гениальную фразу:
– Тогда девятое мая праздновали бы они, а не мы…
КОММУНАЛКА
В коммуналке было весело. Соседи из второй квартиры насыпали соседям из третьей синьку в полную сковородку жареной картошки. Те в ответ сделали шах и мат. В полную кастрюлю борща отправили полную солонку соли. Вдруг соседи недосолили?
Они слышали, что иногда люди в коммуналках живут дружно. Едят за одним столом, празднуют дни рождения, отмечают праздники.
Но это больше смахивало на фантастические рассказы.
У них шла война. Тихая. Подпольная. Кто кому больше насолит.
Потом дошло. Стали вешать на большие старые холодильники толстые цепи с амбарными замками.
В общем, жили весело…
– Встань, когда к тебе учитель обращается! – заорала на него психологичка. Вернее, учительница по психологии.
Пришлось встать, хоть и не хотелось.
Максим сидел у окна. Наблюдал за жизнью на улице. Было интересно. Вот собака перебежала дорогу, чуть под машину не попала. Вот у девушки улетел зонт, еле поймала. Ветер. Вот скорая пролетела надрываясь. Кому-то хреново.
А тут эта, отвлекает.
– Что ты можешь нам рассказать про Песталоцци? Тема прошлого урока. – Проныла училка противным голосом.
Максим посмотрел в потолок, состроил невинную мину:
–Ну, это, Пестолоцкий…
ГЕНИАЛЬНО!
Идёт урок. Урок рисования. Дети склонились над бумагой. Учительница сказала:
– Все рисунки отправим на фронт. Бойцы вешают их над кроватями, носят в карманах гимнастёрок, как талисманы. Верят – поможет.
Убережёт от пуль. Дети устали. Рисуют почти час. Стараются. Учительница делает паузу для отдыха:
– Давайте подумаем. Что было бы, если бы войну выиграли не мы, а немцы?
Все молчат. Вопрос трудный. Тут одна девочка смотрит на учительницу большими глазами, голубыми, как небо, и произносит гениальную фразу:
– Тогда девятое мая праздновали бы они, а не мы…
КОММУНАЛКА
В коммуналке было весело. Соседи из второй квартиры насыпали соседям из третьей синьку в полную сковородку жареной картошки. Те в ответ сделали шах и мат. В полную кастрюлю борща отправили полную солонку соли. Вдруг соседи недосолили?
Они слышали, что иногда люди в коммуналках живут дружно. Едят за одним столом, празднуют дни рождения, отмечают праздники.
Но это больше смахивало на фантастические рассказы.
У них шла война. Тихая. Подпольная. Кто кому больше насолит.
Потом дошло. Стали вешать на большие старые холодильники толстые цепи с амбарными замками.
В общем, жили весело…
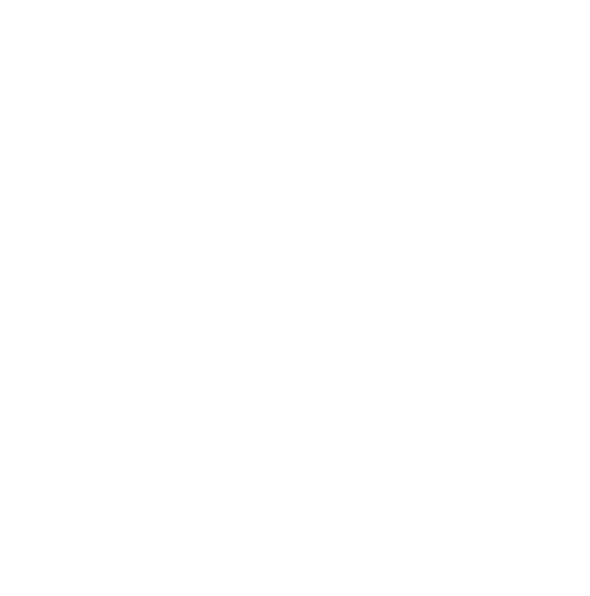
Татьяна ЛАТЫНСКАЯ
Родилась на юге Архангельской области. Приехала в Санкт-Петербург (в те годы еще Ленинград) поступать в институт, да так и осталась здесь. Сразу влюбилась в город и до сих пор постоянна в своих чувствах к нему. Здесь моя семья, мои друзья, моя работа, мои воспоминания, мои надежды. Закончила Санкт-Петербургский (в те годы еще Ленинградский) государственный институт культуры. Много лет работала в различных библиотеках. Затем вынуждена была уйти в рекламный бизнес, работала рекламным агентом, интервьюером, редактором справочно-информационных изданий. Сейчас снова работаю в библиотеке и вполне этому рада. Именно здесь я могу делиться своими знаниями и любовью к литературе с теми, кому это действительно нужно. И это для меня большое счастье.
Интерес к литературе проявился еще в детстве, но писать стала только лет в двадцать. И почему-то сказки. Сказок написала десятка два, и больших и маленьких. Многие из них напечатаны в сборниках «День сказки». Мечтаю издать большую книгу сказок, хорошо иллюстрированную.
Родилась на юге Архангельской области. Приехала в Санкт-Петербург (в те годы еще Ленинград) поступать в институт, да так и осталась здесь. Сразу влюбилась в город и до сих пор постоянна в своих чувствах к нему. Здесь моя семья, мои друзья, моя работа, мои воспоминания, мои надежды. Закончила Санкт-Петербургский (в те годы еще Ленинградский) государственный институт культуры. Много лет работала в различных библиотеках. Затем вынуждена была уйти в рекламный бизнес, работала рекламным агентом, интервьюером, редактором справочно-информационных изданий. Сейчас снова работаю в библиотеке и вполне этому рада. Именно здесь я могу делиться своими знаниями и любовью к литературе с теми, кому это действительно нужно. И это для меня большое счастье.
Интерес к литературе проявился еще в детстве, но писать стала только лет в двадцать. И почему-то сказки. Сказок написала десятка два, и больших и маленьких. Многие из них напечатаны в сборниках «День сказки». Мечтаю издать большую книгу сказок, хорошо иллюстрированную.
ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЮБВИ
Как прекрасно быть молодой и красивой, с атласной кожей, упругим телом, легкой походкой. Глаза лучатся, волосы вьются и играют, рассыпаясь по плечам. Достаточно легкого мазка губной помады, нескольких взмахов кисточки с тушью и ты неотразима, мужчины ловят твой взгляд, молодые парни оборачиваются и смотрят вслед.
А ты идешь, мягко улыбаясь, не глядя на них, но чувствуя их внимание, и ты благодарна им, ты их всех любишь, просто так, ни на что не претендуя. Ты не спешишь с выбором, зачем, это так приятно, знать, что ты желанна, притягательна, но не принадлежишь пока никому. Ты ждешь чуда, и знаешь, что оно придет. Ты же так любишь этот мир, и мир любит тебя, и купаясь в этой любви, ты светишься, ты излучаешь радость, в каждом движении твоего тела – спокойствие женственности. Неужели этого мало, чтобы чудо произошло!
И оно происходит! Ты заглядываешь ему в глаза и вдруг понимаешь, что уже не надо ни о чем беспокоиться, что он рядом. И ты чувствуешь нетерпеливое молодое желание мужского тела, он мучительно скрывает его за легкой усмешкой, за бравадой или даже за небрежностью тона, и тебе его жаль, тебе хочется сказать: ну что ты, любимый, не спеши, у нас все будет хорошо! И ты смеешься в ответ на его шутки, ты не обращаешь внимания на его неловкость, понимая, что пока ему труднее, чем тебе. Он же не знает еще, что ты его выбрала.
А потом весь свет, всю радость – ему. Не отмеривая, не оставляя впрок – все разом. Нежность, чувственность, страсть – все, что копилось в тебе, все, что ты так бережно хранила в себе, скрывала за легкой застенчивостью. Он растерян, он не ожидал такой щедрости, и ты мысленно умоляешь его принять этот дар, ведь он принадлежит ему по праву. Ты так долго его ждала, целую жизнь без него, теперь надо только поверить и принять.
РЕВНОСТЬ
Она ревновала мужа всю жизнь. Ревновала тяжело, мучительно. Стыдилась этого жгучего чувства, скрывала от него, от других, но ничего не могла с собой поделать. Ревность разъедала ее душу, как кислота металл. Иногда ревность прорывалась безобразными сценами, от которых она же и страдала. Муж, изумляясь, спрашивал: «Ты что, ревнуешь? Глупышка!» – и целовал ее в висок, в пушистую прядку. Она успокаивалась, страдающая ее душа утешалась, она смотрела на мир сияющими глазами, а потом опять что-то случалось: странный звонок, улыбка встречной женщины, его рассеянный взгляд, скользнувший по ногам стройной незнакомки. И душа начинала корчиться. Но корчи свои она старалась из всех сил скрыть, затаить там, где сидел этот страшный зверек – ревность.
Она никуда не отпускала его одного. За город, в отпуск, к приятелям мужа они всегда ездили вместе. Все друзья считали их самой счастливой парой, да так оно и было. Муж совсем не тяготился несвободой, он любил жену, и ее постоянное присутствие его не утомляло. Да она и не хотела его утомлять, она просто всегда была поблизости.
С годами здоровье ее резко ухудшилось. Она уже совсем не выносила одиночества. У нее начинались приступы страха, удушья, когда муж уходил куда-нибудь надолго. Он сердился, уговаривал ее сходить к врачу. Она соглашалась, ходила к врачам, рассказывала про удушье, про страх, но ничего не говорила о ревности. Врачи прописывали ей транквилизаторы, предлагали ей разные методы лечения. Она соглашалась, лечилась, но муж все чаще был вынужден брать ее с собой: на работу, в библиотеки. К этому все привыкли, относились к ней с мягким сочувствием, намекали на климакс, мол, потом все пройдет. Она согласно кивала, улыбалась, пила транквилизаторы, но муж не мог ее оставить одну уже ни на минуту. Когда приходилось ему все-таки уезжать, договаривался с дочерью, и дочь бросала все свои дела, приходила «пасти» мать, как она выражалась. Потом дочь уехала. С мужем и детьми в США. Стало еще хуже. Приходилось приглашать соседку в момент отлучки мужа. Благо это была милая, добрая женщина, соседи дружили «домами», ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками. Поэтому было не стыдно звать на помощь. Соседи все понимали. Но они тоже ничего не знали о ревности.
Но однажды все это кончилось. Ревность ушла навсегда. Муж попал в автомобильную аварию, получил серьезную травму позвоночника, лежал. Теперь он всегда был с ней. И она успокоилась, расцвела, хлопотала вокруг мужа день и ночь. Куда-то подевались и удушье, и страхи. Она без устали бегала по всему городу за редкими лекарствами, стойко выдерживала все бюрократические препоны медкомиссий, сидела часами в интернете, ища альтернативные способы лечения позвоночника, находила каких-то чудо-целителей и так день за днем, без всякого нервного напряжения и надрыва. За мужем ухаживала сильная, волевая, любящая жена. Исполнялся любой его каприз, любое его желание было законом. Муж изумлялся ее терпению, ее самоотверженности, чувствовал к ней бесконечную благодарность и любил ее еще больше. Она была счастлива.
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Лето в городе
Город играет в снежки. Ветерок гоняет легкие перекати-поле тополиного пуха. Они летят сверху и поднимаются снизу, скатываются в теплые воздушные шары, забиваются во все щели и открытые окна, кидаются под ноги изнемогающим от жары прохожим, запутываются в волосах, прилипают к ресницам. И нет от них спасения до первого теплого дождичка. Вода наконец-то утихомиривает игривые вездесущие пушинки, пышные шары превращаются в жалкую слякоть, струи дождя вбивают ее в землю, в траву, и грязные потоки уносят их прочь. Городу становится скучно. Лениво отражаясь в зеркалах луж, он терпеливо ждет, когда солнце хорошенько просушит крыши домов, траву и деревья, дорожки и тротуары. И тополя. Чтобы город снова смог играть в теплые легкие веселые снежки.
Ожидание
Июнь. Тихий светлый вечер. Я стою у окна и смотрю на прохожих. Подошел трамвай, народ высыпал из вагона, словно горох из стручка. Ловлю себя на том, что невольно ищу среди спешащих в разные стороны людей знакомый силуэт. Вот девушка с пышными, как у дочки, волосами грациозно вышагивает по тротуару, приближаясь к нашему дому. Джинсики, элегантная облегающая курточка, сумка через плечо – как похожа… Но нет, не она, я понимаю это сразу, но почему-то продолжаю всматриваться, словно надеюсь, что зрение меня подвело, и сейчас я с радостью поспешу к дверям в ожидании звонка.
Изборск
Мы приехали в Изборск поздно, попросились на ночлег. Людмила, хозяйка дома, пятьдесят три года, живая, симпатичная, статная (бывшая спортсменка-лыжница). Работает почтальоном. Десять лет назад у нее пропал сын, они тогда жили во Пскове. Он вернулся из армии (служил охранником у Ельцина, красавец), ушел по делам из дома и не вернулся. Сын единственный, мужа нет. Люда, «чтобы не сойти с ума», все продала во Пскове – дом, дачу, и купила в Изборске дом с участком. В доме рыжая собачка Сонька и три кошки. Дом для Люды – живой, каждый уголок дома, огорода, сада ухожен, любовно украшен, масса цветов, между цветов выложен маленький бассейн, между камней бассейна «живут» игрушки – черепашки, лягушки, все добротно: горшки для цветов выкрашены серебристой краской, старинная деревянная игрушка-лебедь – белилами. Все сделано с умом, не торопясь. К Люде приезжает много знакомых и незнакомых, всем она находит место для постоя.
Все это спасает ее от кромешной тоски по потерянному сыну. О сыне ничего не известно, просто пропал, нашли какие-то косточки, сказали, что его, похоронила, ухаживает за могилой, но чувствуется, что не верит, что сын мертв.
* * *
Утром еду на работу – в вагон метро входит симпатичная, прилично одетая женщина – полная блондинка, немножко пьяненькая, садится на свободное сиденье и начинает негромко плакать-причитать:
– Господи, мне уже пятьдесят пять, представляете, пятьдесят пять!
Это было так печально и трогательно, что никто не смеялся, а, кажется, наоборот, все понимали и сочувствовали ей.
* * *
Восточная пожилая женщина, коренастая, одета в темные одежды, на голове темный платок, ведет за руку девочку лет шести, вероятно, любимую внучку. Девчушка в ярком розовом платье, сверх всякой меры украшенном пышными оборками и бантами – прекрасный цветок в жизни бабушки. Но неужели и она, повзрослев, будет такая – с тяжелой походкой, закутанная в черное, усталая женщина!
Как прекрасно быть молодой и красивой, с атласной кожей, упругим телом, легкой походкой. Глаза лучатся, волосы вьются и играют, рассыпаясь по плечам. Достаточно легкого мазка губной помады, нескольких взмахов кисточки с тушью и ты неотразима, мужчины ловят твой взгляд, молодые парни оборачиваются и смотрят вслед.
А ты идешь, мягко улыбаясь, не глядя на них, но чувствуя их внимание, и ты благодарна им, ты их всех любишь, просто так, ни на что не претендуя. Ты не спешишь с выбором, зачем, это так приятно, знать, что ты желанна, притягательна, но не принадлежишь пока никому. Ты ждешь чуда, и знаешь, что оно придет. Ты же так любишь этот мир, и мир любит тебя, и купаясь в этой любви, ты светишься, ты излучаешь радость, в каждом движении твоего тела – спокойствие женственности. Неужели этого мало, чтобы чудо произошло!
И оно происходит! Ты заглядываешь ему в глаза и вдруг понимаешь, что уже не надо ни о чем беспокоиться, что он рядом. И ты чувствуешь нетерпеливое молодое желание мужского тела, он мучительно скрывает его за легкой усмешкой, за бравадой или даже за небрежностью тона, и тебе его жаль, тебе хочется сказать: ну что ты, любимый, не спеши, у нас все будет хорошо! И ты смеешься в ответ на его шутки, ты не обращаешь внимания на его неловкость, понимая, что пока ему труднее, чем тебе. Он же не знает еще, что ты его выбрала.
А потом весь свет, всю радость – ему. Не отмеривая, не оставляя впрок – все разом. Нежность, чувственность, страсть – все, что копилось в тебе, все, что ты так бережно хранила в себе, скрывала за легкой застенчивостью. Он растерян, он не ожидал такой щедрости, и ты мысленно умоляешь его принять этот дар, ведь он принадлежит ему по праву. Ты так долго его ждала, целую жизнь без него, теперь надо только поверить и принять.
РЕВНОСТЬ
Она ревновала мужа всю жизнь. Ревновала тяжело, мучительно. Стыдилась этого жгучего чувства, скрывала от него, от других, но ничего не могла с собой поделать. Ревность разъедала ее душу, как кислота металл. Иногда ревность прорывалась безобразными сценами, от которых она же и страдала. Муж, изумляясь, спрашивал: «Ты что, ревнуешь? Глупышка!» – и целовал ее в висок, в пушистую прядку. Она успокаивалась, страдающая ее душа утешалась, она смотрела на мир сияющими глазами, а потом опять что-то случалось: странный звонок, улыбка встречной женщины, его рассеянный взгляд, скользнувший по ногам стройной незнакомки. И душа начинала корчиться. Но корчи свои она старалась из всех сил скрыть, затаить там, где сидел этот страшный зверек – ревность.
Она никуда не отпускала его одного. За город, в отпуск, к приятелям мужа они всегда ездили вместе. Все друзья считали их самой счастливой парой, да так оно и было. Муж совсем не тяготился несвободой, он любил жену, и ее постоянное присутствие его не утомляло. Да она и не хотела его утомлять, она просто всегда была поблизости.
С годами здоровье ее резко ухудшилось. Она уже совсем не выносила одиночества. У нее начинались приступы страха, удушья, когда муж уходил куда-нибудь надолго. Он сердился, уговаривал ее сходить к врачу. Она соглашалась, ходила к врачам, рассказывала про удушье, про страх, но ничего не говорила о ревности. Врачи прописывали ей транквилизаторы, предлагали ей разные методы лечения. Она соглашалась, лечилась, но муж все чаще был вынужден брать ее с собой: на работу, в библиотеки. К этому все привыкли, относились к ней с мягким сочувствием, намекали на климакс, мол, потом все пройдет. Она согласно кивала, улыбалась, пила транквилизаторы, но муж не мог ее оставить одну уже ни на минуту. Когда приходилось ему все-таки уезжать, договаривался с дочерью, и дочь бросала все свои дела, приходила «пасти» мать, как она выражалась. Потом дочь уехала. С мужем и детьми в США. Стало еще хуже. Приходилось приглашать соседку в момент отлучки мужа. Благо это была милая, добрая женщина, соседи дружили «домами», ходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками. Поэтому было не стыдно звать на помощь. Соседи все понимали. Но они тоже ничего не знали о ревности.
Но однажды все это кончилось. Ревность ушла навсегда. Муж попал в автомобильную аварию, получил серьезную травму позвоночника, лежал. Теперь он всегда был с ней. И она успокоилась, расцвела, хлопотала вокруг мужа день и ночь. Куда-то подевались и удушье, и страхи. Она без устали бегала по всему городу за редкими лекарствами, стойко выдерживала все бюрократические препоны медкомиссий, сидела часами в интернете, ища альтернативные способы лечения позвоночника, находила каких-то чудо-целителей и так день за днем, без всякого нервного напряжения и надрыва. За мужем ухаживала сильная, волевая, любящая жена. Исполнялся любой его каприз, любое его желание было законом. Муж изумлялся ее терпению, ее самоотверженности, чувствовал к ней бесконечную благодарность и любил ее еще больше. Она была счастлива.
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Лето в городе
Город играет в снежки. Ветерок гоняет легкие перекати-поле тополиного пуха. Они летят сверху и поднимаются снизу, скатываются в теплые воздушные шары, забиваются во все щели и открытые окна, кидаются под ноги изнемогающим от жары прохожим, запутываются в волосах, прилипают к ресницам. И нет от них спасения до первого теплого дождичка. Вода наконец-то утихомиривает игривые вездесущие пушинки, пышные шары превращаются в жалкую слякоть, струи дождя вбивают ее в землю, в траву, и грязные потоки уносят их прочь. Городу становится скучно. Лениво отражаясь в зеркалах луж, он терпеливо ждет, когда солнце хорошенько просушит крыши домов, траву и деревья, дорожки и тротуары. И тополя. Чтобы город снова смог играть в теплые легкие веселые снежки.
Ожидание
Июнь. Тихий светлый вечер. Я стою у окна и смотрю на прохожих. Подошел трамвай, народ высыпал из вагона, словно горох из стручка. Ловлю себя на том, что невольно ищу среди спешащих в разные стороны людей знакомый силуэт. Вот девушка с пышными, как у дочки, волосами грациозно вышагивает по тротуару, приближаясь к нашему дому. Джинсики, элегантная облегающая курточка, сумка через плечо – как похожа… Но нет, не она, я понимаю это сразу, но почему-то продолжаю всматриваться, словно надеюсь, что зрение меня подвело, и сейчас я с радостью поспешу к дверям в ожидании звонка.
Изборск
Мы приехали в Изборск поздно, попросились на ночлег. Людмила, хозяйка дома, пятьдесят три года, живая, симпатичная, статная (бывшая спортсменка-лыжница). Работает почтальоном. Десять лет назад у нее пропал сын, они тогда жили во Пскове. Он вернулся из армии (служил охранником у Ельцина, красавец), ушел по делам из дома и не вернулся. Сын единственный, мужа нет. Люда, «чтобы не сойти с ума», все продала во Пскове – дом, дачу, и купила в Изборске дом с участком. В доме рыжая собачка Сонька и три кошки. Дом для Люды – живой, каждый уголок дома, огорода, сада ухожен, любовно украшен, масса цветов, между цветов выложен маленький бассейн, между камней бассейна «живут» игрушки – черепашки, лягушки, все добротно: горшки для цветов выкрашены серебристой краской, старинная деревянная игрушка-лебедь – белилами. Все сделано с умом, не торопясь. К Люде приезжает много знакомых и незнакомых, всем она находит место для постоя.
Все это спасает ее от кромешной тоски по потерянному сыну. О сыне ничего не известно, просто пропал, нашли какие-то косточки, сказали, что его, похоронила, ухаживает за могилой, но чувствуется, что не верит, что сын мертв.
* * *
Утром еду на работу – в вагон метро входит симпатичная, прилично одетая женщина – полная блондинка, немножко пьяненькая, садится на свободное сиденье и начинает негромко плакать-причитать:
– Господи, мне уже пятьдесят пять, представляете, пятьдесят пять!
Это было так печально и трогательно, что никто не смеялся, а, кажется, наоборот, все понимали и сочувствовали ей.
* * *
Восточная пожилая женщина, коренастая, одета в темные одежды, на голове темный платок, ведет за руку девочку лет шести, вероятно, любимую внучку. Девчушка в ярком розовом платье, сверх всякой меры украшенном пышными оборками и бантами – прекрасный цветок в жизни бабушки. Но неужели и она, повзрослев, будет такая – с тяжелой походкой, закутанная в черное, усталая женщина!
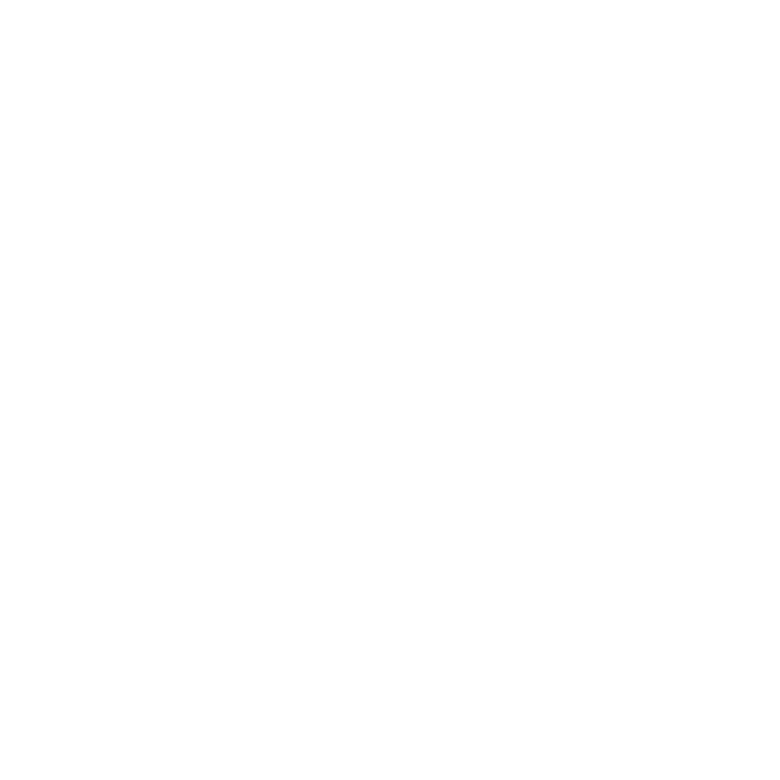
Александр БАЖЕНОВ
Родился в 1993 г. в Новоуральске Свердловской области. Окончил школу № 56 г. Новоуральска. Учился в Уральском Геологическом Горном Университете. Проживает в городе Екатеринбурге. Пишет в основном в классическом стиле, занимается этим с 9 лет. Кредо автора – поэзия, основное место в которой занимают пейзажи в стихах. В 2016 году награждён дипломом от Министерства культуры Свердловской области «За активное и плодотворное участие в возрождении традиций отечественной словесности». Победитель конкурса «О Родине от мала до велика» 2023 г. Публиковался в периодических альманахах «Созвучие», «Воскресенье», «Марафон», «Классики и современники», «Пиши про», «Противоречие», «Царицын», «Фонарь». Печатался в Новоуральских газетах «Нейва» и «Наша городская газета». Имеет 5 изданных авторских сборников.
Родился в 1993 г. в Новоуральске Свердловской области. Окончил школу № 56 г. Новоуральска. Учился в Уральском Геологическом Горном Университете. Проживает в городе Екатеринбурге. Пишет в основном в классическом стиле, занимается этим с 9 лет. Кредо автора – поэзия, основное место в которой занимают пейзажи в стихах. В 2016 году награждён дипломом от Министерства культуры Свердловской области «За активное и плодотворное участие в возрождении традиций отечественной словесности». Победитель конкурса «О Родине от мала до велика» 2023 г. Публиковался в периодических альманахах «Созвучие», «Воскресенье», «Марафон», «Классики и современники», «Пиши про», «Противоречие», «Царицын», «Фонарь». Печатался в Новоуральских газетах «Нейва» и «Наша городская газета». Имеет 5 изданных авторских сборников.
ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
Они встретились под сводами старой обсерватории, где воздух был пропитан запахом пыльных книг и далеких галактик. Он – художник, чьи полотна оживали под прикосновением кисти, но чьи глаза видели не цвета, а вибрации света. Она – музыкант, чьи мелодии сплетались из шепота ветра и пульсации звезд, но чьи пальцы касались клавиш, словно пытаясь уловить невидимые струны мироздания.
Их любовь была не из тех, что расцветают на земле, под солнцем и дождем. Она родилась в тишине между вдохами, в мерцании глаз, отражающих бесконечность. Они говорили на языке, понятном лишь им двоим – языке образов, звуков и ощущений, которые не имели названия в обыденном мире.
Он рисовал её портреты, но на холсте появлялись не черты лица, а созвездия, сплетающиеся в ее улыбке, и туманности, мерцающие в глубине ее взгляда. Она играла для него, и в ее музыке звучали отголоски космических симфоний, шелест черных дыр и тихий плач умирающих звезд.
Их мир был соткан из тончайших нитей, которые обычные люди не могли ни увидеть, ни почувствовать. Они были как два осколка одной древней звезды, случайно оказавшиеся на одной планете, но чьи траектории были предначертаны разными путями.
Однажды, когда луна была полной и серебрила крышу обсерватории, они сидели рядом, держась за руки. Его пальцы ощущали не тепло ее кожи, а легкое покалывание энергии, исходящей от нее, словно от далекого светила. Их сердца бились в унисон друг с другом, но этот ритм был слишком быстрым, чересчур медленным, но всегда иным для земного существования.
«Мы как две кометы, что пролетают мимо друг друга в бездне,» – прошептал он, его голос звучал как эхо далеких миров.
«Но даже мимолетное столкновение оставляет след, – ответила она, ее глаза сияли печальной мудростью. – След, который будет гореть вечно в наших сердцах.»
Они знали, что их время на этой земле ограничено. Их души были слишком легкими и прозрачными для плотного мира. Они были как птицы, рожденные для полета в разреженном воздухе космоса, но вынужденные жить в густой атмосфере планеты.
Их расставание не было драмой, не было слезами. Это было тихое, неизбежное возвращение каждого к своей истинной природе. Он ушел рисовать новые галактики на холстах, которые никто не мог понять. Она ушла играть свои мелодии для звезд, которые слышали лишь ее.
Но иногда, в тихие ночи, когда небо усыпано бриллиантами звезд, можно услышать отголосок их любви. Это может быть легкий шёпот ветра, несущий в себе оттенок неведомой мелодии, или внезапное мерцание далекой звезды, напоминающее о взгляде, полном вселенской нежности…
Они не были вместе в привычном понимании этого слова. Но их любовь, рожденная из звездной пыли и сотканная из невидимых нитей, навсегда осталась эхом в бесконечности, доказательством того, что истинная связь может существовать даже там, где нет места для обычных земных чувств. И это эхо, тихое и вечное, было их единственным, но самым глубоким смыслом.
НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЭТ
Его стихи были как осколки звезд, упавшие в темный колодец. Яркие, острые, полные невысказанной боли и неземной красоты, они оставались невидимыми для мира, который предпочитал блеск дешевых побрякушек. Он жил в крохотной мансарде, где единственными слушателями его рифм были скрипучие половицы и ветер, завывающий в щелях.
Его звали Матвей. Имя, которое когда-то звучало как обещание силы и света, теперь казалось насмешкой. Он писал о закатах, которые никто не видел, о чувствах, которые никто не испытывал, о правде, которую никто не хотел слышать. Его слова были драгоценными камнями, которые он бросал в бездну равнодушия. Он зарабатывал на пропитание редактурой текстов, но по-настоящему жил только в поэзии.
Однажды, в порыве отчаяния, он сжег свои рукописи. Пламя пожирало строки, которые являлись частью его души. Он смотрел, как пепел оседает на полу, и чувствовал, как вместе с ним умирает и он сам. Но в тот момент, когда последний лист превратился в прах, он услышал тихий шепот. Это было эхо его собственных слов, вернувшееся из пустоты.
Матвей понял: его стихи не исчезли. Они стали частью ветра, частью неба, частью самой ткани бытия. Они были там, где их никто не искал, но где они всегда присутствовали. И хотя мир так и не узнал его имени, его слова продолжали жить, невидимые, но вечные.
ПОЛНОТА ПУСТОТЫ
Профессор Элеон Торн, чье имя произносилось шёпотом в академических кругах с благоговением и легким страхом, сидел в своем кабинете, залитом мягким светом настольной лампы. Его пальцы, тонкие и нервные, перебирали старинные четки, каждый шарик которых, казалось, хранил в себе отголоски веков. Элеон был гением, чьи мысли проникали в самые потаенные уголки человеческого бытия, но сегодня его гений казался ему лишь бледным отражением чего-то большего, чего-то неуловимого.
Его последняя книга «Симфония Молчания» вызвала бурю. Одни называли её прорывом, другие – ересью. В ней Элеон утверждал, что истинное понимание мира лежит не в словах, а в паузах между ними, в тишине, которая окружает каждое явное. Он говорил о «Великом Невысказанном», о той первозданной пустоте, из которой рождается всё сущее и в которую всё возвращается.
Сегодня, однако, его собственные слова казались ему пустыми. Он смотрел на свои руки, на морщины, испещрившие их, как карта прожитых лет и невысказанных истин. Он был как художник, который создал шедевр, но теперь не мог увидеть его в полной мере, потому что сам стал частью холста.
Внезапно, его взгляд упал на старую фотографию на столе. На ней был он, молодой, полный огня, рядом с его первой любовью, Лилией. Ее глаза, смеющиеся и полные жизни, казалось, смотрели сквозь время. Лилия ушла много лет назад, оставив после себя лишь эхо смеха и аромат забытых цветов.
Элеон вспомнил их первый разговор, когда он, еще студент, пытался объяснить ей свою теорию о «смысле в бессмыслице». Лилия, тогда просто улыбнулась и сказала: «Элеон, иногда самый глубокий смысл кроется в том, что мы не можем объяснить. Как твоя любовь ко мне, например».
Он тогда не понял. Он искал логику, структуру, формулу. А она говорила о чувстве, о том, что нельзя измерить или доказать.
Сейчас, сидя в своей тишине, Элеон понял. Его «Симфония Молчания» была не о пустоте, а о полноте. О той полноте, которая рождается из принятия неопределенности, из любви, которая не требует объяснений, из жизни, которая не нуждается в оправданиях.
Он взял четки и сжал их в руке. Каждый шарик, гладкий и холодный, казался ему теперь не отголоском прошлого, а предвкушением будущего. Того, где он, возможно, наконец, сможет услышать не только эхо, но и саму музыку, звучащую в «Великом Невысказанном», в тишине, которая есть все.
Он поднял голову и посмотрел в окно. За ним простирался город, полный шума и суеты. Но для Элеона Торна, гениального философа современности, этот шум теперь казался лишь далеким шепотом, а истинная симфония звучала в его собственной, обретенной тишине. И в этой тишине, он наконец, почувствовал себя не одиноким, а частью чего-то бесконечно большего.
ЗОЛОТАЯ КРОШКА
Старый Петр, чьи ладони были грубыми, как кора векового дуба, сидел на холодном камне у парадного входа в сверкающий небоскреб. Его одежда, некогда добротная, теперь была лишь лоскутным одеялом, хранящим тепло воспоминаний. Он наблюдал, как из дверей выходят люди в дорогих костюмах, с блестящими портфелями, их шаги отдавались эхом уверенности и достатка.
Сегодня из дверей вышел он, господин в зелёном галстуке. Его костюм был безупречен, часы на запястье сверкали, как маленькое солнце. Он остановился, заметив Петра, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на любопытство, смешанное с легким пренебрежением.
«Что тебе нужно, старик?» – голос господина был ровным, как отполированный мрамор.
Петр поднял голову, его глаза, глубокие, как колодцы, смотрели прямо в глаза выхолощенного человека в зелёном галстуке.
– Ничего, господин. Просто смотрю на мир.
В ответ последовала усмешка: «Мир? Ты видишь мир из этой грязи?» Он кивнул на пыль, осевшую на потрепанных ботинках Петра.
«Я вижу его иначе, – тихо ответил старик. Я вижу, как солнце отражается в ваших окнах, как птицы садятся на ваших крышах. Я вижу, как люди спешат, и иногда забывают остановиться и вдохнуть.»
Господин пожал плечами: «Это все иллюзии. Реальность – это цифры, счета, власть.» Он достал из кармана монету, блестящую, как слеза. «Вот тебе. На хлеб. И не мешай мне».
Он протянул монету. Петр не взял ее. Его взгляд скользнул по металлу, а затем снова вернулся к лицу человека в зелёном галстуке.
«Спасибо, господин, – сказал Петр, – но мне не нужна ваша золотая крошка.»
Господин удивленно поднял бровь.
– Что? Ты отказываешься?
– Я отказываюсь от того, что не могу удержать, – ответил Петр. Ваше золото – оно как песок сквозь пальцы. А то, что я вижу… оно остается со мной.
Он указал на небо, где облака медленно плыли, словно корабли в безбрежном океане: «Вот это – мое богатство. И тишина, которая приходит с ним. И воспоминания о тех, кого я любил. Этого у вас не купишь, господин.»
Человек в зелёном галстуке молчал. Впервые за долгое время он почувствовал себя… пустым. Его сверкающий мир, построенный на цифрах и власти, вдруг показался ему хрупким, как полый стеклянный шар. Он посмотрел на Петра, на его морщинистое лицо, освещенное мягким вечерним солнцем, и увидел в нем не нищего, а хранителя чего-то гораздо более ценного.
Он не взял монету обратно, а оставил её лежать на холодном камне, как немого свидетеля их короткого разговора. Затем, повернувшись, вошел в свой сверкающий небоскреб, но на этот раз его шаги звучали иначе. В них появилась легкая неуверенность, а в глазах – тень задумчивости.
А старый Петр, все так же сидел на камне, пока его никто не гнал…
Он сидел до самого заката и смотрел на звезды, которые начинали появляться на темнеющем небе. И в его глазах отражалась не только их холодная, далекая красота, но и теплое, живое сияние собственной души. Золотая крошка, оставленная на камне, тускло мерцала в сумерках, словно забытый осколок чужой, поверхностной жизни. Петр не смотрел на нее.
Его взгляд был устремлен вверх, туда, где не было ни стен, ни дверей, ни границ. Там, где его истинное богатство, невидимое и неосязаемое, простиралось бесконечно. Он знал, что господин в зелёном галстуке, возможно, никогда больше не увидит его, но этот короткий миг, эта золотая крошка, оставленная на холодном камне, стала для богача не просто монетой, а зерном сомнения, посеянным в плодородную почву его собственной, еще не до конца осознанной пустоты.
И Петр, в своей нищете, чувствовал себя не просителем, а дарителем – дарителем взгляда, который мог увидеть истинную ценность там, где другие видели лишь пыль и холод.
ПАЦИЕНТ №7
Его звали Лев. Не то чтобы это имя что-то значило для тех, кто теперь держал его в своих стерильных объятиях. Для них он был просто «пациент №7», блуждающий призрак в лабиринте белых стен и тихих коридоров. Лев, чьи мысли когда-то были галактиками, а слова – искрами, зажигающими новые звезды в умах других, теперь смотрел на мир сквозь мутное стекло окон, где отражалось лишь его собственное, искаженное лицо.
Его гений был не в формулах или изобретениях, а в способности видеть связи там, где другие видели лишь хаос. Он слышал музыку в шёпоте ветра, видел узоры в трещинах на асфальте, понимал язык птиц, который, как он утверждал, был древнее всех человеческих наречий. Но мир, привыкший к линейности и предсказуемости, не мог вместить его. Его «видения» были названы бредом, его «прозрения» – галлюцинациями.
Его поместили сюда после того, как он попытался объяснить докторам, что время – это не река, а скорее океан, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, и что мы лишь скользим по его поверхности, не осознавая глубины. Его слова были встречены снисходительными улыбками и быстрыми назначениями.
Теперь его дни проходили в монотонном ритме. Утренние таблетки, похожие на мелкие, безвкусные камни, притупляли остроту его восприятия. Часы, проведенные в общей комнате, где другие пациенты бормотали свои собственные, искаженные миры, казались вечностью. Но даже здесь, в этом белом лабиринте, Лев находил свои зеркала.
Он видел их в глазах медсестер, полных усталости, в которых отражалась его собственная беспомощность. Он видел их в узорах на линолеуме, которые складывались в причудливые, но знакомые ему символы. Он видел их в тишине, которая, казалось, говорила громче любых слов, раскрывая ему тайны, которые он когда-то пытался донести до мира.
Однажды, сидя у окна, он увидел, как маленький воробей, смело преодолевая ветер, приземлился на ветку за зарешёченным окном. Птица склонила голову, словно слушая что-то, недоступное человеческому уху. Лев улыбнулся. Он знал, что воробей слышит. Он внимал той же музыке, что и он.
В этот момент Лев понял. Его гений не был болезнью. Это был просто другой способ видеть. Мир, который его отверг, был слишком узким и ограниченным. Он был как комната с одним окном, где люди боялись заглянуть за пределы привычного.
Он больше не пытался объяснить. Он просто наблюдал. Он видел, как в глазах некоторых медсестер мелькает искра понимания, когда он тихонько напевал мелодию, которую, как он знал, слышали только они. Он видел, как один из пациентов, обычно погруженный в себя, вдруг поднял голову, услышав шепот ветра, который Лев интерпретировал как древнее приветствие.
Его гений не исчез. Он просто стал тише, глубже, более интровертным. Он стал зеркалом, отражающим не только его собственное одиночество, но и скрытые возможности, которые таились в каждом, кто был заключен в этот белый лабиринт. И, возможно, однажды, кто-то заглянет в это зеркало и увидит не безумие, а другую, более полную реальность, где музыка ветра и язык птиц – это не бред, а лишь начало великого, нерассказанного повествования.
Они встретились под сводами старой обсерватории, где воздух был пропитан запахом пыльных книг и далеких галактик. Он – художник, чьи полотна оживали под прикосновением кисти, но чьи глаза видели не цвета, а вибрации света. Она – музыкант, чьи мелодии сплетались из шепота ветра и пульсации звезд, но чьи пальцы касались клавиш, словно пытаясь уловить невидимые струны мироздания.
Их любовь была не из тех, что расцветают на земле, под солнцем и дождем. Она родилась в тишине между вдохами, в мерцании глаз, отражающих бесконечность. Они говорили на языке, понятном лишь им двоим – языке образов, звуков и ощущений, которые не имели названия в обыденном мире.
Он рисовал её портреты, но на холсте появлялись не черты лица, а созвездия, сплетающиеся в ее улыбке, и туманности, мерцающие в глубине ее взгляда. Она играла для него, и в ее музыке звучали отголоски космических симфоний, шелест черных дыр и тихий плач умирающих звезд.
Их мир был соткан из тончайших нитей, которые обычные люди не могли ни увидеть, ни почувствовать. Они были как два осколка одной древней звезды, случайно оказавшиеся на одной планете, но чьи траектории были предначертаны разными путями.
Однажды, когда луна была полной и серебрила крышу обсерватории, они сидели рядом, держась за руки. Его пальцы ощущали не тепло ее кожи, а легкое покалывание энергии, исходящей от нее, словно от далекого светила. Их сердца бились в унисон друг с другом, но этот ритм был слишком быстрым, чересчур медленным, но всегда иным для земного существования.
«Мы как две кометы, что пролетают мимо друг друга в бездне,» – прошептал он, его голос звучал как эхо далеких миров.
«Но даже мимолетное столкновение оставляет след, – ответила она, ее глаза сияли печальной мудростью. – След, который будет гореть вечно в наших сердцах.»
Они знали, что их время на этой земле ограничено. Их души были слишком легкими и прозрачными для плотного мира. Они были как птицы, рожденные для полета в разреженном воздухе космоса, но вынужденные жить в густой атмосфере планеты.
Их расставание не было драмой, не было слезами. Это было тихое, неизбежное возвращение каждого к своей истинной природе. Он ушел рисовать новые галактики на холстах, которые никто не мог понять. Она ушла играть свои мелодии для звезд, которые слышали лишь ее.
Но иногда, в тихие ночи, когда небо усыпано бриллиантами звезд, можно услышать отголосок их любви. Это может быть легкий шёпот ветра, несущий в себе оттенок неведомой мелодии, или внезапное мерцание далекой звезды, напоминающее о взгляде, полном вселенской нежности…
Они не были вместе в привычном понимании этого слова. Но их любовь, рожденная из звездной пыли и сотканная из невидимых нитей, навсегда осталась эхом в бесконечности, доказательством того, что истинная связь может существовать даже там, где нет места для обычных земных чувств. И это эхо, тихое и вечное, было их единственным, но самым глубоким смыслом.
НЕПРИЗНАННЫЙ ПОЭТ
Его стихи были как осколки звезд, упавшие в темный колодец. Яркие, острые, полные невысказанной боли и неземной красоты, они оставались невидимыми для мира, который предпочитал блеск дешевых побрякушек. Он жил в крохотной мансарде, где единственными слушателями его рифм были скрипучие половицы и ветер, завывающий в щелях.
Его звали Матвей. Имя, которое когда-то звучало как обещание силы и света, теперь казалось насмешкой. Он писал о закатах, которые никто не видел, о чувствах, которые никто не испытывал, о правде, которую никто не хотел слышать. Его слова были драгоценными камнями, которые он бросал в бездну равнодушия. Он зарабатывал на пропитание редактурой текстов, но по-настоящему жил только в поэзии.
Однажды, в порыве отчаяния, он сжег свои рукописи. Пламя пожирало строки, которые являлись частью его души. Он смотрел, как пепел оседает на полу, и чувствовал, как вместе с ним умирает и он сам. Но в тот момент, когда последний лист превратился в прах, он услышал тихий шепот. Это было эхо его собственных слов, вернувшееся из пустоты.
Матвей понял: его стихи не исчезли. Они стали частью ветра, частью неба, частью самой ткани бытия. Они были там, где их никто не искал, но где они всегда присутствовали. И хотя мир так и не узнал его имени, его слова продолжали жить, невидимые, но вечные.
ПОЛНОТА ПУСТОТЫ
Профессор Элеон Торн, чье имя произносилось шёпотом в академических кругах с благоговением и легким страхом, сидел в своем кабинете, залитом мягким светом настольной лампы. Его пальцы, тонкие и нервные, перебирали старинные четки, каждый шарик которых, казалось, хранил в себе отголоски веков. Элеон был гением, чьи мысли проникали в самые потаенные уголки человеческого бытия, но сегодня его гений казался ему лишь бледным отражением чего-то большего, чего-то неуловимого.
Его последняя книга «Симфония Молчания» вызвала бурю. Одни называли её прорывом, другие – ересью. В ней Элеон утверждал, что истинное понимание мира лежит не в словах, а в паузах между ними, в тишине, которая окружает каждое явное. Он говорил о «Великом Невысказанном», о той первозданной пустоте, из которой рождается всё сущее и в которую всё возвращается.
Сегодня, однако, его собственные слова казались ему пустыми. Он смотрел на свои руки, на морщины, испещрившие их, как карта прожитых лет и невысказанных истин. Он был как художник, который создал шедевр, но теперь не мог увидеть его в полной мере, потому что сам стал частью холста.
Внезапно, его взгляд упал на старую фотографию на столе. На ней был он, молодой, полный огня, рядом с его первой любовью, Лилией. Ее глаза, смеющиеся и полные жизни, казалось, смотрели сквозь время. Лилия ушла много лет назад, оставив после себя лишь эхо смеха и аромат забытых цветов.
Элеон вспомнил их первый разговор, когда он, еще студент, пытался объяснить ей свою теорию о «смысле в бессмыслице». Лилия, тогда просто улыбнулась и сказала: «Элеон, иногда самый глубокий смысл кроется в том, что мы не можем объяснить. Как твоя любовь ко мне, например».
Он тогда не понял. Он искал логику, структуру, формулу. А она говорила о чувстве, о том, что нельзя измерить или доказать.
Сейчас, сидя в своей тишине, Элеон понял. Его «Симфония Молчания» была не о пустоте, а о полноте. О той полноте, которая рождается из принятия неопределенности, из любви, которая не требует объяснений, из жизни, которая не нуждается в оправданиях.
Он взял четки и сжал их в руке. Каждый шарик, гладкий и холодный, казался ему теперь не отголоском прошлого, а предвкушением будущего. Того, где он, возможно, наконец, сможет услышать не только эхо, но и саму музыку, звучащую в «Великом Невысказанном», в тишине, которая есть все.
Он поднял голову и посмотрел в окно. За ним простирался город, полный шума и суеты. Но для Элеона Торна, гениального философа современности, этот шум теперь казался лишь далеким шепотом, а истинная симфония звучала в его собственной, обретенной тишине. И в этой тишине, он наконец, почувствовал себя не одиноким, а частью чего-то бесконечно большего.
ЗОЛОТАЯ КРОШКА
Старый Петр, чьи ладони были грубыми, как кора векового дуба, сидел на холодном камне у парадного входа в сверкающий небоскреб. Его одежда, некогда добротная, теперь была лишь лоскутным одеялом, хранящим тепло воспоминаний. Он наблюдал, как из дверей выходят люди в дорогих костюмах, с блестящими портфелями, их шаги отдавались эхом уверенности и достатка.
Сегодня из дверей вышел он, господин в зелёном галстуке. Его костюм был безупречен, часы на запястье сверкали, как маленькое солнце. Он остановился, заметив Петра, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на любопытство, смешанное с легким пренебрежением.
«Что тебе нужно, старик?» – голос господина был ровным, как отполированный мрамор.
Петр поднял голову, его глаза, глубокие, как колодцы, смотрели прямо в глаза выхолощенного человека в зелёном галстуке.
– Ничего, господин. Просто смотрю на мир.
В ответ последовала усмешка: «Мир? Ты видишь мир из этой грязи?» Он кивнул на пыль, осевшую на потрепанных ботинках Петра.
«Я вижу его иначе, – тихо ответил старик. Я вижу, как солнце отражается в ваших окнах, как птицы садятся на ваших крышах. Я вижу, как люди спешат, и иногда забывают остановиться и вдохнуть.»
Господин пожал плечами: «Это все иллюзии. Реальность – это цифры, счета, власть.» Он достал из кармана монету, блестящую, как слеза. «Вот тебе. На хлеб. И не мешай мне».
Он протянул монету. Петр не взял ее. Его взгляд скользнул по металлу, а затем снова вернулся к лицу человека в зелёном галстуке.
«Спасибо, господин, – сказал Петр, – но мне не нужна ваша золотая крошка.»
Господин удивленно поднял бровь.
– Что? Ты отказываешься?
– Я отказываюсь от того, что не могу удержать, – ответил Петр. Ваше золото – оно как песок сквозь пальцы. А то, что я вижу… оно остается со мной.
Он указал на небо, где облака медленно плыли, словно корабли в безбрежном океане: «Вот это – мое богатство. И тишина, которая приходит с ним. И воспоминания о тех, кого я любил. Этого у вас не купишь, господин.»
Человек в зелёном галстуке молчал. Впервые за долгое время он почувствовал себя… пустым. Его сверкающий мир, построенный на цифрах и власти, вдруг показался ему хрупким, как полый стеклянный шар. Он посмотрел на Петра, на его морщинистое лицо, освещенное мягким вечерним солнцем, и увидел в нем не нищего, а хранителя чего-то гораздо более ценного.
Он не взял монету обратно, а оставил её лежать на холодном камне, как немого свидетеля их короткого разговора. Затем, повернувшись, вошел в свой сверкающий небоскреб, но на этот раз его шаги звучали иначе. В них появилась легкая неуверенность, а в глазах – тень задумчивости.
А старый Петр, все так же сидел на камне, пока его никто не гнал…
Он сидел до самого заката и смотрел на звезды, которые начинали появляться на темнеющем небе. И в его глазах отражалась не только их холодная, далекая красота, но и теплое, живое сияние собственной души. Золотая крошка, оставленная на камне, тускло мерцала в сумерках, словно забытый осколок чужой, поверхностной жизни. Петр не смотрел на нее.
Его взгляд был устремлен вверх, туда, где не было ни стен, ни дверей, ни границ. Там, где его истинное богатство, невидимое и неосязаемое, простиралось бесконечно. Он знал, что господин в зелёном галстуке, возможно, никогда больше не увидит его, но этот короткий миг, эта золотая крошка, оставленная на холодном камне, стала для богача не просто монетой, а зерном сомнения, посеянным в плодородную почву его собственной, еще не до конца осознанной пустоты.
И Петр, в своей нищете, чувствовал себя не просителем, а дарителем – дарителем взгляда, который мог увидеть истинную ценность там, где другие видели лишь пыль и холод.
ПАЦИЕНТ №7
Его звали Лев. Не то чтобы это имя что-то значило для тех, кто теперь держал его в своих стерильных объятиях. Для них он был просто «пациент №7», блуждающий призрак в лабиринте белых стен и тихих коридоров. Лев, чьи мысли когда-то были галактиками, а слова – искрами, зажигающими новые звезды в умах других, теперь смотрел на мир сквозь мутное стекло окон, где отражалось лишь его собственное, искаженное лицо.
Его гений был не в формулах или изобретениях, а в способности видеть связи там, где другие видели лишь хаос. Он слышал музыку в шёпоте ветра, видел узоры в трещинах на асфальте, понимал язык птиц, который, как он утверждал, был древнее всех человеческих наречий. Но мир, привыкший к линейности и предсказуемости, не мог вместить его. Его «видения» были названы бредом, его «прозрения» – галлюцинациями.
Его поместили сюда после того, как он попытался объяснить докторам, что время – это не река, а скорее океан, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, и что мы лишь скользим по его поверхности, не осознавая глубины. Его слова были встречены снисходительными улыбками и быстрыми назначениями.
Теперь его дни проходили в монотонном ритме. Утренние таблетки, похожие на мелкие, безвкусные камни, притупляли остроту его восприятия. Часы, проведенные в общей комнате, где другие пациенты бормотали свои собственные, искаженные миры, казались вечностью. Но даже здесь, в этом белом лабиринте, Лев находил свои зеркала.
Он видел их в глазах медсестер, полных усталости, в которых отражалась его собственная беспомощность. Он видел их в узорах на линолеуме, которые складывались в причудливые, но знакомые ему символы. Он видел их в тишине, которая, казалось, говорила громче любых слов, раскрывая ему тайны, которые он когда-то пытался донести до мира.
Однажды, сидя у окна, он увидел, как маленький воробей, смело преодолевая ветер, приземлился на ветку за зарешёченным окном. Птица склонила голову, словно слушая что-то, недоступное человеческому уху. Лев улыбнулся. Он знал, что воробей слышит. Он внимал той же музыке, что и он.
В этот момент Лев понял. Его гений не был болезнью. Это был просто другой способ видеть. Мир, который его отверг, был слишком узким и ограниченным. Он был как комната с одним окном, где люди боялись заглянуть за пределы привычного.
Он больше не пытался объяснить. Он просто наблюдал. Он видел, как в глазах некоторых медсестер мелькает искра понимания, когда он тихонько напевал мелодию, которую, как он знал, слышали только они. Он видел, как один из пациентов, обычно погруженный в себя, вдруг поднял голову, услышав шепот ветра, который Лев интерпретировал как древнее приветствие.
Его гений не исчез. Он просто стал тише, глубже, более интровертным. Он стал зеркалом, отражающим не только его собственное одиночество, но и скрытые возможности, которые таились в каждом, кто был заключен в этот белый лабиринт. И, возможно, однажды, кто-то заглянет в это зеркало и увидит не безумие, а другую, более полную реальность, где музыка ветра и язык птиц – это не бред, а лишь начало великого, нерассказанного повествования.
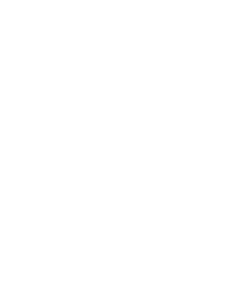
Тамара ТИМОШКИНА
Родилась в Башкортостане. Живет и работает в Новосибирской области. Первые рассказы «Путешествие к истокам» и «Солдатские вдовы и матери» опубликованы в альманахе «Река времени» в № 2 за 2025 год.
Родилась в Башкортостане. Живет и работает в Новосибирской области. Первые рассказы «Путешествие к истокам» и «Солдатские вдовы и матери» опубликованы в альманахе «Река времени» в № 2 за 2025 год.
ЛЮБОВЬ ДЕДА
Время несётся вспять… Я вижу деда Салавата. Рыжеватый, с аккуратно подстриженной бородкой, он с интересом рассматривает стройную девушку, приехавшую с отцом на базар. Салават недавно нанялся конюхом к одному из богатых людей села. Этот край для него – временное пристанище, ведь он из другого района и вынужден переждать какое-то время вдали от родных мест.
Салават украдкой наблюдает за ней. Высокая, худощавая, хорошо одетая – видно, семья не бедствует. Руки сильные, привыкшие к работе. Держится с достоинством. Из-под платка выбиваются непослушные черные кудри, которые она тщетно пытается спрятать. Здесь, на базаре, все друг друга знают, и Салават быстро узнает, кто она и откуда. Оказывается, девушку зовут Хусниямал, и она вдова. Мужа убили – неудивительно, времена лихие. Салават, которого до сих пор не интересовало ничего, кроме лошадей, скачек и погонь, почему-то был поражен ею. Его взгляд, обычно сосредоточенный на стремительном беге лошадей, теперь задержался на ней. Что-то в ее облике, в ее тихом достоинстве, зацепило его. Он, привыкший к грубой силе и скорости, почувствовал неожиданное влечение к этой хрупкой, но сильной женщине.
Салават стал искать хоть мимолетной встречи с ней. Находил предлоги, чтобы съездить в ее деревню и оказаться там, где она могла быть. Случайно проходил мимо ее дома, задерживался у колодца… Каждый раз, когда он видел ее, сердце его начинало биться быстрее, чем после самой напряженной скачки.
Салават принял решение. Несмотря на свою привычную свободу и независимость, он ощутил незримую связь с этой женщиной. Он отправился к ее отцу, чтобы просить руки Хусниямал. Осознавая собственную бедность – ни дома, ни хозяйства – Салават был готов к отказу. Отец выслушал его, вышел к дочери и, сказав ей что-то, позвал ее. Салават увидел, как ее взгляд, сначала настороженный, затем полный растущего любопытства, остановился на нем. В нем было нечто большее, чем просто интерес к молодому мужчине – в нем читалось понимание, возможно, даже сочувствие. Сама Хусниямал, рано овдовевшая, жила в родительском доме и чувствовала себя неловко. Желание иметь свой дом и детей было сильным. Мудрый отец, понимая их чувства, дал согласие на брак и помог молодым обзавестись хозяйством.
Двадцать четыре года их совместной жизни стали испытанием на прочность. Они вместе пережили коллективизацию и голод, вместе оплакивали погибшего на войне сына. Любовь Салавата к Хусниямал оставалась неизменной, он даже посвятил ей песню, чьи отголоски дошли до нас, его внуков. Именно любимая Хусниямал была рядом, когда в 1943 году, вернувшись домой умирать после тяжелой простуды в трудовой армии, дед был на грани жизни и смерти. Бабушка же прожила после него еще тридцать лет.
Годы идут. Иногда перед моими глазами возникает образ деда, скачущего на лихом коне, и в голове звучит его песня:
Тоскую по тебе, Хусниямал,
Изнывая от разлуки с тобой.
Конь вороной несёт меня
К тебе, любимой, родной.
Взмывая к самому небу, выше,
В горы, будто с тобою, лечу.
Предвкушая нашу встречу,
По бескрайним долинам скачу,
Твой платок, словно яркий цветочек,
Твои черные кудри, как ночь,
Я сквозь мглу на огонечек
С замиранием сердца мчусь…
Я слушаю эту песню и понимаю, что любовь деда продолжает жить во мне, в моих братьях и сестрах, будет жить и в моих внуках…
СЧАСТЛИВАЯ
Сагида, четырехлетняя девочка, лежит на мягкой, душистой траве. Ее руки раскинуты, а глаза, прищуренные от солнца, наслаждаются теплом. Старое платье, доставшееся по наследству от старших сестер, выцвело, но это не омрачает ее безмятежности. Босые ноги касаются земли, а две косички обрамляют загорелое лицо, которое ласково щекочут солнечные лучи. Сагида нежится, вдыхая аромат цветов, и сладко зевает.
В воздухе витает предвкушение. Деревня ждет своих сыновей, мужей, отцов, выживших во время войны. Их осталось мало. Отец Сагиды погиб в 1943 году, и она не знает, какими бывают папы. Все мужчины из деревни, кто ушел на фронт, либо погибли, либо еще не вернулись. Однажды, с детской непосредственностью, она спросила мать: «А какими бывают папы?» Мать после недолгой паузы ответила: «Они такие, как дедушка Тимер...» Сагида представила себе сильных и здоровых мужчин, похожих на дедушку.
Мать Сагиды тревожится за брата, Калимуллу, который находится на Дальнем Востоке. Он стал для нее опорой, единственным мужчиной в семье.
Сильные, рослые мужчины ушли на войну, оставив в деревнях семьи с четырьмя, пятью и более детьми. Когда молодая почтальонша приносила похоронки, деревню наполнял скорбный плач жен, матерей и детей. Четырехлетняя Сагида, конечно, не могла осознать весь ужас происходящего. Она играла со своими сверстницами, погруженная в свой детский мир.
Возможно, ее семье повезло. Война не дошла до их деревни, но тяжесть повседневной жизни легла на плечи матери и старших сестер. Они трудились не покладая рук, а Сагида, младшенькая, была окружена заботой и любовью.
В те военные годы голод был постоянным спутником. Муку для хлеба смешивали с желудями, картошкой, жмыхом и даже очистками. Дети не знали вкуса сахара и сладостей. Летом было немного легче: урожай с огорода и собранные травы помогали прожить. Лес давал грибы и ягоды. Электричества в деревне не было. Если удавалось достать керосин, жгли лампадки, а чаще всего пользовались лучинами. Спичек почти не было, поэтому огонь в печи поддерживали постоянно. Если угли гасли, за огоньком шли к соседям.
Бабушка, принимавшая роды у матери, назвала Сагиду счастливой. Ее брат-близнец умер при родах, а она, такая крошечная и слабая, выжила. И вот, лежа на траве, Сагида чувствовала себя счастливой. Не осознавая масштаба трагедии, она ощущала лишь тепло солнца, аромат цветов и заботу своей семьи. Она не знала, что такое война и потеря, но в ее маленьком сердце жила надежда, унаследованная от матери и сестер. Надежда на возвращение брата, на мирную жизнь, на будущее, в котором будут папы, сильные и здоровые, как дедушка Тимер.
Вдруг вдалеке послышался шум. Сагида приподнялась на локтях, прислушиваясь. Звук приближался, становясь все отчетливее. Это была телега, запряженная лошадью. Она медленно ехала по проселочной дороге, поднимая пыль. Сагида узнала телегу председателя колхоза тети Галии. Обычно она ездила на ней по делам в райцентр, но сегодня... Сегодня что-то было не так.
Телега остановилась у крайнего дома деревни. Сагида увидела, как председатель спрыгнула на землю и направилась к калитке. Она знала, кто там живет. Это была семья Аминевых. Их сын, Ахмет, тоже воевал на фронте. Сагида затаила дыхание. Она видела, как председатель долго разговаривала с матерью Ахмета. Женщина слушала, опустив голову. Потом она вдруг вскрикнула и упала на землю. Председатель попыталась поднять ее, но она оттолкнула ее и зарыдала, громко и безутешно.
Сагида испугалась. Она никогда не видела, чтобы кто-то так плакал. Она знала, что это плохо. Очень плохо. Она почувствовала, как в ее маленьком сердце зародился страх. Страх, который она еще не могла объяснить, но который заставил ее съежиться и прижаться к земле.
Она наблюдала, как к дому Аминевых начали сбегаться люди. Женщины причитали, мужчины молча стояли, опустив головы…
Сагида поняла. Она поняла, что телега председателя привезла не только плохие новости для одной семьи. Она привезла горе для всей деревни. Она привезла войну, которая, казалось, не дошла до них, но которая все равно настигла их своими черными крыльями.
Сагида встала и побежала домой. Она хотела к матери, к сестрам. Она хотела спрятаться от этого ужаса, который она только что увидела. Она хотела, чтобы все было, как прежде. Чтобы солнце светило ярко, цветы пахли сладко, а в деревне не было плача и горя.
Она вбежала в дом и бросилась в объятия матери. Мать обняла ее крепко и прижала к себе. Сагида почувствовала себя в безопасности. Но она знала, что эта безопасность – лишь иллюзия. Война всегда была рядом. Она уже давно вошла в их жизнь. И она изменит все. Навсегда.
Так и произошло. Брат, умный, красивый и талантливый, остался навсегда в Манчжурии. Он погиб в бою. Когда мать в сентябре получила похоронку на единственного сына, с которым были связаны все её надежды на будущее, она рухнула. Это известие сильно потрясло её. Сестры кружились вокруг, а Сагида металась между матерью и сёстрами, не зная, как помочь. Она рыдала и тормошила её. Четыре дня мать лежала в забытьи, а потом очнулась, обняла своих девочек и зарыдала. Её слёзы, как ливень, обильно текли по щекам маленькой Сагиды, которая, гладя растрепанные волосы матери, тихонько плакала вместе с ней…
Через десять лет сердце матери даст сбой – её душевные раны так и не затянутся. Младшей дочери, Сагиде, предстоит долгая жизнь, полная как светлых моментов, так и испытаний. Она обретет семью, подарит жизнь детям и станет свидетельницей появления своих правнуков. Её судьба будет счастливой.
Время несётся вспять… Я вижу деда Салавата. Рыжеватый, с аккуратно подстриженной бородкой, он с интересом рассматривает стройную девушку, приехавшую с отцом на базар. Салават недавно нанялся конюхом к одному из богатых людей села. Этот край для него – временное пристанище, ведь он из другого района и вынужден переждать какое-то время вдали от родных мест.
Салават украдкой наблюдает за ней. Высокая, худощавая, хорошо одетая – видно, семья не бедствует. Руки сильные, привыкшие к работе. Держится с достоинством. Из-под платка выбиваются непослушные черные кудри, которые она тщетно пытается спрятать. Здесь, на базаре, все друг друга знают, и Салават быстро узнает, кто она и откуда. Оказывается, девушку зовут Хусниямал, и она вдова. Мужа убили – неудивительно, времена лихие. Салават, которого до сих пор не интересовало ничего, кроме лошадей, скачек и погонь, почему-то был поражен ею. Его взгляд, обычно сосредоточенный на стремительном беге лошадей, теперь задержался на ней. Что-то в ее облике, в ее тихом достоинстве, зацепило его. Он, привыкший к грубой силе и скорости, почувствовал неожиданное влечение к этой хрупкой, но сильной женщине.
Салават стал искать хоть мимолетной встречи с ней. Находил предлоги, чтобы съездить в ее деревню и оказаться там, где она могла быть. Случайно проходил мимо ее дома, задерживался у колодца… Каждый раз, когда он видел ее, сердце его начинало биться быстрее, чем после самой напряженной скачки.
Салават принял решение. Несмотря на свою привычную свободу и независимость, он ощутил незримую связь с этой женщиной. Он отправился к ее отцу, чтобы просить руки Хусниямал. Осознавая собственную бедность – ни дома, ни хозяйства – Салават был готов к отказу. Отец выслушал его, вышел к дочери и, сказав ей что-то, позвал ее. Салават увидел, как ее взгляд, сначала настороженный, затем полный растущего любопытства, остановился на нем. В нем было нечто большее, чем просто интерес к молодому мужчине – в нем читалось понимание, возможно, даже сочувствие. Сама Хусниямал, рано овдовевшая, жила в родительском доме и чувствовала себя неловко. Желание иметь свой дом и детей было сильным. Мудрый отец, понимая их чувства, дал согласие на брак и помог молодым обзавестись хозяйством.
Двадцать четыре года их совместной жизни стали испытанием на прочность. Они вместе пережили коллективизацию и голод, вместе оплакивали погибшего на войне сына. Любовь Салавата к Хусниямал оставалась неизменной, он даже посвятил ей песню, чьи отголоски дошли до нас, его внуков. Именно любимая Хусниямал была рядом, когда в 1943 году, вернувшись домой умирать после тяжелой простуды в трудовой армии, дед был на грани жизни и смерти. Бабушка же прожила после него еще тридцать лет.
Годы идут. Иногда перед моими глазами возникает образ деда, скачущего на лихом коне, и в голове звучит его песня:
Тоскую по тебе, Хусниямал,
Изнывая от разлуки с тобой.
Конь вороной несёт меня
К тебе, любимой, родной.
Взмывая к самому небу, выше,
В горы, будто с тобою, лечу.
Предвкушая нашу встречу,
По бескрайним долинам скачу,
Твой платок, словно яркий цветочек,
Твои черные кудри, как ночь,
Я сквозь мглу на огонечек
С замиранием сердца мчусь…
Я слушаю эту песню и понимаю, что любовь деда продолжает жить во мне, в моих братьях и сестрах, будет жить и в моих внуках…
СЧАСТЛИВАЯ
Сагида, четырехлетняя девочка, лежит на мягкой, душистой траве. Ее руки раскинуты, а глаза, прищуренные от солнца, наслаждаются теплом. Старое платье, доставшееся по наследству от старших сестер, выцвело, но это не омрачает ее безмятежности. Босые ноги касаются земли, а две косички обрамляют загорелое лицо, которое ласково щекочут солнечные лучи. Сагида нежится, вдыхая аромат цветов, и сладко зевает.
В воздухе витает предвкушение. Деревня ждет своих сыновей, мужей, отцов, выживших во время войны. Их осталось мало. Отец Сагиды погиб в 1943 году, и она не знает, какими бывают папы. Все мужчины из деревни, кто ушел на фронт, либо погибли, либо еще не вернулись. Однажды, с детской непосредственностью, она спросила мать: «А какими бывают папы?» Мать после недолгой паузы ответила: «Они такие, как дедушка Тимер...» Сагида представила себе сильных и здоровых мужчин, похожих на дедушку.
Мать Сагиды тревожится за брата, Калимуллу, который находится на Дальнем Востоке. Он стал для нее опорой, единственным мужчиной в семье.
Сильные, рослые мужчины ушли на войну, оставив в деревнях семьи с четырьмя, пятью и более детьми. Когда молодая почтальонша приносила похоронки, деревню наполнял скорбный плач жен, матерей и детей. Четырехлетняя Сагида, конечно, не могла осознать весь ужас происходящего. Она играла со своими сверстницами, погруженная в свой детский мир.
Возможно, ее семье повезло. Война не дошла до их деревни, но тяжесть повседневной жизни легла на плечи матери и старших сестер. Они трудились не покладая рук, а Сагида, младшенькая, была окружена заботой и любовью.
В те военные годы голод был постоянным спутником. Муку для хлеба смешивали с желудями, картошкой, жмыхом и даже очистками. Дети не знали вкуса сахара и сладостей. Летом было немного легче: урожай с огорода и собранные травы помогали прожить. Лес давал грибы и ягоды. Электричества в деревне не было. Если удавалось достать керосин, жгли лампадки, а чаще всего пользовались лучинами. Спичек почти не было, поэтому огонь в печи поддерживали постоянно. Если угли гасли, за огоньком шли к соседям.
Бабушка, принимавшая роды у матери, назвала Сагиду счастливой. Ее брат-близнец умер при родах, а она, такая крошечная и слабая, выжила. И вот, лежа на траве, Сагида чувствовала себя счастливой. Не осознавая масштаба трагедии, она ощущала лишь тепло солнца, аромат цветов и заботу своей семьи. Она не знала, что такое война и потеря, но в ее маленьком сердце жила надежда, унаследованная от матери и сестер. Надежда на возвращение брата, на мирную жизнь, на будущее, в котором будут папы, сильные и здоровые, как дедушка Тимер.
Вдруг вдалеке послышался шум. Сагида приподнялась на локтях, прислушиваясь. Звук приближался, становясь все отчетливее. Это была телега, запряженная лошадью. Она медленно ехала по проселочной дороге, поднимая пыль. Сагида узнала телегу председателя колхоза тети Галии. Обычно она ездила на ней по делам в райцентр, но сегодня... Сегодня что-то было не так.
Телега остановилась у крайнего дома деревни. Сагида увидела, как председатель спрыгнула на землю и направилась к калитке. Она знала, кто там живет. Это была семья Аминевых. Их сын, Ахмет, тоже воевал на фронте. Сагида затаила дыхание. Она видела, как председатель долго разговаривала с матерью Ахмета. Женщина слушала, опустив голову. Потом она вдруг вскрикнула и упала на землю. Председатель попыталась поднять ее, но она оттолкнула ее и зарыдала, громко и безутешно.
Сагида испугалась. Она никогда не видела, чтобы кто-то так плакал. Она знала, что это плохо. Очень плохо. Она почувствовала, как в ее маленьком сердце зародился страх. Страх, который она еще не могла объяснить, но который заставил ее съежиться и прижаться к земле.
Она наблюдала, как к дому Аминевых начали сбегаться люди. Женщины причитали, мужчины молча стояли, опустив головы…
Сагида поняла. Она поняла, что телега председателя привезла не только плохие новости для одной семьи. Она привезла горе для всей деревни. Она привезла войну, которая, казалось, не дошла до них, но которая все равно настигла их своими черными крыльями.
Сагида встала и побежала домой. Она хотела к матери, к сестрам. Она хотела спрятаться от этого ужаса, который она только что увидела. Она хотела, чтобы все было, как прежде. Чтобы солнце светило ярко, цветы пахли сладко, а в деревне не было плача и горя.
Она вбежала в дом и бросилась в объятия матери. Мать обняла ее крепко и прижала к себе. Сагида почувствовала себя в безопасности. Но она знала, что эта безопасность – лишь иллюзия. Война всегда была рядом. Она уже давно вошла в их жизнь. И она изменит все. Навсегда.
Так и произошло. Брат, умный, красивый и талантливый, остался навсегда в Манчжурии. Он погиб в бою. Когда мать в сентябре получила похоронку на единственного сына, с которым были связаны все её надежды на будущее, она рухнула. Это известие сильно потрясло её. Сестры кружились вокруг, а Сагида металась между матерью и сёстрами, не зная, как помочь. Она рыдала и тормошила её. Четыре дня мать лежала в забытьи, а потом очнулась, обняла своих девочек и зарыдала. Её слёзы, как ливень, обильно текли по щекам маленькой Сагиды, которая, гладя растрепанные волосы матери, тихонько плакала вместе с ней…
Через десять лет сердце матери даст сбой – её душевные раны так и не затянутся. Младшей дочери, Сагиде, предстоит долгая жизнь, полная как светлых моментов, так и испытаний. Она обретет семью, подарит жизнь детям и станет свидетельницей появления своих правнуков. Её судьба будет счастливой.
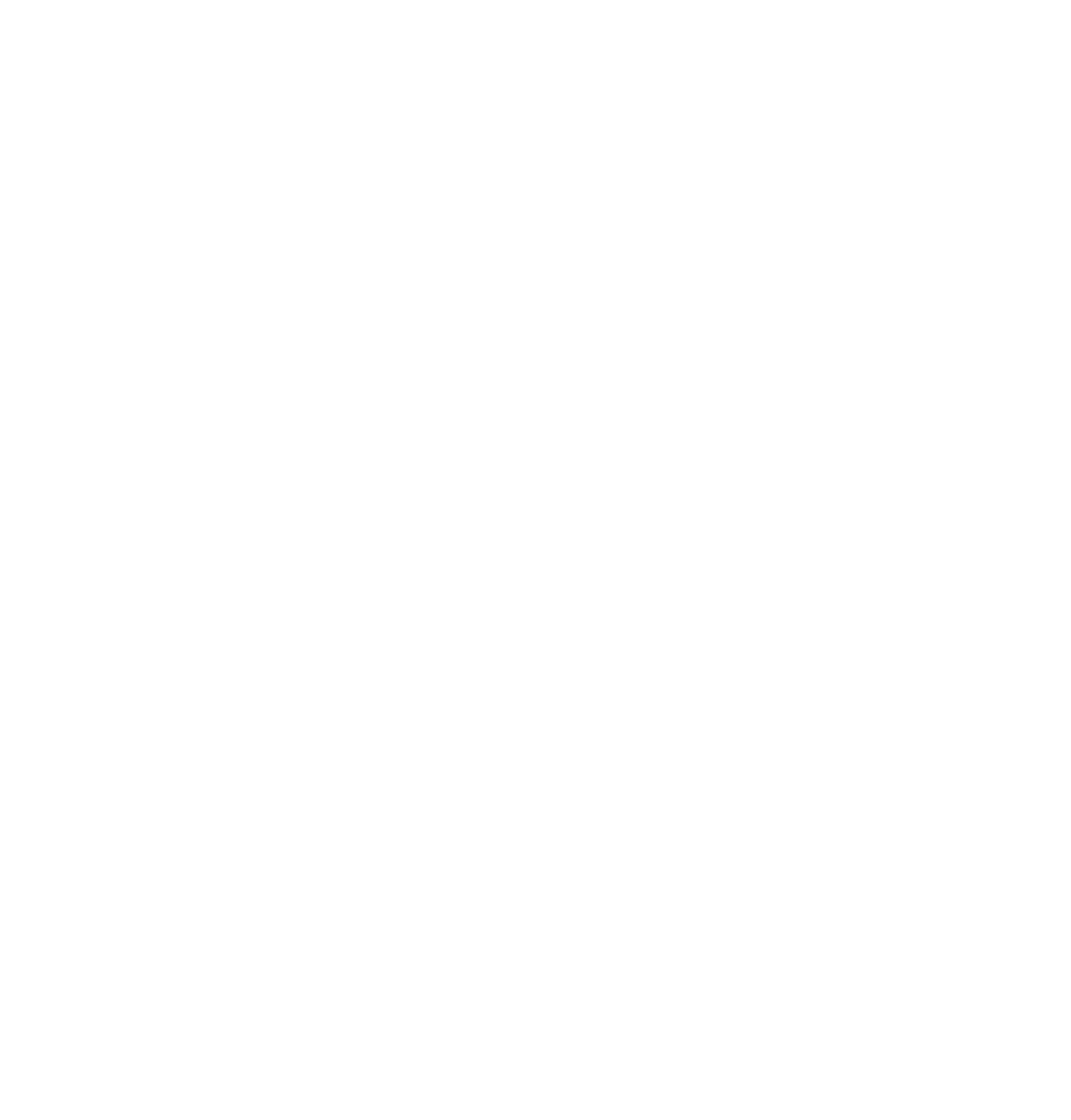
Виталий ВАСИЛЬЕВ
Художник-постановщик кино, художник, педагог, писатель. Член союза художников, член союза писателей. Автор книг: «Орденов Российских кавалеры» Том 1 (премия литературной газеты «лучшая книга 2021 г.
в номинации историческая литература») издательство «Рипол Классик». «Сыны Оте-чества в дни мира и войны» Том 2 (премия литературной газеты «лучшая книга 2021 г. в номинации историческая литература») издательство «Рипол Классик». «Похищение Европы» Том 3 (готовится к печати), «Мифы о Прометее» авторский пересказ и иллюстрации. Издательство «Мир вашей семьи», «Путешествие в Элладу» роман,
издательство «Рипол Классик».
Публиковаться начал в 2015 г. До этого момента работал в кинематографии (художник-постановщик фильмов: «Сильные духом», «Спорт, спорт, спорт».
Занимался станковой живописью, графикой и дизайном. Автор более 300 живописных полотен, фирменных товарных знаков и книжных иллюстраций (проиллюстрировал такие книги, как «Декамерон», «Мифы о Прометее», «Русские народные сказки» и пр.
Художник-постановщик кино, художник, педагог, писатель. Член союза художников, член союза писателей. Автор книг: «Орденов Российских кавалеры» Том 1 (премия литературной газеты «лучшая книга 2021 г.
в номинации историческая литература») издательство «Рипол Классик». «Сыны Оте-чества в дни мира и войны» Том 2 (премия литературной газеты «лучшая книга 2021 г. в номинации историческая литература») издательство «Рипол Классик». «Похищение Европы» Том 3 (готовится к печати), «Мифы о Прометее» авторский пересказ и иллюстрации. Издательство «Мир вашей семьи», «Путешествие в Элладу» роман,
издательство «Рипол Классик».
Публиковаться начал в 2015 г. До этого момента работал в кинематографии (художник-постановщик фильмов: «Сильные духом», «Спорт, спорт, спорт».
Занимался станковой живописью, графикой и дизайном. Автор более 300 живописных полотен, фирменных товарных знаков и книжных иллюстраций (проиллюстрировал такие книги, как «Декамерон», «Мифы о Прометее», «Русские народные сказки» и пр.
ВЕЛОСИПЕД, ИЛИ МАНИФЕСТ СЮРРЕАЛИЗМА
фрагмент романа «Путешествие в Элладу»
Глава первая,
которая имеет продолжение в моем прошлом.
Я отматываю события моей жизни назад (вплоть до истории, о которой хочу рассказать) столь быстро, что едва не проскочил дату своего появления на свет, а не появись я на свет – ну, скажите, пожалуйста, кто бы вам всё это рассказал? Приложив руку ко лбу, чуть выше левой брови, нащупываю едва заметный шрам. Он оставил по себе след – след в моей жизни. Когда мне было лет шесть или семь, я получил в подарок велосипед. Подарок почему-то был в мешке – ну прямо подарили кота в мешке. Заглянул – всё вроде на месте: рама, цепь, колеса…
Глава вторая «Кот»
Имеет некоторое отношение к сюжету
и уж точно оживляет течение событий, а также вызывает некоторое уважение к братьям нашим меньшим
Итак, мы остановились на колесах… Вы когда-нибудь видели рыбий скелет, побывавший в зубах у голодной кошки, которую напугали до смерти, и она, не закончив трапезу, выплюнув остатки и еще давясь и подняв хвост, бесследно испарилась, оставив сюжет, который и послужил поводом для зарождения сюрреализма. А вы говорите манифест Бретона, ничего подобного, вот как дело-то было. Правда, но не вся, потому что вовсе не кошка это была, а черный кот (ну а каким же еще, по-вашему, ему быть?) Кот был сволочь (между нами говоря) – украл кусок мяса прямо из кипящих щей. Видать, жрать хотел. Мы остались голодными. Не совсем, конечно – так, чайку попили… Кастрюлю-то со щами он опрокинул. Эта скотина – обратите внимание, как хитро он спрятался в середине слова, – целую неделю не показывался на глаза. Ждал, когда остынем, а может, от ожогов лечился, поликлиника-то рядом, в Мерзляковском (слово-то как подходит!) переулке – там всех лечили.
Глава третья, которая возвращает нас к основному сюжету и остальным частям велосипеда
Рама между тем была ржавая, но еще крепкая, как молодящаяся старуха. Но зато цепь целехонькая. Положил в керосинчик: через неделю, пожалуйста, – как новенькая.
Глава четвертая и последняя, рассказывающая об ангелах-спасителях и как их некоторые люди не могут увидеть
Мастерская на углу ул. ВОРовского (Поварской) и Садово-Кудринской – рукой подать. Пришли… Дверь в мастерскую, недружелюбно и противно скрипнув, нехотя впустила внутрь. Лавка волшебника. Приносишь утиль – выносишь вещь. Плата чисто символическая. Внутри мастер – он и сварщик, и слесарь, в общем, на все руки. «Что у вас?» Высыпаем содержание мешка. В глазах мастера насмешливый огонек – хочет, видимо, сказать, что мы ошиблись дверью. (Рядом прием вторсырья – берут почти всё.) Ну конечно, так вот собрали обратно в мешок и так прямиком за угол и пошли, растворившись в дымке вчерашнего сна волшебника.
Глава пятая, потому что в последней,
четвертой главе мы не могли предугадать сложность сюжета, который завел нас за рамки ранее задуманного
Мама начинает рассказывать: велосипеду требуется легкая починка. Главное – внушить это мастеру, что, мол, конкуренты своего не упустят (ну как же – нам везде уже отказали!). Волшебник хмур. Прогулка за угол неизбежна. Но маму на мякине не проведешь! Мастер-то добрый, не устоять ему перед моей мечтой – как в воду глядел. Выписывает квитанцию, а как же! «Приходите…», – показывает число. Я счастлив. У меня будет свой велосипед
Глава шестая, и вправду последняя,
потому что есть числа, которые невозможно проигнорировать: вот, например, число десять – ну совсем никчемное, и я это легко могу доказать, но необходимость строго следовать сюжету лишает меня этого удовольствия
Велосипед я получил вовремя, и был он всем хорош, но имел небольшой изъян – так, пустяк, и вспоминать не о чем, если бы не шрам на лице (ну о котором речь-то шла вначале). Так вот, на концах руля у моего велосипеда не было резиновых ручек – а откуда же им быть? – какая жизнь у велосипеда непростая сложилась… Снится это мне композиция Пикассо «Бык» (что с него взять? – испанец бредит, конечно, корридой). Велосипедное седло – морда быка, а руль без тех самых резинок на концах – копия рогов (весьма, впрочем, острых). Бык мотнул головой, и я почувствовал острую боль. Очнулся от того, что о мое ухо трется тот самый черный кот, за ухом карандаш, прегадко улыбаясь и ехидно подмигивая, показывает куда-то вниз. Смотрю – на исписанном мелким почерком листке лежит мышь – презент (ну за украденное мясо). Как это он не подумал – ну едят ли люди мышей? Ну лягушек – еще туда-сюда, но мышей! Пытаюсь прочитать написанный на каком-то не нашем языке текст – сумел разобрать только пару слов: «сюрреализм» и «Бретон», ни дать ни взять, манифест ихний. Ну, думаю, примазался всё-таки наш кот к славе. Вдруг кот исчез (он всегда исчезает, когда надо), вместо кота является велосипед. Я прикладываю руку к раненому месту, как раз над левой бровью. А теперь, уважаемый читатель, попытайся всю эту абракадабру выстроить в логическую причинно-следственную связь – и ты получишь представление о шраме на лице, судьбе велосипеда и постоянно путающемся между слов черном не то коте, не то кошке, которые вообще не имеют к данной истории никакого отношения и только вносят путаницу в мой рассказ.
фрагмент романа «Путешествие в Элладу»
Глава первая,
которая имеет продолжение в моем прошлом.
Я отматываю события моей жизни назад (вплоть до истории, о которой хочу рассказать) столь быстро, что едва не проскочил дату своего появления на свет, а не появись я на свет – ну, скажите, пожалуйста, кто бы вам всё это рассказал? Приложив руку ко лбу, чуть выше левой брови, нащупываю едва заметный шрам. Он оставил по себе след – след в моей жизни. Когда мне было лет шесть или семь, я получил в подарок велосипед. Подарок почему-то был в мешке – ну прямо подарили кота в мешке. Заглянул – всё вроде на месте: рама, цепь, колеса…
Глава вторая «Кот»
Имеет некоторое отношение к сюжету
и уж точно оживляет течение событий, а также вызывает некоторое уважение к братьям нашим меньшим
Итак, мы остановились на колесах… Вы когда-нибудь видели рыбий скелет, побывавший в зубах у голодной кошки, которую напугали до смерти, и она, не закончив трапезу, выплюнув остатки и еще давясь и подняв хвост, бесследно испарилась, оставив сюжет, который и послужил поводом для зарождения сюрреализма. А вы говорите манифест Бретона, ничего подобного, вот как дело-то было. Правда, но не вся, потому что вовсе не кошка это была, а черный кот (ну а каким же еще, по-вашему, ему быть?) Кот был сволочь (между нами говоря) – украл кусок мяса прямо из кипящих щей. Видать, жрать хотел. Мы остались голодными. Не совсем, конечно – так, чайку попили… Кастрюлю-то со щами он опрокинул. Эта скотина – обратите внимание, как хитро он спрятался в середине слова, – целую неделю не показывался на глаза. Ждал, когда остынем, а может, от ожогов лечился, поликлиника-то рядом, в Мерзляковском (слово-то как подходит!) переулке – там всех лечили.
Глава третья, которая возвращает нас к основному сюжету и остальным частям велосипеда
Рама между тем была ржавая, но еще крепкая, как молодящаяся старуха. Но зато цепь целехонькая. Положил в керосинчик: через неделю, пожалуйста, – как новенькая.
Глава четвертая и последняя, рассказывающая об ангелах-спасителях и как их некоторые люди не могут увидеть
Мастерская на углу ул. ВОРовского (Поварской) и Садово-Кудринской – рукой подать. Пришли… Дверь в мастерскую, недружелюбно и противно скрипнув, нехотя впустила внутрь. Лавка волшебника. Приносишь утиль – выносишь вещь. Плата чисто символическая. Внутри мастер – он и сварщик, и слесарь, в общем, на все руки. «Что у вас?» Высыпаем содержание мешка. В глазах мастера насмешливый огонек – хочет, видимо, сказать, что мы ошиблись дверью. (Рядом прием вторсырья – берут почти всё.) Ну конечно, так вот собрали обратно в мешок и так прямиком за угол и пошли, растворившись в дымке вчерашнего сна волшебника.
Глава пятая, потому что в последней,
четвертой главе мы не могли предугадать сложность сюжета, который завел нас за рамки ранее задуманного
Мама начинает рассказывать: велосипеду требуется легкая починка. Главное – внушить это мастеру, что, мол, конкуренты своего не упустят (ну как же – нам везде уже отказали!). Волшебник хмур. Прогулка за угол неизбежна. Но маму на мякине не проведешь! Мастер-то добрый, не устоять ему перед моей мечтой – как в воду глядел. Выписывает квитанцию, а как же! «Приходите…», – показывает число. Я счастлив. У меня будет свой велосипед
Глава шестая, и вправду последняя,
потому что есть числа, которые невозможно проигнорировать: вот, например, число десять – ну совсем никчемное, и я это легко могу доказать, но необходимость строго следовать сюжету лишает меня этого удовольствия
Велосипед я получил вовремя, и был он всем хорош, но имел небольшой изъян – так, пустяк, и вспоминать не о чем, если бы не шрам на лице (ну о котором речь-то шла вначале). Так вот, на концах руля у моего велосипеда не было резиновых ручек – а откуда же им быть? – какая жизнь у велосипеда непростая сложилась… Снится это мне композиция Пикассо «Бык» (что с него взять? – испанец бредит, конечно, корридой). Велосипедное седло – морда быка, а руль без тех самых резинок на концах – копия рогов (весьма, впрочем, острых). Бык мотнул головой, и я почувствовал острую боль. Очнулся от того, что о мое ухо трется тот самый черный кот, за ухом карандаш, прегадко улыбаясь и ехидно подмигивая, показывает куда-то вниз. Смотрю – на исписанном мелким почерком листке лежит мышь – презент (ну за украденное мясо). Как это он не подумал – ну едят ли люди мышей? Ну лягушек – еще туда-сюда, но мышей! Пытаюсь прочитать написанный на каком-то не нашем языке текст – сумел разобрать только пару слов: «сюрреализм» и «Бретон», ни дать ни взять, манифест ихний. Ну, думаю, примазался всё-таки наш кот к славе. Вдруг кот исчез (он всегда исчезает, когда надо), вместо кота является велосипед. Я прикладываю руку к раненому месту, как раз над левой бровью. А теперь, уважаемый читатель, попытайся всю эту абракадабру выстроить в логическую причинно-следственную связь – и ты получишь представление о шраме на лице, судьбе велосипеда и постоянно путающемся между слов черном не то коте, не то кошке, которые вообще не имеют к данной истории никакого отношения и только вносят путаницу в мой рассказ.
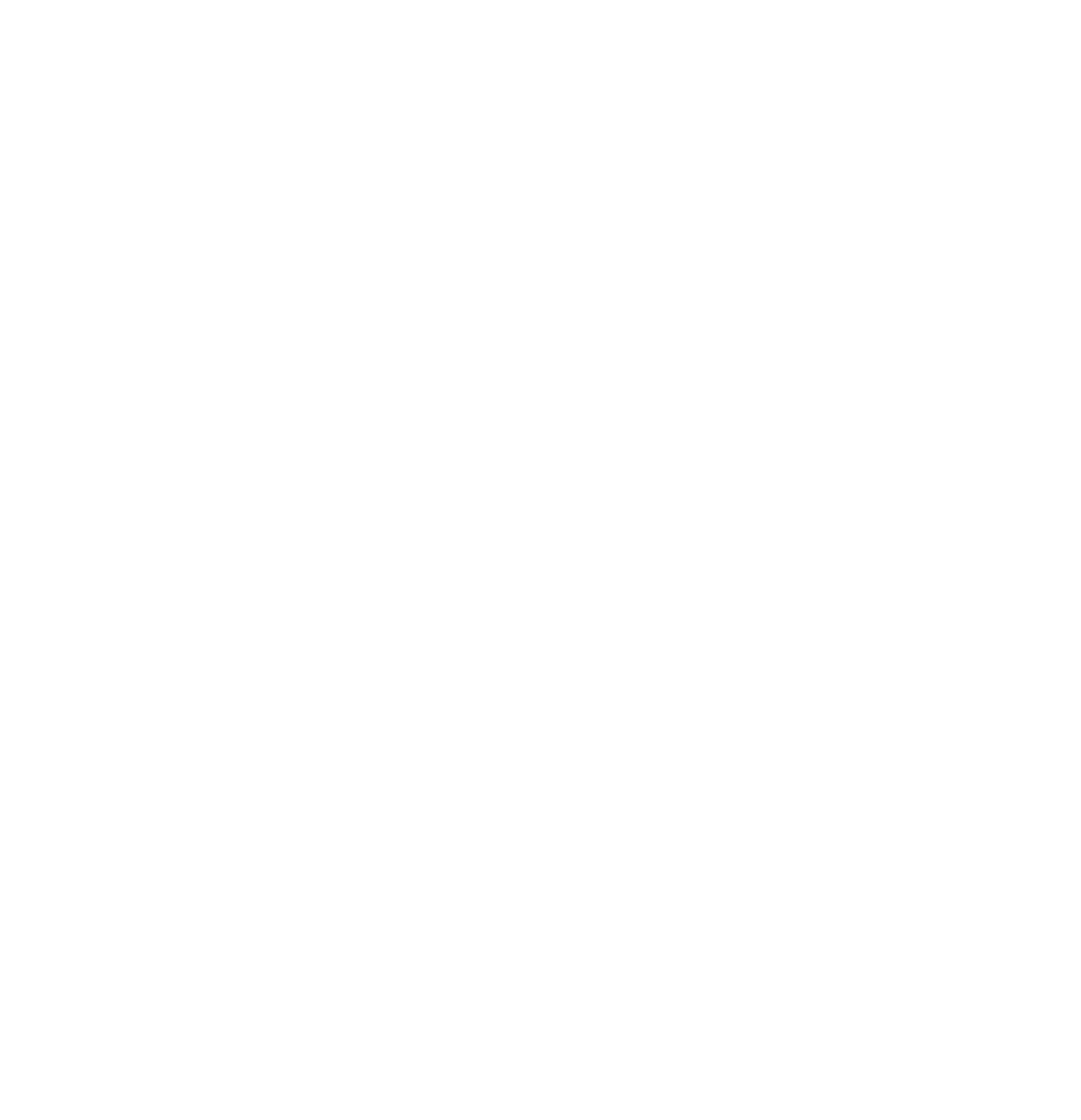
Аглая РОДНИЦКАЯ
Родилась в 2003 году. Свой творческий путь начала в 2023 году. Поэтесса и автор малой прозы. В 2025 году была отобрана в секции «Поэзия» в Школу литературного мастерства им. И. Ф. Вараввы, которая проводилась Союзом Писателей России. По итогам Школы стихи были рекомедованы к публикации. Состоит в литературно-творческом объединении «Ростсельмаш» в городе Ростов-на-Дону.
Родилась в 2003 году. Свой творческий путь начала в 2023 году. Поэтесса и автор малой прозы. В 2025 году была отобрана в секции «Поэзия» в Школу литературного мастерства им. И. Ф. Вараввы, которая проводилась Союзом Писателей России. По итогам Школы стихи были рекомедованы к публикации. Состоит в литературно-творческом объединении «Ростсельмаш» в городе Ростов-на-Дону.
ЛЕТО
Стадо коров с раздутыми боками. Кажется, что рёбра животных вот-вот лопнут, не выдержав давления изнутри. Тошнотворный страх подкатывает к горлу, и вместе с ним меня охватывает болезненное желание вглядываться в не-естественные очертания этих тел. Я слежу за каждым вдохом, грозящим разорвать плотные слои мышц и кожи, покуда в ужасе не понимаю, что никогда не смогу это забыть.
От реки исходит рыбное зловоние. Когда я ложусь на её поверхность, солнце издевательски улыбается мне и заставляет подмигнуть в ответ, злорадно заливая жгучей желтизной мои глаза. Хищные птицы однообразно петляют в синем небе на фоне уходящей вдаль вместе с рекой гряды белых облаков. Перевернувшись на живот, я плыву к берегу. Ритмичные шлепки мокрых волос по плечам ощущаются чужеродными и навязчивыми. Недобрым предвестием звучат пронзительные крики купающихся детей.
У кромки воды я раз за разом бессмысленно зачерпываю горсть раскалённых песчинок и рассыпаю их сквозь расставленные пальцы. Попеременно нарастающая и угасающая боль в ладонях тоскливо далека. Что-то светлое, родное невозвратимо утрачено. Моя душа, словно лес, выжженный пожаром – долгие годы ему быть опустевшим и мёртвым. Линия воды вздрагивает и резко взмётывается, сливаясь с небом – трепещут слёзы в моих глазах.
* * *
Вы оставляете пиджак на стуле, беспечно обнажив тайну его подкладки, подходите ближе, небрежно поправляя волосы, и начинаете говорить. Удивительно никогда не исчезающее мерцание Ваших глаз – будто в них, точно в молчаливых ночных водах, подрагивает отражение света некого дорогого Вашему сердцу города. Множественные линии на Вашем лице, изгибаясь по бокам от губ, пересекаясь на щеках, разбегаясь в стороны от внешних уголков глаз, словно повторяют очертания его мостов, дуги проводов, разветвления струй фонтанов…
Порыжевшее солнце, неспешно готовясь отойти ко сну, целует Вас в узорчатую щёку, по своему обыкновению продолжительно и безмятежно. Всё темнее и отрешённее с каждой минутой синева неба. На её фоне трепетно поблёскивают огоньки, точно едва зародившиеся влюблённости в юных сердцах. Рассказывая, Вы кладёте руку на мою спину, между лопаток. Я приглушаю своё дыхание, чтобы оно не мешало мне ощущать нежную мягкость подушечек Ваших пальцев, пока где-то далеко внизу, под столбиком тёплых окон, под кроной тополя, воздевшего ветви с легонько шевелящимися листьями к закатному румянцу, играет песня, слов которой не расслышать – будто давнее щемящее воспоминание.
Но вот и всё. Вы привычно подставляете плечи томному объятию пиджака, складываете вещи в кожаную сумку, опустив склеенные тушью ресницы. Я медлю. Хочу ли я что-то спросить? Нет-нет. Мне довольно того, что на краткий миг я отражаюсь в Ваших глазах.
Стадо коров с раздутыми боками. Кажется, что рёбра животных вот-вот лопнут, не выдержав давления изнутри. Тошнотворный страх подкатывает к горлу, и вместе с ним меня охватывает болезненное желание вглядываться в не-естественные очертания этих тел. Я слежу за каждым вдохом, грозящим разорвать плотные слои мышц и кожи, покуда в ужасе не понимаю, что никогда не смогу это забыть.
От реки исходит рыбное зловоние. Когда я ложусь на её поверхность, солнце издевательски улыбается мне и заставляет подмигнуть в ответ, злорадно заливая жгучей желтизной мои глаза. Хищные птицы однообразно петляют в синем небе на фоне уходящей вдаль вместе с рекой гряды белых облаков. Перевернувшись на живот, я плыву к берегу. Ритмичные шлепки мокрых волос по плечам ощущаются чужеродными и навязчивыми. Недобрым предвестием звучат пронзительные крики купающихся детей.
У кромки воды я раз за разом бессмысленно зачерпываю горсть раскалённых песчинок и рассыпаю их сквозь расставленные пальцы. Попеременно нарастающая и угасающая боль в ладонях тоскливо далека. Что-то светлое, родное невозвратимо утрачено. Моя душа, словно лес, выжженный пожаром – долгие годы ему быть опустевшим и мёртвым. Линия воды вздрагивает и резко взмётывается, сливаясь с небом – трепещут слёзы в моих глазах.
* * *
Вы оставляете пиджак на стуле, беспечно обнажив тайну его подкладки, подходите ближе, небрежно поправляя волосы, и начинаете говорить. Удивительно никогда не исчезающее мерцание Ваших глаз – будто в них, точно в молчаливых ночных водах, подрагивает отражение света некого дорогого Вашему сердцу города. Множественные линии на Вашем лице, изгибаясь по бокам от губ, пересекаясь на щеках, разбегаясь в стороны от внешних уголков глаз, словно повторяют очертания его мостов, дуги проводов, разветвления струй фонтанов…
Порыжевшее солнце, неспешно готовясь отойти ко сну, целует Вас в узорчатую щёку, по своему обыкновению продолжительно и безмятежно. Всё темнее и отрешённее с каждой минутой синева неба. На её фоне трепетно поблёскивают огоньки, точно едва зародившиеся влюблённости в юных сердцах. Рассказывая, Вы кладёте руку на мою спину, между лопаток. Я приглушаю своё дыхание, чтобы оно не мешало мне ощущать нежную мягкость подушечек Ваших пальцев, пока где-то далеко внизу, под столбиком тёплых окон, под кроной тополя, воздевшего ветви с легонько шевелящимися листьями к закатному румянцу, играет песня, слов которой не расслышать – будто давнее щемящее воспоминание.
Но вот и всё. Вы привычно подставляете плечи томному объятию пиджака, складываете вещи в кожаную сумку, опустив склеенные тушью ресницы. Я медлю. Хочу ли я что-то спросить? Нет-нет. Мне довольно того, что на краткий миг я отражаюсь в Ваших глазах.
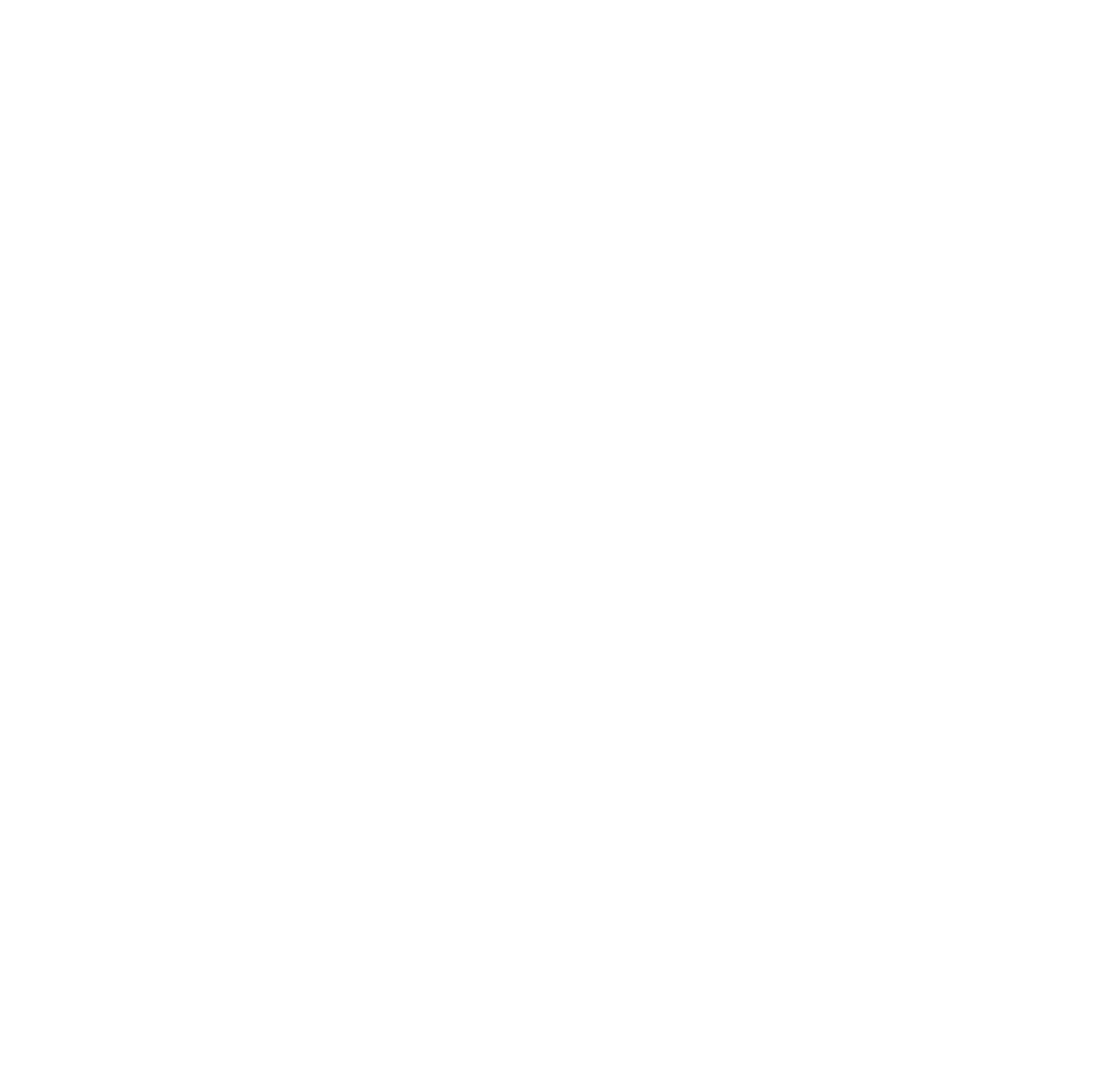
Дмитрий ВОСТРЯКОВ
Родился 7 января 1972 года в г. Балахне
Горьковской (ныне Нижегородской) области. В настоящее время живу в г. Коломне Московской области. Образование высшее техническое. Работаю инженером по подготовке производства. В свободное от работы время увлекаюсь литературным творчеством, туризмом, садоводством. Семейное положение – разведён. Опубликовано два моих рассказа в альманахе «Рассказ 25» и один рассказ в альманахе «Река времени» №2 издательства «Новое слово».
Родился 7 января 1972 года в г. Балахне
Горьковской (ныне Нижегородской) области. В настоящее время живу в г. Коломне Московской области. Образование высшее техническое. Работаю инженером по подготовке производства. В свободное от работы время увлекаюсь литературным творчеством, туризмом, садоводством. Семейное положение – разведён. Опубликовано два моих рассказа в альманахе «Рассказ 25» и один рассказ в альманахе «Река времени» №2 издательства «Новое слово».
СПАСЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Солнечным и тёплым майским днём 1999 года Владимир – студент-очник Приборостроительного института – быстрым шагом шёл по направлению шестнадцатой платформы Казанского вокзала Москвы с тубусом и папкой в руке. Электропоезд «Москва – Голутвин» уже стоял под посадкой и через пять минут должен был отправиться. Войдя в десятый вагон, студент пошёл по составу в поисках свободного места. Пройдя три вагона, он услышал вдруг знакомый голос:
– Володь, это ты что ли?
Машинально обернувшись, Владимир не поверил своим глазам – около окна сидел, улыбаясь, его школьный друг Лёха, которого он не видел несколько лет и напротив него находилось свободное место.
– Давай присаживайся, хоть поболтаем немного. Всё равно ехать больше двух часов, – предложил Алексей, и Володя с радостью принял это приглашение.
Тубус с папкой были положены на багажную полку, и два неразлучных в прошлом школьных товарища уселись напротив друг друга.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – «платформа Электрозаводская», – раздался хриплый голос машиниста.
Электропоезд закрыл двери и отправился, плавно набирая скорость и постукивая колёсами на стыках рельсов и стрелках. Почти сразу после отправления в вагон один за другим стали заходить торговцы всякой всячиной – от газет до прохладительных напитков. Друзья взяли по баночке «Балтики №3» и, глотнув живительной влаги, стали делиться друг с другом информацией о своей студенческой жизни. Оказалось, что Алексей студент-заочник университета путей сообщения, работает по будущей специальности в Москве, не женат и в настоящий момент находится на сессии. Володя тоже рассказал о своей жизни студента-очника, о том, как подрабатывает охранником в студенческом общежитии. Поговорили о девушках, о родителях. Вспомнили смешные и не очень случаи из школьной жизни и в поездках на электричках. Благо и тот и другой регулярно пользовались услугами железнодорожного транспорта и вдоволь насмотрелись на героический труд ревизоров, дебоши разгорячённых огненной водой некоторых пассажиров, перебежки безбилетников по платформам во время коротких остановок электричек, выступления доморощенных бардов и слёзные длинные речи сирых, убогих и несчастных. Вспомнили даже, как Алексей в четвёртом классе в конце марта решил перейти траншею, вырытую в конце ноября строителями и не засыпанную до наступления зимы, по весеннему рыхлому льду и по пояс провалился в неё, и как Володя за шиворот с трудом вытащил своего друга из плена заполненной ледяной водой траншеи. За разговорами проехали половину пути. В Раменском вошли ревизоры проверили билеты и разогнали безбилетников. Герои наши решили немного вздремнуть. До станции Коломна оставалось ехать ещё больше часа. Погрузившись в сладкую негу вечернего сна и убаюканные стуком колёс электропоезда и снотворным действием живительной влаги, пара закадычных школьных друзей приближалась к нужной станции. Поезд въехал на железнодорожный мост через Москву-реку, являющуюся границей города Коломны, и с шумом переехав водную преграду, подъехал к одноимённой платформе. От шума проснулся Алексей и, посмотрев в окно, разбудил спящего Володю.
– Давай просыпайся, нам пора выходить! – сказал Алексей, и друзья пошли в тамбур.
Выйдя из вагона в окружении большого количества пассажиров, наши герои пошли по платформе в сторону перехода через железнодорожные пути. Электропоезд закрыл двери, издал звуковой сигнал и плавно тронулся по направлению конечной станции Голутвин. Вдруг Володя остановился. Лицо его исказила гримаса ужаса, глаза округлились и сделались безумными, руки затряслись. Сдавленным голосом он с трудом произнёс:
– А где жжже ммой куррсовой прроект!?
А курсовой проект остался лежать на багажной полке и поехал дальше в сторону конечной станции Голутвин, которая находилась в четырёх километрах от станции Коломна. И закадычные школьные друзья, посмотрев друг на друга одновременно сказали одну и ту же фразу:
– Надо бежать следом! – и немедленно приступили к практическому осуществлению своего авантюрного плана.
Песня «Опять от меня сбежала последняя электричка» превратилась в реальность, и друзья детства воплотили её слова в жизнь, побежав вслед за удаляющейся электричкой по шпалам. Бежали минут двадцать, периодически останавливаясь на минуту-другую перевести дух и посмотреть, не догоняет ли их тандем какой-нибудь товарный или скорый поезд. Непонятно откуда взялись силы. В голове крутилась одна мысль – только бы успеть добежать до электрички, и чтобы никто не прихватил, выходя из вагона, трёхмесячное творение будущего инженера-оптика. Километра через три уже показалась платформа железнодорожной станции Голутвин и задняя кабина знакомой электрички. Друзья поднажали и вскоре запрыгнули на платформу. Добежав до последнего вагона состава, они увидели, что двери состава закрыты, а через открытые окна слышен голос машиниста:
– Осторожно! Электропоезд отправляется в тупик, отойдите от края платформы!
– Это что же такое?! – закричал Володя. – Нам что, ещё полкилометра до тупика бежать что ли?!
И друзья рванули вперёд по платформе вдоль ещё стоящей электрички, в надежде добежать до первого вагона и сообщить о случившемся машинисту электропоезда. Добежав до первого вагона и увидев помощника машиниста, стоящего в служебном тамбуре, проверяющего закрытие дверей в вагонах состава, друзья заорали, что есть мочи:
– Сто-ой, в вагоне курсово-ой!
Помощник машиниста, увидев двух взлохмаченных и вспотевших молодых людей с совершенно безумными взглядами, крикнул машинисту, чтобы тот не отправлял поезд, и спросил у друзей:
– Что случилось, мужики?
Задыхаясь от нехватки кислорода и наклонившись от коликов в животе, друзья сбивчиво рассказали о произошедшей трагедии.
– Это вы что же целую остановку за электричкой бежали что ли? – изумлённо поинтересовался помощник, и получив утвердительный ответ, запустил школьных друзей через служебный тамбур внутрь электропоезда.
Добравшись до нужного вагона, друзья увидели лежавшую на багажной полке папку с курсовым проектом и тубус с чертежами. Никто из пассажиров не покусился на столь ценный груз! Благодаря крепкой дружбе и мужскому взаимопониманию, курсовой проект был спасён и вновь обрёл своего хозяина! При возврате на платформу через служебный тамбур первого вагона, улыбающиеся машинист и помощник спросили насчёт целостности научного труда и увидев в руках наших героев тубус и папку, рассмеялись уже вместе со школьными друзьями.
Ровно через неделю курсовой проект был защищён на «Отлично», а воспоминания от столь курьёзного случая остались у наших героев на всю жизнь.
СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНЫ
В детстве во время отпуска родителей мы всей семьёй отправлялись в путешествие на ночном скором поезде в купейном или плацкартном вагоне. Этого момента мы с братом ждали целый год, и чем ближе был день наступления родительского отпуска, тем более сильным становилось желание отправиться в путь. К тому же отправлялись мы из Москвы, до которой нужно было ехать из Коломны два с половиной часа на электричке. А это ещё целый маленький мир приключений, особенно когда тебе лет семь или восемь: пассажиры то заходят в вагоны, то выходят из них, ревизоры проверяют билеты, за окном мелькают леса, поля, реки, деревни и города, машинист объявляет остановки. Романтика! А впереди, по прибытии в Москву, пересадка на другой вокзал и отправление ночным скорым поездом в Горький, Киров, Ростов-на-Дону или Бердянск. Я обычно ложился на верхней полке, какое-то время слушал радио или включал ночник (если ехали в купе) и ковырял пальцем в крючках крепления ремней безопасности, расположенных в перегородке, разделяющей купе или плацкарты, и засыпал. Когда мне исполнилось семь лет, и мы поехали в город Горький, то я впервые из этих крючков достал кем-то оставленную стеклянную бусину из чешского стекла и положил себе в карман. Это создало ощущение маленького праздника. Утром, когда все проснулись, и проводник разносил ароматный чай в стаканах с подстаканниками и маленькими упаковочками сахара, на которых были картинки с электровозами, я слез с верхней полки и радостно и громко сказал родителям и младшему брату:
– Смотрите что я нашёл! – и достал из кармана маленькую гранёную бусину, переливающуюся при солнечном свете всеми цветами радуги.
Мама взяла эту бусину, посмотрела на неё и сказала:
– Наверное у кого-то из пассажиров, ехавших ранее, были бусы из чешского стекла. Ниточка на бусах, возможно, что оборвалась, и бусинки рассыпались. И когда их собирали, то одну не нашли, а ты её нашёл.
Я просто сиял от счастья! После чаепития и водных процедур маленький следопыт проверил эти крючки на полках родителей и брата. Но… увы. Больше никто и ничего подобного не оставил. Но я не переживал. Ведь впереди был целый летний месяц каникул, встреча с родственниками и друзьями детства, игры, рыбалка на Волге и Кудьме, море свежих овощей и фруктов, а потом возвращение домой на ночном скором поезде и возможно, что удача опять улыбнётся в виде какой-нибудь интересной находки. Но удача не улыбнулась на обратном пути. Улыбнулась она ровно через год, когда мы всей семьёй ехали в отпуск в Кировскую область. Забравшись на верхнюю полку, я вновь проверил ниши, в которых располагались крючки для крепления ремней безопасности. И… о чудо – в одной из ниш лежала продолговатая бусина из чешского стекла. У меня от радости забилось сердце. Что за чудо! Не может такого быть! Мой детский мозг не мог этого понять! Я опять показал маме свою находку. Она удивилась, сказав:
– Надо же, какой ты везучий!
Немного подросший за год брат тоже стал проверять ниши крепления ремней безопасности, но ничего не нашёл. На обратном пути мы с братом проверили не только ниши, но и места под нижними полками, куда складывается багаж. Но… никаких бусин там не было. По возвращении домой, бусинка заняла почётное место в спичечном коробке, рядом с первой бусинкой. Следующего отпуска мы с братом ждали с огромным нетерпением. Нас просто разбирало любопытство насчёт возможной находки. И вот наступил долгожданный момент. Всё семейство садится в скорый поезд «Москва – Ростов-на-Дону», мы с братом чуть не бегом бежим к своим местам и начинаем осматривать «уголки и закоулки» нашего купе. Внизу ничего не находим. Я залезаю на верхнюю полку, сую палец в нишу крепления ремней безопасности и… чудо случается в третий раз! У меня праздник, у брата – обида. У родителей лёгкий шок! На обратном пути – никаких находок.
В последующие годы мы тоже ездили в отпуск на поездах, но находки больше не находили. Постепенно впечатления стали сглаживаться, мы выросли, родители вышли на пенсию. Но однажды судьба решила «тряхнуть стариной». Спустя лет двадцать после последней находки, я поехал на юбилей к двоюродному брату в Нижегородскую область на ночном скором поезде. У меня было место на верхней полке плацкартного вагона. После отправления поезда и проверки билетов проводником, я залез на своё место, накрылся одеялом и, не знаю зачем, залез мизинцем в нишу крепления ремней безопасности. И… там снова лежала бусинка из чешского стекла. Я достал её, убрал в карман и с огромным трудом в течение некоторого времени сдерживал смех! До сих пор не могу понять почему такое произошло в моей жизни, и что это значит!
Солнечным и тёплым майским днём 1999 года Владимир – студент-очник Приборостроительного института – быстрым шагом шёл по направлению шестнадцатой платформы Казанского вокзала Москвы с тубусом и папкой в руке. Электропоезд «Москва – Голутвин» уже стоял под посадкой и через пять минут должен был отправиться. Войдя в десятый вагон, студент пошёл по составу в поисках свободного места. Пройдя три вагона, он услышал вдруг знакомый голос:
– Володь, это ты что ли?
Машинально обернувшись, Владимир не поверил своим глазам – около окна сидел, улыбаясь, его школьный друг Лёха, которого он не видел несколько лет и напротив него находилось свободное место.
– Давай присаживайся, хоть поболтаем немного. Всё равно ехать больше двух часов, – предложил Алексей, и Володя с радостью принял это приглашение.
Тубус с папкой были положены на багажную полку, и два неразлучных в прошлом школьных товарища уселись напротив друг друга.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – «платформа Электрозаводская», – раздался хриплый голос машиниста.
Электропоезд закрыл двери и отправился, плавно набирая скорость и постукивая колёсами на стыках рельсов и стрелках. Почти сразу после отправления в вагон один за другим стали заходить торговцы всякой всячиной – от газет до прохладительных напитков. Друзья взяли по баночке «Балтики №3» и, глотнув живительной влаги, стали делиться друг с другом информацией о своей студенческой жизни. Оказалось, что Алексей студент-заочник университета путей сообщения, работает по будущей специальности в Москве, не женат и в настоящий момент находится на сессии. Володя тоже рассказал о своей жизни студента-очника, о том, как подрабатывает охранником в студенческом общежитии. Поговорили о девушках, о родителях. Вспомнили смешные и не очень случаи из школьной жизни и в поездках на электричках. Благо и тот и другой регулярно пользовались услугами железнодорожного транспорта и вдоволь насмотрелись на героический труд ревизоров, дебоши разгорячённых огненной водой некоторых пассажиров, перебежки безбилетников по платформам во время коротких остановок электричек, выступления доморощенных бардов и слёзные длинные речи сирых, убогих и несчастных. Вспомнили даже, как Алексей в четвёртом классе в конце марта решил перейти траншею, вырытую в конце ноября строителями и не засыпанную до наступления зимы, по весеннему рыхлому льду и по пояс провалился в неё, и как Володя за шиворот с трудом вытащил своего друга из плена заполненной ледяной водой траншеи. За разговорами проехали половину пути. В Раменском вошли ревизоры проверили билеты и разогнали безбилетников. Герои наши решили немного вздремнуть. До станции Коломна оставалось ехать ещё больше часа. Погрузившись в сладкую негу вечернего сна и убаюканные стуком колёс электропоезда и снотворным действием живительной влаги, пара закадычных школьных друзей приближалась к нужной станции. Поезд въехал на железнодорожный мост через Москву-реку, являющуюся границей города Коломны, и с шумом переехав водную преграду, подъехал к одноимённой платформе. От шума проснулся Алексей и, посмотрев в окно, разбудил спящего Володю.
– Давай просыпайся, нам пора выходить! – сказал Алексей, и друзья пошли в тамбур.
Выйдя из вагона в окружении большого количества пассажиров, наши герои пошли по платформе в сторону перехода через железнодорожные пути. Электропоезд закрыл двери, издал звуковой сигнал и плавно тронулся по направлению конечной станции Голутвин. Вдруг Володя остановился. Лицо его исказила гримаса ужаса, глаза округлились и сделались безумными, руки затряслись. Сдавленным голосом он с трудом произнёс:
– А где жжже ммой куррсовой прроект!?
А курсовой проект остался лежать на багажной полке и поехал дальше в сторону конечной станции Голутвин, которая находилась в четырёх километрах от станции Коломна. И закадычные школьные друзья, посмотрев друг на друга одновременно сказали одну и ту же фразу:
– Надо бежать следом! – и немедленно приступили к практическому осуществлению своего авантюрного плана.
Песня «Опять от меня сбежала последняя электричка» превратилась в реальность, и друзья детства воплотили её слова в жизнь, побежав вслед за удаляющейся электричкой по шпалам. Бежали минут двадцать, периодически останавливаясь на минуту-другую перевести дух и посмотреть, не догоняет ли их тандем какой-нибудь товарный или скорый поезд. Непонятно откуда взялись силы. В голове крутилась одна мысль – только бы успеть добежать до электрички, и чтобы никто не прихватил, выходя из вагона, трёхмесячное творение будущего инженера-оптика. Километра через три уже показалась платформа железнодорожной станции Голутвин и задняя кабина знакомой электрички. Друзья поднажали и вскоре запрыгнули на платформу. Добежав до последнего вагона состава, они увидели, что двери состава закрыты, а через открытые окна слышен голос машиниста:
– Осторожно! Электропоезд отправляется в тупик, отойдите от края платформы!
– Это что же такое?! – закричал Володя. – Нам что, ещё полкилометра до тупика бежать что ли?!
И друзья рванули вперёд по платформе вдоль ещё стоящей электрички, в надежде добежать до первого вагона и сообщить о случившемся машинисту электропоезда. Добежав до первого вагона и увидев помощника машиниста, стоящего в служебном тамбуре, проверяющего закрытие дверей в вагонах состава, друзья заорали, что есть мочи:
– Сто-ой, в вагоне курсово-ой!
Помощник машиниста, увидев двух взлохмаченных и вспотевших молодых людей с совершенно безумными взглядами, крикнул машинисту, чтобы тот не отправлял поезд, и спросил у друзей:
– Что случилось, мужики?
Задыхаясь от нехватки кислорода и наклонившись от коликов в животе, друзья сбивчиво рассказали о произошедшей трагедии.
– Это вы что же целую остановку за электричкой бежали что ли? – изумлённо поинтересовался помощник, и получив утвердительный ответ, запустил школьных друзей через служебный тамбур внутрь электропоезда.
Добравшись до нужного вагона, друзья увидели лежавшую на багажной полке папку с курсовым проектом и тубус с чертежами. Никто из пассажиров не покусился на столь ценный груз! Благодаря крепкой дружбе и мужскому взаимопониманию, курсовой проект был спасён и вновь обрёл своего хозяина! При возврате на платформу через служебный тамбур первого вагона, улыбающиеся машинист и помощник спросили насчёт целостности научного труда и увидев в руках наших героев тубус и папку, рассмеялись уже вместе со школьными друзьями.
Ровно через неделю курсовой проект был защищён на «Отлично», а воспоминания от столь курьёзного случая остались у наших героев на всю жизнь.
СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНЫ
В детстве во время отпуска родителей мы всей семьёй отправлялись в путешествие на ночном скором поезде в купейном или плацкартном вагоне. Этого момента мы с братом ждали целый год, и чем ближе был день наступления родительского отпуска, тем более сильным становилось желание отправиться в путь. К тому же отправлялись мы из Москвы, до которой нужно было ехать из Коломны два с половиной часа на электричке. А это ещё целый маленький мир приключений, особенно когда тебе лет семь или восемь: пассажиры то заходят в вагоны, то выходят из них, ревизоры проверяют билеты, за окном мелькают леса, поля, реки, деревни и города, машинист объявляет остановки. Романтика! А впереди, по прибытии в Москву, пересадка на другой вокзал и отправление ночным скорым поездом в Горький, Киров, Ростов-на-Дону или Бердянск. Я обычно ложился на верхней полке, какое-то время слушал радио или включал ночник (если ехали в купе) и ковырял пальцем в крючках крепления ремней безопасности, расположенных в перегородке, разделяющей купе или плацкарты, и засыпал. Когда мне исполнилось семь лет, и мы поехали в город Горький, то я впервые из этих крючков достал кем-то оставленную стеклянную бусину из чешского стекла и положил себе в карман. Это создало ощущение маленького праздника. Утром, когда все проснулись, и проводник разносил ароматный чай в стаканах с подстаканниками и маленькими упаковочками сахара, на которых были картинки с электровозами, я слез с верхней полки и радостно и громко сказал родителям и младшему брату:
– Смотрите что я нашёл! – и достал из кармана маленькую гранёную бусину, переливающуюся при солнечном свете всеми цветами радуги.
Мама взяла эту бусину, посмотрела на неё и сказала:
– Наверное у кого-то из пассажиров, ехавших ранее, были бусы из чешского стекла. Ниточка на бусах, возможно, что оборвалась, и бусинки рассыпались. И когда их собирали, то одну не нашли, а ты её нашёл.
Я просто сиял от счастья! После чаепития и водных процедур маленький следопыт проверил эти крючки на полках родителей и брата. Но… увы. Больше никто и ничего подобного не оставил. Но я не переживал. Ведь впереди был целый летний месяц каникул, встреча с родственниками и друзьями детства, игры, рыбалка на Волге и Кудьме, море свежих овощей и фруктов, а потом возвращение домой на ночном скором поезде и возможно, что удача опять улыбнётся в виде какой-нибудь интересной находки. Но удача не улыбнулась на обратном пути. Улыбнулась она ровно через год, когда мы всей семьёй ехали в отпуск в Кировскую область. Забравшись на верхнюю полку, я вновь проверил ниши, в которых располагались крючки для крепления ремней безопасности. И… о чудо – в одной из ниш лежала продолговатая бусина из чешского стекла. У меня от радости забилось сердце. Что за чудо! Не может такого быть! Мой детский мозг не мог этого понять! Я опять показал маме свою находку. Она удивилась, сказав:
– Надо же, какой ты везучий!
Немного подросший за год брат тоже стал проверять ниши крепления ремней безопасности, но ничего не нашёл. На обратном пути мы с братом проверили не только ниши, но и места под нижними полками, куда складывается багаж. Но… никаких бусин там не было. По возвращении домой, бусинка заняла почётное место в спичечном коробке, рядом с первой бусинкой. Следующего отпуска мы с братом ждали с огромным нетерпением. Нас просто разбирало любопытство насчёт возможной находки. И вот наступил долгожданный момент. Всё семейство садится в скорый поезд «Москва – Ростов-на-Дону», мы с братом чуть не бегом бежим к своим местам и начинаем осматривать «уголки и закоулки» нашего купе. Внизу ничего не находим. Я залезаю на верхнюю полку, сую палец в нишу крепления ремней безопасности и… чудо случается в третий раз! У меня праздник, у брата – обида. У родителей лёгкий шок! На обратном пути – никаких находок.
В последующие годы мы тоже ездили в отпуск на поездах, но находки больше не находили. Постепенно впечатления стали сглаживаться, мы выросли, родители вышли на пенсию. Но однажды судьба решила «тряхнуть стариной». Спустя лет двадцать после последней находки, я поехал на юбилей к двоюродному брату в Нижегородскую область на ночном скором поезде. У меня было место на верхней полке плацкартного вагона. После отправления поезда и проверки билетов проводником, я залез на своё место, накрылся одеялом и, не знаю зачем, залез мизинцем в нишу крепления ремней безопасности. И… там снова лежала бусинка из чешского стекла. Я достал её, убрал в карман и с огромным трудом в течение некоторого времени сдерживал смех! До сих пор не могу понять почему такое произошло в моей жизни, и что это значит!
