Текст альманаха «Новое слово» №11 2023 год

90-летию писателя и драматурга Михаила Михайловича Рощина посвящается
Содержание:
Екатерина КОЖЕВНИКОВА – «Увидишь звезду - загадывай»
Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ – Отставной солдат Василий Чухлома и разбойники», «Суп Санде на холодной воде», «Людвиг»
Юля СЁМИНА – «Зяблик»
Алексей СТРУМИЛА – «Идеалист»
Инна ШОЛПО – «Волшебная флейта»
Евгения БЕЛОВА – «Лидочка»
Дмитрий ВОРОНИН – «На Пасху»
Наталия ФИШЕР – «Встретимся у фонтана»
Андрей СТРОКОВ – «Сон в зимнюю ночь»
Дарья ЕВДОШЕНКО – «Прогноз на завтра: дождь»
Диана АСНИНА – «Баба Мила», «Всего не объяснишь», «Мама-вседелка», «Он нам не чужой»
Ольга РУМЯНЦЕВА – «Исповедь первоклассника»
Анастасия СУРОЕГИНА – «Куртуазная история», «Агон», «Балкон»
Дарья СВИРСКАЯ – «Ты одна такая...»
Виктория МАКСИМОВА – «Мир под именем Любовь»
Ольга МАСТЕПАН – «Когда звезды молчат»
Лариса КАЛЬМАТКИНА – «Дядя Коля», «Суп», «Красные кроссовки»
Александр ЧЕРНЯК – «Непристойное предложение»
Анастасия ЩЕРБА – «Обыкновенное чудо»
Арсений НАЗАРОВ – «Ванюша»
Екатерина ЗГУРСКАЯ, Ольга ГОТАЛЬСКАЯ – «Бабушка Море»
Юрий СМИРНОВ – «Странная незнакомка»
Владимир САМОРЯДОВ – «Видения Луки»
Олег ЮРЧЕНКО – «Живем! Мы - живые!»
Лариса ФАРАФОНОВА – «В человеке все должно быть прекрасно»
Василий МОРСКОЙ – «Алешкины истории»
Содержание:
Екатерина КОЖЕВНИКОВА – «Увидишь звезду - загадывай»
Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ – Отставной солдат Василий Чухлома и разбойники», «Суп Санде на холодной воде», «Людвиг»
Юля СЁМИНА – «Зяблик»
Алексей СТРУМИЛА – «Идеалист»
Инна ШОЛПО – «Волшебная флейта»
Евгения БЕЛОВА – «Лидочка»
Дмитрий ВОРОНИН – «На Пасху»
Наталия ФИШЕР – «Встретимся у фонтана»
Андрей СТРОКОВ – «Сон в зимнюю ночь»
Дарья ЕВДОШЕНКО – «Прогноз на завтра: дождь»
Диана АСНИНА – «Баба Мила», «Всего не объяснишь», «Мама-вседелка», «Он нам не чужой»
Ольга РУМЯНЦЕВА – «Исповедь первоклассника»
Анастасия СУРОЕГИНА – «Куртуазная история», «Агон», «Балкон»
Дарья СВИРСКАЯ – «Ты одна такая...»
Виктория МАКСИМОВА – «Мир под именем Любовь»
Ольга МАСТЕПАН – «Когда звезды молчат»
Лариса КАЛЬМАТКИНА – «Дядя Коля», «Суп», «Красные кроссовки»
Александр ЧЕРНЯК – «Непристойное предложение»
Анастасия ЩЕРБА – «Обыкновенное чудо»
Арсений НАЗАРОВ – «Ванюша»
Екатерина ЗГУРСКАЯ, Ольга ГОТАЛЬСКАЯ – «Бабушка Море»
Юрий СМИРНОВ – «Странная незнакомка»
Владимир САМОРЯДОВ – «Видения Луки»
Олег ЮРЧЕНКО – «Живем! Мы - живые!»
Лариса ФАРАФОНОВА – «В человеке все должно быть прекрасно»
Василий МОРСКОЙ – «Алешкины истории»
Одиннадцатый номер альманаха «Новое Слово» порадует читателей разнообразием жанров, яркими литературными красками и художественными приемами наших авторов, которые нашли свое вдохновение в творчестве драматурга и писателя Михаила Рощина, 90-летие со дня рождения которого мы отмечаем в 2023 году. В этом номере вы найдете и пронзительные рассказы о людях, потерявших жизненные ориентиры и стремящихся вновь найти цели и силы для жизни, и воспоминания о далеких фронтовых буднях наших дедов и прадедов, острые сатирические миниатюры и пейзажные зарисовки с деревенской натуры – все рассказы объединяет исключительно любовь к русской литературе и желание оставить свой собственный след в литературном творчестве. Альманах выходит в преддверии книжной выставки-ярмарки, которая пройдет в сентябре 2023 года в Гостином Дворе (г. Москва), на которую, пользуясь случаем, приглашаем авторов и читателей этого номера.
НЕ ТЕРЯЯ ОБЛИК
Перешагнув рубеж десятого юбилейного номера, мы в издательстве твердо решили продолжать традицию альманаха: каждый выпуск посвящать писателям и драматургам. Но есть в этих посвящениях и определенная доля «просветительской деятельности»: все знают великих русских писателей-классиков, но мало кто знает писателей и драматургов, чьи произведения мы так любим в кинофильмах и на театральной сцене. Для автора этих строк было большим открытием, что сценаристом фильма «Старый Новый год» был известный в 60-х и 70-х годах драматург Михаил Михайлович Рощин. Фильм этот теперь показывают гораздо реже, чем знаменитую «Иронию судьбы…», а хорошо бы – наоборот. Случайная история подвыпившего врача, которого судьба забросила в другой город, явно недотягивает до истории двух совершенно противоположных взглядов на жизнь эпохи застоя в фильме «Старый Новый год» – простого слесаря-сборщика Петра Себейкина и инженера-мещанина Петра Полуорлова. Кто помнит фильм, тот поймет, насколько глубоко «копнул» автор, и не зря этот спектакль шел сначала (с 1973 года – полный аншлаг!) на сцене МХАТа им. А.П.Чехова, а в январе 1981 года шагнул со сцены на экраны телевизоров, буквально – в каждый дом.
С тех пор рекорд «словечек» и крылатых выражений фильма до сих пор не побит. А главное – фильм хорошо осветил конфликт не только поколений по вертикали, но и конфликт обеспеченности и человечности по горизонтали, конфликт, который чуть позже, лет через десять-пятнадцать, обернется внешней катастрофой бедности одних и внутренней пустотой других.
Пьесы «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро», «Эшелон», повести «Шура и Просвирняк», «Бабушка и внучка», «Синдром Сушкина», «Бунин в Ялте», более десяти книг рассказов, спектакли в нескольких известных московских театрах – известность пришла к Рощину поздно, но уже к концу восьмидесятых его назовут самым русским советским писателем. А потом… случится перестройка и вся русская, а тем более советская литература, как-то сразу отодвинется на второй план перед экономическими и политическими проблемами и задачами. Писатель будет издавать журнал «Драматург», вести занятия в Центре драматургии и режиссуры, семинар в Любимовке. Один за другим из жизни уйдут прославленные актеры, артисты, писатели, сценаристы, и мы останемся с тем творчеством, которое они передали нам в наследство. Наверное – для того, чтобы мы не повторяли ошибок «рощинских» героев, для которых звучали такие слова: «Хороший вы народ, мужики. Только облика не теряйте».
Не потерять облик – сегодня это означает не молчать, а говорить, в первую очередь – по существу. Говорить о том, что волнует каждого из нас. Говорить языком литературы так, чтобы каждого услышали. Говорить о сегодняшних конфликтах: конфликте поколений (ничего не проходит, ничего не меняется), конфликте мнений, политических и жизненных взглядов, конфликте внутри человека – завышенных ожиданий и несбывшихся надежд, и, конечно, конфликте целых народов, стран, культур и взглядов на сущность человеческой природы. Потому что только в конфликте решается судьба человечества, решается судьба каждого человека. А литература – как лакмусовая бумажка, способная показать, как и почему происходят эти конфликты, чтобы через много лет мы были поняты нашими внуками и правнуками.
История сохраняет только числа и даты конфликтов, а литература, как и искусство в целом, сохраняет дух и атмосферу. И только по ним можно быть понятыми.
Конфликты не проходят, меняется их характер, инструменты решения, обстоятельства, причины и следствия, главные герои приходят и уходят, а народ в стране остается... с литературой, где все это подробно описано. И как сейчас мы можем познакомиться с историей «Государства Российского», так и через много лет историю современности будут изучать не только по учебникам, но и по книгам и литературным сборникам.
Одиннадцатый номер альманаха «Новое Слово» порадует наших читателей разнообразием жанров, яркими литературными красками и художественными приемами авторов, которые нашли свое вдохновение в творчестве драматурга и писателя Михаила Рощина. 90-летие со дня его рождения мы отмечаем в 2023 году. В этом номере вы найдете и пронзительные рассказы о людях, потерявших жизненные ориентиры и стремящихся вновь найти цели и силы для жизни, и воспоминания о далеких фронтовых буднях наших дедов и прадедов, острые сатирические миниатюры и пейзажные зарисовки с деревенской натуры – все рассказы объединяет исключительно любовь к русской литературе и желание оставить свой след в литературном творчестве. Альманах выходит в преддверии книжной выставки-ярмарки, которая пройдет в сентябре 2023 года в Гостином Дворе (г. Москва) на которую, пользуясь случаем, я приглашаю авторов и читателей этого номера.
НЕ ТЕРЯЯ ОБЛИК
Перешагнув рубеж десятого юбилейного номера, мы в издательстве твердо решили продолжать традицию альманаха: каждый выпуск посвящать писателям и драматургам. Но есть в этих посвящениях и определенная доля «просветительской деятельности»: все знают великих русских писателей-классиков, но мало кто знает писателей и драматургов, чьи произведения мы так любим в кинофильмах и на театральной сцене. Для автора этих строк было большим открытием, что сценаристом фильма «Старый Новый год» был известный в 60-х и 70-х годах драматург Михаил Михайлович Рощин. Фильм этот теперь показывают гораздо реже, чем знаменитую «Иронию судьбы…», а хорошо бы – наоборот. Случайная история подвыпившего врача, которого судьба забросила в другой город, явно недотягивает до истории двух совершенно противоположных взглядов на жизнь эпохи застоя в фильме «Старый Новый год» – простого слесаря-сборщика Петра Себейкина и инженера-мещанина Петра Полуорлова. Кто помнит фильм, тот поймет, насколько глубоко «копнул» автор, и не зря этот спектакль шел сначала (с 1973 года – полный аншлаг!) на сцене МХАТа им. А.П.Чехова, а в январе 1981 года шагнул со сцены на экраны телевизоров, буквально – в каждый дом.
С тех пор рекорд «словечек» и крылатых выражений фильма до сих пор не побит. А главное – фильм хорошо осветил конфликт не только поколений по вертикали, но и конфликт обеспеченности и человечности по горизонтали, конфликт, который чуть позже, лет через десять-пятнадцать, обернется внешней катастрофой бедности одних и внутренней пустотой других.
Пьесы «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро», «Эшелон», повести «Шура и Просвирняк», «Бабушка и внучка», «Синдром Сушкина», «Бунин в Ялте», более десяти книг рассказов, спектакли в нескольких известных московских театрах – известность пришла к Рощину поздно, но уже к концу восьмидесятых его назовут самым русским советским писателем. А потом… случится перестройка и вся русская, а тем более советская литература, как-то сразу отодвинется на второй план перед экономическими и политическими проблемами и задачами. Писатель будет издавать журнал «Драматург», вести занятия в Центре драматургии и режиссуры, семинар в Любимовке. Один за другим из жизни уйдут прославленные актеры, артисты, писатели, сценаристы, и мы останемся с тем творчеством, которое они передали нам в наследство. Наверное – для того, чтобы мы не повторяли ошибок «рощинских» героев, для которых звучали такие слова: «Хороший вы народ, мужики. Только облика не теряйте».
Не потерять облик – сегодня это означает не молчать, а говорить, в первую очередь – по существу. Говорить о том, что волнует каждого из нас. Говорить языком литературы так, чтобы каждого услышали. Говорить о сегодняшних конфликтах: конфликте поколений (ничего не проходит, ничего не меняется), конфликте мнений, политических и жизненных взглядов, конфликте внутри человека – завышенных ожиданий и несбывшихся надежд, и, конечно, конфликте целых народов, стран, культур и взглядов на сущность человеческой природы. Потому что только в конфликте решается судьба человечества, решается судьба каждого человека. А литература – как лакмусовая бумажка, способная показать, как и почему происходят эти конфликты, чтобы через много лет мы были поняты нашими внуками и правнуками.
История сохраняет только числа и даты конфликтов, а литература, как и искусство в целом, сохраняет дух и атмосферу. И только по ним можно быть понятыми.
Конфликты не проходят, меняется их характер, инструменты решения, обстоятельства, причины и следствия, главные герои приходят и уходят, а народ в стране остается... с литературой, где все это подробно описано. И как сейчас мы можем познакомиться с историей «Государства Российского», так и через много лет историю современности будут изучать не только по учебникам, но и по книгам и литературным сборникам.
Одиннадцатый номер альманаха «Новое Слово» порадует наших читателей разнообразием жанров, яркими литературными красками и художественными приемами авторов, которые нашли свое вдохновение в творчестве драматурга и писателя Михаила Рощина. 90-летие со дня его рождения мы отмечаем в 2023 году. В этом номере вы найдете и пронзительные рассказы о людях, потерявших жизненные ориентиры и стремящихся вновь найти цели и силы для жизни, и воспоминания о далеких фронтовых буднях наших дедов и прадедов, острые сатирические миниатюры и пейзажные зарисовки с деревенской натуры – все рассказы объединяет исключительно любовь к русской литературе и желание оставить свой след в литературном творчестве. Альманах выходит в преддверии книжной выставки-ярмарки, которая пройдет в сентябре 2023 года в Гостином Дворе (г. Москва) на которую, пользуясь случаем, я приглашаю авторов и читателей этого номера.
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Екатерина КОЖЕВНИКОВА
В школьные годы помогала выпускать школьную газету. Во времена учебы в колледже получила грамоту за сочинение на военную тематику. До этого года практически все, что я писала, оставалось «в столе», многое на сегодняшний день уже утеряно. Несколько раз пыталась публиковать рассказы в сети Интернет, а также подрабатывала копирайтером небольших текстов на интернет-бирже. Параллельно веду небольшую художественную деятельность. В 2022 году стала победителем конкурса рисунка для проекта «ПаркАрт», организованного «МосПриродой», с иллюстрацией к русской народной сказке «Василиса-Премудрая». На данный момент учусь на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького.
В школьные годы помогала выпускать школьную газету. Во времена учебы в колледже получила грамоту за сочинение на военную тематику. До этого года практически все, что я писала, оставалось «в столе», многое на сегодняшний день уже утеряно. Несколько раз пыталась публиковать рассказы в сети Интернет, а также подрабатывала копирайтером небольших текстов на интернет-бирже. Параллельно веду небольшую художественную деятельность. В 2022 году стала победителем конкурса рисунка для проекта «ПаркАрт», организованного «МосПриродой», с иллюстрацией к русской народной сказке «Василиса-Премудрая». На данный момент учусь на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького.
УВИДИШЬ ЗВЕЗДУ – ЗАГАДЫВАЙ!
Телефон пищал требовательно и тревожно. Из трубки доносился взволнованный мужской голос.
– Андрюх, слушай, мы решили поехать заранее. Случай сложный, врач сказал, возможно, будут оперировать. Я жену одну не хочу оставлять. В общем, помощь нужна… Сможешь с Лёлей посидеть сегодня?
– Да без проблем, я же сейчас на удаленке работаю.
– Не слишком многого прошу? Справишься?
– Братик, я отделом взрослых руковожу, хоть и маленьким. Что я с четырехлеткой не справлюсь?
* * *
– Так, Алена Игоревна! Ну-ка, кашу быстро ешь!
– Я не Алееена, Я Лёёёёёля…
– А Лёля – это и есть Алена.
– Неееееееееееет! – ревела племянница, размахивая ложкой и размазывая кашу по лицу.
– Чего ж ты так вопишь… Смотри, какой у тебя ободок на голове красивый, розовый. Нет? Не интересный? Может, мультики включить?
Нижняя губа у ребенка сразу перестала дрожать, а в красных заплаканных глазах появилась надежда.
– Мультики!
– Сейчас найдем тебе мультики, если идут по телику… Кашу она не хочет, а мультики – пожалуйста. Рёва-корова.
– Сам!
– Цыц! – Андрей щелкал пультом телевизора, пока не нашел подходящий канал. Лёля сразу перестала капризничать и начала рассеянно жевать. Парень вздохнул и пролистал вкладки на экране смартфона, попутно смахивая уведомления от коллег с работы, не отвечая на сообщения. Сроки, проекты…подождут. Тут вон каша с носа капает уже.
Сидеть с племянницей оказалось непросто. Еще даже день не подошел к концу, а Андрей уже устал от «укрощения строптивой». Старший брат Игорь днем приезжал, успокоил дочку, а потом опять умчался к жене в больницу, оставив все заботы младшему брату.
«Вот мама любит ворчать, что жениться надо и побыстрее, а не уходить с головой в работу. Еще один такой денек, и я точно откажусь когда-либо жениться. И детей заводить – тоже».
Сначала все было вполне мирно: заботливые родители написали Андрею подробную «инструкцию пользователя» по уходу за племяшкой. Он тщательно выполнял почти все пункты, кормил мелкую вареным яйцом и бананами, разрешал смотреть мультики на планшете до бесконечности и закручиваться в новогодние гирлянды, как в шарфы. А к вечеру ребенок начал ныть и требовать вернуть маму – с того момента и начались проблемы. Парень обвел взглядом кухню: на полу – следы от недомытого разбитого яйца, стол завален фантиками, кожурками банана, разорванными и дырявыми пакетами из-под сладостей. Гора немытой посуды, разбросанные игрушки (как же тяжело ее заставить есть!). Если бы хозяева квартиры видели сейчас свою грязную кухню, ух…
– Дядя Андрей, верни про лошадок! – Лёля резко выдернула его из океана блуждающих мыслей. Мультфильмы закончились и начинался выпуск «Новостей».
– Все, закончились мультики. Кашу доела? Ладно, оставь ее. Пошли, елку соберем и наряжать будем.
С украшениями Лёле возиться понравилось. Андрей разрешил ей самой разбираться с елкой, поэтому игрушки все оказались на нижних ветках, и только с одной стороны. Выше остальных взобрался только большой ушастый зайчик. Зато пёстро! Помогал Андрей только со светящейся гирляндой. А то вдруг неугомонный ребенок сунет палец в розетку. Девочка уже прекрасно знала, что такое Новый Год, ждала его с нетерпением, но все равно заваливала дядю кучей вопросов про Деда Мороза, подарки, Снегурочку, шарики…
– А до Нового Года правда восемь дней?
– Правда.
– А это много или мало?
– Нормально.
– А можно сделать так, чтобы было мало?
На улице темнело. Андрей приводил в порядок квартиру, собирал остатки игрушек в коробку. На фоне тихо бубнил телевизор. Почему такая тишина в квартире?
Лёля сидела прямо на полу у елки и крутила в руках стеклянный шарик. По пухлым щекам катились слезы.
– Ты что, опять рёва-корова? – удивился дядя Андрей. – Тебе что, елку наряжать не понравилось?
– Понравилось, – захлюпала носом племянница.
– Ну, что не так тогда?
– А мама до Нового года вернется из больницы?
– Вернется, конечно! Но если ты будешь часто плакать, то дома все обрастет плесенью, маме придется все убирать, и тогда она опять куда-нибудь уедет… Ой-ей, все, эта шутка была неудачная, я понял, только не реви! – испугался парень, заметив дрожащую нижнюю губу.
– Я хочу к маме. Маме сейчас все время плохо и тяжело. Она надолго уехала лечиться?
– Знаешь что? Ты загадай желание, чтобы она вернулась до Нового года. И надо в него сильно-сильно поверить.
– Желание – это на день рождения или на Новый год, а сейчас не сбудется.
– Сбудется! Надо только… ну… – Андрей зашарил взглядом по комнате в поиске какой-нибудь идеи. Мельком глянул на полку с книгами, а затем присмотрелся. Знакомая обложка, маленькая синяя книжка с вытесненным рисунком автора – с полки помахал рукой «Маленький принц» Экзюпери.
– Точно! Лёля, надо загадать желание на падающую звезду – тогда точно сбудется.
– Звезду? Они падают с неба? А куда?
– Нет, просто пролетают мимо земли. Это выглядит так, как будто полоску света прочертили, очень быстро, за доли секунды. Пока ты видишь эту полоску – надо загадывать желание.
– Хорошо! Тогда пойдем!
– Куда?
– На балкон. Ты же говоришь, что звезды падают с ночного неба? На балконе видно небо!
– Да ты просто в окошко посмотри. Свет в комнате выключи, чтобы лучше было видно.
– Ну, нееет, за окном не видно. Пойдем на балкон! Только я одна боюсь.
«Вот кто меня за язык тянул – такое ляпнуть? В городе же фонари, звезд вообще не видно, и холодно еще, декабрь… Блин!» – размышлял про себя Андрей, закутывая племянницу в огромный шерстяной шарф. Но отступать уже было нечестно.
Вид на город с балкона был красивый – мелькали огоньки машин, окна домов, мерцающие гирлянды на фонарях. Множество звуков заполняло улицы. На перилах балкона лежал мокрый колючий снег. Небо, конечно, не было усыпано звездами и не было темно-синим. Скорее, розовато-темно-серым, подсвеченным всеми огнями живого города. Издалека бледно сияла на небосклоне Венера, и отдельными точками рассыпались совсем бледные крошечные звездочки. Как тут заметить падающую?
– Лёля, пошли домой, смотри, небо бледное, видно плохо. Из окна посмотрим.
– Нет. Мы будем ждать звезду!
– Слушай, да не в звезде дело. Просто поверь, что сейчас родители разберутся с делами и обязательно вернутся. А ты загадай желание – побыстрее увидеть маму, и оно сбудется.
– Сбудется, когда звезда прилетит.
– Ох… Ладно, давай хоть стул принесем.
Так они и сидели вдвоем на ночном балконе. Сквозило, Лёля нахохлилась, но продолжала смотреть на небо, пока глаза слезиться не начали. Андрей грел племянницу и судорожно придумывал, как бы выкрутиться из дурацкой ситуации, не замечая, что она начала клевать носом.
Небо вдруг прочертила тонкая красная полоса и полетела вниз. Кто-то этажом выше кинул с балкона непотушенную сигарету.
– Я видела звезду! – сонно заворочалась девочка.
– Да это не… Да! Звезду! Желание успела загадать? – возликовал Андрей.
– Угу… мама приедет… – Лёля окончательно уткнулась в плечо дяде, и он побыстрее унес ее домой спать.
В три часа ночи звонок телефона разбудил задремавшего в кресле Андрея.
– Ну что, как у вас дела? – раздался голос Игоря.
– Нормально, – зевнул Андрей в трубку. – Я случайно научил твою дочку загадывать желания на сигареты.
– Чего? Ты чему там нашу старшую учишь?
– Старшую? – улыбнулся Андрей.
– Теперь старшую, – радостно подтвердил счастливый отец семейства. – Младшая – три килограмма!
– Поздравляю!!
* * *
Через несколько дней все семейство собралось наконец дома. Звезда исполнила желание.
– Андрей, Новый год с нами останешься завтра отмечать?
– А давай.
Лёля довольно сопела, укачивая коляску с младшей сестрой.
– Мама! Младшая сестра — это хорошо. Но больше так сестер не дарите на Новый год.
– Почему? – удивились родители.
– Долгий подарок какой-то.
– Ничего, у тебя же есть дядя Андрей, с ним не скучно, – Игорь пощекотал Лёлю, и она захихикала.
– Нет уж, ребята, я после прошлого раза еще не отошел. Зовите теперь, когда дети повзрослеют, лет через десять. А то вдруг в следующий раз не пролетит спасительная сигарета, – засмеялся младший брат.
Телефон пищал требовательно и тревожно. Из трубки доносился взволнованный мужской голос.
– Андрюх, слушай, мы решили поехать заранее. Случай сложный, врач сказал, возможно, будут оперировать. Я жену одну не хочу оставлять. В общем, помощь нужна… Сможешь с Лёлей посидеть сегодня?
– Да без проблем, я же сейчас на удаленке работаю.
– Не слишком многого прошу? Справишься?
– Братик, я отделом взрослых руковожу, хоть и маленьким. Что я с четырехлеткой не справлюсь?
* * *
– Так, Алена Игоревна! Ну-ка, кашу быстро ешь!
– Я не Алееена, Я Лёёёёёля…
– А Лёля – это и есть Алена.
– Неееееееееееет! – ревела племянница, размахивая ложкой и размазывая кашу по лицу.
– Чего ж ты так вопишь… Смотри, какой у тебя ободок на голове красивый, розовый. Нет? Не интересный? Может, мультики включить?
Нижняя губа у ребенка сразу перестала дрожать, а в красных заплаканных глазах появилась надежда.
– Мультики!
– Сейчас найдем тебе мультики, если идут по телику… Кашу она не хочет, а мультики – пожалуйста. Рёва-корова.
– Сам!
– Цыц! – Андрей щелкал пультом телевизора, пока не нашел подходящий канал. Лёля сразу перестала капризничать и начала рассеянно жевать. Парень вздохнул и пролистал вкладки на экране смартфона, попутно смахивая уведомления от коллег с работы, не отвечая на сообщения. Сроки, проекты…подождут. Тут вон каша с носа капает уже.
Сидеть с племянницей оказалось непросто. Еще даже день не подошел к концу, а Андрей уже устал от «укрощения строптивой». Старший брат Игорь днем приезжал, успокоил дочку, а потом опять умчался к жене в больницу, оставив все заботы младшему брату.
«Вот мама любит ворчать, что жениться надо и побыстрее, а не уходить с головой в работу. Еще один такой денек, и я точно откажусь когда-либо жениться. И детей заводить – тоже».
Сначала все было вполне мирно: заботливые родители написали Андрею подробную «инструкцию пользователя» по уходу за племяшкой. Он тщательно выполнял почти все пункты, кормил мелкую вареным яйцом и бананами, разрешал смотреть мультики на планшете до бесконечности и закручиваться в новогодние гирлянды, как в шарфы. А к вечеру ребенок начал ныть и требовать вернуть маму – с того момента и начались проблемы. Парень обвел взглядом кухню: на полу – следы от недомытого разбитого яйца, стол завален фантиками, кожурками банана, разорванными и дырявыми пакетами из-под сладостей. Гора немытой посуды, разбросанные игрушки (как же тяжело ее заставить есть!). Если бы хозяева квартиры видели сейчас свою грязную кухню, ух…
– Дядя Андрей, верни про лошадок! – Лёля резко выдернула его из океана блуждающих мыслей. Мультфильмы закончились и начинался выпуск «Новостей».
– Все, закончились мультики. Кашу доела? Ладно, оставь ее. Пошли, елку соберем и наряжать будем.
С украшениями Лёле возиться понравилось. Андрей разрешил ей самой разбираться с елкой, поэтому игрушки все оказались на нижних ветках, и только с одной стороны. Выше остальных взобрался только большой ушастый зайчик. Зато пёстро! Помогал Андрей только со светящейся гирляндой. А то вдруг неугомонный ребенок сунет палец в розетку. Девочка уже прекрасно знала, что такое Новый Год, ждала его с нетерпением, но все равно заваливала дядю кучей вопросов про Деда Мороза, подарки, Снегурочку, шарики…
– А до Нового Года правда восемь дней?
– Правда.
– А это много или мало?
– Нормально.
– А можно сделать так, чтобы было мало?
На улице темнело. Андрей приводил в порядок квартиру, собирал остатки игрушек в коробку. На фоне тихо бубнил телевизор. Почему такая тишина в квартире?
Лёля сидела прямо на полу у елки и крутила в руках стеклянный шарик. По пухлым щекам катились слезы.
– Ты что, опять рёва-корова? – удивился дядя Андрей. – Тебе что, елку наряжать не понравилось?
– Понравилось, – захлюпала носом племянница.
– Ну, что не так тогда?
– А мама до Нового года вернется из больницы?
– Вернется, конечно! Но если ты будешь часто плакать, то дома все обрастет плесенью, маме придется все убирать, и тогда она опять куда-нибудь уедет… Ой-ей, все, эта шутка была неудачная, я понял, только не реви! – испугался парень, заметив дрожащую нижнюю губу.
– Я хочу к маме. Маме сейчас все время плохо и тяжело. Она надолго уехала лечиться?
– Знаешь что? Ты загадай желание, чтобы она вернулась до Нового года. И надо в него сильно-сильно поверить.
– Желание – это на день рождения или на Новый год, а сейчас не сбудется.
– Сбудется! Надо только… ну… – Андрей зашарил взглядом по комнате в поиске какой-нибудь идеи. Мельком глянул на полку с книгами, а затем присмотрелся. Знакомая обложка, маленькая синяя книжка с вытесненным рисунком автора – с полки помахал рукой «Маленький принц» Экзюпери.
– Точно! Лёля, надо загадать желание на падающую звезду – тогда точно сбудется.
– Звезду? Они падают с неба? А куда?
– Нет, просто пролетают мимо земли. Это выглядит так, как будто полоску света прочертили, очень быстро, за доли секунды. Пока ты видишь эту полоску – надо загадывать желание.
– Хорошо! Тогда пойдем!
– Куда?
– На балкон. Ты же говоришь, что звезды падают с ночного неба? На балконе видно небо!
– Да ты просто в окошко посмотри. Свет в комнате выключи, чтобы лучше было видно.
– Ну, нееет, за окном не видно. Пойдем на балкон! Только я одна боюсь.
«Вот кто меня за язык тянул – такое ляпнуть? В городе же фонари, звезд вообще не видно, и холодно еще, декабрь… Блин!» – размышлял про себя Андрей, закутывая племянницу в огромный шерстяной шарф. Но отступать уже было нечестно.
Вид на город с балкона был красивый – мелькали огоньки машин, окна домов, мерцающие гирлянды на фонарях. Множество звуков заполняло улицы. На перилах балкона лежал мокрый колючий снег. Небо, конечно, не было усыпано звездами и не было темно-синим. Скорее, розовато-темно-серым, подсвеченным всеми огнями живого города. Издалека бледно сияла на небосклоне Венера, и отдельными точками рассыпались совсем бледные крошечные звездочки. Как тут заметить падающую?
– Лёля, пошли домой, смотри, небо бледное, видно плохо. Из окна посмотрим.
– Нет. Мы будем ждать звезду!
– Слушай, да не в звезде дело. Просто поверь, что сейчас родители разберутся с делами и обязательно вернутся. А ты загадай желание – побыстрее увидеть маму, и оно сбудется.
– Сбудется, когда звезда прилетит.
– Ох… Ладно, давай хоть стул принесем.
Так они и сидели вдвоем на ночном балконе. Сквозило, Лёля нахохлилась, но продолжала смотреть на небо, пока глаза слезиться не начали. Андрей грел племянницу и судорожно придумывал, как бы выкрутиться из дурацкой ситуации, не замечая, что она начала клевать носом.
Небо вдруг прочертила тонкая красная полоса и полетела вниз. Кто-то этажом выше кинул с балкона непотушенную сигарету.
– Я видела звезду! – сонно заворочалась девочка.
– Да это не… Да! Звезду! Желание успела загадать? – возликовал Андрей.
– Угу… мама приедет… – Лёля окончательно уткнулась в плечо дяде, и он побыстрее унес ее домой спать.
В три часа ночи звонок телефона разбудил задремавшего в кресле Андрея.
– Ну что, как у вас дела? – раздался голос Игоря.
– Нормально, – зевнул Андрей в трубку. – Я случайно научил твою дочку загадывать желания на сигареты.
– Чего? Ты чему там нашу старшую учишь?
– Старшую? – улыбнулся Андрей.
– Теперь старшую, – радостно подтвердил счастливый отец семейства. – Младшая – три килограмма!
– Поздравляю!!
* * *
Через несколько дней все семейство собралось наконец дома. Звезда исполнила желание.
– Андрей, Новый год с нами останешься завтра отмечать?
– А давай.
Лёля довольно сопела, укачивая коляску с младшей сестрой.
– Мама! Младшая сестра — это хорошо. Но больше так сестер не дарите на Новый год.
– Почему? – удивились родители.
– Долгий подарок какой-то.
– Ничего, у тебя же есть дядя Андрей, с ним не скучно, – Игорь пощекотал Лёлю, и она захихикала.
– Нет уж, ребята, я после прошлого раза еще не отошел. Зовите теперь, когда дети повзрослеют, лет через десять. А то вдруг в следующий раз не пролетит спасительная сигарета, – засмеялся младший брат.
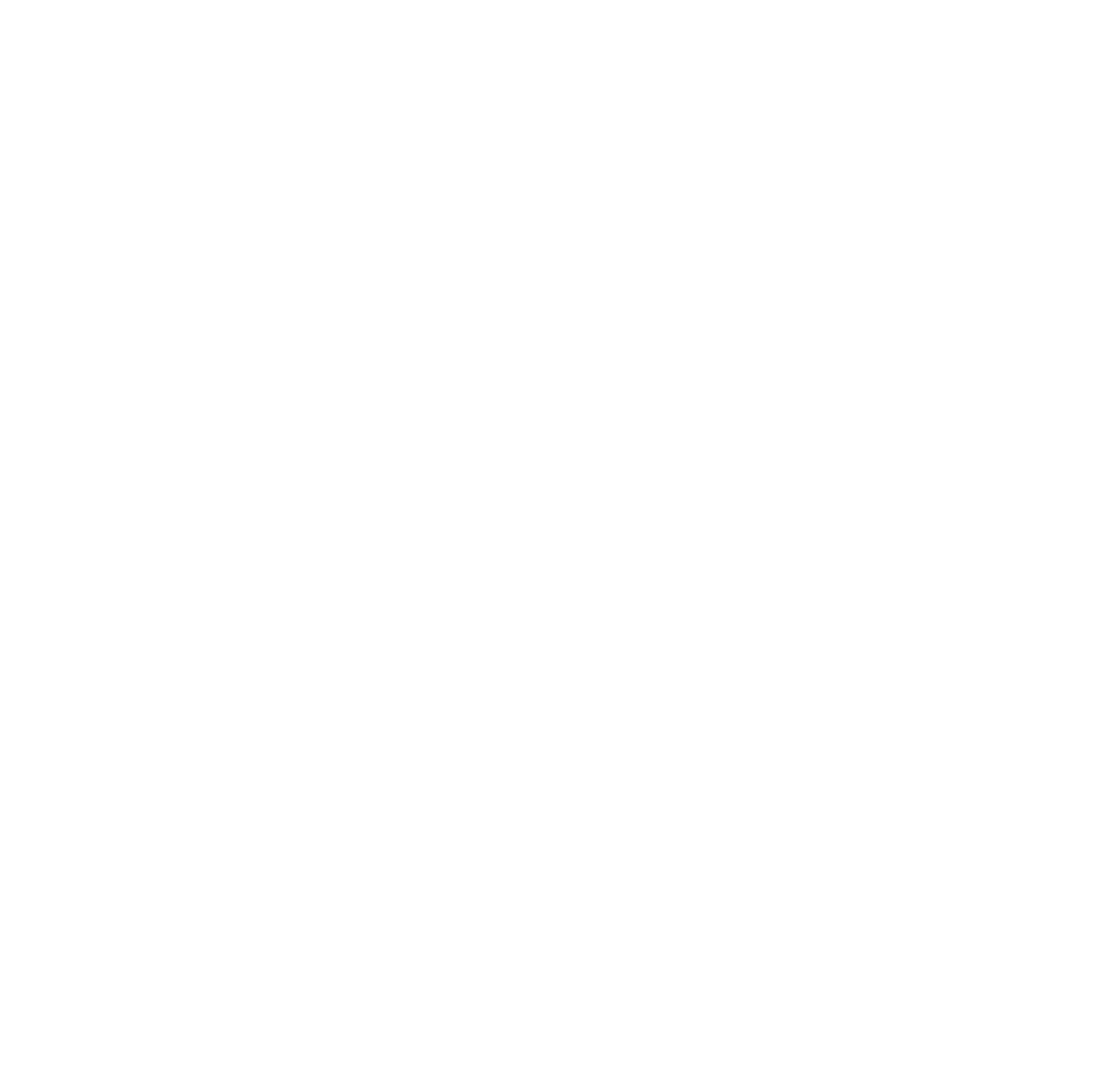
Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ
Родился в г. Курске в 1960 году. В 1978 г. окончил среднюю школу № 2 г. Кимры. 1979-1981 годы службы в рядах ВС СССР. В 1980 г. уехал в Ленинград, где прожил 8 лет.
В течение этого времени успешно учился в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной на двух факультетах поочередно (ныне Художественно-Промышленная Академия им. Штиглица). Профессиональный живописец и график. Однако в последнее время решил отдать предпочтение занятию литературой. Считает «слово» более живым и сильным средством, чем кисти и холсты.
Родился в г. Курске в 1960 году. В 1978 г. окончил среднюю школу № 2 г. Кимры. 1979-1981 годы службы в рядах ВС СССР. В 1980 г. уехал в Ленинград, где прожил 8 лет.
В течение этого времени успешно учился в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной на двух факультетах поочередно (ныне Художественно-Промышленная Академия им. Штиглица). Профессиональный живописец и график. Однако в последнее время решил отдать предпочтение занятию литературой. Считает «слово» более живым и сильным средством, чем кисти и холсты.
ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ ВАСИЛИЙ ЧУХЛОМА И РАЗБОЙНИКИ
Дед Василия Чиркина родился, пожалуй, в самой маленькой деревеньке, какие только бывают. Одинокий двор за плетнем в пять аршин. Десятина поля. Вот и вся деревня. Деревня та давно уж всеми забылась, затерялась и ушла в землю где-то в Чухломском уезде. «Чухломой» деда прозвали уже на Волге. Прозвище это не пристало ни к его дочерям, ни к его сыновьям, а перешло по наследству одному внуку Ваське.
Годы 1872-1873, Тобольск.
События, о которых пойдет повествование, произошли приблизительно в вышеуказанные годы. Среди прочих солдат расформированного пятого батальона Тобольского пехотного полка Василий Чиркин, на первый взгляд, ни чем особенным не выделялся. Его плоская физиономия казалась плохо нарисованной. Нарисованной так себе, без вдохновения.
Глаза, нос, рот – все детали на лице вроде бы перечислены, а чего-то не достает… Нет как будто замысла художника.
Все у Василия какое-то никакое, словно недорисованное и смазанное слегка ластиком. Не за что взгляду зацепиться.
Роста Василий Чиркин был среднего. Шинель, китель, шаровары – всё висело мешком. Движения неспешные, голос тихий. В общем – ничего примечательного в его облике не было. Не было и намека на таившуюся в нем редкого дарования силу. Силу задремавшую, но – некрепко, вполглаза. Случалось, кто-то мог видеть, как Василий успокаивал зарвавшегося бузотёра без лишних слов. Обиду Василий не терпел и «ломил» противника мгновенно – чух!… и с «копыт долой».
Как сам Василий про себя говорил, прозвище Чухлома он получил еще в детстве именно за свои проворство и ухватку в драке. С того дня, как Василию Чухломе забрили лоб, минуло 12 лет. Отпуск без срока заслужил он себе верой и правдой.
Теперь – все. Штык в землю. Домой! На Волгу.
Как там?… Мать еще при нем померла от родильной горячки. Отец… Жив ли? Одному Богу известно. Братья… Те должны уже вернуться с государевой службы, если живы, конечно.
Ярославский купец Арсений Федоров поторговал в городе на славу и теперь собирался в дорогу. Что хотел, то продал, что было нужно – купил.
Глянуть со стороны на Арсения – свой глаз усладить и душу порадовать….
Щеки румяные – наливными яблоками, без единой червоточинки. Губы пунцовые сложены бантиком, карамельку посасывают. Рыжими кучеряшками борода, волосок к волоску заботливой рукой уложена. Шуба пепельно-серая до пят… Словно с лубочной картинки купец сошел.
У Арсения в обозе – и песцы, и соболя, и золотишко самородками по мешочкам разложено и надежно припрятано. Кушаки, кафтаны, чулки, фарфор, табак, шелка китайские… Много у Арсения всякой драгоценной и редкой всячины…
Ехать тысячи верст по Сибирскому тракту – мероприятие, знаете ли, весьма рисковое. Без охраны никак нельзя! А кого просить и деньги немалые платить?! А тут Василий Чухлома сам напросился в попутчики.
О Чухломе купец кой-чего полезного для себя слышал, в узком кругу, так сказать, краем уха.
Экая выпала удача ему! Поехали!..
Государева дорога – бесконечная, как и небо само.
Лес, земля – все под снегом. Все застыло. Все замерло.
С высоты, где когда-то птицы летали, холодно и бесстрастно смотрят снежные ангелы. Позади уже месяц пути. Тысяча верст. Впереди еще – столько же.
Лошади резво бегут, сани скользят. День безветренный, ясный. Василий на облучке, вожжи держит умело, не натягивает попусту. Купец Арсений укутался в шубы, о чем-то поет себе тоненьким тенором. Сани скользят, темнеет быстро.
Сидор Павлов – разбойник известный. Снаружи страшный, телом, натурально – сундук с оглоблями. На сундуке – кочан в лисьей шапке. Ноздри рваные, рот – щелью от уха до уха, глазки угольями горят из преисподней. А внутри разбойник – и того страшней. На его черной совести – не менее трех десятков загубленных душ. Промышляет Сидор на главной государевой дороге. Сибирский Тракт ветвится и тянется на тысячи верст – до самого горизонта и дальше. Есть где поживиться лихому человеку.
Залаяли собаки, показались избы. Василий все правильно рассчитал. Успели до жилья засветло добраться. Деревня – десяток дворов. Крайняя изба – самая большая. Пятистенок. Попросились переночевать.
За стеной шумно. Мужики пьянствуют. Ну, это ничего. Пошумят и перестанут. Василий отправился смотреть место для ночлега. Потрогал печь – остывает. Подкинул дров, лавки сдвинул поближе к печи. Купец Арсений в санях на дворе дожидается. Добро стережет.
Шум за стеной стих. Василий забеспокоился, на двор поспешил. Что там?!..
А там – четверо мужиков купеческое добро к рукам прибирают. Уже шубу развернули, где мешочки с золотыми самородками надежно припрятаны. Самый страшный из разбойников, злодейски осклабившись, руки тянет к шее купца Арсения. Руки – что две оглобли с железными крючьями вместо пальцев.
Купец едва жив, рот для крика открыт…
Василий тенью скользит к разбойникам…без единого звука. Чух!.. Чух!.. Сломил одного за другим всех четверых. Те и опомниться не успели. Недаром он Чухломой прозван. Чух! И – с «копыт» долой. Чухлома и есть.
Связал накрепко Василий разбойников и сложил дровами в сенях. За всю ночь глаз не сомкнул. Стерег.
Утром изъял у хозяина подводу – за пособничество, погрузил пленников и – в путь. Гостеприимный хозяин, убоявшись Василия пуще любых злодеев, с радостью подводу свою отдал. А впридачу – хлеба с поклоном, масла, сметаны, солонины кадушку да вяленых карасей… Дорога-то длинная.
Купец Арсений на облучке пристроился, сам свое добро везет. Чухлома на хозяйской подводе везет разбойников. В городе Василий сдал душегубцев в ближайший полицейский участок.
Принимать разбойников примчался на всех парах сам обер-полицмейстер. Он так заспешил на радостях, что своими ногами прибежал в околоток, не дождавшись, пока кучер лошадей запряжет.
Сидора Павлова по всем приметам сразу признал.
Какой злодей наконец-то пойман и содержится у него под стражей!
Теперь обер-полицмейстера ждут скорое повышение по службе, генеральские эполеты и орден. Тут или Анну – на шею, или Владимира – на грудь. И то, и то – прекрасно! От такой изумительной перспективы обер-полицмейстер душой воспарил и «поплыл», едва устояв на ногах.
Однако устоял, поймал Василия в объятья и наградил генеральским поцелуем – чмок!
– Братец!.. послужи у меня урядником… Вон какого упыря изловил?! Что скажешь?..
Тело Василия по старой привычке вытянулось во фрунт…
– Премного благодарен! Рад стараться! Не могу послужить урядником, Ваше превосходительство! Мне бы домой, двенадцать лет не был!
– Жаль, жаль… – обер-полицмейстер все не выпускал Василия из объятий.
– Экий был бы у меня удалец! – он отстранил Чухлому на вытянутые руки.
– А с виду-то и не скажешь… мужик-мужиком. Абы что, а не герой. Ну что ж, ступай, братец, с Богом!.. – и его превосходительство снова наградил Василия генеральским поцелуем. Теперь уже – в макушку.
Притянул голову Василия к своей груди и чмокнул…
И снова – в путь. Василий – на облучке, купец Арсений в шубы укутался.
Дорога длинная. День за днем, ночлег за ночлегом…Промышляющие разбоем мужики, глядя на невзрачного Василия, не верили, что перед ними тот самый Чухлома, что Сидора Павлова голыми руками взял, и зарились на чужое добро. А зря не верили и зря зарились. Чухлома вязал веревками разбойников и сдавал становым приставам с рук на руки.
Василий доставил купца, как и договаривались, до самого Ярославля. Все добро – в целости и сохранности, как думали поначалу. Однако вскоре выяснилось, что не все в целости, и не все в сохранности… Золотишко пропало – мешочки с самородками.
Воз перевернули, шубы перетряхнули, а мешочков с золотыми самородками так и не нашли.
Повздыхал Арсений, обнял своего спасителя и на прощанье шубу подарил песцовую с плеча.
На попутной подводе добрался Василий до родного села. Недалеко оказалось. В Покровском отставного солдата Василия Чиркина признали. Обнимали, целовали, кормили, поили…
Рассказали Василию, что отец его помер давно, а братья с государевой службы так и не вернулись.
Зацепился Василий за родную землю. Осел окончательно. Дом родительский поправил, подлатал, подколотил, где надо…
Женился. Жена в доме – душа, Сам Василий – защита и голова, детишки пойдут – надежда на внуков и правнуков.
Упал Чухлома в снег. Руки раскинул, звезды считает…
– Одна, две, три… четыре… глаза закрыл. Ну, где еще так хорошо…
Послесловие
Василий Чиркин – отчим моего прапрадеда. Так что история эта вполне правдивая, а если я и приврал где, то совсем немного, самую малость.
СУП САНДЕ НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
– Бабушка, а что у нас на обед?
– Суп Санде на холодной воде!
Бабушка высыпает зелень в кастрюлю. Ведет шумовкой по кругу, и зеленая спираль замирает на янтарно-свекольной поверхности.
– Погуляйте пока!
Мы с Димкой идем на двор дожидаться, когда позовут обедать. Сидим на лавочке, болтаем ногами. Димке – 7 лет. Я постарше, мне – двенадцать. Мы с Димкой – братья.
Скрипнула калитка. Мы с братом не видим, кто пришел, калитка за углом, и слышим только хруст гравия. Ждем, кто появится.
Появился дедушка. Дед у нас высокий, прямой, красивый. Он никогда и никуда не спешит. Светлый костюм, соломенная шляпа, кожаные сандалии. Шествует мимо нас с братом и проходит в дом.
Вот опять скрипнула калитка. Ждем…
Появляются тетя Таня с дядей Витей. Тетя Таня ведет мужа под локоток. Держит надежно. Дядя Витя возвращается с рыбалки.
В свободной от захвата руке у дяди Вити садок, полный живых карасей.
– Ух тыыы!..
Мы с Димкой залезаем руками в садок.
– Ух ты?.. Знаете, где он их поймал?!
Тетя Таня не отпускает локоть мужа…
– И где же?..
На пороге дома бабушка – руки в боки, на плече полотенце.
– Где? – тетя Таня отвешивает мужу подзатыльник. Не сильный, любя.
– А у магазина поймал! Рыбу живую привезли. Иду мимо, смотрю – стоит, красавчик, в очереди!
Тетя Таня отвешивает мужу еще один подзатыльник. Подзатыльник – почти ласковый.
Не дал им Господь детишек, Витя у нее вместо ребенка. Мы с братом это поняли со временем.
Дядя Витя – «выпимши». Ясно дело – хорошо провел время у кого-то из друзей, не покидая города. Вид растерянный. Виновато улыбается. А кому приятно быть пойманным с поличным?.. Никому не приятно.
Мы сочувствуем своему дяде. Он хороший, добрый, хоть и выпивоха, как считают дедушка с бабушкой.
Помимо рыбалки у нашего дяди – страсть к аквариумным рыбкам, мопеду и канарейкам. Нам с Димкой нравится просыпаться под птичьи трели, наблюдать за рыбками и слушать ежедневное тарахтение мопеда, который никогда и никуда не хочет ехать…
– Обедать! – командует бабушка, разворачивается и уходит в дом.
Бабушка командует всегда и всеми. Идем следом, по старшинству – тетя Таня, дядя Витя, я и Димка.
На скатерти в центре стола накрыта крышкой самая большая в доме кастрюля. Там, внутри... Борщ с большой буквы. Бахрома скатерти местами заплетена в косички – наша с Димкой работа. Идеально нарезанный круглый хлеб разложен веером на плоской тарелке.
На плите – кастрюля поменьше.
Вторым блюдом ожидается молодая картошка, которую каждый сам себе намнет вилкой… Кто – с топленым маслом, кто – просто со сливочным. Кто как любит.
Завершит обед компот из сухофруктов.
В салатник с руки нарезаны огурцы, помидоры. Лучок, чесночок – всё, что надо, покрошено, заправлено подсолнечным маслом, черным перцем припорошено и «побито» под крышкой.
Юшка со дна достанется нам с Димкой.
Кто скажет, что это не вкусно, тот ничего не понимает.
Каждый садится на свое место. Дедушка достает из холодильника «мерзавчика».
Разливает… бабушке, себе, тете Тане…
«Мерзавчик» зависает над рюмкой зятя в ожидании вердикта.
Бабушка кивает. Зятю – на один палец, на донышко.
Это нас с Димкой провожают. Прощальный обед. Завтра – поезд на Москву.
– Вздрогнем?!..
Звякнули рюмками. Хрусталь красиво пропел – пора, мол, товарищи! Приступайте уже!
Застучали ложками, захлюпали, обжигаясь горячим. Бабушкин борщ, как всегда, – шедевр! Кастрюля большая. Добавки – в кого сколько влезет. Дядя Витя перевел взгляд с пустой рюмки куда-то вглубь себя. Лицо задумчивое. Какая-то новая мысль мешает ему мирно работать ложкой. Мысль пока еще смутная. Она неприятно беспокоит и требует импровизации. Дядя Витя встает и отодвигает стул…
– Куда?! – бабушка взглядом удерживает зятя на месте.
– Мне в туалет!..
– Леша, проводи…
Наш дедушка – шофер. Он всю жизнь за рулем. И до войны, и во время войны, и после войны. Лицо и кисти рук темно-шоколадные. Дедушка кладет коричневую ладонь зятю на плечо. Дедушка – большой, дядя Витя – маленький.
– Пошли…
Через пять минут дед возвращается один.
– Где он?.. – бабушка ждет объяснения.
Дедушка проходит к своему стулу. Садится. Разливает остатки мерзавчика по рюмкам…
– Убёг!
Дед уже не может сдерживать себя, смеется. Отсмеявшись, рассказывает, что довел он «арестованного» зятя до сортира без приключений. Вплотную к сортиру – забор. Бежать Вите некуда, и дедушка совершенно спокоен. Наш «арестант» импровизировал легко и красиво. Он приоткрыл дверь туалета и попросил дорогого тестя отойти на пару шагов. Дескать «дело» у него весьма деликатное… и может случиться конфуз.
– Не соизволите ли, дорогой папа…
Дедушка отпустил плечо зятя и сделал шаг назад.
– Сиганул через забор без разбега! С места!..
Дед смеется, вытирает пальцем слезу, берется за спинку стула, встает и пытается показать нам – как именно сиганул наш дядя Витя.
– Оперся вот так, одной рукой, подпрыгнул и, не касаясь ногами забора, перебросил тело... Ну, ловок, а?! И огородами убег! Как в кино! Смеются все.
Дед у нас – герой. Во время войны бежал из плена каким-то невероятным и фантастическим способом. Поезд с пленными красноармейцами шел через Украину. Ночью. Дед с товарищем разобрали пол в вагоне и плашмя, по очереди падали вниз, на шпалы. На ходу. Дед уцелел, а товарищ его погиб под колесами…
Наш дед дошел до Будапешта и вернулся с войны в сорок пятом, в декабре.
Ира с Лисичкой в тот день были на веранде. Ира – жена деда и наша с Димкой бабушка, Лисичка – их старшая дочь Мила. Так дедушка ласково называл нашу маму. Мила – тоненькая, красивая девочка с тугой рыжей косой. Лицо чуть удлиненное, усыпано конопушками.
Ира и Лисичка смотрят в окно… А за окном солдат идет… Шинель, сапоги, скатка через плечо. Обе закричали в голос и выбежали навстречу…
Младшая Таня родилась уже после войны. В сорок седьмом. В восемнадцать лет хорошенькая, курносая, с красивым голосом Таня влюбилась в своего Витю по фотографии. На той фотографии молодой и жизнерадостный Витя в танкистском шлеме торчит из люка проезжающего по Красной Площади танка и браво отдает честь руководству страны.
«Беглый арестант» заявился домой ближе к полуночи. Он долго крался в темноте к свой кровати. Благополучно миновал трюмо, аквариум, телевизор… и уже на самом финише уронил стул.
Уронил, конечно же, с грохотом… По-другому и не бывает. Постоял, прислушался к ровному дыханию будто бы спящих родственников и тихо заполз под одеяло.
– Как тать в ночи… – дождалась бабушка прихода зятя и уснула.
Разбор полётов был на следующий день. Нам с братом это было не нужно, и мы усвистали на улицу.
Вечером нас провожали на вокзал. Все, кроме бабушки. Бабушка проводила только до калитки. Она долго стояла, смотрела, пока мы с Димкой не скроемся из виду.
На следующий год бабушка будет так же встречать у калитки… И провожать будет – так же. И через год… И еще много лет, пока мы с братом не вырастем и не станем взрослыми.
ЛЮДВИГ
Иван Сергеевич – учитель истории. Когда-то давно, еще в позапрошлом веке, тетушка его бабушки вышла замуж за Курляндского барона.
И напомнить лишний раз ближнему о своем родстве с Курляндскими баронами Иван Сергеевич за грех не считал. Например, не далее как вчера учитель истории подал своему приятелю Людвигу серебряную ложечку для сахару к чаю и не преминул заметить:
– «Графская ложечка», – смотрите мол, красота какая!
– Вот герб баронский. Полюбуйтесь… А вот – проба. Серебро. Фамильное.
Людвиг ничем таким особенным, кроме своего имени, похвастать не мог.
Он внимал учителю истории не первый год и давно чувствовал все возрастающую потребность подтянуться до уровня и хоть сколько-нибудь соответствовать…
И лишний раз крутить серебряными ложками у него перед носом не было необходимости.
Не случайно именно сегодня что-то клюнуло Людвига в его лысеющее темечко.
Лысеть, увы, Людвиг начал давно. А ведь было время, когда его роскошная шевелюра многим была на зависть. Но время шло, и колосившаяся, по спирали, густым волосом макушка постепенно редела, пока не заблестела «голой коленкой» с редкими тычинками.
И потому клюнуло его в лысину, надо сказать, весьма чувствительно.
«Втемяшилось», одним словом…
– А вдруг?!..
Людвиг с утра пораньше закрылся в ванной комнате и прилип к зеркалу. Он вставал на цыпочки, крутил головой, косил глазами… Профиль справа, профиль слева… Взгляд свысока, взгляд исподлобья…
Разминал лицо пальцами обеих рук одновременно – нос картошкой, нос приплюснутый… Надувал и втягивал щеки…
– А что, если какая-нибудь графиня… А? Может такое быть?..
– Может.
– Или, допустим, баронесса? А?
– Нет. Лучше… княгиня.
Людвиг сам себя спрашивал и сам же себе отвечал.
– Хм, что-то княжеское определённо есть. Это точно.
Людвиг погладил подушечками пальцев сивую щетину на подбородке – подросла.
Пухлые губы разъехались в улыбке.
– Пусть будет княгиня.
Быть неизвестным потомком неизвестной княгини ему нравилось.
Позавтракал Людвиг, как обычно, плотно и со вкусом.
Яишенка о трех желтках, бутерброды с кабачковой икрой, кофий со сливками.
Серые шерстяные брюки отутюжены. Штанины с отворотами до половины прикрывают каблук. Ботинки отполированы. Светлая велюровая куртка. Молния сверху приспущена. Белое кашне. Длинный шлейф дорогого одеколона…
Людвиг ступает по тротуару вразвалочку. Перекидывает центнер живого веса с левой ноги на правую, с правой – на левую…
Руки – в брюки.
– Здрасс… – Людвиг чуть склоняет голову и касается кончиками пальцев козырька своего кепи.
– Здрасс… – каждому встречному – легкий, изящный поклон. Людвига знают все. Кому крышу подлатать – к Людвигу. Кому забор поправить – к Людвигу. Курятник простроить, унитаз новый поставить, гвоздь в стену забить – все, все бегут к Людвигу.
Людвиг за труды свои денег не берет. Он творит добро бесплатно. И люди за то благодарят его – кто как умеет.
Все зависит от того, какая у кого в наличии совесть имеется, и какой у кого размах души.
Посмотрит, к примеру, Василь Дмитрич на свой новый курятник, а потом на своих счастливых кур и вспоминает Людвигово добро. Глядь, а тут и сам на все руки мастер идет…
И Василь Дмитрич под трудовые ручки ведет Людвига в дом. Там его вкусно потчует «макаронами по-флотски» и на прощание – конвертик с энной суммой, в знак благодарности…
Макароны по-флотски были у Людвига сегодня на второй завтрак. А кислыми щами пообедал он у Марьи Николаевны… За установку нового унитаза старушка не знает, как и благодарить.
У Марьи Николаевны Людвиг задержался подольше.
После щей были блинчики со сметаной и чай с сахаром.
– Опузател ты у меня, батюшка. Вот и хорошо… – умилилась хозяйка.
После чая Людвик облобызался с Марьей Николаевной, не дождался конвертика, раскланялся и направил стопы в сторону дома.
На полпути Людвиг надумал заглянуть к учителю истории Ивану Сергеевичу. Нелегко удержать в себе одном такую приятную догадку о княгине. Хорошо бы обсудить эту тему с потомственным бароном.
Нельзя сказать, что Иван Сергеевич был несказанно рад гостю. Только вчера расстались. Однако встретил приветливо и пошел на кухню ставить чайник.
Людвиг в раскоряку устроился на табурете. Шнурки на ботинках, как всегда, затянулись узлами. Возня предстояла долгая, и Людвиг сразу «зашел с козырей»:
– А знаете, Иван Сергеевич… У меня в роду, оказывается, княгиня была!
– Правда? – учитель истории заглянул в прихожую. – Откуда дровишки?…
Людвиг пыхтел на табурете. Он склонился плотным телом над ботинками, предварительно ослабив брючный ремень. Шнурки не поддавались, количество узлов только увеличивалось. Людвиг припал левой щекой к правому колену и по-птичьи развернул голову, чтобы хоть как-то видеть Ивана Сергеевича…
– Генерал знакомый сказал, почти родственник, у него связи…
Лицо учителя истории неприятно улыбнулось, отчего Людвиг заподозрил, что Иван Сергеевич ему не верит…
– Вы мне не верите?..
– Сомнения меня одолевают, Людвиг. Не посмеялся ли над вами генерал…
На учителя истории смотрели маленькие обиженные глазки…
– А у вас нос кривой. И никакой вы не барон!..
Людвиг засопел, протолкнул пальцами ненавистные шнурки под язычок ботинка, сунул кашне в карман куртки и, не прощаясь, пошел домой.
По пути Людвиг заглянул в магазин, взял полкило коньячку и шоколадных конфет. Обидно было.
Коньячок «зашел» хорошо, душевно согрел и успокоил. Людвиг завалился на диван, в чем был.
Куртку, брюки, ботинки… все оставил на себе. Вздохнул, всхрапнул и закрыл глаза.
На следующий день после встречи с Иваном Сергеевичем Людвиг пропал… Ни слуху, ни духу. Только его и видели… Горожане вспоминали Людвига по-разному, смотря у кого сколько было великодушия… Одни считали его пройдохой и себе на уме, другие – ангелом…
Те, кто вспоминал Людвига добрым словом, так и говорили:
– Хороший он человек – Людвиг. Дай Бог ему жену красавицу и детишек побольше…
После чего по городу прошел слух, что Людвиг не то клад нашел, не то богатство несметное в наследство получил…
Как-то поздним вечером, переевши сладкого, Иван Сергеевич задремал в кресле, укутавшись с головой в старый плед. Обычно под старым клетчатым пледом ему снились буквы на пожелтевших страницах и монотонно говорящие сами себя слова.
Но сегодня Иван Сергеевич смотрел необычный сон, с участием Людвига.
Живые картинки были ярко раскрашены и обильно приправлены сиропом настоящего цветного сна.
Сон Ивана Сергеевича…
С высоты одинокой перламутровой тучки падала вниз и шумела вода, образуя неглубокое озеро-купель. Над купелью светилась радуга. Берега утопали в неге и цветах.
Восхитительной красоты бабочка перелетала от цветка к цветку, раскручивала тонкий хоботок и пила нектар. Головку бабочки украшала алмазно-сапфирная диадема.
– Княгиня!.. – шепотом догадался Иван Сергеевич и продолжил смотреть прекрасный сон дальше.
Колечки золотистых волос восхитительно обрамляли белое мраморное личико княгини. Людвиг плыл над цветочным полем и, вытянув губы, дул, подражая дыханию Эола.
Из тончайшей кисеи, платье княгини колыхалось на ветру…
Княгиня смеялась, подлетала к Людвигу близко-близко и что-то шептала… Что именно шептала бабочка-княгиня Людвигу, Иван Сергеевич расслышать не мог из-за шума воды, падающей с высоты одинокой перламутровой тучки.
Спустя три года Иван Сергеевич поехал в областной центр не то на симпозиум, не то на конференцию. Выступил с лекцией о присоединении курляндского княжества к Российской империи, заложил руки за спину и отправился на прогулку по городу.
Исторические события, гнездившиеся в его голове одновременно с неисторическими, требовали иногда уборки и проветривания.
Проветрив ученую голову, Иван Сергеевич умиротворился, проникся симпатией к окружающему его пространству и стал разглядывать прохожих. Неожиданно для себя он увидел знакомую фигуру. Фигура важно переваливала свой центнер с левой ноги на правую и с правой – на левую…
– Людвиг!
Людвиг держал за руки двоих годовалых или чуть постарше детишек. Мальчика и девочку – близнецов. Рядом – жена красавица. Людвиг остановился, присел на корточки и занялся мокрыми носами близнецов. Он был слишком увлечен и на своего старого приятеля не обратил никакого внимания.
Иван Сергеевич смотрел и не двигался.
Мальчик – вылитый Людвиг. Девочка – белое ангельское личико в обрамлении восхитительных золотистых кудряшек. Одно лицо с княгиней-бабочкой.
«Так не бывает», – только и подумал учитель истории.
Дед Василия Чиркина родился, пожалуй, в самой маленькой деревеньке, какие только бывают. Одинокий двор за плетнем в пять аршин. Десятина поля. Вот и вся деревня. Деревня та давно уж всеми забылась, затерялась и ушла в землю где-то в Чухломском уезде. «Чухломой» деда прозвали уже на Волге. Прозвище это не пристало ни к его дочерям, ни к его сыновьям, а перешло по наследству одному внуку Ваське.
Годы 1872-1873, Тобольск.
События, о которых пойдет повествование, произошли приблизительно в вышеуказанные годы. Среди прочих солдат расформированного пятого батальона Тобольского пехотного полка Василий Чиркин, на первый взгляд, ни чем особенным не выделялся. Его плоская физиономия казалась плохо нарисованной. Нарисованной так себе, без вдохновения.
Глаза, нос, рот – все детали на лице вроде бы перечислены, а чего-то не достает… Нет как будто замысла художника.
Все у Василия какое-то никакое, словно недорисованное и смазанное слегка ластиком. Не за что взгляду зацепиться.
Роста Василий Чиркин был среднего. Шинель, китель, шаровары – всё висело мешком. Движения неспешные, голос тихий. В общем – ничего примечательного в его облике не было. Не было и намека на таившуюся в нем редкого дарования силу. Силу задремавшую, но – некрепко, вполглаза. Случалось, кто-то мог видеть, как Василий успокаивал зарвавшегося бузотёра без лишних слов. Обиду Василий не терпел и «ломил» противника мгновенно – чух!… и с «копыт долой».
Как сам Василий про себя говорил, прозвище Чухлома он получил еще в детстве именно за свои проворство и ухватку в драке. С того дня, как Василию Чухломе забрили лоб, минуло 12 лет. Отпуск без срока заслужил он себе верой и правдой.
Теперь – все. Штык в землю. Домой! На Волгу.
Как там?… Мать еще при нем померла от родильной горячки. Отец… Жив ли? Одному Богу известно. Братья… Те должны уже вернуться с государевой службы, если живы, конечно.
Ярославский купец Арсений Федоров поторговал в городе на славу и теперь собирался в дорогу. Что хотел, то продал, что было нужно – купил.
Глянуть со стороны на Арсения – свой глаз усладить и душу порадовать….
Щеки румяные – наливными яблоками, без единой червоточинки. Губы пунцовые сложены бантиком, карамельку посасывают. Рыжими кучеряшками борода, волосок к волоску заботливой рукой уложена. Шуба пепельно-серая до пят… Словно с лубочной картинки купец сошел.
У Арсения в обозе – и песцы, и соболя, и золотишко самородками по мешочкам разложено и надежно припрятано. Кушаки, кафтаны, чулки, фарфор, табак, шелка китайские… Много у Арсения всякой драгоценной и редкой всячины…
Ехать тысячи верст по Сибирскому тракту – мероприятие, знаете ли, весьма рисковое. Без охраны никак нельзя! А кого просить и деньги немалые платить?! А тут Василий Чухлома сам напросился в попутчики.
О Чухломе купец кой-чего полезного для себя слышал, в узком кругу, так сказать, краем уха.
Экая выпала удача ему! Поехали!..
Государева дорога – бесконечная, как и небо само.
Лес, земля – все под снегом. Все застыло. Все замерло.
С высоты, где когда-то птицы летали, холодно и бесстрастно смотрят снежные ангелы. Позади уже месяц пути. Тысяча верст. Впереди еще – столько же.
Лошади резво бегут, сани скользят. День безветренный, ясный. Василий на облучке, вожжи держит умело, не натягивает попусту. Купец Арсений укутался в шубы, о чем-то поет себе тоненьким тенором. Сани скользят, темнеет быстро.
Сидор Павлов – разбойник известный. Снаружи страшный, телом, натурально – сундук с оглоблями. На сундуке – кочан в лисьей шапке. Ноздри рваные, рот – щелью от уха до уха, глазки угольями горят из преисподней. А внутри разбойник – и того страшней. На его черной совести – не менее трех десятков загубленных душ. Промышляет Сидор на главной государевой дороге. Сибирский Тракт ветвится и тянется на тысячи верст – до самого горизонта и дальше. Есть где поживиться лихому человеку.
Залаяли собаки, показались избы. Василий все правильно рассчитал. Успели до жилья засветло добраться. Деревня – десяток дворов. Крайняя изба – самая большая. Пятистенок. Попросились переночевать.
За стеной шумно. Мужики пьянствуют. Ну, это ничего. Пошумят и перестанут. Василий отправился смотреть место для ночлега. Потрогал печь – остывает. Подкинул дров, лавки сдвинул поближе к печи. Купец Арсений в санях на дворе дожидается. Добро стережет.
Шум за стеной стих. Василий забеспокоился, на двор поспешил. Что там?!..
А там – четверо мужиков купеческое добро к рукам прибирают. Уже шубу развернули, где мешочки с золотыми самородками надежно припрятаны. Самый страшный из разбойников, злодейски осклабившись, руки тянет к шее купца Арсения. Руки – что две оглобли с железными крючьями вместо пальцев.
Купец едва жив, рот для крика открыт…
Василий тенью скользит к разбойникам…без единого звука. Чух!.. Чух!.. Сломил одного за другим всех четверых. Те и опомниться не успели. Недаром он Чухломой прозван. Чух! И – с «копыт» долой. Чухлома и есть.
Связал накрепко Василий разбойников и сложил дровами в сенях. За всю ночь глаз не сомкнул. Стерег.
Утром изъял у хозяина подводу – за пособничество, погрузил пленников и – в путь. Гостеприимный хозяин, убоявшись Василия пуще любых злодеев, с радостью подводу свою отдал. А впридачу – хлеба с поклоном, масла, сметаны, солонины кадушку да вяленых карасей… Дорога-то длинная.
Купец Арсений на облучке пристроился, сам свое добро везет. Чухлома на хозяйской подводе везет разбойников. В городе Василий сдал душегубцев в ближайший полицейский участок.
Принимать разбойников примчался на всех парах сам обер-полицмейстер. Он так заспешил на радостях, что своими ногами прибежал в околоток, не дождавшись, пока кучер лошадей запряжет.
Сидора Павлова по всем приметам сразу признал.
Какой злодей наконец-то пойман и содержится у него под стражей!
Теперь обер-полицмейстера ждут скорое повышение по службе, генеральские эполеты и орден. Тут или Анну – на шею, или Владимира – на грудь. И то, и то – прекрасно! От такой изумительной перспективы обер-полицмейстер душой воспарил и «поплыл», едва устояв на ногах.
Однако устоял, поймал Василия в объятья и наградил генеральским поцелуем – чмок!
– Братец!.. послужи у меня урядником… Вон какого упыря изловил?! Что скажешь?..
Тело Василия по старой привычке вытянулось во фрунт…
– Премного благодарен! Рад стараться! Не могу послужить урядником, Ваше превосходительство! Мне бы домой, двенадцать лет не был!
– Жаль, жаль… – обер-полицмейстер все не выпускал Василия из объятий.
– Экий был бы у меня удалец! – он отстранил Чухлому на вытянутые руки.
– А с виду-то и не скажешь… мужик-мужиком. Абы что, а не герой. Ну что ж, ступай, братец, с Богом!.. – и его превосходительство снова наградил Василия генеральским поцелуем. Теперь уже – в макушку.
Притянул голову Василия к своей груди и чмокнул…
И снова – в путь. Василий – на облучке, купец Арсений в шубы укутался.
Дорога длинная. День за днем, ночлег за ночлегом…Промышляющие разбоем мужики, глядя на невзрачного Василия, не верили, что перед ними тот самый Чухлома, что Сидора Павлова голыми руками взял, и зарились на чужое добро. А зря не верили и зря зарились. Чухлома вязал веревками разбойников и сдавал становым приставам с рук на руки.
Василий доставил купца, как и договаривались, до самого Ярославля. Все добро – в целости и сохранности, как думали поначалу. Однако вскоре выяснилось, что не все в целости, и не все в сохранности… Золотишко пропало – мешочки с самородками.
Воз перевернули, шубы перетряхнули, а мешочков с золотыми самородками так и не нашли.
Повздыхал Арсений, обнял своего спасителя и на прощанье шубу подарил песцовую с плеча.
На попутной подводе добрался Василий до родного села. Недалеко оказалось. В Покровском отставного солдата Василия Чиркина признали. Обнимали, целовали, кормили, поили…
Рассказали Василию, что отец его помер давно, а братья с государевой службы так и не вернулись.
Зацепился Василий за родную землю. Осел окончательно. Дом родительский поправил, подлатал, подколотил, где надо…
Женился. Жена в доме – душа, Сам Василий – защита и голова, детишки пойдут – надежда на внуков и правнуков.
Упал Чухлома в снег. Руки раскинул, звезды считает…
– Одна, две, три… четыре… глаза закрыл. Ну, где еще так хорошо…
Послесловие
Василий Чиркин – отчим моего прапрадеда. Так что история эта вполне правдивая, а если я и приврал где, то совсем немного, самую малость.
СУП САНДЕ НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
– Бабушка, а что у нас на обед?
– Суп Санде на холодной воде!
Бабушка высыпает зелень в кастрюлю. Ведет шумовкой по кругу, и зеленая спираль замирает на янтарно-свекольной поверхности.
– Погуляйте пока!
Мы с Димкой идем на двор дожидаться, когда позовут обедать. Сидим на лавочке, болтаем ногами. Димке – 7 лет. Я постарше, мне – двенадцать. Мы с Димкой – братья.
Скрипнула калитка. Мы с братом не видим, кто пришел, калитка за углом, и слышим только хруст гравия. Ждем, кто появится.
Появился дедушка. Дед у нас высокий, прямой, красивый. Он никогда и никуда не спешит. Светлый костюм, соломенная шляпа, кожаные сандалии. Шествует мимо нас с братом и проходит в дом.
Вот опять скрипнула калитка. Ждем…
Появляются тетя Таня с дядей Витей. Тетя Таня ведет мужа под локоток. Держит надежно. Дядя Витя возвращается с рыбалки.
В свободной от захвата руке у дяди Вити садок, полный живых карасей.
– Ух тыыы!..
Мы с Димкой залезаем руками в садок.
– Ух ты?.. Знаете, где он их поймал?!
Тетя Таня не отпускает локоть мужа…
– И где же?..
На пороге дома бабушка – руки в боки, на плече полотенце.
– Где? – тетя Таня отвешивает мужу подзатыльник. Не сильный, любя.
– А у магазина поймал! Рыбу живую привезли. Иду мимо, смотрю – стоит, красавчик, в очереди!
Тетя Таня отвешивает мужу еще один подзатыльник. Подзатыльник – почти ласковый.
Не дал им Господь детишек, Витя у нее вместо ребенка. Мы с братом это поняли со временем.
Дядя Витя – «выпимши». Ясно дело – хорошо провел время у кого-то из друзей, не покидая города. Вид растерянный. Виновато улыбается. А кому приятно быть пойманным с поличным?.. Никому не приятно.
Мы сочувствуем своему дяде. Он хороший, добрый, хоть и выпивоха, как считают дедушка с бабушкой.
Помимо рыбалки у нашего дяди – страсть к аквариумным рыбкам, мопеду и канарейкам. Нам с Димкой нравится просыпаться под птичьи трели, наблюдать за рыбками и слушать ежедневное тарахтение мопеда, который никогда и никуда не хочет ехать…
– Обедать! – командует бабушка, разворачивается и уходит в дом.
Бабушка командует всегда и всеми. Идем следом, по старшинству – тетя Таня, дядя Витя, я и Димка.
На скатерти в центре стола накрыта крышкой самая большая в доме кастрюля. Там, внутри... Борщ с большой буквы. Бахрома скатерти местами заплетена в косички – наша с Димкой работа. Идеально нарезанный круглый хлеб разложен веером на плоской тарелке.
На плите – кастрюля поменьше.
Вторым блюдом ожидается молодая картошка, которую каждый сам себе намнет вилкой… Кто – с топленым маслом, кто – просто со сливочным. Кто как любит.
Завершит обед компот из сухофруктов.
В салатник с руки нарезаны огурцы, помидоры. Лучок, чесночок – всё, что надо, покрошено, заправлено подсолнечным маслом, черным перцем припорошено и «побито» под крышкой.
Юшка со дна достанется нам с Димкой.
Кто скажет, что это не вкусно, тот ничего не понимает.
Каждый садится на свое место. Дедушка достает из холодильника «мерзавчика».
Разливает… бабушке, себе, тете Тане…
«Мерзавчик» зависает над рюмкой зятя в ожидании вердикта.
Бабушка кивает. Зятю – на один палец, на донышко.
Это нас с Димкой провожают. Прощальный обед. Завтра – поезд на Москву.
– Вздрогнем?!..
Звякнули рюмками. Хрусталь красиво пропел – пора, мол, товарищи! Приступайте уже!
Застучали ложками, захлюпали, обжигаясь горячим. Бабушкин борщ, как всегда, – шедевр! Кастрюля большая. Добавки – в кого сколько влезет. Дядя Витя перевел взгляд с пустой рюмки куда-то вглубь себя. Лицо задумчивое. Какая-то новая мысль мешает ему мирно работать ложкой. Мысль пока еще смутная. Она неприятно беспокоит и требует импровизации. Дядя Витя встает и отодвигает стул…
– Куда?! – бабушка взглядом удерживает зятя на месте.
– Мне в туалет!..
– Леша, проводи…
Наш дедушка – шофер. Он всю жизнь за рулем. И до войны, и во время войны, и после войны. Лицо и кисти рук темно-шоколадные. Дедушка кладет коричневую ладонь зятю на плечо. Дедушка – большой, дядя Витя – маленький.
– Пошли…
Через пять минут дед возвращается один.
– Где он?.. – бабушка ждет объяснения.
Дедушка проходит к своему стулу. Садится. Разливает остатки мерзавчика по рюмкам…
– Убёг!
Дед уже не может сдерживать себя, смеется. Отсмеявшись, рассказывает, что довел он «арестованного» зятя до сортира без приключений. Вплотную к сортиру – забор. Бежать Вите некуда, и дедушка совершенно спокоен. Наш «арестант» импровизировал легко и красиво. Он приоткрыл дверь туалета и попросил дорогого тестя отойти на пару шагов. Дескать «дело» у него весьма деликатное… и может случиться конфуз.
– Не соизволите ли, дорогой папа…
Дедушка отпустил плечо зятя и сделал шаг назад.
– Сиганул через забор без разбега! С места!..
Дед смеется, вытирает пальцем слезу, берется за спинку стула, встает и пытается показать нам – как именно сиганул наш дядя Витя.
– Оперся вот так, одной рукой, подпрыгнул и, не касаясь ногами забора, перебросил тело... Ну, ловок, а?! И огородами убег! Как в кино! Смеются все.
Дед у нас – герой. Во время войны бежал из плена каким-то невероятным и фантастическим способом. Поезд с пленными красноармейцами шел через Украину. Ночью. Дед с товарищем разобрали пол в вагоне и плашмя, по очереди падали вниз, на шпалы. На ходу. Дед уцелел, а товарищ его погиб под колесами…
Наш дед дошел до Будапешта и вернулся с войны в сорок пятом, в декабре.
Ира с Лисичкой в тот день были на веранде. Ира – жена деда и наша с Димкой бабушка, Лисичка – их старшая дочь Мила. Так дедушка ласково называл нашу маму. Мила – тоненькая, красивая девочка с тугой рыжей косой. Лицо чуть удлиненное, усыпано конопушками.
Ира и Лисичка смотрят в окно… А за окном солдат идет… Шинель, сапоги, скатка через плечо. Обе закричали в голос и выбежали навстречу…
Младшая Таня родилась уже после войны. В сорок седьмом. В восемнадцать лет хорошенькая, курносая, с красивым голосом Таня влюбилась в своего Витю по фотографии. На той фотографии молодой и жизнерадостный Витя в танкистском шлеме торчит из люка проезжающего по Красной Площади танка и браво отдает честь руководству страны.
«Беглый арестант» заявился домой ближе к полуночи. Он долго крался в темноте к свой кровати. Благополучно миновал трюмо, аквариум, телевизор… и уже на самом финише уронил стул.
Уронил, конечно же, с грохотом… По-другому и не бывает. Постоял, прислушался к ровному дыханию будто бы спящих родственников и тихо заполз под одеяло.
– Как тать в ночи… – дождалась бабушка прихода зятя и уснула.
Разбор полётов был на следующий день. Нам с братом это было не нужно, и мы усвистали на улицу.
Вечером нас провожали на вокзал. Все, кроме бабушки. Бабушка проводила только до калитки. Она долго стояла, смотрела, пока мы с Димкой не скроемся из виду.
На следующий год бабушка будет так же встречать у калитки… И провожать будет – так же. И через год… И еще много лет, пока мы с братом не вырастем и не станем взрослыми.
ЛЮДВИГ
Иван Сергеевич – учитель истории. Когда-то давно, еще в позапрошлом веке, тетушка его бабушки вышла замуж за Курляндского барона.
И напомнить лишний раз ближнему о своем родстве с Курляндскими баронами Иван Сергеевич за грех не считал. Например, не далее как вчера учитель истории подал своему приятелю Людвигу серебряную ложечку для сахару к чаю и не преминул заметить:
– «Графская ложечка», – смотрите мол, красота какая!
– Вот герб баронский. Полюбуйтесь… А вот – проба. Серебро. Фамильное.
Людвиг ничем таким особенным, кроме своего имени, похвастать не мог.
Он внимал учителю истории не первый год и давно чувствовал все возрастающую потребность подтянуться до уровня и хоть сколько-нибудь соответствовать…
И лишний раз крутить серебряными ложками у него перед носом не было необходимости.
Не случайно именно сегодня что-то клюнуло Людвига в его лысеющее темечко.
Лысеть, увы, Людвиг начал давно. А ведь было время, когда его роскошная шевелюра многим была на зависть. Но время шло, и колосившаяся, по спирали, густым волосом макушка постепенно редела, пока не заблестела «голой коленкой» с редкими тычинками.
И потому клюнуло его в лысину, надо сказать, весьма чувствительно.
«Втемяшилось», одним словом…
– А вдруг?!..
Людвиг с утра пораньше закрылся в ванной комнате и прилип к зеркалу. Он вставал на цыпочки, крутил головой, косил глазами… Профиль справа, профиль слева… Взгляд свысока, взгляд исподлобья…
Разминал лицо пальцами обеих рук одновременно – нос картошкой, нос приплюснутый… Надувал и втягивал щеки…
– А что, если какая-нибудь графиня… А? Может такое быть?..
– Может.
– Или, допустим, баронесса? А?
– Нет. Лучше… княгиня.
Людвиг сам себя спрашивал и сам же себе отвечал.
– Хм, что-то княжеское определённо есть. Это точно.
Людвиг погладил подушечками пальцев сивую щетину на подбородке – подросла.
Пухлые губы разъехались в улыбке.
– Пусть будет княгиня.
Быть неизвестным потомком неизвестной княгини ему нравилось.
Позавтракал Людвиг, как обычно, плотно и со вкусом.
Яишенка о трех желтках, бутерброды с кабачковой икрой, кофий со сливками.
Серые шерстяные брюки отутюжены. Штанины с отворотами до половины прикрывают каблук. Ботинки отполированы. Светлая велюровая куртка. Молния сверху приспущена. Белое кашне. Длинный шлейф дорогого одеколона…
Людвиг ступает по тротуару вразвалочку. Перекидывает центнер живого веса с левой ноги на правую, с правой – на левую…
Руки – в брюки.
– Здрасс… – Людвиг чуть склоняет голову и касается кончиками пальцев козырька своего кепи.
– Здрасс… – каждому встречному – легкий, изящный поклон. Людвига знают все. Кому крышу подлатать – к Людвигу. Кому забор поправить – к Людвигу. Курятник простроить, унитаз новый поставить, гвоздь в стену забить – все, все бегут к Людвигу.
Людвиг за труды свои денег не берет. Он творит добро бесплатно. И люди за то благодарят его – кто как умеет.
Все зависит от того, какая у кого в наличии совесть имеется, и какой у кого размах души.
Посмотрит, к примеру, Василь Дмитрич на свой новый курятник, а потом на своих счастливых кур и вспоминает Людвигово добро. Глядь, а тут и сам на все руки мастер идет…
И Василь Дмитрич под трудовые ручки ведет Людвига в дом. Там его вкусно потчует «макаронами по-флотски» и на прощание – конвертик с энной суммой, в знак благодарности…
Макароны по-флотски были у Людвига сегодня на второй завтрак. А кислыми щами пообедал он у Марьи Николаевны… За установку нового унитаза старушка не знает, как и благодарить.
У Марьи Николаевны Людвиг задержался подольше.
После щей были блинчики со сметаной и чай с сахаром.
– Опузател ты у меня, батюшка. Вот и хорошо… – умилилась хозяйка.
После чая Людвик облобызался с Марьей Николаевной, не дождался конвертика, раскланялся и направил стопы в сторону дома.
На полпути Людвиг надумал заглянуть к учителю истории Ивану Сергеевичу. Нелегко удержать в себе одном такую приятную догадку о княгине. Хорошо бы обсудить эту тему с потомственным бароном.
Нельзя сказать, что Иван Сергеевич был несказанно рад гостю. Только вчера расстались. Однако встретил приветливо и пошел на кухню ставить чайник.
Людвиг в раскоряку устроился на табурете. Шнурки на ботинках, как всегда, затянулись узлами. Возня предстояла долгая, и Людвиг сразу «зашел с козырей»:
– А знаете, Иван Сергеевич… У меня в роду, оказывается, княгиня была!
– Правда? – учитель истории заглянул в прихожую. – Откуда дровишки?…
Людвиг пыхтел на табурете. Он склонился плотным телом над ботинками, предварительно ослабив брючный ремень. Шнурки не поддавались, количество узлов только увеличивалось. Людвиг припал левой щекой к правому колену и по-птичьи развернул голову, чтобы хоть как-то видеть Ивана Сергеевича…
– Генерал знакомый сказал, почти родственник, у него связи…
Лицо учителя истории неприятно улыбнулось, отчего Людвиг заподозрил, что Иван Сергеевич ему не верит…
– Вы мне не верите?..
– Сомнения меня одолевают, Людвиг. Не посмеялся ли над вами генерал…
На учителя истории смотрели маленькие обиженные глазки…
– А у вас нос кривой. И никакой вы не барон!..
Людвиг засопел, протолкнул пальцами ненавистные шнурки под язычок ботинка, сунул кашне в карман куртки и, не прощаясь, пошел домой.
По пути Людвиг заглянул в магазин, взял полкило коньячку и шоколадных конфет. Обидно было.
Коньячок «зашел» хорошо, душевно согрел и успокоил. Людвиг завалился на диван, в чем был.
Куртку, брюки, ботинки… все оставил на себе. Вздохнул, всхрапнул и закрыл глаза.
На следующий день после встречи с Иваном Сергеевичем Людвиг пропал… Ни слуху, ни духу. Только его и видели… Горожане вспоминали Людвига по-разному, смотря у кого сколько было великодушия… Одни считали его пройдохой и себе на уме, другие – ангелом…
Те, кто вспоминал Людвига добрым словом, так и говорили:
– Хороший он человек – Людвиг. Дай Бог ему жену красавицу и детишек побольше…
После чего по городу прошел слух, что Людвиг не то клад нашел, не то богатство несметное в наследство получил…
Как-то поздним вечером, переевши сладкого, Иван Сергеевич задремал в кресле, укутавшись с головой в старый плед. Обычно под старым клетчатым пледом ему снились буквы на пожелтевших страницах и монотонно говорящие сами себя слова.
Но сегодня Иван Сергеевич смотрел необычный сон, с участием Людвига.
Живые картинки были ярко раскрашены и обильно приправлены сиропом настоящего цветного сна.
Сон Ивана Сергеевича…
С высоты одинокой перламутровой тучки падала вниз и шумела вода, образуя неглубокое озеро-купель. Над купелью светилась радуга. Берега утопали в неге и цветах.
Восхитительной красоты бабочка перелетала от цветка к цветку, раскручивала тонкий хоботок и пила нектар. Головку бабочки украшала алмазно-сапфирная диадема.
– Княгиня!.. – шепотом догадался Иван Сергеевич и продолжил смотреть прекрасный сон дальше.
Колечки золотистых волос восхитительно обрамляли белое мраморное личико княгини. Людвиг плыл над цветочным полем и, вытянув губы, дул, подражая дыханию Эола.
Из тончайшей кисеи, платье княгини колыхалось на ветру…
Княгиня смеялась, подлетала к Людвигу близко-близко и что-то шептала… Что именно шептала бабочка-княгиня Людвигу, Иван Сергеевич расслышать не мог из-за шума воды, падающей с высоты одинокой перламутровой тучки.
Спустя три года Иван Сергеевич поехал в областной центр не то на симпозиум, не то на конференцию. Выступил с лекцией о присоединении курляндского княжества к Российской империи, заложил руки за спину и отправился на прогулку по городу.
Исторические события, гнездившиеся в его голове одновременно с неисторическими, требовали иногда уборки и проветривания.
Проветрив ученую голову, Иван Сергеевич умиротворился, проникся симпатией к окружающему его пространству и стал разглядывать прохожих. Неожиданно для себя он увидел знакомую фигуру. Фигура важно переваливала свой центнер с левой ноги на правую и с правой – на левую…
– Людвиг!
Людвиг держал за руки двоих годовалых или чуть постарше детишек. Мальчика и девочку – близнецов. Рядом – жена красавица. Людвиг остановился, присел на корточки и занялся мокрыми носами близнецов. Он был слишком увлечен и на своего старого приятеля не обратил никакого внимания.
Иван Сергеевич смотрел и не двигался.
Мальчик – вылитый Людвиг. Девочка – белое ангельское личико в обрамлении восхитительных золотистых кудряшек. Одно лицо с княгиней-бабочкой.
«Так не бывает», – только и подумал учитель истории.

Юля СЁМИНА
Родилась в 1977 году в Курской области. Живу и работаю в Москве. По первой профессии юрист, по второй – филолог. С семи лет пишу стихи. В марте 2023 года вышел мой первый стихотворный сборник «Школа». С недавнего времени также пишу прозу.
Родилась в 1977 году в Курской области. Живу и работаю в Москве. По первой профессии юрист, по второй – филолог. С семи лет пишу стихи. В марте 2023 года вышел мой первый стихотворный сборник «Школа». С недавнего времени также пишу прозу.
ЗЯБЛИК
Тому, кому я никогда уже не смогу прочитать этот рассказ.
Не суди человека, пока не пройдешь долгий путь в его ботинках.
Лао-Цзы, древнекитайский философ.
Не помню, с чего началось, я была совсем еще маленькая, папа прозвал меня Зябликом. Я не знала, что зяблик – это птица, но мне нравилось мое ласковое прозвище.
Родилась я в 1977 году в селе, куда папа и мама приехали работать после института. Папа преподавал историю в сельской школе, мама – русский язык и литературу. Тогда не было длинных декретных отпусков, дома оставлять меня было не с кем, а детский сад в селе только строился, поэтому, едва достигнув года, я стала любимым первенцем не только у родителей, но и у всего сельского учительского коллектива.
Со взрослой деловитостью шагала я за руку с папой «на работу». Мы шли по тропинке к школе и сочиняли короткие веселые стихи, повторяя их в такт каждому шагу:
Кто проснулся спозаранку,
На уши поставил дом,
Вывернул все наизнанку.
Нет сомненья – это он!
Кто волчком крутиться может,
Льет ли ливень, валит снег,
Кто на свете всех дороже?
Это Зяблик – человек!
С гордостью и восхищением смотрела я на папу, когда он, уступив моим уговорам тихонько посидеть за последней партой и снабдив меня карандашами и раскрасками, вел урок.
Высокий, стройный, по-южному смуглый, нарядный, в костюме-«тройке», отглаженном так, что стрелками брюк, казалось, можно порезаться; с гладко зачесанными на косой пробор иссиня-черными волосами; мягким взглядом темно-карих, слегка близоруких от плохого зрения и оттого обезоруживающе притягательных глаз под очками в роговой оправе; с едва заметной, но никогда не покидавшей лица игривой усмешкой на полноватых губах. Особенно хорошо я запомнила папины руки, казавшиеся большими, когда я прятала в них свои детские ладони. Его пальцы были музыкально-длинными, тонкими, с излишне выраженными странно округлыми камешками суставов посередине.
Уже тогда во мне угадывались папины черты: и в цвете глаз, и в смуглости кожи, и в пухлости губ, и в усмешке рта; и даже на маленьких детских пальцах проглядывали чуть выпирающие суставчики.
– Пап, а почему Зяблик? – спрашивала я по дороге из школы домой.
– Это птичка такая, доченька, маленькая, яркая, праздничная, шустрая, как ты.
Когда мне исполнилось четыре года, родители развелись. Я не помню семейных ссор, просто папа уехал из села и больше не жил с нами, лишь иногда навещая и привозя подарки.
Вскоре мы с мамой тоже переехали в маленький город, и я почти совсем перестала видеться с папой.
В городе я пошла в первый класс. Пару раз папа приезжал ко мне в школу, мы ели мороженое после уроков, ходили в кино, гуляли по улицам, повторяя наши любимые стихи:
Кто на свете всех дороже?
Это Зяблик — человек!
Папа был все такой же красивый, нарядный, со стрелками-лезвиями и гладко зачесанной копной смоляных волос. Глаза лучились кофейным теплом даже когда он, делая мне замечание: «не держи руки в карманах, ты же девочка», пытался быть строгим.
В апреле мне исполнялось восемь лет. Я уже умела бегло читать и писать, и мы с папой переписывались – слали друг другу письма и открытки.
Папа обещал обязательно приехать на мой день рождения.
У нас с мамой собралось много гостей: мои одноклассники, соседские дети, мамины подруги. Но главного гостя все не было. К вечеру я спряталась ото всех в спальне и горько плакала от обиды – не приехал... Больше я папе не писала и не отвечала на его письма.
Как-то восьмого марта пришла поздравительная открытка. После праздничных пожеланий на ней было написано: «Ты вырастешь и, надеюсь, поймешь и простишь меня. Я очень люблю тебя. Папа».
Слова показались мне странными. Понимать было нечего: папа бросил меня и, значит, не любит.
Он не искал больше встреч. А моя обида на несдержанное апрельское обещание незаметно превратилась в едкую злость, даже ненависть, которые я запрятала поглубже и не вспоминала.
Шли годы. Я окончила школу, поступила в юридический институт. У меня была веселая студенческая жизнь, появился жених – однокурсник Славик.
Иногда со Славиком мы заходили в гости к папиным родителям – моим бабушке и дедушке. От них я знала, что жизнь у папы не складывается, он начал пить, уволился из школы, подрабатывал в небольшой районной газете корреспондентом.
Через месяц после моего двадцатипятилетия не стало дедушки. Я пришла с ним проститься и встретила папу.
За почти двадцать лет папа очень изменился. От былой нарядности не осталось и следа. Только наглаженные стрелки того самого, теперь изрядно обветшалого костюма из сельской учительской жизни были такими же острыми. Из-под роговой оправы очков смотрели немного выцветшие, но все такие же мягкие, кофейно-близорукие глаза, но теперь незнакомо печальные. Игривая усмешка пропала, будто спряталась в уголках чуть сжатых губ. Пробор волос был тронут сединой. Раньше высокий, папа сейчас был чуть выше моего плеча. Оказавшись напротив, смотрел удивленно и растерянно:
– Как дела, Зяблик?
Я не ответила. Он еще что-то говорил. Достал из бокового кармана пиджака бумажник, развернул. Там, внутри, в прозрачном кармашке сидели, обнявшись, черно-белые мы, я и папа. С потертой фотографии смотрели на меня из-под елки в мой третий Новый год две пары угольно-карих, не отличимых друг от друга глаз.
Я отвернулась и выбежала наружу. Слезы душили. «Лжец, предатель, лицемер!» – бросала я из себя злость, эгоистичную, глубоко засевшую, незаметно вызревшую и окрепшую с годами...
Еще через несколько лет я переехала в большой город, работала в офисе в центре, моя юридическая карьера шла в гору. Я рассталась со Славиком, он остался жить в маленьком городе и работал в нотариальной конторе, иногда мы по-дружески созванивались. Мама тоже осталась в маленьком городе, она больше не вышла замуж, но не хотела оставлять привычную жизнь и любимых подруг.
Не сразу, постепенно стала я полноправным жителем большого города. У меня была небольшая квартира в престижном районе, маленькая ярко-красная французская машина. Я часто путешествовала: европейские столицы и райские острова с белым песком. Посылала маме деньги. В остальном у меня не было обязательств, жизнь бежала интересно и легко.
Унаследовав папину южную яркость, я привлекала мужчин, ходила на свидания, увлекалась, но жила одна.
Возвращаясь в свою квартиру после работы, отпуска или романтической встречи, я брала блокнот, ручку и сочиняла стихи.
Стихи получались корявые, нескладные, но простые и искренние.
В них было далекое зеленое село, тропинка к школе, веселая компания молодых сельских учителей и большая теплая папина рука, крепко державшая мою детскую руку, размахивавшую в такт шагам:
Кто на свете всех дороже?
Это Зяблик — человек!
Я достала старую картонную коробку из-под обуви, запрятанную на антресоли, стала перебирать пожелтевшие от времени конверты, записки, фотографии.
В руки попала поздравительная открытка «С 8 Марта», в которой после пожелания здоровья и счастья папиным ровным учительским почерком были написаны несколько слов, расшевеливших что-то важное внутри.
Я провела рукой по выпуклому рисунку когда-то ало-огненных тюльпанов на открытке и поняла, что не чувствую обиды, не чувствую ненависти и злости. Я простила. Простила папу, как один взрослый человек, уже узнавший о жизни много, может простить другого.
Я вспомнила папин растерянный, печально-близорукий взгляд в нашу последнюю встречу, его будто съежившуюся от нескладной жизни фигуру, знакомую фотографию в бумажнике, и сердце мое мучительно сжалось: «Папа, папочка! Как же ты жил все эти годы?!»
Я переписала из открытки папин адрес, с нетерпением стала ждать отпуска, чтобы поехать в маленький город, бесконечно прокручивая в голове детали предстоящей встречи с папой.
В будний день я сидела за компьютером в офисе и что-то печатала. Зазвонил мобильник. Это был Славик.
– Привет! – выпалил он и, не дав ответить, продолжил. – Тут такое дело: бабушка твоя приходила в контору к нотариусу, ну, наследство и все такое. Она твоего нового адреса не знает. Хоть вы с отцом и не общались...но...умер он, еще месяц назад, внезапно, сердце. Алло, слышишь меня?
Отбой на телефоне нажался сам собой. Пальцы автоматически легли на клавиатуру, тонкие длинные пальцы с нелепыми камешками суставов посередине. Экран компьютера проснулся, загорелся, и на нем вспыхнула, словно вспорхнула, заставка: маленькая, яркая, праздничная птичка — зяблик.
Тому, кому я никогда уже не смогу прочитать этот рассказ.
Не суди человека, пока не пройдешь долгий путь в его ботинках.
Лао-Цзы, древнекитайский философ.
Не помню, с чего началось, я была совсем еще маленькая, папа прозвал меня Зябликом. Я не знала, что зяблик – это птица, но мне нравилось мое ласковое прозвище.
Родилась я в 1977 году в селе, куда папа и мама приехали работать после института. Папа преподавал историю в сельской школе, мама – русский язык и литературу. Тогда не было длинных декретных отпусков, дома оставлять меня было не с кем, а детский сад в селе только строился, поэтому, едва достигнув года, я стала любимым первенцем не только у родителей, но и у всего сельского учительского коллектива.
Со взрослой деловитостью шагала я за руку с папой «на работу». Мы шли по тропинке к школе и сочиняли короткие веселые стихи, повторяя их в такт каждому шагу:
Кто проснулся спозаранку,
На уши поставил дом,
Вывернул все наизнанку.
Нет сомненья – это он!
Кто волчком крутиться может,
Льет ли ливень, валит снег,
Кто на свете всех дороже?
Это Зяблик – человек!
С гордостью и восхищением смотрела я на папу, когда он, уступив моим уговорам тихонько посидеть за последней партой и снабдив меня карандашами и раскрасками, вел урок.
Высокий, стройный, по-южному смуглый, нарядный, в костюме-«тройке», отглаженном так, что стрелками брюк, казалось, можно порезаться; с гладко зачесанными на косой пробор иссиня-черными волосами; мягким взглядом темно-карих, слегка близоруких от плохого зрения и оттого обезоруживающе притягательных глаз под очками в роговой оправе; с едва заметной, но никогда не покидавшей лица игривой усмешкой на полноватых губах. Особенно хорошо я запомнила папины руки, казавшиеся большими, когда я прятала в них свои детские ладони. Его пальцы были музыкально-длинными, тонкими, с излишне выраженными странно округлыми камешками суставов посередине.
Уже тогда во мне угадывались папины черты: и в цвете глаз, и в смуглости кожи, и в пухлости губ, и в усмешке рта; и даже на маленьких детских пальцах проглядывали чуть выпирающие суставчики.
– Пап, а почему Зяблик? – спрашивала я по дороге из школы домой.
– Это птичка такая, доченька, маленькая, яркая, праздничная, шустрая, как ты.
Когда мне исполнилось четыре года, родители развелись. Я не помню семейных ссор, просто папа уехал из села и больше не жил с нами, лишь иногда навещая и привозя подарки.
Вскоре мы с мамой тоже переехали в маленький город, и я почти совсем перестала видеться с папой.
В городе я пошла в первый класс. Пару раз папа приезжал ко мне в школу, мы ели мороженое после уроков, ходили в кино, гуляли по улицам, повторяя наши любимые стихи:
Кто на свете всех дороже?
Это Зяблик — человек!
Папа был все такой же красивый, нарядный, со стрелками-лезвиями и гладко зачесанной копной смоляных волос. Глаза лучились кофейным теплом даже когда он, делая мне замечание: «не держи руки в карманах, ты же девочка», пытался быть строгим.
В апреле мне исполнялось восемь лет. Я уже умела бегло читать и писать, и мы с папой переписывались – слали друг другу письма и открытки.
Папа обещал обязательно приехать на мой день рождения.
У нас с мамой собралось много гостей: мои одноклассники, соседские дети, мамины подруги. Но главного гостя все не было. К вечеру я спряталась ото всех в спальне и горько плакала от обиды – не приехал... Больше я папе не писала и не отвечала на его письма.
Как-то восьмого марта пришла поздравительная открытка. После праздничных пожеланий на ней было написано: «Ты вырастешь и, надеюсь, поймешь и простишь меня. Я очень люблю тебя. Папа».
Слова показались мне странными. Понимать было нечего: папа бросил меня и, значит, не любит.
Он не искал больше встреч. А моя обида на несдержанное апрельское обещание незаметно превратилась в едкую злость, даже ненависть, которые я запрятала поглубже и не вспоминала.
Шли годы. Я окончила школу, поступила в юридический институт. У меня была веселая студенческая жизнь, появился жених – однокурсник Славик.
Иногда со Славиком мы заходили в гости к папиным родителям – моим бабушке и дедушке. От них я знала, что жизнь у папы не складывается, он начал пить, уволился из школы, подрабатывал в небольшой районной газете корреспондентом.
Через месяц после моего двадцатипятилетия не стало дедушки. Я пришла с ним проститься и встретила папу.
За почти двадцать лет папа очень изменился. От былой нарядности не осталось и следа. Только наглаженные стрелки того самого, теперь изрядно обветшалого костюма из сельской учительской жизни были такими же острыми. Из-под роговой оправы очков смотрели немного выцветшие, но все такие же мягкие, кофейно-близорукие глаза, но теперь незнакомо печальные. Игривая усмешка пропала, будто спряталась в уголках чуть сжатых губ. Пробор волос был тронут сединой. Раньше высокий, папа сейчас был чуть выше моего плеча. Оказавшись напротив, смотрел удивленно и растерянно:
– Как дела, Зяблик?
Я не ответила. Он еще что-то говорил. Достал из бокового кармана пиджака бумажник, развернул. Там, внутри, в прозрачном кармашке сидели, обнявшись, черно-белые мы, я и папа. С потертой фотографии смотрели на меня из-под елки в мой третий Новый год две пары угольно-карих, не отличимых друг от друга глаз.
Я отвернулась и выбежала наружу. Слезы душили. «Лжец, предатель, лицемер!» – бросала я из себя злость, эгоистичную, глубоко засевшую, незаметно вызревшую и окрепшую с годами...
Еще через несколько лет я переехала в большой город, работала в офисе в центре, моя юридическая карьера шла в гору. Я рассталась со Славиком, он остался жить в маленьком городе и работал в нотариальной конторе, иногда мы по-дружески созванивались. Мама тоже осталась в маленьком городе, она больше не вышла замуж, но не хотела оставлять привычную жизнь и любимых подруг.
Не сразу, постепенно стала я полноправным жителем большого города. У меня была небольшая квартира в престижном районе, маленькая ярко-красная французская машина. Я часто путешествовала: европейские столицы и райские острова с белым песком. Посылала маме деньги. В остальном у меня не было обязательств, жизнь бежала интересно и легко.
Унаследовав папину южную яркость, я привлекала мужчин, ходила на свидания, увлекалась, но жила одна.
Возвращаясь в свою квартиру после работы, отпуска или романтической встречи, я брала блокнот, ручку и сочиняла стихи.
Стихи получались корявые, нескладные, но простые и искренние.
В них было далекое зеленое село, тропинка к школе, веселая компания молодых сельских учителей и большая теплая папина рука, крепко державшая мою детскую руку, размахивавшую в такт шагам:
Кто на свете всех дороже?
Это Зяблик — человек!
Я достала старую картонную коробку из-под обуви, запрятанную на антресоли, стала перебирать пожелтевшие от времени конверты, записки, фотографии.
В руки попала поздравительная открытка «С 8 Марта», в которой после пожелания здоровья и счастья папиным ровным учительским почерком были написаны несколько слов, расшевеливших что-то важное внутри.
Я провела рукой по выпуклому рисунку когда-то ало-огненных тюльпанов на открытке и поняла, что не чувствую обиды, не чувствую ненависти и злости. Я простила. Простила папу, как один взрослый человек, уже узнавший о жизни много, может простить другого.
Я вспомнила папин растерянный, печально-близорукий взгляд в нашу последнюю встречу, его будто съежившуюся от нескладной жизни фигуру, знакомую фотографию в бумажнике, и сердце мое мучительно сжалось: «Папа, папочка! Как же ты жил все эти годы?!»
Я переписала из открытки папин адрес, с нетерпением стала ждать отпуска, чтобы поехать в маленький город, бесконечно прокручивая в голове детали предстоящей встречи с папой.
В будний день я сидела за компьютером в офисе и что-то печатала. Зазвонил мобильник. Это был Славик.
– Привет! – выпалил он и, не дав ответить, продолжил. – Тут такое дело: бабушка твоя приходила в контору к нотариусу, ну, наследство и все такое. Она твоего нового адреса не знает. Хоть вы с отцом и не общались...но...умер он, еще месяц назад, внезапно, сердце. Алло, слышишь меня?
Отбой на телефоне нажался сам собой. Пальцы автоматически легли на клавиатуру, тонкие длинные пальцы с нелепыми камешками суставов посередине. Экран компьютера проснулся, загорелся, и на нем вспыхнула, словно вспорхнула, заставка: маленькая, яркая, праздничная птичка — зяблик.

Алексей СТРУМИЛА
Литературный текст это всегда игра с достоверностью. Задача такого текста – стать более достоверным, нежели сама жизнь. Посредством литературы мы как бы постоянно пытаемся забежать себе за спину и увидеть себя со стороны. Главное, сделать первый шаг, пробудить свой разум от догматического сна.
Перед вами результаты таких попыток. Произведения: «Петушки», «Старик», «Круговерть». Страница автора в социальных сетях: https://proza.ru/avtor/strumila
Литературный текст это всегда игра с достоверностью. Задача такого текста – стать более достоверным, нежели сама жизнь. Посредством литературы мы как бы постоянно пытаемся забежать себе за спину и увидеть себя со стороны. Главное, сделать первый шаг, пробудить свой разум от догматического сна.
Перед вами результаты таких попыток. Произведения: «Петушки», «Старик», «Круговерть». Страница автора в социальных сетях: https://proza.ru/avtor/strumila
ИДЕАЛИСТ
«А значит, быть по сему», — сказал он себе мысленно, но весьма твёрдо и громко, во всю полусонную голову. Это «быть по сему» означало, что, невзирая на поганое настроение, нужно было всю волю собрать в кулак и идти в мастерскую, идти и работать. Он считал себя профессионалом с большой буквы и поэтому заставлял себя работать в день хотя бы по нескольку часов, даже если расположения к тому не было никакого. Он был убеждён, что так должен поступать любой настоящий художник, а он, Одаковский, считал себя если не большим, то «настоящим» художником уж точно.
А настроение было хуже некуда: сам себе гадок до последней крайности, и вся собственная жизнь представлялась чем-то вроде омерзительной отрыжки.
«С большой буквы-то с большой, а… хуже бы и не надо».
Отчего это? Одаковский не знал да и не хотел знать. Он твёрдо знал, что сейчас тщательнейшим образом, как всегда, вычистит зубы, примет контрастный душ, оденется во всё чистое, наденет отглаженную сорочку, в своей старой турке сделает себе кофе по-турецки, приготовит тост с лимонным джемом, обмотает шею своим любимым белым кашне, щёлкнет ключом в личинке, как щёлкал уже бессчётное число раз, пересчитает ступеньки вниз — тридцать семь — выйдет на улицу, потянет носом, а затем всей грудью вдохнёт уличный воздух.
Так оно всё и вышло, и проснулся он уже совсем, и осенним воздухом надышался, а настроение всё-таки было не ахти. И тогда он машинально стал заниматься тем, что его всегда развлекало, он стал заниматься живописью в голове, про себя и для себя.
Брусчатка, камни бордюра с выщербинами и сколами, павшая листва, покрывшая всю эту геометрию так, как ни один декоратор не разложил бы, пятна ещё зелёного газона… Рассеянное освещение… Серое всех оттенков (а серое — его конёк), медно-жёлтое, трава — через синий кадмий…
Литая ножка парковой скамьи, чугунная урна, под ней лужица с асфальтовыми отмелями, лежащий на отмели лист чашечкой и с черенком, торчащим вверх… Сколько было оттенков, и каких тонких, в этой никчёмной лужице, особенно где отражалось небо. Небо захватывало асфальтовую плоскость. Само бесцветное, на границах с асфальтовой рябью оно создавало поразительные сочетания цвета, еле уловимые глазом… В воображении он исполнил это в акварели, лихо — по мокрому и мысленно оформил в паспарту…
Стена с потрескавшейся и облупившейся местами штукатуркой, совершенно непонятного цвета — как возьмёшь. Часть трубы водостока. Окно, стекло, штора — с провалом в никуда. Свинцовый цинк отлива: графика, а не живопись. А ниже, на фоне грязных разводов по цоколю, практически открытыми цветами: синим, красным, жёлтым — фигурка ребёнка, ковыряющего что-то в асфальте лопаткой. И прозрачно-нежный цвет детского личика. Он знал, как такой цвет намешать, в духе его любимого Фешина. Он и это проделал, представив себе свою палитру…
И наконец, дверь его парадного. Старая, потрёпанная дверь, геометрия которой уже расползается, и цвет становится неопределённым. Наличники, уголки, филёнки — это всё интересно, однако куда интересней само полотно: его собрать цветом… Он приостановился на миг и взялся за эту задачу, но быстро сообразил, что выйдет из этого просто ученическая работа, не больше, и бросил. Его путь и так уже из пятнадцати минут превратился минут в тридцать пять.
«Быть тогда по сему», — Одаковский потянул ручку двери и очутился в полумраке подъезда, неспешно преодолел пятьдесят четыре ступеньки, уже наслаждаясь игрой света на ступенях, перилах и балясинах, и обнаружил в своей двери записку: вырванный из записной книжки листок в розовую клетку и с листочками-лепесточками по углам. Одаковский поморщился, в этот день у него была обострённая реакция на безвкусицу. Записка была от натурщицы, с которой у него был оговорён очередной сеанс на сегодня. И для такого-то дня это было уже неплохо, обычно записки в его двери ничего хорошего не обещали. Как правило, это были напоминания либо о неоплаченных счетах, либо о задолженностях по работе.
Одаковский наискосок пробежал записку глазами и сразу же считал общий смысл написанного: натурщицы сегодня не будет. Он уже хотел розовый листок скомкать, когда в самом низу текста глаз зацепился за слово «обрыдло», и только тогда он вчитался в путаные и грамматически нескладные фразы. Из сбивчивого опуса следовало, что «дышать краской и мёрзнуть голышом с затёкшими членами» натурщице надоело донельзя, «обрыдло», и что она с каким-то Эдиком уезжает на Гоа. Причём Эдика она упоминала в таком контексте, будто и он, Одаковский, тоже был с ним коротко знаком. Всё это была чепуха какая-то и полная бредятина, только само слово «обрыдло» задело его. И не только задело, а каким-то тревожным отзвуком гудело в голове и стояло перед глазами в виде водосточной трубы на грязной стенке.
«И слава богу, всё к одному», — подумал Одаковский. Эта «нимфетка» всё одно не была профессионалом и близко не понимала, что такое — профессиональная натурщица. Она была из породы тех беспечных барышень, которых ещё привлекает романтика общения с «богемой»: мастерские, выставки, посиделки и вечные разговоры, разговоры, разговоры; опять посиделки, выпивка — и снова та же трепотня, трепотня и трепотня. К тому же на первых сеансах она явно ожидала какой-то от него реакции на её обнажённое тело, которой, естественно, не последовало; на своём веку он перевидал столько тел, что замечал в них скорее уже недостатки, нежели достоинства. Ему припомнилась его питейно-шутливая теория, что о характере женщины лучше всего расскажет форма, объём и структура её груди. Налитые, плоские, рыхлые, упругие, жалкие, шикарные, просящие, вместительные, зовущие, вульгарные, притворные, бестолковые, никакие — каких только на его памяти ни перебывало. У этой были маленькие, вздорные и нахальные, ещё и в разные стороны…
«И чёрт бы с ней. Всё, что ни делается — всё к лучшему», — ещё раз подумал Одаковский. Продолжение работы с ней всё равно становилось бессмысленным, по сути дела, настоящего результата не было, — и работал он лишь по инерции, по своей многолетней привычке уделять хоть какое-то время дня непосредственно ремеслу. А только в ремесленном, подённом труде, как он считал, рождается вдохновение, которое, в свою очередь, может породить что-то стоящее…
Но это было от неё ещё не всё, в конце листика, в самом уголке, были втиснуты, заползая на розовый лепесток, три слова: «См. на обороте». На обороте излагалась просьба, а потому насилие над грамматикой многократно усилилось. Просьба заключалась в том, чтобы «посмотреть на предмет позирования» Ростиславу Игоревну, бывшую балерину и чуть ли не мировую известность, но которой в силу такой-то причины (понять эту причину из путаницы слов было совершенно невозможно) нужны были теперь хоть какие-то деньги.
Одаковский ещё раз поморщился: «Вот только балерины мне и не хватало. Откуда она её откопала?»
Для него не было ничего хуже, чем общаться с «бывшими служителями муз» и слушать их сетования на превратности судьбы, несправедливость жизнеустройства и неблагодарность публики. «Вот что значит — иметь дело с непрофессионалами!»
Однако делать было нечего, балерина должна была явиться к одиннадцати, в урочный час сеанса. День был окончательно испорчен, и он решил расслабиться — наколол льда, откупорил початую бутылку своего любимого виски, раскурил сигару и поставил «второй концерт» Шопена. Музыка всегда имела на него сильное воздействие, но сегодня он настолько вслушался и ушёл в себя, что был в немалой степени раздосадован, когда раздался входной звонок. Он уже не помнил себя и не понимал, сколько прошло времени, но это, верно, была та самая Ростислава Игоревна. «Был же такой чудаковатый Игорь, удружил дочке — Рос-ти-слава И-горевна», — подумал Одаковский, мысленно скривил физиономию и пошёл открывать.
За дверью стояла женщина, которая и на самом деле выглядела, как балерина. Определить её возраст на первый взгляд было практически нереально: ей могло быть и тридцать пять, а могло быть и все пятьдесят. Она казалась скорее некрасивой, но прежде всего остального в глаза бросалась её худоба. Худоба её представлялась даже несколько болезненной. Если бытием люди называют пребывание в теле, то в данном случае перед ним предстало, если так можно было выразиться, «полу-бытие». Множество морщин и морщинок на её лице не могли создать полноценных складок, потому что было просто не из чего. Однако в этом лице было вместе с тем что-то настоящее, что-то живое и притягательное. После нескольких фраз приличия он уже хотел отправить её восвояси, но встретился взглядом с её серыми прозрачными глазами, в которых было что-то кроткое и располагающее, и он не решился, а только произнёс суетливо: «Ну что же, Ростислава Игоревна, значит — будем работать. Потрудимся для искусства, так сказать».
Как он и предчувствовал, затруднения начались сразу же, с первой минуты: как только он предложил ей раздеться, в огромных, но не броских её глазах явственно мелькнуло смятение. С любой другой он просто сделал бы вид, что ничего не замечает, а с этой начал вдруг объясняться и странным каким-то для самого себя развязным тоном:
— Милочка моя, ты… вы, вы-то должны были бы понимать, мне не телеса ваши нужны… и подробности всякие. Мне нужен сам костяк, конструктив, формообразование, пластика, так сказать. Как всё это вместе создаёт, если так можно выразиться, образ человека, характер. В целом, понимаете? К тому же, мне сорок семь лет уже. Будет. Меня уже можно в женскую баню спокойно пускать. Мы же с вами не анатомией тут будем… так сказать.
Он говорил, а она, сложив перед собой руки, кивала головой, как понимающая ученица, и смотрела на него, и он на неё посмотрел. И в несколько мгновений сделал мысленный нашлёпок с её головки, взял основные отношения: шея, лоб, глазницы, тень под подбородком, рефлекс на щеке, фон контражуром, массу волос, блик на кончике носа и глубокую носовую тень, и всё это к серо-зелёному цвету её прозрачных глаз. Глаза у неё были практически без ресниц и оттого совсем открытые. И смотрели эти глаза со всепонимающим укором. А он уже знал: так женщина смотрит, желая казаться умной и всё наперёд знающей, когда чувствует себя крайне беззащитной.
Он испытал чувство, похожее на жалость, и за эту долю мгновения, когда он пустил в себя её взгляд, он вдруг интуитивно узнал в ней то, что было в нём самом, было и подспудно отравляло ему жизнь: он прочитал абсолютную и непреодолимую реальность того, что уже никогда не станет таким художником, который является этапом в развитии искусства и который становится именем. «Именем с большой буквы». По всей видимости, как и она, он останется принадлежать той среде, той безымянной массе художников, в которой когда-то родится новое имя, которое потом и останется. А он сам именем уже не станет никогда. «Никогда. Как и она». А эта их встреча — ироническая гримаса судьбы, сталкивающей подобное с подобным. Внутри сделалось пусто, гулко и страшно, а только что там звучал Шопен. «Сам Шопен. Со своим концертом. Вторым, между прочим». Ему особенно неприятными показались жёсткие морщинки по краям её неярких, но чётко очерченных губ.
— Значит, так, милочка моя, попробуем всё-таки работать. И начнём с набросков. Менять позу будете каждые пару минут. Я говорю, какую — и вы принимаете эту позу. Выйдет что-нибудь дельное, будем… дружить дальше. Нет — нет, не обижайтесь. Если есть что-то облегающее, переоденьтесь там, за ширмой. Если облегающего нет, обнажайтесь, насколько посчитаете возможным.
По всему видно, она уже всё своё оттанцевала. И он тоже: свыше того, что в профессии сделал, уже ничего не сделает. Каждодневное усилие, которое не добавляет уже ничего. «Ничего. А жизнь проходит».
Из-за ширмы она явилась в чёрном обтягивающем трико, в каких их показывают на репетициях. В глаза сразу бросились невероятно стройные и пропорционально сложенные ноги в толстых вязаных гетрах. Её движения уже были другими, она переступала как-то так, будто полностью изменила своё отношение к плоскости пола, по которой перемещалась, и это отношение стало вдруг опасливо-трепетным. Одаковский невольно улыбнулся. Он поставил видавший виды венский стул посредине мастерской, прямо под зенитным фонарём, попросил её распустить волосы, сесть на стул, опереться перед собой руками и чуть прогнуться. То, как его новая натурщица всё это проделала, производило впечатление. Материал перед ним был восхитительный. Он немного даже заробел, но сделал с десяток быстрых набросков и быстро вошёл в рабочую колею.
Одаковский, как оказалось, прекрасно помнил, как его юношеское намерение покорять самые заоблачные высоты в живописи сначала сменилось желанием встать в один ряд, потом быть крепким и авторитетным профессионалом, затем – служить «общему» делу искусства, даже передавать своё умение молодым, а ведь на деле выходило, что стремился он к одному — к славе. А вот слава как раз ему и не далась. Думать об этом, особенно в присутствии постороннего, было тяжело, но и не думать не получалось. «Эту тоже среди своих зовут Славой, небось, ан — и ей слава, по всему видно, не далась».
— Ростислава Игоревна, а как вас в детстве называли? — спросил он её как бы между прочим.
— Соня, — отвечала та после продолжительной паузы.
— Почему Соня?
Глаза её напряглись на какое-то мгновение, но затем она произнесла негромко:
— У меня было малокровие, и я между занятиями всё время засыпала.
Для него её слова были как ушат воды — она просто занималась; её научили, от неё требовали — и она просто занималась; а в перерывах засыпала. «Что такое настоящее тщеславие, она, скорее всего, не понимала даже. Она сталкивалась только с прямой и непосредственной конкуренцией. Надо думать, так и было». Переводя взгляд с листа на неё и обратно, он на какое-то время задержал взгляд на ней. Она повела плечом и слегка приподняла голову. «Грациозна, как кошка, в любом положении». Но особенно хороша она была в движении, а его скетчи выходили статичными и не передавали прелести её движений. «Но я поймаю, я поймаю».
— Ростислава Игоревна, голубушка, давайте, знаете, как поступим, давайте оставим стул. Вы свободно делайте свои движения, свои па, как вы их называете, а я буду вас останавливать в том месте, которое мне нужно. Давайте?
Она коротко и как-то обречённо кивнула головой и сделала несколько своих движений, потом приостановилась и сделала ещё и ещё, и это было так здорово и так необычно посреди его захламлённой неподвижной мастерской, что он, затаив дыхание, следил за её движениями и не останавливал её.
— Ничего не понравилось? — наконец спросила она и встала, растопырив ступни ног.
— Напротив, всё понравилось, — ответил он. — Движения тоже, оказывается, бывают… музыкой. Случается и такое. Сейчас, Ростислава Игоревна. Культурологический шок сейчас пройдёт. И ещё раз попробуем. Будем пробовать ещё. Обязательно. Что вы так уж прям сразу — руки в боки? Совсем не даёте людям спуску.
Эта её поза — руки в боки — была уморительной. Она всё больше и больше располагала к себе. «В ней если и есть плохое тщеславие, то и оно — от инстинкта самосохранения, чтоб не затолкали и не затоптали… А ведь бывает тщеславие и высокое, когда нужны не слава и деньги, а нужна возможность служения людям, когда хочется отдать людям как можно больше. В конце концов, почему желание внести в общую копилку больше других это желание дурное?! Вовсе это и не дурно». Выходило вроде хорошо: и в мыслях выходило хорошо, и на бумаге тоже уже выходило недурно. Как раз в это время на улице, видимо, просветлело, и мастерская тоже наполнилась сверху светом. Было всё «как-то так», а стало вдруг как-то хорошо. Работа стала спориться, и задумки в его голове побежали одна вперёд другой.
Через полчаса работы он совершенно увлёкся, а через час был по-настоящему убеждён, что эта странная Ростислава Игоревна — настоящая находка. «И ещё какая! Какая посадка головы, какой стан! А осанка! Осанка королевская». Это не придумаешь и не сыграешь. Если присмотреться, руки уже старые и жилистые, но как царственно она их перед собой складывала, сколько грации было в движении этих рук. «Шея, плечо и кисть — какая линия». То, с каким достоинством она держала голову и спину, действительно впечатляло. И положить это на бумагу оказывалось для него делом непростым. «А так и не скажешь, в чём только дух держится».
Мало-помалу Одаковский впадал в то своё рабочее состояние, которое захватывало его полностью, и из которого он с трудом выходил всегда. Он не знал точно, вдохновение ли это было или нет, но он знал это состояние и ценил его, как очень немногое в своей жизни. Это было состояние, когда как будто пребываешь во власти инстинкта и вместе с тем испытываешь наполненность жизнью. Наполненность такой интенсивности, что это заставляет забыть обо всём на свете. Так было и в этот раз. Работал он самозабвенно, и когда вдруг глянул на окна и потом посмотрел на часы, они с натурщицей отработали уже вдвое дольше обычного. Он приходил в себя: они вместе были в его мастерской, которая показалась ему почему-то странной со всем тем, что в ней было навешено и наставлено. Это могло быть оттого, что уже сделалось сумеречно.
— Вот и всё на сегодня, — проговорил Одаковский, — наверно.
Ростислава Игоревна встала и стояла, оттопырив кисти рук возле бёдер в стороны и склонив голову. Неподвижно застыв в этой позе, она смотрела на него вопросительно. Лицо её было неподвижно, однако вопрос в глазах, казалось, всё время усиливался.
— Что вы, — спросил он её, — Ростислава Игоревна?
— У меня получилось? Мы работать будем?
— Да-да. Ещё как получилось. Будем-будем, конечно.
Она опустила кисти, несколько раз хлопнула себя по бёдрам и спросила, сколько он сможет платить за сеанс. Он поспешно назвал ей сумму, почему-то вдвое выше обычного, да ещё и добавил: «Это на первых порах». Она чуть присела и пошла собираться. Он складывал свои листы и краем глаза наблюдал за ней. По тому, как она держалась за свою сумку, как обращалась с её содержимым, по некоторым вещам, которые там были, он уже понял, что дома у неё в данное время нет, и скитается она сейчас, скорее всего, по своим знакомым, а быть может, и незнакомым. «А ведь деньги ей прямо сейчас нужны», — осенило его вдруг.
— Теперь у меня денег нет, я не рассчитывал, — сказал он громко и внятно и пристально на неё посмотрел. Вокруг глаз у неё всё напряглось, и одна бровь дёрнулась вверх. И в глазах явственно мелькнула тень смятения. Она поспешно отвернулась и, не поворачиваясь, почти по слогам выговаривая каждое слово, попросила:
— А не могли бы вы… Не могли бы хоть что-то дать теперь, хоть какую-то сумму?
«Какую-то сумму хочет себе в сумку». Это было против всех его правил, от которых он практически никогда не отступал. И другую бы он быстро осадил и поставил на место, только попытайся она играть не по его правилам. А тут он отчего-то стал лихорадочно соображать, где поблизости достать денег. И решение тут же нашлось: Савва-сват оставался должен ему изрядную сумму денег. Савва был владельцем стриптиз-клуба, расположенного совсем неподалёку. Приставку «сват» к своему имени он получил за то, что, по слухам, заботился о своих красавицах и, как правило, удачно выдавал их замуж. Правда это была или нет, никто не знал, однако контингент девушек у него действительно был потрясающим. Солидный подбор тел с впечатляющими природными данными, да ещё над которыми и поработали изрядно, был всегда у него в наличии.
Савва был должен денег за роспись будуара в своём клубе, и Одаковский вознамерился эти деньги у него вытребовать незамедлительно. «Пускай раскошеливается». Когда это решение у него созрело, где-то в несуществующем пространстве впервые шевельнулся внутренний голос: «Как-то всё очень гладко начинает складываться, не к добру это». Но остановиться он уже не мог, всё уже делалось помимо его воли. Хотя он и сам уже догадывался, к чему он ведёт, сам себе он никогда бы в этом не признался. Он предложил Ростиславе чай с печеньями, никак не отреагировал на её вялые протесты и возражения, сказал никого не пускать и хлопнул за собою дверью. Ноги сами понесли его по лестнице вниз.
Когда он шёл вдоль канала и вдыхал влажный осенний воздух, его трезвый внутренний голос опять завозился где-то под спудом его побуждений: «Ну, нет, неужели опять? Одаковский, остановись». И заглушая этот голос рассудка, Одаковский громко подумал: «И что? Мы — художники. Мы привносим в мир свою индивидуальность практически бескорыстно. Можем мы когда-то подумать и о хлебе насущном?!» Он решил, что они пойдут сегодня в ресторан, но тут же передумал и вообразил себе, что сам приготовит ужин. «При свечах, на двоих». Перейдя мост, он юркнул в ближайшую тёмную арку, там, во дворах, был чёрный вход в клуб. Его знали и впустили. Внутри в его ноздри стал сразу проникать запах похоти. Этот запах, казалось, источало и мягкое покрытие под ногами, и даже стены, обитые тёмно-малиновым бархатом. А все предметы представлялись ему в полумраке осклизлыми от запаха похоти. И он уже совершенно явственно поразился тому, что делает.
Савва-сват, рано начавший лысеть безликий человек, на требование денег лишь поглаживал свою плешь чуть выше лба и говорил совершено безо всякого выражения в голосе:
— Одаковский, сволочь, пожалей девчонок. У кого ты деньги-то забираешь? Подумай ведь тоже. Сейчас — не тогда: все этого добра уж понаелись. Думаешь, нам легко? Конкуренция, знаешь, какая?
— Савва, я сволочь последняя, но мне надо. Она там сидит, а я — пустой. Отдашь теперь пятьдесят процентов, пятьдесят — прощаю. Девкам твоим на процедуры.
— Ага — она!
— Она, Савва, она.
Савва удовлетворённо повёл головой:
— Я ж говорю — конкуренция! И что, лучше моих? Юная незнакомка.
— Не попал, Савва, не то.
— Да ладно! Реально женщину повстречал на жизненном пути? — откуда-то из-под себя Савва достал пакет и отслюнявил разными купюрами пачечку денег. — Красивая?
— Это, Савва, не пятьдесят.
Своими пухлыми пальчиками Савва отсчитал ещё чуть не столько же:
— Даже говорить не хочешь?
— Не мастер я, Савва, говорить, но не юная — это точно. Я бы сказал, вне возраста. Может, это банально, но что-то такое вечно женственное: увядающее, ускользающее… Не пышная золотая осень, а поэтическая: тихая и грустная. Знаешь, у Серова, нашего великого, есть потрясающий рисунок: портрет Карсавиной, балерины, со спины. Найди, глянь. Может, что-то поймёшь тогда.
— А в твоей «грудиной теории» какое она занимает место?
Одаковский недоумённо выпятил губы и тут же улыбнулся детской улыбкой во всё лицо. Он вообще не заметил у неё груди. И рука не запомнила; если бы там было, и он рисовал что-то, он бы наверняка запомнил.
Когда он вернулся к себе, Ростислава Игоревна сидела на стуле, ближе к выходу. На ней бал плащ, и сумку свою она держала на коленях. И опять не придерёшься: осанка её была безукоризненной. Было видно, она отпила из чашки немного чая, а к печеньям даже не притронулась.
— Ну, нет, я вас так не отпущу. Мы просто обязаны отметить — не знакомство, заметьте, но начало нашего сотрудничества. А без этого, как говорится, нам удачи не видать. В работе.
Он перегородил ей путь к отступлению целой батареей пакетов, которые принёс с собой, снял шляпу и широко, открыто улыбнулся. От него пахло мандаринами и улицей.
— Сейчас буду готовить для вас праздничный ужин, — говорил он ровным и даже тихим голосом, но сам тон его речи не допускал никаких возражений. Когда он это сказал, она как-то особенно грустно сложила брови домиком и взглянула на него с выражением жертвенной укоризны в глазах. Он снял с неё плащ и повесил на вешалку. Она поёжилась плечами, он набросил ей на плечи своё кашне и пошел к плите.
Потом он готовил и что-то ей рассказывал, а она смотрела его сегодняшние наброски и на старые работы на стенах и потолке. И в глазах её застыло выражение недоверия не то к рисункам, не то к тому, что он говорил, не то ко всему сразу, что сегодня с ней происходило. Одаковский уже отметил про себя, что её ничем было не удивить, но ко всему она относилась как-то странно, с разной степенью недоверия, но всегда это было определённо недоверие.
Потом они ужинали при свечах. Он приготовил свой фирменный «одаковский ростбиф», секрет которого был в соусе собственного приготовления, запёк картофель и подал на стол двухлетнее Божоле. Одаковский был мастер на такие посиделки в «своём углу», любил одарить человека застольной беседой и красиво выпить, если, конечно, выходило красиво. А сегодня ему хотелось превзойти самого себя, он был в ударе. После ужина он угощал её фисташковым мороженым с ликёром и кофе. Потом он делал коктейли, они смотрели на изломы крыш под ними и на выступающие то здесь, то там купола. Потом слушали джаз из его коллекции, когда уже прогорели все свечи. Потом между ними всё случилось…
На утро у него было классическое похмелье: палитра была на столе, в его любимых кобальтах понатыканы окурки; рядом мусор, объедки, грязная посуда и, как водится, что-то пролитое; и удивительно гадкое послевкусие после съеденного, выпитого, выкуренного, высказанного, проделанного; и ощущение, что вся твоя жизнь — вот такой же изгаженный промчавшимся весельем стол. Одаковский скривил лицо в усмешке и зажмурил глаз — слишком уж литературно выходило даже в мыслях. Он поднялся и открыл жалюзи, там уже начинался серый день.
Когда он обернулся, она уже сидела в постели. Простоволосая, горестно преломив спину, как прачка, и космы волос свисали у неё, как у прачки. Никогда в своей жизни не встречавший прачек, он почему-то был уверен, что именно так прачки и выглядели, замученные «каторжной своей работой и беспросветной жизнью». Это тоже был образ. Под его взглядом она недоумённо посмотрела по сторонам, и глаза её на мгновение расширились, как у человека, который с ужасом осознаёт, что с ним было и где это он. И тут же она отвернулась. Она всё время отворачивалась от него, и он видел верхушку её уха, которое просовывалось сквозь волосы. Это торчащее ухо и видимое движение мимических мышц на лице вызвали в нём чувство жалости к ней, а вместе с жалостью она становилась ему гадка. Он плохо помнил завершение вчерашнего вечера, но в памяти было живо ощущение от её тела. Худого, жилистого, но сильного и холодного тела…
«Ой-ё-ё-ой, теперь еще и проверяться надо будет идти… Как же это я деньги-то ей вчера не отдал. Неловко теперь будет», — подумал Одаковский. Когда случалось что-то подобное, он обычно наутро шутил и балагурил, если, конечно, похмелье было не слишком сильным, а теперь ничего этого не хотелось. Ему определённо хотелось одного, чтобы она теперь быстрее ушла.
— Не смотрите на меня, пожалуйста, — почти шёпотом, но с хрипотцой в голосе попросила она.
— Я художник, а художник, милочка моя, это как врач, ему можно. То бишь — мне можно.
— Но стыдно же.
— Мне ничуть. Теперь-то уж чего друг друга стыдиться? — отвечал он ей, задирая её, и вспомнил, как вчера спьяну предлагал увезти её в Париж, поселиться на Монмартре, а хуже того, выложил о себе всё как на духу. «Хоть бы наврал, а то взял… и всю жизнь». Ему захотелось, чтобы она навсегда исчезла из его жизни.
— Художники и на самом деле, как врачи? — спросила она и впервые посмотрела на него. Недоверие в её глазах сменилось на разочарование.
— А вы что-то имеете против врачей?
— Врачи — циники. Циничные материалисты. Выходит, художники — тоже.
Одаковский усмехнулся в усы, ему показалось обидным такое определение его самого: материалист.
— Видите ли, милочка, человек в разные моменты своей жизни — разный. В природе не бывает материалистов или идеалистов. Не бывает и дуалистов, которые признают то и другое. В момент, когда я занят творчеством, например, я — идеалист, субъективный идеалист. Когда я думаю о жизни и смерти, о смысле, так сказать, бытия, я – идеалист объективный. Отношения с женщиной предполагают дуализм: там нужно и чувство иметь, и о материальном, как мне кажется, не забывать. Когда же я иду, к примеру, в уборную, я – материалист и даже материалист вульгарный. Волевое самополагание, милочка моя. Я сам должен определять, кто я и что я.
Когда он сказал про уборную, глаза её стали строгими и влажными, и она уже больше на него не смотрела. Он предложил ей кофе с ликёром, но она лишь отрицательно повела головой. Она уже убрала волосы и всю себя собрала в плащ, который туго затянула поясом на талии. Обернувшись в треть оборота, она осмотрела себя в зеркало. И снова: это её движение, изгиб стана, неимоверно пропорционально сбитая фигура и пришедшее вдруг ясное понимание, что он её больше никогда не увидит, вызвали в нём необыкновенной силы желание. Это окончательно спутало все его мысли. Так что, когда за ней знакомым звуком клацнул замок, он испытал смешанное чувство облегчения и сожаления. Какое-то время он постоял в задумчивости, а потом подошёл к окну и стал ждать. Скоро она вышла в город, продолжительно посмотрела в одну сторону, потом повернулась на пятке и столь же продолжительно посмотрела в другую; и не пошла ни туда, ни сюда, а отошла в сторону и присела на скамейку и стала рыться в своей сумке.
«Рисовал с неё «обнажёнку», затащил в постель, а ведь голой так и не видел. Вот это как раз материалист и заговорил», — подумал он с иронией и почувствовал что-то вроде тупой сердечной боли, но это не была сердечная боль, её-то он хорошо знал, — это была сердечная тоска и ощущение, что он не живёт, а играет в жизнь. А настоящая жизнь живёт в нём отдельно от него, проходит через него, исполняет какие-то свои цели через него, а он сам от настоящей жизни почему-то отлучён. Сам он забавляется какой-то игрушкой, которую считает жизнью чисто по недоразумению. Как, впрочем, и все. А посему — ничего исключительного в его восприятии мира нет.
Такие свои состояния он называл «чеховской грустью». Чехова, однако, он любил, а эти свои состояния не любил. И, более того, боялся их. Боялся, потому что переставал видеть какую-то определённую цель в будущем. Смысл прожитых лет тоже истаивал, как прошлогодний снег. И между двумя этими бессмысленностями было зажато его безрадостное, пустое и неуловимое настоящее. Так ему вдруг представилась вся его жизнь.
Он немного отстранился от стекла, и ему стало видно отражение собственной помятой физиономии. Где-то в районе носа сидела на скамье маленькая и непонятная Ростислава Игоревна, что-то кусала из руки и что-то кидала перед собой. Голуби и воробьи крутились суетливо возле её ног. И она каким-то неестественным, театральным жестом руки сгоняла птицу, если та садилась ей на колени. По всему было видно, для них всех жизнь — абсолютное благо, без всяких условий и сомнений. Он прекрасно понимал, что отрицание смысла жизни это всего лишь отрицание той формы жизни, которой ты живёшь здесь и сейчас. Теоретически он понимал, что это мы отрицаем смысл жизни, а сама жизнь никаких смыслов не знает и не добивается, а посему и не отрицает. Но на душе, тем не менее, было у него прескверно, несмотря на все теоретические объяснения.
«Сколько раз — одним и тем же местом об тот же самый угол! — подумал он в сердцах. — Натурщица должна быть профессиональной. Работать нужно только и исключительно с профессионалами! Исключительно!»
«А значит, быть по сему», — сказал он себе мысленно, но весьма твёрдо и громко, во всю полусонную голову. Это «быть по сему» означало, что, невзирая на поганое настроение, нужно было всю волю собрать в кулак и идти в мастерскую, идти и работать. Он считал себя профессионалом с большой буквы и поэтому заставлял себя работать в день хотя бы по нескольку часов, даже если расположения к тому не было никакого. Он был убеждён, что так должен поступать любой настоящий художник, а он, Одаковский, считал себя если не большим, то «настоящим» художником уж точно.
А настроение было хуже некуда: сам себе гадок до последней крайности, и вся собственная жизнь представлялась чем-то вроде омерзительной отрыжки.
«С большой буквы-то с большой, а… хуже бы и не надо».
Отчего это? Одаковский не знал да и не хотел знать. Он твёрдо знал, что сейчас тщательнейшим образом, как всегда, вычистит зубы, примет контрастный душ, оденется во всё чистое, наденет отглаженную сорочку, в своей старой турке сделает себе кофе по-турецки, приготовит тост с лимонным джемом, обмотает шею своим любимым белым кашне, щёлкнет ключом в личинке, как щёлкал уже бессчётное число раз, пересчитает ступеньки вниз — тридцать семь — выйдет на улицу, потянет носом, а затем всей грудью вдохнёт уличный воздух.
Так оно всё и вышло, и проснулся он уже совсем, и осенним воздухом надышался, а настроение всё-таки было не ахти. И тогда он машинально стал заниматься тем, что его всегда развлекало, он стал заниматься живописью в голове, про себя и для себя.
Брусчатка, камни бордюра с выщербинами и сколами, павшая листва, покрывшая всю эту геометрию так, как ни один декоратор не разложил бы, пятна ещё зелёного газона… Рассеянное освещение… Серое всех оттенков (а серое — его конёк), медно-жёлтое, трава — через синий кадмий…
Литая ножка парковой скамьи, чугунная урна, под ней лужица с асфальтовыми отмелями, лежащий на отмели лист чашечкой и с черенком, торчащим вверх… Сколько было оттенков, и каких тонких, в этой никчёмной лужице, особенно где отражалось небо. Небо захватывало асфальтовую плоскость. Само бесцветное, на границах с асфальтовой рябью оно создавало поразительные сочетания цвета, еле уловимые глазом… В воображении он исполнил это в акварели, лихо — по мокрому и мысленно оформил в паспарту…
Стена с потрескавшейся и облупившейся местами штукатуркой, совершенно непонятного цвета — как возьмёшь. Часть трубы водостока. Окно, стекло, штора — с провалом в никуда. Свинцовый цинк отлива: графика, а не живопись. А ниже, на фоне грязных разводов по цоколю, практически открытыми цветами: синим, красным, жёлтым — фигурка ребёнка, ковыряющего что-то в асфальте лопаткой. И прозрачно-нежный цвет детского личика. Он знал, как такой цвет намешать, в духе его любимого Фешина. Он и это проделал, представив себе свою палитру…
И наконец, дверь его парадного. Старая, потрёпанная дверь, геометрия которой уже расползается, и цвет становится неопределённым. Наличники, уголки, филёнки — это всё интересно, однако куда интересней само полотно: его собрать цветом… Он приостановился на миг и взялся за эту задачу, но быстро сообразил, что выйдет из этого просто ученическая работа, не больше, и бросил. Его путь и так уже из пятнадцати минут превратился минут в тридцать пять.
«Быть тогда по сему», — Одаковский потянул ручку двери и очутился в полумраке подъезда, неспешно преодолел пятьдесят четыре ступеньки, уже наслаждаясь игрой света на ступенях, перилах и балясинах, и обнаружил в своей двери записку: вырванный из записной книжки листок в розовую клетку и с листочками-лепесточками по углам. Одаковский поморщился, в этот день у него была обострённая реакция на безвкусицу. Записка была от натурщицы, с которой у него был оговорён очередной сеанс на сегодня. И для такого-то дня это было уже неплохо, обычно записки в его двери ничего хорошего не обещали. Как правило, это были напоминания либо о неоплаченных счетах, либо о задолженностях по работе.
Одаковский наискосок пробежал записку глазами и сразу же считал общий смысл написанного: натурщицы сегодня не будет. Он уже хотел розовый листок скомкать, когда в самом низу текста глаз зацепился за слово «обрыдло», и только тогда он вчитался в путаные и грамматически нескладные фразы. Из сбивчивого опуса следовало, что «дышать краской и мёрзнуть голышом с затёкшими членами» натурщице надоело донельзя, «обрыдло», и что она с каким-то Эдиком уезжает на Гоа. Причём Эдика она упоминала в таком контексте, будто и он, Одаковский, тоже был с ним коротко знаком. Всё это была чепуха какая-то и полная бредятина, только само слово «обрыдло» задело его. И не только задело, а каким-то тревожным отзвуком гудело в голове и стояло перед глазами в виде водосточной трубы на грязной стенке.
«И слава богу, всё к одному», — подумал Одаковский. Эта «нимфетка» всё одно не была профессионалом и близко не понимала, что такое — профессиональная натурщица. Она была из породы тех беспечных барышень, которых ещё привлекает романтика общения с «богемой»: мастерские, выставки, посиделки и вечные разговоры, разговоры, разговоры; опять посиделки, выпивка — и снова та же трепотня, трепотня и трепотня. К тому же на первых сеансах она явно ожидала какой-то от него реакции на её обнажённое тело, которой, естественно, не последовало; на своём веку он перевидал столько тел, что замечал в них скорее уже недостатки, нежели достоинства. Ему припомнилась его питейно-шутливая теория, что о характере женщины лучше всего расскажет форма, объём и структура её груди. Налитые, плоские, рыхлые, упругие, жалкие, шикарные, просящие, вместительные, зовущие, вульгарные, притворные, бестолковые, никакие — каких только на его памяти ни перебывало. У этой были маленькие, вздорные и нахальные, ещё и в разные стороны…
«И чёрт бы с ней. Всё, что ни делается — всё к лучшему», — ещё раз подумал Одаковский. Продолжение работы с ней всё равно становилось бессмысленным, по сути дела, настоящего результата не было, — и работал он лишь по инерции, по своей многолетней привычке уделять хоть какое-то время дня непосредственно ремеслу. А только в ремесленном, подённом труде, как он считал, рождается вдохновение, которое, в свою очередь, может породить что-то стоящее…
Но это было от неё ещё не всё, в конце листика, в самом уголке, были втиснуты, заползая на розовый лепесток, три слова: «См. на обороте». На обороте излагалась просьба, а потому насилие над грамматикой многократно усилилось. Просьба заключалась в том, чтобы «посмотреть на предмет позирования» Ростиславу Игоревну, бывшую балерину и чуть ли не мировую известность, но которой в силу такой-то причины (понять эту причину из путаницы слов было совершенно невозможно) нужны были теперь хоть какие-то деньги.
Одаковский ещё раз поморщился: «Вот только балерины мне и не хватало. Откуда она её откопала?»
Для него не было ничего хуже, чем общаться с «бывшими служителями муз» и слушать их сетования на превратности судьбы, несправедливость жизнеустройства и неблагодарность публики. «Вот что значит — иметь дело с непрофессионалами!»
Однако делать было нечего, балерина должна была явиться к одиннадцати, в урочный час сеанса. День был окончательно испорчен, и он решил расслабиться — наколол льда, откупорил початую бутылку своего любимого виски, раскурил сигару и поставил «второй концерт» Шопена. Музыка всегда имела на него сильное воздействие, но сегодня он настолько вслушался и ушёл в себя, что был в немалой степени раздосадован, когда раздался входной звонок. Он уже не помнил себя и не понимал, сколько прошло времени, но это, верно, была та самая Ростислава Игоревна. «Был же такой чудаковатый Игорь, удружил дочке — Рос-ти-слава И-горевна», — подумал Одаковский, мысленно скривил физиономию и пошёл открывать.
За дверью стояла женщина, которая и на самом деле выглядела, как балерина. Определить её возраст на первый взгляд было практически нереально: ей могло быть и тридцать пять, а могло быть и все пятьдесят. Она казалась скорее некрасивой, но прежде всего остального в глаза бросалась её худоба. Худоба её представлялась даже несколько болезненной. Если бытием люди называют пребывание в теле, то в данном случае перед ним предстало, если так можно было выразиться, «полу-бытие». Множество морщин и морщинок на её лице не могли создать полноценных складок, потому что было просто не из чего. Однако в этом лице было вместе с тем что-то настоящее, что-то живое и притягательное. После нескольких фраз приличия он уже хотел отправить её восвояси, но встретился взглядом с её серыми прозрачными глазами, в которых было что-то кроткое и располагающее, и он не решился, а только произнёс суетливо: «Ну что же, Ростислава Игоревна, значит — будем работать. Потрудимся для искусства, так сказать».
Как он и предчувствовал, затруднения начались сразу же, с первой минуты: как только он предложил ей раздеться, в огромных, но не броских её глазах явственно мелькнуло смятение. С любой другой он просто сделал бы вид, что ничего не замечает, а с этой начал вдруг объясняться и странным каким-то для самого себя развязным тоном:
— Милочка моя, ты… вы, вы-то должны были бы понимать, мне не телеса ваши нужны… и подробности всякие. Мне нужен сам костяк, конструктив, формообразование, пластика, так сказать. Как всё это вместе создаёт, если так можно выразиться, образ человека, характер. В целом, понимаете? К тому же, мне сорок семь лет уже. Будет. Меня уже можно в женскую баню спокойно пускать. Мы же с вами не анатомией тут будем… так сказать.
Он говорил, а она, сложив перед собой руки, кивала головой, как понимающая ученица, и смотрела на него, и он на неё посмотрел. И в несколько мгновений сделал мысленный нашлёпок с её головки, взял основные отношения: шея, лоб, глазницы, тень под подбородком, рефлекс на щеке, фон контражуром, массу волос, блик на кончике носа и глубокую носовую тень, и всё это к серо-зелёному цвету её прозрачных глаз. Глаза у неё были практически без ресниц и оттого совсем открытые. И смотрели эти глаза со всепонимающим укором. А он уже знал: так женщина смотрит, желая казаться умной и всё наперёд знающей, когда чувствует себя крайне беззащитной.
Он испытал чувство, похожее на жалость, и за эту долю мгновения, когда он пустил в себя её взгляд, он вдруг интуитивно узнал в ней то, что было в нём самом, было и подспудно отравляло ему жизнь: он прочитал абсолютную и непреодолимую реальность того, что уже никогда не станет таким художником, который является этапом в развитии искусства и который становится именем. «Именем с большой буквы». По всей видимости, как и она, он останется принадлежать той среде, той безымянной массе художников, в которой когда-то родится новое имя, которое потом и останется. А он сам именем уже не станет никогда. «Никогда. Как и она». А эта их встреча — ироническая гримаса судьбы, сталкивающей подобное с подобным. Внутри сделалось пусто, гулко и страшно, а только что там звучал Шопен. «Сам Шопен. Со своим концертом. Вторым, между прочим». Ему особенно неприятными показались жёсткие морщинки по краям её неярких, но чётко очерченных губ.
— Значит, так, милочка моя, попробуем всё-таки работать. И начнём с набросков. Менять позу будете каждые пару минут. Я говорю, какую — и вы принимаете эту позу. Выйдет что-нибудь дельное, будем… дружить дальше. Нет — нет, не обижайтесь. Если есть что-то облегающее, переоденьтесь там, за ширмой. Если облегающего нет, обнажайтесь, насколько посчитаете возможным.
По всему видно, она уже всё своё оттанцевала. И он тоже: свыше того, что в профессии сделал, уже ничего не сделает. Каждодневное усилие, которое не добавляет уже ничего. «Ничего. А жизнь проходит».
Из-за ширмы она явилась в чёрном обтягивающем трико, в каких их показывают на репетициях. В глаза сразу бросились невероятно стройные и пропорционально сложенные ноги в толстых вязаных гетрах. Её движения уже были другими, она переступала как-то так, будто полностью изменила своё отношение к плоскости пола, по которой перемещалась, и это отношение стало вдруг опасливо-трепетным. Одаковский невольно улыбнулся. Он поставил видавший виды венский стул посредине мастерской, прямо под зенитным фонарём, попросил её распустить волосы, сесть на стул, опереться перед собой руками и чуть прогнуться. То, как его новая натурщица всё это проделала, производило впечатление. Материал перед ним был восхитительный. Он немного даже заробел, но сделал с десяток быстрых набросков и быстро вошёл в рабочую колею.
Одаковский, как оказалось, прекрасно помнил, как его юношеское намерение покорять самые заоблачные высоты в живописи сначала сменилось желанием встать в один ряд, потом быть крепким и авторитетным профессионалом, затем – служить «общему» делу искусства, даже передавать своё умение молодым, а ведь на деле выходило, что стремился он к одному — к славе. А вот слава как раз ему и не далась. Думать об этом, особенно в присутствии постороннего, было тяжело, но и не думать не получалось. «Эту тоже среди своих зовут Славой, небось, ан — и ей слава, по всему видно, не далась».
— Ростислава Игоревна, а как вас в детстве называли? — спросил он её как бы между прочим.
— Соня, — отвечала та после продолжительной паузы.
— Почему Соня?
Глаза её напряглись на какое-то мгновение, но затем она произнесла негромко:
— У меня было малокровие, и я между занятиями всё время засыпала.
Для него её слова были как ушат воды — она просто занималась; её научили, от неё требовали — и она просто занималась; а в перерывах засыпала. «Что такое настоящее тщеславие, она, скорее всего, не понимала даже. Она сталкивалась только с прямой и непосредственной конкуренцией. Надо думать, так и было». Переводя взгляд с листа на неё и обратно, он на какое-то время задержал взгляд на ней. Она повела плечом и слегка приподняла голову. «Грациозна, как кошка, в любом положении». Но особенно хороша она была в движении, а его скетчи выходили статичными и не передавали прелести её движений. «Но я поймаю, я поймаю».
— Ростислава Игоревна, голубушка, давайте, знаете, как поступим, давайте оставим стул. Вы свободно делайте свои движения, свои па, как вы их называете, а я буду вас останавливать в том месте, которое мне нужно. Давайте?
Она коротко и как-то обречённо кивнула головой и сделала несколько своих движений, потом приостановилась и сделала ещё и ещё, и это было так здорово и так необычно посреди его захламлённой неподвижной мастерской, что он, затаив дыхание, следил за её движениями и не останавливал её.
— Ничего не понравилось? — наконец спросила она и встала, растопырив ступни ног.
— Напротив, всё понравилось, — ответил он. — Движения тоже, оказывается, бывают… музыкой. Случается и такое. Сейчас, Ростислава Игоревна. Культурологический шок сейчас пройдёт. И ещё раз попробуем. Будем пробовать ещё. Обязательно. Что вы так уж прям сразу — руки в боки? Совсем не даёте людям спуску.
Эта её поза — руки в боки — была уморительной. Она всё больше и больше располагала к себе. «В ней если и есть плохое тщеславие, то и оно — от инстинкта самосохранения, чтоб не затолкали и не затоптали… А ведь бывает тщеславие и высокое, когда нужны не слава и деньги, а нужна возможность служения людям, когда хочется отдать людям как можно больше. В конце концов, почему желание внести в общую копилку больше других это желание дурное?! Вовсе это и не дурно». Выходило вроде хорошо: и в мыслях выходило хорошо, и на бумаге тоже уже выходило недурно. Как раз в это время на улице, видимо, просветлело, и мастерская тоже наполнилась сверху светом. Было всё «как-то так», а стало вдруг как-то хорошо. Работа стала спориться, и задумки в его голове побежали одна вперёд другой.
Через полчаса работы он совершенно увлёкся, а через час был по-настоящему убеждён, что эта странная Ростислава Игоревна — настоящая находка. «И ещё какая! Какая посадка головы, какой стан! А осанка! Осанка королевская». Это не придумаешь и не сыграешь. Если присмотреться, руки уже старые и жилистые, но как царственно она их перед собой складывала, сколько грации было в движении этих рук. «Шея, плечо и кисть — какая линия». То, с каким достоинством она держала голову и спину, действительно впечатляло. И положить это на бумагу оказывалось для него делом непростым. «А так и не скажешь, в чём только дух держится».
Мало-помалу Одаковский впадал в то своё рабочее состояние, которое захватывало его полностью, и из которого он с трудом выходил всегда. Он не знал точно, вдохновение ли это было или нет, но он знал это состояние и ценил его, как очень немногое в своей жизни. Это было состояние, когда как будто пребываешь во власти инстинкта и вместе с тем испытываешь наполненность жизнью. Наполненность такой интенсивности, что это заставляет забыть обо всём на свете. Так было и в этот раз. Работал он самозабвенно, и когда вдруг глянул на окна и потом посмотрел на часы, они с натурщицей отработали уже вдвое дольше обычного. Он приходил в себя: они вместе были в его мастерской, которая показалась ему почему-то странной со всем тем, что в ней было навешено и наставлено. Это могло быть оттого, что уже сделалось сумеречно.
— Вот и всё на сегодня, — проговорил Одаковский, — наверно.
Ростислава Игоревна встала и стояла, оттопырив кисти рук возле бёдер в стороны и склонив голову. Неподвижно застыв в этой позе, она смотрела на него вопросительно. Лицо её было неподвижно, однако вопрос в глазах, казалось, всё время усиливался.
— Что вы, — спросил он её, — Ростислава Игоревна?
— У меня получилось? Мы работать будем?
— Да-да. Ещё как получилось. Будем-будем, конечно.
Она опустила кисти, несколько раз хлопнула себя по бёдрам и спросила, сколько он сможет платить за сеанс. Он поспешно назвал ей сумму, почему-то вдвое выше обычного, да ещё и добавил: «Это на первых порах». Она чуть присела и пошла собираться. Он складывал свои листы и краем глаза наблюдал за ней. По тому, как она держалась за свою сумку, как обращалась с её содержимым, по некоторым вещам, которые там были, он уже понял, что дома у неё в данное время нет, и скитается она сейчас, скорее всего, по своим знакомым, а быть может, и незнакомым. «А ведь деньги ей прямо сейчас нужны», — осенило его вдруг.
— Теперь у меня денег нет, я не рассчитывал, — сказал он громко и внятно и пристально на неё посмотрел. Вокруг глаз у неё всё напряглось, и одна бровь дёрнулась вверх. И в глазах явственно мелькнула тень смятения. Она поспешно отвернулась и, не поворачиваясь, почти по слогам выговаривая каждое слово, попросила:
— А не могли бы вы… Не могли бы хоть что-то дать теперь, хоть какую-то сумму?
«Какую-то сумму хочет себе в сумку». Это было против всех его правил, от которых он практически никогда не отступал. И другую бы он быстро осадил и поставил на место, только попытайся она играть не по его правилам. А тут он отчего-то стал лихорадочно соображать, где поблизости достать денег. И решение тут же нашлось: Савва-сват оставался должен ему изрядную сумму денег. Савва был владельцем стриптиз-клуба, расположенного совсем неподалёку. Приставку «сват» к своему имени он получил за то, что, по слухам, заботился о своих красавицах и, как правило, удачно выдавал их замуж. Правда это была или нет, никто не знал, однако контингент девушек у него действительно был потрясающим. Солидный подбор тел с впечатляющими природными данными, да ещё над которыми и поработали изрядно, был всегда у него в наличии.
Савва был должен денег за роспись будуара в своём клубе, и Одаковский вознамерился эти деньги у него вытребовать незамедлительно. «Пускай раскошеливается». Когда это решение у него созрело, где-то в несуществующем пространстве впервые шевельнулся внутренний голос: «Как-то всё очень гладко начинает складываться, не к добру это». Но остановиться он уже не мог, всё уже делалось помимо его воли. Хотя он и сам уже догадывался, к чему он ведёт, сам себе он никогда бы в этом не признался. Он предложил Ростиславе чай с печеньями, никак не отреагировал на её вялые протесты и возражения, сказал никого не пускать и хлопнул за собою дверью. Ноги сами понесли его по лестнице вниз.
Когда он шёл вдоль канала и вдыхал влажный осенний воздух, его трезвый внутренний голос опять завозился где-то под спудом его побуждений: «Ну, нет, неужели опять? Одаковский, остановись». И заглушая этот голос рассудка, Одаковский громко подумал: «И что? Мы — художники. Мы привносим в мир свою индивидуальность практически бескорыстно. Можем мы когда-то подумать и о хлебе насущном?!» Он решил, что они пойдут сегодня в ресторан, но тут же передумал и вообразил себе, что сам приготовит ужин. «При свечах, на двоих». Перейдя мост, он юркнул в ближайшую тёмную арку, там, во дворах, был чёрный вход в клуб. Его знали и впустили. Внутри в его ноздри стал сразу проникать запах похоти. Этот запах, казалось, источало и мягкое покрытие под ногами, и даже стены, обитые тёмно-малиновым бархатом. А все предметы представлялись ему в полумраке осклизлыми от запаха похоти. И он уже совершенно явственно поразился тому, что делает.
Савва-сват, рано начавший лысеть безликий человек, на требование денег лишь поглаживал свою плешь чуть выше лба и говорил совершено безо всякого выражения в голосе:
— Одаковский, сволочь, пожалей девчонок. У кого ты деньги-то забираешь? Подумай ведь тоже. Сейчас — не тогда: все этого добра уж понаелись. Думаешь, нам легко? Конкуренция, знаешь, какая?
— Савва, я сволочь последняя, но мне надо. Она там сидит, а я — пустой. Отдашь теперь пятьдесят процентов, пятьдесят — прощаю. Девкам твоим на процедуры.
— Ага — она!
— Она, Савва, она.
Савва удовлетворённо повёл головой:
— Я ж говорю — конкуренция! И что, лучше моих? Юная незнакомка.
— Не попал, Савва, не то.
— Да ладно! Реально женщину повстречал на жизненном пути? — откуда-то из-под себя Савва достал пакет и отслюнявил разными купюрами пачечку денег. — Красивая?
— Это, Савва, не пятьдесят.
Своими пухлыми пальчиками Савва отсчитал ещё чуть не столько же:
— Даже говорить не хочешь?
— Не мастер я, Савва, говорить, но не юная — это точно. Я бы сказал, вне возраста. Может, это банально, но что-то такое вечно женственное: увядающее, ускользающее… Не пышная золотая осень, а поэтическая: тихая и грустная. Знаешь, у Серова, нашего великого, есть потрясающий рисунок: портрет Карсавиной, балерины, со спины. Найди, глянь. Может, что-то поймёшь тогда.
— А в твоей «грудиной теории» какое она занимает место?
Одаковский недоумённо выпятил губы и тут же улыбнулся детской улыбкой во всё лицо. Он вообще не заметил у неё груди. И рука не запомнила; если бы там было, и он рисовал что-то, он бы наверняка запомнил.
Когда он вернулся к себе, Ростислава Игоревна сидела на стуле, ближе к выходу. На ней бал плащ, и сумку свою она держала на коленях. И опять не придерёшься: осанка её была безукоризненной. Было видно, она отпила из чашки немного чая, а к печеньям даже не притронулась.
— Ну, нет, я вас так не отпущу. Мы просто обязаны отметить — не знакомство, заметьте, но начало нашего сотрудничества. А без этого, как говорится, нам удачи не видать. В работе.
Он перегородил ей путь к отступлению целой батареей пакетов, которые принёс с собой, снял шляпу и широко, открыто улыбнулся. От него пахло мандаринами и улицей.
— Сейчас буду готовить для вас праздничный ужин, — говорил он ровным и даже тихим голосом, но сам тон его речи не допускал никаких возражений. Когда он это сказал, она как-то особенно грустно сложила брови домиком и взглянула на него с выражением жертвенной укоризны в глазах. Он снял с неё плащ и повесил на вешалку. Она поёжилась плечами, он набросил ей на плечи своё кашне и пошел к плите.
Потом он готовил и что-то ей рассказывал, а она смотрела его сегодняшние наброски и на старые работы на стенах и потолке. И в глазах её застыло выражение недоверия не то к рисункам, не то к тому, что он говорил, не то ко всему сразу, что сегодня с ней происходило. Одаковский уже отметил про себя, что её ничем было не удивить, но ко всему она относилась как-то странно, с разной степенью недоверия, но всегда это было определённо недоверие.
Потом они ужинали при свечах. Он приготовил свой фирменный «одаковский ростбиф», секрет которого был в соусе собственного приготовления, запёк картофель и подал на стол двухлетнее Божоле. Одаковский был мастер на такие посиделки в «своём углу», любил одарить человека застольной беседой и красиво выпить, если, конечно, выходило красиво. А сегодня ему хотелось превзойти самого себя, он был в ударе. После ужина он угощал её фисташковым мороженым с ликёром и кофе. Потом он делал коктейли, они смотрели на изломы крыш под ними и на выступающие то здесь, то там купола. Потом слушали джаз из его коллекции, когда уже прогорели все свечи. Потом между ними всё случилось…
На утро у него было классическое похмелье: палитра была на столе, в его любимых кобальтах понатыканы окурки; рядом мусор, объедки, грязная посуда и, как водится, что-то пролитое; и удивительно гадкое послевкусие после съеденного, выпитого, выкуренного, высказанного, проделанного; и ощущение, что вся твоя жизнь — вот такой же изгаженный промчавшимся весельем стол. Одаковский скривил лицо в усмешке и зажмурил глаз — слишком уж литературно выходило даже в мыслях. Он поднялся и открыл жалюзи, там уже начинался серый день.
Когда он обернулся, она уже сидела в постели. Простоволосая, горестно преломив спину, как прачка, и космы волос свисали у неё, как у прачки. Никогда в своей жизни не встречавший прачек, он почему-то был уверен, что именно так прачки и выглядели, замученные «каторжной своей работой и беспросветной жизнью». Это тоже был образ. Под его взглядом она недоумённо посмотрела по сторонам, и глаза её на мгновение расширились, как у человека, который с ужасом осознаёт, что с ним было и где это он. И тут же она отвернулась. Она всё время отворачивалась от него, и он видел верхушку её уха, которое просовывалось сквозь волосы. Это торчащее ухо и видимое движение мимических мышц на лице вызвали в нём чувство жалости к ней, а вместе с жалостью она становилась ему гадка. Он плохо помнил завершение вчерашнего вечера, но в памяти было живо ощущение от её тела. Худого, жилистого, но сильного и холодного тела…
«Ой-ё-ё-ой, теперь еще и проверяться надо будет идти… Как же это я деньги-то ей вчера не отдал. Неловко теперь будет», — подумал Одаковский. Когда случалось что-то подобное, он обычно наутро шутил и балагурил, если, конечно, похмелье было не слишком сильным, а теперь ничего этого не хотелось. Ему определённо хотелось одного, чтобы она теперь быстрее ушла.
— Не смотрите на меня, пожалуйста, — почти шёпотом, но с хрипотцой в голосе попросила она.
— Я художник, а художник, милочка моя, это как врач, ему можно. То бишь — мне можно.
— Но стыдно же.
— Мне ничуть. Теперь-то уж чего друг друга стыдиться? — отвечал он ей, задирая её, и вспомнил, как вчера спьяну предлагал увезти её в Париж, поселиться на Монмартре, а хуже того, выложил о себе всё как на духу. «Хоть бы наврал, а то взял… и всю жизнь». Ему захотелось, чтобы она навсегда исчезла из его жизни.
— Художники и на самом деле, как врачи? — спросила она и впервые посмотрела на него. Недоверие в её глазах сменилось на разочарование.
— А вы что-то имеете против врачей?
— Врачи — циники. Циничные материалисты. Выходит, художники — тоже.
Одаковский усмехнулся в усы, ему показалось обидным такое определение его самого: материалист.
— Видите ли, милочка, человек в разные моменты своей жизни — разный. В природе не бывает материалистов или идеалистов. Не бывает и дуалистов, которые признают то и другое. В момент, когда я занят творчеством, например, я — идеалист, субъективный идеалист. Когда я думаю о жизни и смерти, о смысле, так сказать, бытия, я – идеалист объективный. Отношения с женщиной предполагают дуализм: там нужно и чувство иметь, и о материальном, как мне кажется, не забывать. Когда же я иду, к примеру, в уборную, я – материалист и даже материалист вульгарный. Волевое самополагание, милочка моя. Я сам должен определять, кто я и что я.
Когда он сказал про уборную, глаза её стали строгими и влажными, и она уже больше на него не смотрела. Он предложил ей кофе с ликёром, но она лишь отрицательно повела головой. Она уже убрала волосы и всю себя собрала в плащ, который туго затянула поясом на талии. Обернувшись в треть оборота, она осмотрела себя в зеркало. И снова: это её движение, изгиб стана, неимоверно пропорционально сбитая фигура и пришедшее вдруг ясное понимание, что он её больше никогда не увидит, вызвали в нём необыкновенной силы желание. Это окончательно спутало все его мысли. Так что, когда за ней знакомым звуком клацнул замок, он испытал смешанное чувство облегчения и сожаления. Какое-то время он постоял в задумчивости, а потом подошёл к окну и стал ждать. Скоро она вышла в город, продолжительно посмотрела в одну сторону, потом повернулась на пятке и столь же продолжительно посмотрела в другую; и не пошла ни туда, ни сюда, а отошла в сторону и присела на скамейку и стала рыться в своей сумке.
«Рисовал с неё «обнажёнку», затащил в постель, а ведь голой так и не видел. Вот это как раз материалист и заговорил», — подумал он с иронией и почувствовал что-то вроде тупой сердечной боли, но это не была сердечная боль, её-то он хорошо знал, — это была сердечная тоска и ощущение, что он не живёт, а играет в жизнь. А настоящая жизнь живёт в нём отдельно от него, проходит через него, исполняет какие-то свои цели через него, а он сам от настоящей жизни почему-то отлучён. Сам он забавляется какой-то игрушкой, которую считает жизнью чисто по недоразумению. Как, впрочем, и все. А посему — ничего исключительного в его восприятии мира нет.
Такие свои состояния он называл «чеховской грустью». Чехова, однако, он любил, а эти свои состояния не любил. И, более того, боялся их. Боялся, потому что переставал видеть какую-то определённую цель в будущем. Смысл прожитых лет тоже истаивал, как прошлогодний снег. И между двумя этими бессмысленностями было зажато его безрадостное, пустое и неуловимое настоящее. Так ему вдруг представилась вся его жизнь.
Он немного отстранился от стекла, и ему стало видно отражение собственной помятой физиономии. Где-то в районе носа сидела на скамье маленькая и непонятная Ростислава Игоревна, что-то кусала из руки и что-то кидала перед собой. Голуби и воробьи крутились суетливо возле её ног. И она каким-то неестественным, театральным жестом руки сгоняла птицу, если та садилась ей на колени. По всему было видно, для них всех жизнь — абсолютное благо, без всяких условий и сомнений. Он прекрасно понимал, что отрицание смысла жизни это всего лишь отрицание той формы жизни, которой ты живёшь здесь и сейчас. Теоретически он понимал, что это мы отрицаем смысл жизни, а сама жизнь никаких смыслов не знает и не добивается, а посему и не отрицает. Но на душе, тем не менее, было у него прескверно, несмотря на все теоретические объяснения.
«Сколько раз — одним и тем же местом об тот же самый угол! — подумал он в сердцах. — Натурщица должна быть профессиональной. Работать нужно только и исключительно с профессионалами! Исключительно!»
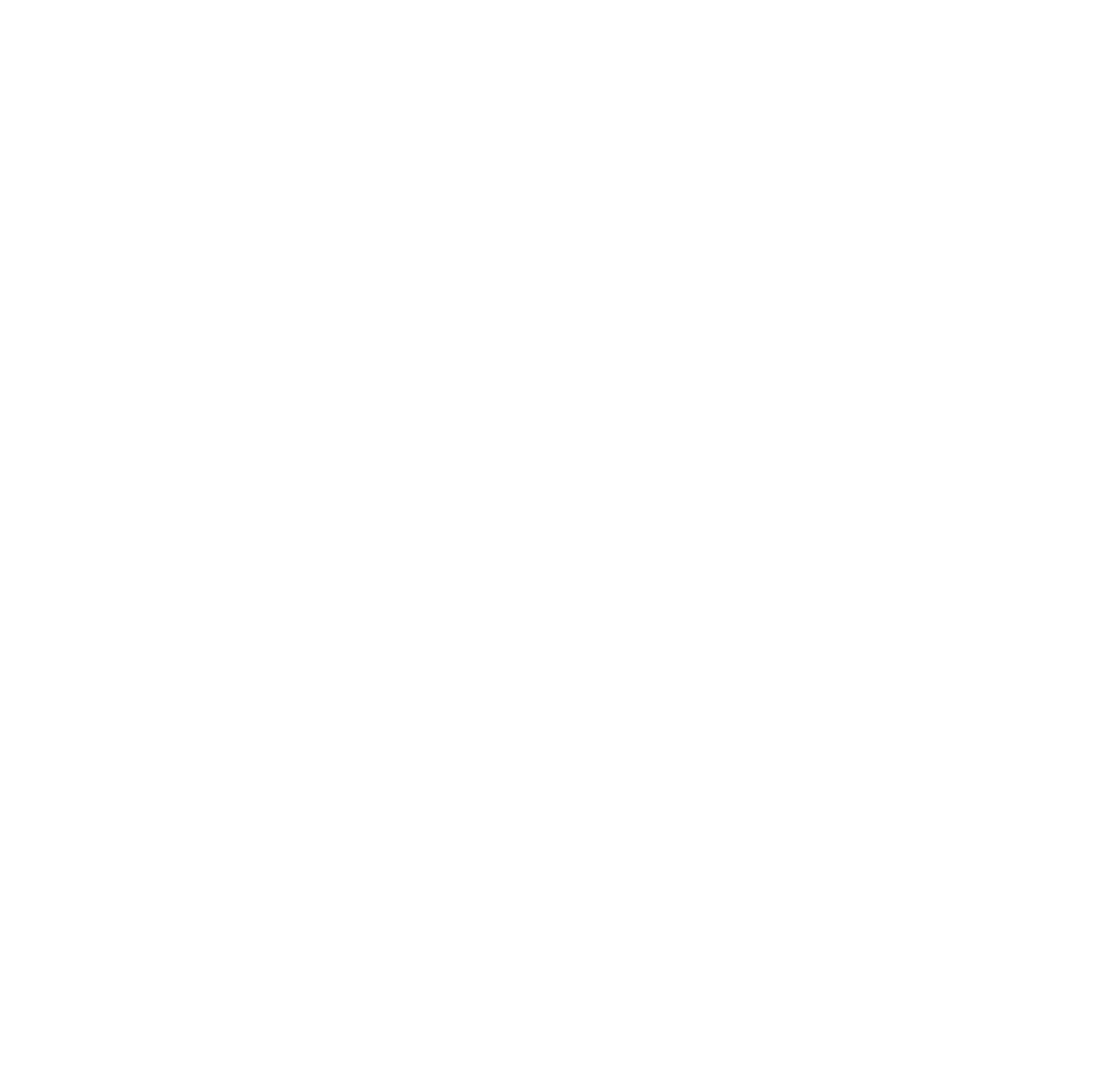
Инна ШОЛПО
Коренная петербурженка, живу в Вырице. В семь лет написала первое стихотворение и с тех пор все время что-то сочиняла, но занятие это считалось не слишком серьезным, поэтому стала учителем русского языка и литературы. Работала в школе и в вузе, принимала участие в создании школьных учебников и программ по литературе, писала статьи и монографии, пока после пятидесяти лет не нашла в себе силы уйти с работы и заняться тем, чем на самом деле хотела заниматься всегда – фиксировать мимолетные впечатления от простых вещей: иногда при помощи фотоаппарата, иногда при помощи слов. Излюбленный жанр в литературе – сплетение рассказов, каждый из которых может существовать отдельно, но общая идея становится видна лишь при чтении всего собрания. Лучшие книги – «Путешествие улитки», «Предметы старого быта» и «Рукопись, найденная на помойке».
Коренная петербурженка, живу в Вырице. В семь лет написала первое стихотворение и с тех пор все время что-то сочиняла, но занятие это считалось не слишком серьезным, поэтому стала учителем русского языка и литературы. Работала в школе и в вузе, принимала участие в создании школьных учебников и программ по литературе, писала статьи и монографии, пока после пятидесяти лет не нашла в себе силы уйти с работы и заняться тем, чем на самом деле хотела заниматься всегда – фиксировать мимолетные впечатления от простых вещей: иногда при помощи фотоаппарата, иногда при помощи слов. Излюбленный жанр в литературе – сплетение рассказов, каждый из которых может существовать отдельно, но общая идея становится видна лишь при чтении всего собрания. Лучшие книги – «Путешествие улитки», «Предметы старого быта» и «Рукопись, найденная на помойке».
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
Я влюбилась в неё с первого взгляда. Вернее, с первого звука. Мама работала уборщицей в Доме культуры и иногда, когда ей было не с кем меня оставить, брала с собой на работу и сажала в подсобку – маленькую комнату, где стояли вёдра и швабры, – чтобы я никому не попадалась на глаза. Не потому, что маму бы стали ругать за то, что она привела с собой ребенка, – дело было во мне. В детстве я была такая миленькая, рассказывала мама, прямо ангелочек, и поэтому всем хотелось меня потискать или поговорить со мной на том странном сюсюкающем языке, на котором взрослые разговаривают с маленькими детьми. А я не выносила, когда меня трогали и заглядывали мне в глаза. Стоило кому-то ко мне прикоснуться, как я с рыданиями падала на пол.
Обычно я тихо сидела в подсобке и играла со своим плюшевым котенком. Он был таким мягким, его хотелось всё время обнимать, прижимать к себе – тогда было не так страшно. Я думала, что это, наверное, хорошо, когда тебя обнимают, но стоило кому-нибудь попытаться это сделать, как мне тут же становилось трудно дышать, сердце начинало колотиться быстро-быстро, и я плакала. Мама сказала, что, если я научусь обращаться с моим котенком так, чтобы не делать ему больно, она подарит мне настоящего. И вот я сидела в подсобке, обнимала его, а потом играла с бутылками, которые стояли на окне. Мама их собирала по кабинетам, когда делала уборку, а потом сдавала в магазин, где ей за это давали деньги. Если налить в бутылки воду на разную высоту, а потом начать ударять по ним карандашом, получатся разные по высоте звуки. Я могла часами переливать воду и выстраивать бутылки в нужном порядке, так, как мне казалось правильным, чтобы получалась музыка.
Но в тот день я неожиданно услышала откуда-то издалека звуки другой, настоящей музыки. Её волны, зародившиеся где-то в глубине здания, минуя коридор, проникали в подсобку, мягко накатывались на меня и щекотали внутри. Вначале до меня донесся приливный шум множества струн – их мощные, согласованные удары и переливы. Было чуть-чуть страшно и беспокойно, но очень приятно. Я насторожилась, прислушалась – и тут сквозь странно тревожащий рокот волн прорвался этот голос – светлый, звенящий, летящий, словно птица над морем. Играли первый концерт для флейты Вивальди Ор.10. Нет, тогда, в пятилетнем возрасте, я, конечно, этого не знала, как и слова «флейта». Но музыку-то я запомнила! Некоторые люди не могут в это поверить, но у меня в памяти хранятся все мелодии, которые я когда-либо слышала. Я помню, когда и где они звучали, кто их пел или играл. Я даже могу их повторить… Сначала мне казалось, что так происходит со всеми. Но потом выяснилось, что это не так. Что люди вообще – другие. Например, они не боятся обнять друг друга, понимают по лицу чужие чувства, но не знают, о чем говорит музыка.
Я слезла со своего стула, вышла из подсобки и, следуя за волнующими и щекочущими звуками серебряного голоса, оказалась в конце концов перед неплотно закрытой дверью в актовый зал, где репетировали музыканты. Там я простояла все время, пока они играли, не осмеливаясь даже заглянуть в щелку. Смятение солирующего инструмента передавалось мне и захватывало с такой силой, что руки и ноги у меня дрожали. Радость и грустные жалобы, волнение и ликование сменяли друг друга – и от всего этого у меня начала кружиться голова, и всё в душе перепутывалось.
Потом музыка смолкла, раздался шум отодвигаемых стульев, чей-то смех, голоса и звук шагов. Я спряталась за одной из пыльных портьер, висевших по бокам двери. Музыканты вышли в коридор и поспешили куда-то – в буфет или в курилку, – почему-то не заперев дверь… И тогда я тихонько проскользнула в зал. Даже не понимаю сейчас, как у меня хватило на это смелости. Наверное, это было что-то вроде гипноза.
Инструменты лежали на стульях и подставках, такие красивые, вроде бы бессильные без людей и в то же время могущественные, как волшебная палочка. Их было много, но я сразу же узнала её. В плохо освещенном зале она не то чтобы блестела, но будто бы сама светилась. Конечно, только она могла издавать эти волшебные звуки!
Я не выдержала, подошла к ней совсем близко и протянула руку, чтобы погладить. Мне захотелось прижать ее к губам и держать так долго-долго. Я ненавидела, когда меня слюнявили и никогда никого не целовала, даже маму. Но это было совсем другое. Я подумала, что эта серебряная трубочка поможет мне рассказать о том, что я чувствую. Словами говорить я тогда еще не умела.
Не знаю, решилась бы я к ней притронуться или нет, но в этот самый момент я поняла, что кроме меня в зале есть кто-то еще. Поэтому они и не заперли двери. Это была молодая женщина. Она сидела в углу на откидных креслах и пила чай из термоса.
– Привет! – сказала она. – Ты кто?
Я не знала, как ответить. Я не умела. И еще я испугалась, потому что боялась женщин: они гораздо чаще пытались меня потискать и тянулись ко мне своими слюнявыми крашеными ртами. Но эта женщина даже не встала с кресла. И у нее был такой красивый голос, почти как тот, что привел меня сюда, – высокий и блестящий.
– Меня зовут Ася. А тебя?
Я молчала. Только не могла оторвать взгляда от волшебной трубочки.
Обычно люди сердились, если я не отвечала. Они не могли понять, как это может быть, чтобы такая большая девочка не умела говорить. Но женщина не рассердилась. Она допила чай, завинтила крышку термоса, поправила свои медово-рыжие волосы и внимательно на меня посмотрела.
– Хочешь потрогать?
Я не ответила. Я только очень хотела.
Тогда женщина подошла ближе, взяла в руки заветную трубочку, протянула мне, и я прижала ее к лицу. Женщина сказала очень медленно:
– Это флейта. Она называется «флейта».
И тогда я сказала свое первое в жизни слово:
– Флейта.
И у меня во рту стало вкусно. И я повторила:
– Флейта.
* * *
Я провожу август в Комарово. У Кристины, с которой я вместе работаю в музыкальной школе, там дом – старая академическая дача, доставшаяся ей от родителей, и она предложила мне пожить в нем, совсем одной. Ее родители умерли, а сама она любит путешествовать, поэтому дача часто пустует. Но Кристина не хочет, чтобы дом забыл про людей. Да, так она сказала: дому нужны люди.
А мне здесь нравится. Вокруг двухэтажного деревянного здания – небольшой участок, но на нем нет всяких дурацких грядок с картошкой и теплиц с помидорами, а растут только сосны, большая кривая рябина, несколько старых яблонь да кусты сирени. Под самыми окнами разбита длинная цветочная клумба. Кристина все же сажает там цветы − «как при маме». Сейчас на клумбе цветут флоксы – белые, розовые и лиловые. Их запах слышен даже в комнатах. Это приятно, но немного слишком громко. Поэтому сплю я наверху, в мансарде. Оттуда видна дорога к морю, и пахнет там только разогретыми на солнце сосновыми стволами. Я выхожу на балкон и играю на флейте, и серебряные шарики звуков, цепляясь за ветки сосен, повисают, как дождевые капли.
Перед домом между двумя соснами пристроился старый гамак. Я кладу в него клетчатый плед, запасаюсь кислыми яблоками и долго сижу с Флажолет на коленях. Я взяла ее с собой, потому что мне не с кем ее оставить. Сначала она очень нервничала. Кошки – они такие, привыкают к дому.
К тому же Флажолет никогда не выходила из квартиры. И здесь я ее тоже сначала не выпускала на улицу. Держала двери и окна закрытыми, опасаясь, что она убежит и потеряется, но потом поняла, что кошка даже выйти за порог боится. Тогда я подумала, что, может, было бы совсем неплохо, если бы она иногда погуляла в саду.
Я вышла и стала играть ее любимую мелодию. Играла минут десять, пока Флажолет наконец решилась. Она осторожно шла по заросшей тропинке, занося каждую лапу и задерживая ее на мгновение в воздухе, прежде чем с опаской поставить на траву. А потом я села в гамак, и она тут же устроилась у меня на коленях, похожая на валторну, но тёплая и мягкая. И мы долго сидели, глядя на то, как удлиняются тени, и слушая вечерние звуки.
Мне хорошо здесь, потому что я одна и никто не мешает мне слушать тишину, никто не врывается в мой мир со своим шумом.
Хаос – вот что меня пугает больше всего. Например, телевизор. Там так много грохочущих и резких звуков, и все это одновременно, совершенно не согласовано друг с другом. В детстве, стоило родителям включить телевизор, как я с рыданиями падала на пол. В результате папа от нас ушел. Вместе с телевизором, потому что не мог без него жить.
В своей городской однушке, доставшейся мне от бабушки, я сделала полную звукоизоляцию. И теперь слышу только те звуки, которые хочу: мурлыканье Флажолет, мелодии Рахманинова, Шопена и, конечно, Вивальди. Но здесь, на даче, звукоизоляция не нужна. К счастью, соседей совсем не слышно. Только пение птиц и шум ветра в деревьях. Слева за забором, похоже, вообще никто не живет. Во всяком случае, я там ни разу никого не видела. А справа – очень тихая женщина, которая иногда сидит за столом в саду с ноутбуком и что-то пишет. Только однажды до меня донеслись оттуда звуки концерта Баха, того самого, который мы играли с Ильей. И я еле сдержалась, чтобы не побежать и не попросить выключить музыку. Правда, может быть, на самом деле я и не хотела, чтобы ее выключили. Я просто лежала в гамаке, прижимая к себе Флажолет, и ревела. Хотя все это – и Бах, и Илья – было давно.
Так давно, что пора бы уже забыть.
* * *
В него я тоже влюбилась с первого звука. Это было уже в консерватории. Он занимался по классу скрипки. На третьем курсе мы вместе играли Второй концерт Баха для скрипки, флейты и клавесина. На первой же репетиции я сразу поняла, что все, что говорила скрипка – ее волнение, и страсть, и настойчивая мольба – адресовано только мне, и что я больше не одинока. Это было непривычно, странно, и я лишь робко и испуганно вздыхала в ответ…
После репетиции мы с Ильей вместе пошли в буфет пить кофе. И он повторил словами то, что уже сказали мне струны: что он уже давно обратил на меня внимание, что я самая красивая девушка и самая талантливая флейтистка на курсе, и что он рад играть со мной вместе… Мне было приятно это слышать, хотя меня и удивило то, что он это говорит. Неужели он думает, что я не поняла там, в классе? Или он не понял того, что ответила ему моя флейта?
На каждой репетиции его скрипка говорила все больше, и каждый раз мы пили кофе, а иногда даже вместе выходили на улицу и шли до автобусной остановки. Илья брал меня под руку, и мне было хорошо, оттого что он и отдельно, и рядом со мной – чуть ближе, чем другие.
Но потом был концерт, и всё рухнуло.
Скрипка страдала, желала чего-то и почти требовала, волновалась и стремилась, и я поняла, что моя флейта почти не слышна, она тонет в волнах скрипичной страсти, растворяется в ней, она – лишь робкий бледный подголосок… А после концерта Илья обнял меня за кулисами и поцеловал.
Мне было очень страшно, когда я поняла, что он хочет сделать, но я подумала, что смогу преодолеть этот страх. Я ведь его люблю, а все влюбленные целуются, к тому же я давно чувствовала, что изнемогаю от какого-то непонятного желания, странной тревожной вибрации во всем теле… Возможно, мне нужно именно это? Я ведь целую свою флейту, я прижимаю её ко рту, я отдаю ей своё дыхание, почему бы мне так же не сделать с ним? И я позволила Илье притянуть меня к себе и обнять. Я позволила нашим губам соединиться, хотя вся дрожала от страха. Но тут произошло страшное: он раздвинул мои губы, и его язык проник мне глубоко в рот. Он вошел в мое тело, внутрь меня! Я хотела закричать от ужаса, но не могла, потому что его язык заткнул мне рот… и я почувствовала, что мне не хватает воздуха и я теряю сознание… С трудом мне удалось освободиться. Меня трясло, а Илья смотрел на меня, ничего не понимая. А я ничего не могла объяснить, просто разрыдалась и ушла. На пол я к этому возрасту уже не падала.
Я рыдала, потому что поняла, что мы с Ильей никогда не сможем быть вместе. Если я не могу выдержать даже поцелуя, тем более я никогда не смогу лечь с ним в постель и впустить его в своё тело ещё глубже, туда, где всё так вибрирует при мысли о нем или при звуках его скрипки. Я знаю, что так нужно, но не понимаю, как можно допустить, чтобы кто-то другой вошел внутрь тебя. Он же никогда не сможет сделать это так, как музыка: так обнять, так ласкать, так проникнуть в тебя и пронизать все твое существо. И дело не в Илье. Просто я вообще не способна на то, чтобы быть с кем-то рядом. Сейчас я иногда жалею о том, что живу одна, что у меня нет детей. Но невозможно даже представить себе, чтобы внутри меня начал расти другой, посторонний человек. Превратиться в какой-то кокон, оболочку… А потом, когда он отделился бы от меня, то все равно остался бы чужим, непонятным, может быть, совсем не таким, как я бы хотела! И не важно, что большинство женщин через это проходит, что говорят об ощущении чуда и всяком таком, что многие страстно этого хотят… Я знаю, что сошла бы с ума от ужаса. Если бы я сказала об этом Илье, он бы не понял. Поэтому я даже не стала пытаться ему объяснить.
* * *
Она забыла запереть на ночь дверь на веранду. Флажолет обнаружила это совершенно случайно – просто хотела поточить когти, а дверь приоткрылась.
Кошка уже давно перестала бояться того, что находилось снаружи, хотя там по-прежнему было непривычно. Ведь в этой непривычности было столько чудесного! Незнакомые звуки, ощущения, запахи… Да, прежде всего запахи. Они просто обрушивались на Флажолет, когда она выходила в сад. Запахи шли от цветов, от травы, влажной земли, старой древесины, каких-то маленьких зверьков… и еще один… полузнакомый, но манящий аромат подобного ей существа. Да, она смутно помнила, что котёнком жила рядом с мамой и двумя маленькими существами, такими же, как она. Но ее рано увезли от них, и потом она больше не встречалась с теми, кто был бы на нее похож. Осталось только смутное воспоминание о запахе… А потом однажды хозяйка принимала какое-то лекарство и пролила немного на стол. Флажолет тогда просто опьянела и чуть с ума не сошла от томления и неги. И сейчас в саду она чувствовала похожий запах, он витал в воздухе и манил, манил…
Флажолет любила хозяйку, которая умела при помощи серебряной трубочки издавать странные звуки, похожие то на птичье щебетание, то на кошачье мурлыкание, а иногда даже сама пыталась мяукать, хотя это у нее не очень хорошо получалось; хозяйку, которая вкусно кормила и нежно чесала под горлом и за ушами. Но иногда ей хотелось чего-то… Она не знала точно, чего именно, но это было связано с ее сородичами. Её обуревало смутное томление, переходящее вскоре в яростное желание, и она начинала истошно мяукать, не находила себе места и терлась головой обо что попало. Тогда хозяйка давала ей какие-то капли. Вкусные. И она на какое-то время успокаивалась. Но ее все же мучило смутное подозрение, что то, чего ей хотелось, было намного слаще этих капель.
И вот сейчас, стоя возле приоткрытой двери, она снова почувствовала, как невнятное беспокойство, мучившее ее уже несколько дней, перерастает в неудержимое влечение. Ночной воздух щекотал ей ноздри, вибриссы её вздрагивали, и все тело напряглось. Там, в саду, был кто-то, похожий на нее, – тот, чей запах она уже различала раньше. Флажолет помедлила на пороге, но только пару секунд – и в два прыжка оказалась в траве, утробно и призывно урча.
Большая лохматая тень скользнула из кустов сирени ей навстречу…
* * *
Мне часто снятся музыкальные сны. Вот и в эту ночь тоже… Мне снилось, будто я иду по голому, пустому полю, над которым плывут по небу облака, похожие на басовые ключи. Я иду босая, и ноги по щиколотку погружаются в теплую, мягкую пыль. Неожиданно начинается дождь. Дождь из звуков. Струи, сначала тонкие, струнные, клавесинно звенят; затем крепчают и гудят трубами органа. Бах. Токатта. И навстречу этому дождю из увлажненной почвы начинают подниматься хрупкие серебряные и золотые ростки флейт и кларнетов, раскрываются на тонких стеблях листья их клапанов, расцветают головки труб и тромбонов, созревают ягоды колков, завиваются валторны и скрипичные грифы, прорастают мелодии Вивальди… «La Notte». И вот уже вокруг меня не пустое поле, а дикие заросли аккордов и арпеджио, осыпающие меня золотыми семенами и почти заслоняющие небо… И где-то в самой гуще этих зарослей зарождается утробный звук, безумные кошачьи рулады.
От этого звука я и проснулась. Видимо, в сад забрели чужие коты, подумала я, еще не до конца проснувшись. Но один из голосов… да, он был мне знаком – голос Флажолет, когда ей хотелось кота. Наверное, на нее опять накатило. Нужно дать ей капли. И тут я проснулась окончательно: голоса раздавались из сада. Из сада! Я вскочила и подбежала к окну.
Полная луна освещала большую клумбу и кусты сирени. И там, на открытой полянке возле клумбы кружились в странном танце две тени. Одна, знакомая, переминалась на месте, слегка поворачиваясь, а другая − большая, лохматая, чужая − подходила к ней то с одного, то с другого боку…
Я кинулась вниз по лестнице, теряя тапочки и даже не накинув халат. Выскочив на крыльцо, я увидела, как огромный чужой кот хватает за загривок мою Флажолет и наваливается на нее сверху. «Брысь!» – закричала я, но они уже ничего не слышали. Несколько секунд они были одним существом, потом Флажолет ужасно закричала и кот отскочил в сторону, но она успела дважды ударить его лапой. Я бросилась к ним, машинально схватив стоявший в сенях веник, но кот в то же мгновение, мелькнув лохматой тенью, скрылся в кустах. А Флажолет, внезапно показавшаяся мне такой чужой, словно бы и не нуждаясь во мне и не замечая меня, принялась кататься по траве, тереться головой о землю, как будто хотела протереть шерсть на загривке, и издавать какие-то совсем новые звуки – звуки боли и блаженства…
Я влюбилась в неё с первого взгляда. Вернее, с первого звука. Мама работала уборщицей в Доме культуры и иногда, когда ей было не с кем меня оставить, брала с собой на работу и сажала в подсобку – маленькую комнату, где стояли вёдра и швабры, – чтобы я никому не попадалась на глаза. Не потому, что маму бы стали ругать за то, что она привела с собой ребенка, – дело было во мне. В детстве я была такая миленькая, рассказывала мама, прямо ангелочек, и поэтому всем хотелось меня потискать или поговорить со мной на том странном сюсюкающем языке, на котором взрослые разговаривают с маленькими детьми. А я не выносила, когда меня трогали и заглядывали мне в глаза. Стоило кому-то ко мне прикоснуться, как я с рыданиями падала на пол.
Обычно я тихо сидела в подсобке и играла со своим плюшевым котенком. Он был таким мягким, его хотелось всё время обнимать, прижимать к себе – тогда было не так страшно. Я думала, что это, наверное, хорошо, когда тебя обнимают, но стоило кому-нибудь попытаться это сделать, как мне тут же становилось трудно дышать, сердце начинало колотиться быстро-быстро, и я плакала. Мама сказала, что, если я научусь обращаться с моим котенком так, чтобы не делать ему больно, она подарит мне настоящего. И вот я сидела в подсобке, обнимала его, а потом играла с бутылками, которые стояли на окне. Мама их собирала по кабинетам, когда делала уборку, а потом сдавала в магазин, где ей за это давали деньги. Если налить в бутылки воду на разную высоту, а потом начать ударять по ним карандашом, получатся разные по высоте звуки. Я могла часами переливать воду и выстраивать бутылки в нужном порядке, так, как мне казалось правильным, чтобы получалась музыка.
Но в тот день я неожиданно услышала откуда-то издалека звуки другой, настоящей музыки. Её волны, зародившиеся где-то в глубине здания, минуя коридор, проникали в подсобку, мягко накатывались на меня и щекотали внутри. Вначале до меня донесся приливный шум множества струн – их мощные, согласованные удары и переливы. Было чуть-чуть страшно и беспокойно, но очень приятно. Я насторожилась, прислушалась – и тут сквозь странно тревожащий рокот волн прорвался этот голос – светлый, звенящий, летящий, словно птица над морем. Играли первый концерт для флейты Вивальди Ор.10. Нет, тогда, в пятилетнем возрасте, я, конечно, этого не знала, как и слова «флейта». Но музыку-то я запомнила! Некоторые люди не могут в это поверить, но у меня в памяти хранятся все мелодии, которые я когда-либо слышала. Я помню, когда и где они звучали, кто их пел или играл. Я даже могу их повторить… Сначала мне казалось, что так происходит со всеми. Но потом выяснилось, что это не так. Что люди вообще – другие. Например, они не боятся обнять друг друга, понимают по лицу чужие чувства, но не знают, о чем говорит музыка.
Я слезла со своего стула, вышла из подсобки и, следуя за волнующими и щекочущими звуками серебряного голоса, оказалась в конце концов перед неплотно закрытой дверью в актовый зал, где репетировали музыканты. Там я простояла все время, пока они играли, не осмеливаясь даже заглянуть в щелку. Смятение солирующего инструмента передавалось мне и захватывало с такой силой, что руки и ноги у меня дрожали. Радость и грустные жалобы, волнение и ликование сменяли друг друга – и от всего этого у меня начала кружиться голова, и всё в душе перепутывалось.
Потом музыка смолкла, раздался шум отодвигаемых стульев, чей-то смех, голоса и звук шагов. Я спряталась за одной из пыльных портьер, висевших по бокам двери. Музыканты вышли в коридор и поспешили куда-то – в буфет или в курилку, – почему-то не заперев дверь… И тогда я тихонько проскользнула в зал. Даже не понимаю сейчас, как у меня хватило на это смелости. Наверное, это было что-то вроде гипноза.
Инструменты лежали на стульях и подставках, такие красивые, вроде бы бессильные без людей и в то же время могущественные, как волшебная палочка. Их было много, но я сразу же узнала её. В плохо освещенном зале она не то чтобы блестела, но будто бы сама светилась. Конечно, только она могла издавать эти волшебные звуки!
Я не выдержала, подошла к ней совсем близко и протянула руку, чтобы погладить. Мне захотелось прижать ее к губам и держать так долго-долго. Я ненавидела, когда меня слюнявили и никогда никого не целовала, даже маму. Но это было совсем другое. Я подумала, что эта серебряная трубочка поможет мне рассказать о том, что я чувствую. Словами говорить я тогда еще не умела.
Не знаю, решилась бы я к ней притронуться или нет, но в этот самый момент я поняла, что кроме меня в зале есть кто-то еще. Поэтому они и не заперли двери. Это была молодая женщина. Она сидела в углу на откидных креслах и пила чай из термоса.
– Привет! – сказала она. – Ты кто?
Я не знала, как ответить. Я не умела. И еще я испугалась, потому что боялась женщин: они гораздо чаще пытались меня потискать и тянулись ко мне своими слюнявыми крашеными ртами. Но эта женщина даже не встала с кресла. И у нее был такой красивый голос, почти как тот, что привел меня сюда, – высокий и блестящий.
– Меня зовут Ася. А тебя?
Я молчала. Только не могла оторвать взгляда от волшебной трубочки.
Обычно люди сердились, если я не отвечала. Они не могли понять, как это может быть, чтобы такая большая девочка не умела говорить. Но женщина не рассердилась. Она допила чай, завинтила крышку термоса, поправила свои медово-рыжие волосы и внимательно на меня посмотрела.
– Хочешь потрогать?
Я не ответила. Я только очень хотела.
Тогда женщина подошла ближе, взяла в руки заветную трубочку, протянула мне, и я прижала ее к лицу. Женщина сказала очень медленно:
– Это флейта. Она называется «флейта».
И тогда я сказала свое первое в жизни слово:
– Флейта.
И у меня во рту стало вкусно. И я повторила:
– Флейта.
* * *
Я провожу август в Комарово. У Кристины, с которой я вместе работаю в музыкальной школе, там дом – старая академическая дача, доставшаяся ей от родителей, и она предложила мне пожить в нем, совсем одной. Ее родители умерли, а сама она любит путешествовать, поэтому дача часто пустует. Но Кристина не хочет, чтобы дом забыл про людей. Да, так она сказала: дому нужны люди.
А мне здесь нравится. Вокруг двухэтажного деревянного здания – небольшой участок, но на нем нет всяких дурацких грядок с картошкой и теплиц с помидорами, а растут только сосны, большая кривая рябина, несколько старых яблонь да кусты сирени. Под самыми окнами разбита длинная цветочная клумба. Кристина все же сажает там цветы − «как при маме». Сейчас на клумбе цветут флоксы – белые, розовые и лиловые. Их запах слышен даже в комнатах. Это приятно, но немного слишком громко. Поэтому сплю я наверху, в мансарде. Оттуда видна дорога к морю, и пахнет там только разогретыми на солнце сосновыми стволами. Я выхожу на балкон и играю на флейте, и серебряные шарики звуков, цепляясь за ветки сосен, повисают, как дождевые капли.
Перед домом между двумя соснами пристроился старый гамак. Я кладу в него клетчатый плед, запасаюсь кислыми яблоками и долго сижу с Флажолет на коленях. Я взяла ее с собой, потому что мне не с кем ее оставить. Сначала она очень нервничала. Кошки – они такие, привыкают к дому.
К тому же Флажолет никогда не выходила из квартиры. И здесь я ее тоже сначала не выпускала на улицу. Держала двери и окна закрытыми, опасаясь, что она убежит и потеряется, но потом поняла, что кошка даже выйти за порог боится. Тогда я подумала, что, может, было бы совсем неплохо, если бы она иногда погуляла в саду.
Я вышла и стала играть ее любимую мелодию. Играла минут десять, пока Флажолет наконец решилась. Она осторожно шла по заросшей тропинке, занося каждую лапу и задерживая ее на мгновение в воздухе, прежде чем с опаской поставить на траву. А потом я села в гамак, и она тут же устроилась у меня на коленях, похожая на валторну, но тёплая и мягкая. И мы долго сидели, глядя на то, как удлиняются тени, и слушая вечерние звуки.
Мне хорошо здесь, потому что я одна и никто не мешает мне слушать тишину, никто не врывается в мой мир со своим шумом.
Хаос – вот что меня пугает больше всего. Например, телевизор. Там так много грохочущих и резких звуков, и все это одновременно, совершенно не согласовано друг с другом. В детстве, стоило родителям включить телевизор, как я с рыданиями падала на пол. В результате папа от нас ушел. Вместе с телевизором, потому что не мог без него жить.
В своей городской однушке, доставшейся мне от бабушки, я сделала полную звукоизоляцию. И теперь слышу только те звуки, которые хочу: мурлыканье Флажолет, мелодии Рахманинова, Шопена и, конечно, Вивальди. Но здесь, на даче, звукоизоляция не нужна. К счастью, соседей совсем не слышно. Только пение птиц и шум ветра в деревьях. Слева за забором, похоже, вообще никто не живет. Во всяком случае, я там ни разу никого не видела. А справа – очень тихая женщина, которая иногда сидит за столом в саду с ноутбуком и что-то пишет. Только однажды до меня донеслись оттуда звуки концерта Баха, того самого, который мы играли с Ильей. И я еле сдержалась, чтобы не побежать и не попросить выключить музыку. Правда, может быть, на самом деле я и не хотела, чтобы ее выключили. Я просто лежала в гамаке, прижимая к себе Флажолет, и ревела. Хотя все это – и Бах, и Илья – было давно.
Так давно, что пора бы уже забыть.
* * *
В него я тоже влюбилась с первого звука. Это было уже в консерватории. Он занимался по классу скрипки. На третьем курсе мы вместе играли Второй концерт Баха для скрипки, флейты и клавесина. На первой же репетиции я сразу поняла, что все, что говорила скрипка – ее волнение, и страсть, и настойчивая мольба – адресовано только мне, и что я больше не одинока. Это было непривычно, странно, и я лишь робко и испуганно вздыхала в ответ…
После репетиции мы с Ильей вместе пошли в буфет пить кофе. И он повторил словами то, что уже сказали мне струны: что он уже давно обратил на меня внимание, что я самая красивая девушка и самая талантливая флейтистка на курсе, и что он рад играть со мной вместе… Мне было приятно это слышать, хотя меня и удивило то, что он это говорит. Неужели он думает, что я не поняла там, в классе? Или он не понял того, что ответила ему моя флейта?
На каждой репетиции его скрипка говорила все больше, и каждый раз мы пили кофе, а иногда даже вместе выходили на улицу и шли до автобусной остановки. Илья брал меня под руку, и мне было хорошо, оттого что он и отдельно, и рядом со мной – чуть ближе, чем другие.
Но потом был концерт, и всё рухнуло.
Скрипка страдала, желала чего-то и почти требовала, волновалась и стремилась, и я поняла, что моя флейта почти не слышна, она тонет в волнах скрипичной страсти, растворяется в ней, она – лишь робкий бледный подголосок… А после концерта Илья обнял меня за кулисами и поцеловал.
Мне было очень страшно, когда я поняла, что он хочет сделать, но я подумала, что смогу преодолеть этот страх. Я ведь его люблю, а все влюбленные целуются, к тому же я давно чувствовала, что изнемогаю от какого-то непонятного желания, странной тревожной вибрации во всем теле… Возможно, мне нужно именно это? Я ведь целую свою флейту, я прижимаю её ко рту, я отдаю ей своё дыхание, почему бы мне так же не сделать с ним? И я позволила Илье притянуть меня к себе и обнять. Я позволила нашим губам соединиться, хотя вся дрожала от страха. Но тут произошло страшное: он раздвинул мои губы, и его язык проник мне глубоко в рот. Он вошел в мое тело, внутрь меня! Я хотела закричать от ужаса, но не могла, потому что его язык заткнул мне рот… и я почувствовала, что мне не хватает воздуха и я теряю сознание… С трудом мне удалось освободиться. Меня трясло, а Илья смотрел на меня, ничего не понимая. А я ничего не могла объяснить, просто разрыдалась и ушла. На пол я к этому возрасту уже не падала.
Я рыдала, потому что поняла, что мы с Ильей никогда не сможем быть вместе. Если я не могу выдержать даже поцелуя, тем более я никогда не смогу лечь с ним в постель и впустить его в своё тело ещё глубже, туда, где всё так вибрирует при мысли о нем или при звуках его скрипки. Я знаю, что так нужно, но не понимаю, как можно допустить, чтобы кто-то другой вошел внутрь тебя. Он же никогда не сможет сделать это так, как музыка: так обнять, так ласкать, так проникнуть в тебя и пронизать все твое существо. И дело не в Илье. Просто я вообще не способна на то, чтобы быть с кем-то рядом. Сейчас я иногда жалею о том, что живу одна, что у меня нет детей. Но невозможно даже представить себе, чтобы внутри меня начал расти другой, посторонний человек. Превратиться в какой-то кокон, оболочку… А потом, когда он отделился бы от меня, то все равно остался бы чужим, непонятным, может быть, совсем не таким, как я бы хотела! И не важно, что большинство женщин через это проходит, что говорят об ощущении чуда и всяком таком, что многие страстно этого хотят… Я знаю, что сошла бы с ума от ужаса. Если бы я сказала об этом Илье, он бы не понял. Поэтому я даже не стала пытаться ему объяснить.
* * *
Она забыла запереть на ночь дверь на веранду. Флажолет обнаружила это совершенно случайно – просто хотела поточить когти, а дверь приоткрылась.
Кошка уже давно перестала бояться того, что находилось снаружи, хотя там по-прежнему было непривычно. Ведь в этой непривычности было столько чудесного! Незнакомые звуки, ощущения, запахи… Да, прежде всего запахи. Они просто обрушивались на Флажолет, когда она выходила в сад. Запахи шли от цветов, от травы, влажной земли, старой древесины, каких-то маленьких зверьков… и еще один… полузнакомый, но манящий аромат подобного ей существа. Да, она смутно помнила, что котёнком жила рядом с мамой и двумя маленькими существами, такими же, как она. Но ее рано увезли от них, и потом она больше не встречалась с теми, кто был бы на нее похож. Осталось только смутное воспоминание о запахе… А потом однажды хозяйка принимала какое-то лекарство и пролила немного на стол. Флажолет тогда просто опьянела и чуть с ума не сошла от томления и неги. И сейчас в саду она чувствовала похожий запах, он витал в воздухе и манил, манил…
Флажолет любила хозяйку, которая умела при помощи серебряной трубочки издавать странные звуки, похожие то на птичье щебетание, то на кошачье мурлыкание, а иногда даже сама пыталась мяукать, хотя это у нее не очень хорошо получалось; хозяйку, которая вкусно кормила и нежно чесала под горлом и за ушами. Но иногда ей хотелось чего-то… Она не знала точно, чего именно, но это было связано с ее сородичами. Её обуревало смутное томление, переходящее вскоре в яростное желание, и она начинала истошно мяукать, не находила себе места и терлась головой обо что попало. Тогда хозяйка давала ей какие-то капли. Вкусные. И она на какое-то время успокаивалась. Но ее все же мучило смутное подозрение, что то, чего ей хотелось, было намного слаще этих капель.
И вот сейчас, стоя возле приоткрытой двери, она снова почувствовала, как невнятное беспокойство, мучившее ее уже несколько дней, перерастает в неудержимое влечение. Ночной воздух щекотал ей ноздри, вибриссы её вздрагивали, и все тело напряглось. Там, в саду, был кто-то, похожий на нее, – тот, чей запах она уже различала раньше. Флажолет помедлила на пороге, но только пару секунд – и в два прыжка оказалась в траве, утробно и призывно урча.
Большая лохматая тень скользнула из кустов сирени ей навстречу…
* * *
Мне часто снятся музыкальные сны. Вот и в эту ночь тоже… Мне снилось, будто я иду по голому, пустому полю, над которым плывут по небу облака, похожие на басовые ключи. Я иду босая, и ноги по щиколотку погружаются в теплую, мягкую пыль. Неожиданно начинается дождь. Дождь из звуков. Струи, сначала тонкие, струнные, клавесинно звенят; затем крепчают и гудят трубами органа. Бах. Токатта. И навстречу этому дождю из увлажненной почвы начинают подниматься хрупкие серебряные и золотые ростки флейт и кларнетов, раскрываются на тонких стеблях листья их клапанов, расцветают головки труб и тромбонов, созревают ягоды колков, завиваются валторны и скрипичные грифы, прорастают мелодии Вивальди… «La Notte». И вот уже вокруг меня не пустое поле, а дикие заросли аккордов и арпеджио, осыпающие меня золотыми семенами и почти заслоняющие небо… И где-то в самой гуще этих зарослей зарождается утробный звук, безумные кошачьи рулады.
От этого звука я и проснулась. Видимо, в сад забрели чужие коты, подумала я, еще не до конца проснувшись. Но один из голосов… да, он был мне знаком – голос Флажолет, когда ей хотелось кота. Наверное, на нее опять накатило. Нужно дать ей капли. И тут я проснулась окончательно: голоса раздавались из сада. Из сада! Я вскочила и подбежала к окну.
Полная луна освещала большую клумбу и кусты сирени. И там, на открытой полянке возле клумбы кружились в странном танце две тени. Одна, знакомая, переминалась на месте, слегка поворачиваясь, а другая − большая, лохматая, чужая − подходила к ней то с одного, то с другого боку…
Я кинулась вниз по лестнице, теряя тапочки и даже не накинув халат. Выскочив на крыльцо, я увидела, как огромный чужой кот хватает за загривок мою Флажолет и наваливается на нее сверху. «Брысь!» – закричала я, но они уже ничего не слышали. Несколько секунд они были одним существом, потом Флажолет ужасно закричала и кот отскочил в сторону, но она успела дважды ударить его лапой. Я бросилась к ним, машинально схватив стоявший в сенях веник, но кот в то же мгновение, мелькнув лохматой тенью, скрылся в кустах. А Флажолет, внезапно показавшаяся мне такой чужой, словно бы и не нуждаясь во мне и не замечая меня, принялась кататься по траве, тереться головой о землю, как будто хотела протереть шерсть на загривке, и издавать какие-то совсем новые звуки – звуки боли и блаженства…

Евгения БЕЛОВА
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г.Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси – 2022». Член Московского союза литераторов.
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г.Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси – 2022». Член Московского союза литераторов.
ЛИДОЧКА
Художник Петр Кустов рассеянно смотрел в окно гостиной. С крыши террасы свешивались сосульки, тонкие, как пальцы пианиста. Мартовское солнце пригревало их, и капли ритмично падали вниз, завораживая взгляд. Одна капля наползала на другую, увеличивалась в размере и зажигалась в лучах солнца, разбиваясь на фоне небесной синевы на тысячу маленьких светил.
Его приятель, Андрей Серебристый, лениво перелистывал газету, поглядывая на очаровательную юную Лидию Алексеевну, которая наигрывала что-то на пианино.
– Господа, – вдруг обратилась она к друзьям, – а я вчера получила новые ноты. Чайковского. «Времена года». Вот как раз «Март. Жаворонок». Хотите, сыграю?
– Зачем же спрашивать, душа моя? Конечно, сыграйте.
Лидочка положила руки на клавиши и начала играть. Сначала потекли какие-то грустные мягкие звуки, как будто прощальные, но потом музыка стала удивительно перекликаться с картиной за окном, где капли приобретали ещё больший ритм и оживлённость. Сквозь них послышались трели жаворонка. Всё вдруг смешалось в звуках, но вот музыка оборвалась, словно растерявшись и испугавшись собственного оживления. Рано, рано ещё так торжествовать! Ещё вернутся вьюги. Но жаворонка уже не удержать…
– Однако, – сказал, вставая с кресла, Андрей. – Однако! Разрешите поцеловать вашу божественную ручку. А музыка какова!
– Музыка удивительно хороша, – отозвался Петр, – правдива. Это вот сейчас март такой синий и ясный, а завтра проснёмся и земли не узнаем – пасмурно, черные тучи со снегом наползут. И жаворонки приутихнут.
– Странные какие птицы, эти жаворонки, – почти пропела Лидочка. – Потому что их никогда не видно. Летают там, где-то высоко, и не увидишь. Интересно, какие они?
– А самые обыкновенные, даже, скажем, совсем невзрачные. Я их как-то во множестве видел в Крыму в ноябре. Чуть-чуть больше воробья, только с хохолком. А главное, они там не поют, как у нас. Копаются себе в песке, обидно даже.
– Для того, чтобы петь, надо любить. Это единственная движущая сила на земле. Вот скоро совьют гнезда и запоют. И как запоют!
– А что, господа, пока такая прелестная погода, не возобновить ли нам вылазку на этюды? А, Лидия Алексеевна, не хотите блеснуть другим талантом?
– Хочу, конечно. Тем более…что я осенью уезжаю в Москву, поступать в консерваторию.
– Как? Вы нас покидаете? – вскричал Андрей. – Но это же невозможно… А мы? Как же мы будем жить без вас? Петр, ты чего молчишь? Но вы ведь вернетесь сюда, Лидия Алексеевна?
– Не знаю, – смеясь, ответила Лидочка, – не знаю. Как получится. Но остаться не могу. Лучше музыки у меня ничего на свете нет. Разве только краски? Ну, пойдемте на этюды.
Надев теплые сапоги и прихватив с собой пледы, все втроем пошли к реке. Она была ещё покрыта льдом, на котором чернели следы зимних саней, отпечатки чьих-то ног и отверстия лунок, сделанных рыболовами. За рекой виднелись ещё не проснувшиеся поля, по краям которых рыжела прошлогодняя высокая трава и реденький лес с начинающими покрываться тонким лиловым флером деревьями. Небо было ясное, и все располагало к творчеству. Лидочка с альбомом в руках сидела на поваленном дереве, не решаясь начать рисунок. Наконец, набросав слегка будущий пейзаж, она приступила к работе. Петр и Андрей сидели неподалеку, подставив солнцу лица, и лениво перекидывались ничего не значащими словами, как люди, в жизни которых царят мир и покой. Наконец Петр встал и пошел к Лидочке.
– А недурно, недурно. Очень неплохо получается. Только знаете, Лидия Алексеевна, всё-таки в любом пейзаже должна быть своя изюминка, своё настроение, что ли…Какой-то акцент, тайна какая-то. А то пейзаж плоским получается. Здесь, как в музыке – одна и та же тональность утомительна. Да вот сегодняшний «Март», положим. Помните, начало было нерешительное, несколько неопределённое, как сам месяц, а потом только жаворонок победно запел. Вот именно…запел. В пейзаже должен быть звук – шорох, шелест листьев, шум прибоя, звон капели и даже тишина, потому что тишина – это тоже звук, потому как её замечаешь только тогда, когда она на уши давит. Вот тут я бы…
Петр низко наклонился к Лидочке. Её лицо зарделось. Увидев это, Андрей вспыхнул, достал из кармана уголь и решительно начал набрасывать Лидочкин портрет. Его рука жестко и твердо, как будто с досадой, ходила по бумаге. Казалось, и портрет должен был получиться угловатым и сердитым. Но выходило совсем наоборот, и черный уголь отдавал бумаге нежность и мягкость и прорисовывал самые лучшие человеческие черты, какими только могла обладать эта девушка.
– Ого! – сказал вернувшийся Петр. – Лучше писал только Рафаэль! Хвалю! Хвалю. А ты, Андрей, того… здорово влюбился, я смотрю.
* * *
Уехать поступать в консерваторию не получилось. В августе Германия объявила России войну. От Иван-города до Вислы граница испещрилась ломаной линией окопов, которые плотно заполнялись людской массой. Резко увеличился тираж газет. Люди, читающие их, ещё не понимали истинного положения дел, ещё не прочувствовали поначалу понятия «фронт» и «война», но всё равно были испуганы. Испуганы судьбой тех мирных россиян, которые совсем недавно уехали лечиться на курорты Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии и оказались отрезанными от России. Газеты помимо сводок с фронта заполнялись невиданными до сих пор объявлениями: «Нижайше прошу тех, кто видел в августе в Баден-Бадене Шестопалова Николая Борисовича, 54 лет, умоляю сообщить его супруге по адресу…», «Умоляю, если вы встречали в конце августа в Монтрё…», «Очень прошу тех, кто…»
Немного позже появились колонки, которые многие, особенно женщины, просматривали сотни раз в надежде найти и одновременно не найти знакомое имя среди «убитых», «раненых» и «без вести пропавших». С трепетом искали те же имена среди «награжденных».
Почти год Лидочка ничего не знала о судьбе своих друзей. Скользя по страницам газет пальцами, уже давно не знавших клавиш фортепиано, она невольно останавливалась на буквах «К» и «С».
Первым погиб Петр. Лидочка как-то быстро повзрослела. Она не могла в это поверить. «Такой живой, умный, немного развязный и красивый! Где-то там, совсем на чужой земле, в чужом поле. И это душа компании! Да полно, погиб ли он? Ведь могли где-то что-то перепутать. Он любил жизнь, такие не погибают», – непрерывно думала она. Суеверное чувство подсказывало ей не просматривать больше газет. Только «награждённых». Когда Лидочка увидела имя Андрея среди награждённых Георгиевским крестом второй степени, ей показалось, что она спасла его от смерти.
Наступила осень. Опять пожухла трава по краям поля за рекой. Лес потемнел. Дни стали короче и тоскливее. Почта по распутице работала плохо. Редко стали приходить газеты, которые Лидочка ждала с нетерпением. В какой-то из этих дней она получила пакет, подписанный неизвестным отправителем. Впервые в жизни Лидочка услышала тишину – страшную, холодную, гнетущую и тягостную тишину. В пакете лежала записка: «Уважаемая госпожа Лидия Алексеевна, считаю своим долгом сообщить Вам прискорбную весть о смерти Вашего друга – штабс-ротмистра Андрея Серебристого, погибшего от тяжелых ран, нанесенных ему в бою за Отчизну. Смею заверить, что это был человек редкого мужества и отваги. Вы, по его словам, являетесь единственным человеком, кому можно отправить то, что принадлежало ему. Выполняю волю умершего. Пусть мир будет праху его! Ротмистр 55-го пехотного полка Лещов А. И.».
В пакете лежали Георгиевский крест второй степени, нательный крест, носовой платок с вышитыми на углу инициалами «А.С.» и письмо, написанное карандашом на обрывке бумаги. Фразы в письме спускались вниз по диагонали, буквы, разные по размеру и нажиму, наползали друг на друга, и сразу было видно, что письмо написано неверной рукой, но все же его можно было прочесть: «Любезная Лидия Алексеевна, милая Лидочка, как мы с Петром называли Вас между собой! Я долго не решался открыться перед Вами, но теперь уж не страшно, потому как увидеться нам уж не суждено, и ни мне, ни Вам не нужно мучиться по поводу того, что сказать друг другу. Я уношу с собой любовь к Вам, Вы…Вы теперь свободны. И дай Вам Бог, чтобы полюбил Вас кто-нибудь один, а не сразу двое, как мы с Петром.
Если бы только тогда, на даче, Вы хоть словом, хотя бы полунамеком дали понять, кого из нас Вы избрали, быть может, все сложилось бы по-иному. Но Вы были веселы и легкомысленны, Вы играли нашими чувствами, Вы смеялись и каждому из нас давали надежду. Я ни в коем разе не упрекаю Вас. Надежду не дает только война.
В конце мая, когда на нас наползло это проклятое зеленое облако, и Петр погиб, я понял, что лучше было бы погибнуть мне. Мне, к сожалению, повезло, потому что в тот день я был на командном пункте. Мой товарищ погиб, и это только усугубило мое несчастье. Я чувствовал, что украл у него право бороться за Ваше расположение на равных, жизнь, любовь и надежду. Теперь я уже не мог появиться перед Вами как единственный претендент на Вашу руку. Нас обоих всю жизнь точила бы одна и та же мысль: «А что, если бы наоборот?» Разве мы могли бы любить друг друга без оглядки на прошлое?
Но я Вас люблю, дорогая Лидочка. Нынешнее мое состояние дает мне возможность не скрывать это. Ведь Вы прочтете это письмо, когда я окажусь в могиле.
Прощайте, любовь моя, и будьте счастливы. Андрей».
Художник Петр Кустов рассеянно смотрел в окно гостиной. С крыши террасы свешивались сосульки, тонкие, как пальцы пианиста. Мартовское солнце пригревало их, и капли ритмично падали вниз, завораживая взгляд. Одна капля наползала на другую, увеличивалась в размере и зажигалась в лучах солнца, разбиваясь на фоне небесной синевы на тысячу маленьких светил.
Его приятель, Андрей Серебристый, лениво перелистывал газету, поглядывая на очаровательную юную Лидию Алексеевну, которая наигрывала что-то на пианино.
– Господа, – вдруг обратилась она к друзьям, – а я вчера получила новые ноты. Чайковского. «Времена года». Вот как раз «Март. Жаворонок». Хотите, сыграю?
– Зачем же спрашивать, душа моя? Конечно, сыграйте.
Лидочка положила руки на клавиши и начала играть. Сначала потекли какие-то грустные мягкие звуки, как будто прощальные, но потом музыка стала удивительно перекликаться с картиной за окном, где капли приобретали ещё больший ритм и оживлённость. Сквозь них послышались трели жаворонка. Всё вдруг смешалось в звуках, но вот музыка оборвалась, словно растерявшись и испугавшись собственного оживления. Рано, рано ещё так торжествовать! Ещё вернутся вьюги. Но жаворонка уже не удержать…
– Однако, – сказал, вставая с кресла, Андрей. – Однако! Разрешите поцеловать вашу божественную ручку. А музыка какова!
– Музыка удивительно хороша, – отозвался Петр, – правдива. Это вот сейчас март такой синий и ясный, а завтра проснёмся и земли не узнаем – пасмурно, черные тучи со снегом наползут. И жаворонки приутихнут.
– Странные какие птицы, эти жаворонки, – почти пропела Лидочка. – Потому что их никогда не видно. Летают там, где-то высоко, и не увидишь. Интересно, какие они?
– А самые обыкновенные, даже, скажем, совсем невзрачные. Я их как-то во множестве видел в Крыму в ноябре. Чуть-чуть больше воробья, только с хохолком. А главное, они там не поют, как у нас. Копаются себе в песке, обидно даже.
– Для того, чтобы петь, надо любить. Это единственная движущая сила на земле. Вот скоро совьют гнезда и запоют. И как запоют!
– А что, господа, пока такая прелестная погода, не возобновить ли нам вылазку на этюды? А, Лидия Алексеевна, не хотите блеснуть другим талантом?
– Хочу, конечно. Тем более…что я осенью уезжаю в Москву, поступать в консерваторию.
– Как? Вы нас покидаете? – вскричал Андрей. – Но это же невозможно… А мы? Как же мы будем жить без вас? Петр, ты чего молчишь? Но вы ведь вернетесь сюда, Лидия Алексеевна?
– Не знаю, – смеясь, ответила Лидочка, – не знаю. Как получится. Но остаться не могу. Лучше музыки у меня ничего на свете нет. Разве только краски? Ну, пойдемте на этюды.
Надев теплые сапоги и прихватив с собой пледы, все втроем пошли к реке. Она была ещё покрыта льдом, на котором чернели следы зимних саней, отпечатки чьих-то ног и отверстия лунок, сделанных рыболовами. За рекой виднелись ещё не проснувшиеся поля, по краям которых рыжела прошлогодняя высокая трава и реденький лес с начинающими покрываться тонким лиловым флером деревьями. Небо было ясное, и все располагало к творчеству. Лидочка с альбомом в руках сидела на поваленном дереве, не решаясь начать рисунок. Наконец, набросав слегка будущий пейзаж, она приступила к работе. Петр и Андрей сидели неподалеку, подставив солнцу лица, и лениво перекидывались ничего не значащими словами, как люди, в жизни которых царят мир и покой. Наконец Петр встал и пошел к Лидочке.
– А недурно, недурно. Очень неплохо получается. Только знаете, Лидия Алексеевна, всё-таки в любом пейзаже должна быть своя изюминка, своё настроение, что ли…Какой-то акцент, тайна какая-то. А то пейзаж плоским получается. Здесь, как в музыке – одна и та же тональность утомительна. Да вот сегодняшний «Март», положим. Помните, начало было нерешительное, несколько неопределённое, как сам месяц, а потом только жаворонок победно запел. Вот именно…запел. В пейзаже должен быть звук – шорох, шелест листьев, шум прибоя, звон капели и даже тишина, потому что тишина – это тоже звук, потому как её замечаешь только тогда, когда она на уши давит. Вот тут я бы…
Петр низко наклонился к Лидочке. Её лицо зарделось. Увидев это, Андрей вспыхнул, достал из кармана уголь и решительно начал набрасывать Лидочкин портрет. Его рука жестко и твердо, как будто с досадой, ходила по бумаге. Казалось, и портрет должен был получиться угловатым и сердитым. Но выходило совсем наоборот, и черный уголь отдавал бумаге нежность и мягкость и прорисовывал самые лучшие человеческие черты, какими только могла обладать эта девушка.
– Ого! – сказал вернувшийся Петр. – Лучше писал только Рафаэль! Хвалю! Хвалю. А ты, Андрей, того… здорово влюбился, я смотрю.
* * *
Уехать поступать в консерваторию не получилось. В августе Германия объявила России войну. От Иван-города до Вислы граница испещрилась ломаной линией окопов, которые плотно заполнялись людской массой. Резко увеличился тираж газет. Люди, читающие их, ещё не понимали истинного положения дел, ещё не прочувствовали поначалу понятия «фронт» и «война», но всё равно были испуганы. Испуганы судьбой тех мирных россиян, которые совсем недавно уехали лечиться на курорты Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии и оказались отрезанными от России. Газеты помимо сводок с фронта заполнялись невиданными до сих пор объявлениями: «Нижайше прошу тех, кто видел в августе в Баден-Бадене Шестопалова Николая Борисовича, 54 лет, умоляю сообщить его супруге по адресу…», «Умоляю, если вы встречали в конце августа в Монтрё…», «Очень прошу тех, кто…»
Немного позже появились колонки, которые многие, особенно женщины, просматривали сотни раз в надежде найти и одновременно не найти знакомое имя среди «убитых», «раненых» и «без вести пропавших». С трепетом искали те же имена среди «награжденных».
Почти год Лидочка ничего не знала о судьбе своих друзей. Скользя по страницам газет пальцами, уже давно не знавших клавиш фортепиано, она невольно останавливалась на буквах «К» и «С».
Первым погиб Петр. Лидочка как-то быстро повзрослела. Она не могла в это поверить. «Такой живой, умный, немного развязный и красивый! Где-то там, совсем на чужой земле, в чужом поле. И это душа компании! Да полно, погиб ли он? Ведь могли где-то что-то перепутать. Он любил жизнь, такие не погибают», – непрерывно думала она. Суеверное чувство подсказывало ей не просматривать больше газет. Только «награждённых». Когда Лидочка увидела имя Андрея среди награждённых Георгиевским крестом второй степени, ей показалось, что она спасла его от смерти.
Наступила осень. Опять пожухла трава по краям поля за рекой. Лес потемнел. Дни стали короче и тоскливее. Почта по распутице работала плохо. Редко стали приходить газеты, которые Лидочка ждала с нетерпением. В какой-то из этих дней она получила пакет, подписанный неизвестным отправителем. Впервые в жизни Лидочка услышала тишину – страшную, холодную, гнетущую и тягостную тишину. В пакете лежала записка: «Уважаемая госпожа Лидия Алексеевна, считаю своим долгом сообщить Вам прискорбную весть о смерти Вашего друга – штабс-ротмистра Андрея Серебристого, погибшего от тяжелых ран, нанесенных ему в бою за Отчизну. Смею заверить, что это был человек редкого мужества и отваги. Вы, по его словам, являетесь единственным человеком, кому можно отправить то, что принадлежало ему. Выполняю волю умершего. Пусть мир будет праху его! Ротмистр 55-го пехотного полка Лещов А. И.».
В пакете лежали Георгиевский крест второй степени, нательный крест, носовой платок с вышитыми на углу инициалами «А.С.» и письмо, написанное карандашом на обрывке бумаги. Фразы в письме спускались вниз по диагонали, буквы, разные по размеру и нажиму, наползали друг на друга, и сразу было видно, что письмо написано неверной рукой, но все же его можно было прочесть: «Любезная Лидия Алексеевна, милая Лидочка, как мы с Петром называли Вас между собой! Я долго не решался открыться перед Вами, но теперь уж не страшно, потому как увидеться нам уж не суждено, и ни мне, ни Вам не нужно мучиться по поводу того, что сказать друг другу. Я уношу с собой любовь к Вам, Вы…Вы теперь свободны. И дай Вам Бог, чтобы полюбил Вас кто-нибудь один, а не сразу двое, как мы с Петром.
Если бы только тогда, на даче, Вы хоть словом, хотя бы полунамеком дали понять, кого из нас Вы избрали, быть может, все сложилось бы по-иному. Но Вы были веселы и легкомысленны, Вы играли нашими чувствами, Вы смеялись и каждому из нас давали надежду. Я ни в коем разе не упрекаю Вас. Надежду не дает только война.
В конце мая, когда на нас наползло это проклятое зеленое облако, и Петр погиб, я понял, что лучше было бы погибнуть мне. Мне, к сожалению, повезло, потому что в тот день я был на командном пункте. Мой товарищ погиб, и это только усугубило мое несчастье. Я чувствовал, что украл у него право бороться за Ваше расположение на равных, жизнь, любовь и надежду. Теперь я уже не мог появиться перед Вами как единственный претендент на Вашу руку. Нас обоих всю жизнь точила бы одна и та же мысль: «А что, если бы наоборот?» Разве мы могли бы любить друг друга без оглядки на прошлое?
Но я Вас люблю, дорогая Лидочка. Нынешнее мое состояние дает мне возможность не скрывать это. Ведь Вы прочтете это письмо, когда я окажусь в могиле.
Прощайте, любовь моя, и будьте счастливы. Андрей».

Дмитрий ВОРОНИН
Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трех сборников рассказов. Участник сорока альманахов и прозаических сборников в России, Украине, Беларуси, Германии. Публиковался в журналах: «Алтай» (Барнаул), «Балтика» (Калининград), «Балтика» (Таллинн), «Белая Вежа» (Минск), «Берега» (Калининград).
Дмитрий Павлович Воронин родился в 1961 году в г. Клайпеда (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трех сборников рассказов. Участник сорока альманахов и прозаических сборников в России, Украине, Беларуси, Германии. Публиковался в журналах: «Алтай» (Барнаул), «Балтика» (Калининград), «Балтика» (Таллинн), «Белая Вежа» (Минск), «Берега» (Калининград).
НА ПАСХУ
1.
Дядька Агафон жил в посёлке Миньково, что каким-то чудом сохранился внутри Москвы нетронутым загребущей рукой столичного застройщика. Настоящая подмосковная деревня, окружённая со всех сторон высотными кварталами. Добрая половина миньковских домов были деревянными, многие с наличниками, вырезанными ещё дедами да прадедами. Внутри них, как и полагается в таких случаях, присутствовали сени, чуланы и просторные подполы, стояли русские печи. Всё по старинке, всё по традициям, будто из ветхозаветного прошлого. Да и сами жители посёлка от исконного москвича заметно отличались своей неспешностью, основательностью, мудрой рассудительностью. К каждому дому примыкали земельные наделы, небольшие по деревенским меркам, всего-то соток шесть, изредка восемь, но по столичным понятиям – шикарное дополнение к жилью. Кто огородики свои держал с тепличками и подсобочками, у кого и живность водилась, например, курочки, уточки, индюшки да козочки всякие, а кому и поросёнок по силам приходился. Более продвинутые и современные европейскими лужайками довольствовались.
У дядьки Агафона – огородик. Да и как без него, если деток пятеро – две девчонки да три басурмана. Старшей семнадцать, младшенькой два всего, и басурманы – от семи и выше через каждые четыре года. А им витамины для роста ой как нужны, да и бюджету послабление, не одна тысяча рубликов экономится. Дядька Агафон – мужик работящий, трезвый, с утра до вечера в трудах праведных, и Устинья – подруга верная, старается мужу подсобить, никакой работы не чурается. От этого и семья – что надо, крепкая, дружная, на любви замешанная. А то! Вот как, к примеру, младшенькая вышла. Решил три года назад дядька Агафон Устинью в очередной раз порадовать, отложил кое-какие деньжонки, подкалымленные на частных ремонтах квартир, для поездки к тёплому морю. А в августе, аккурат к концу лета, сюрприз супруге и предоставил – билеты на самолёт и чек на оплату частного домика на берегу. Детей родственникам определили и улетели к морским восходам-закатам. Вернулись через три недели загорелые и счастливые. Друг на друга смотрели, будто только свадьбу сыграли.
– Ох, Агафон, смотри, как бы в пятый раз отцом тебе не стать, – посмеивались друзья, обращая внимание на необыкновенный блеск в глазах влюблённой парочки.
И точно, ровно через девять месяцев теперь уже подарочек от Устиньи подоспел – лапочка-дочка. Агафон на седьмом небе от счастья, детвора сестрёнке не нарадуется, Устинья вся светится. Так и живут.
Нынче у семейства дядьки Агафона большой праздник – Пасха. Средний басурман Прохор свещеносцем поставлен на вечерней службе. Для басурмана волнительно, для самого Агафона – почётно.
– Папа, не пора ли ехать? Уже время вон сколько, – с утра наседал на отца Прохор.
– Да рано ещё, приедем, никого и не будет в храме.
– А если пробки на дорогах? Застрянем ведь.
– Какие пробки в субботу, сын? Сейчас вот ещё, может, и есть, а на дачи народ поразъедется – и вовсе пустынно станет, погода-то совсем стылая, ветер да дождь. Уже апрель, а весны толком не было и нет. Так что не переживай, прибудем вовремя. Лучше пойди уроки на понедельник сделай.
– Я ещё вчера их сделал, пап.
После обеда вся семья расположилась в стареньком минивэне.
– Устюша, яйца, куличи, всё взяла, ничего не оставила? Прохор, не забыл кафтан? Готовы в дорогу? Ну, тогда с Богом! – перекрестился на дорожную иконку дядька Агафон и выжал сцепление.
2.
Подполковник Дорошенков с утра был не в настроении, хмур, как московское небо. Да и чему тут радоваться, когда в предпраздничный день, считай, на саму Пасху тебя на дежурство приказом сверху назначают. Ладно бы ещё в кабинете сидеть у телефона, погулять и тут можно, яйцами с подчинёнными побиться, коньячком с замом побаловаться, с секретаршей Валечкой Ерофеевой в удовольствие похристосоваться. Но нет, на улицу определили, как самого отстойного постового. У министерских ни уважения к чину, ни сострадания к человеку. Как только праздники, так у них шило в задницу, бзики сплошные, то проверки, то ответственные мероприятия. Вот и нынче не забыли про рядового полицейского, поздравили, так сказать, очередным рабочим авралом. Локдаун, видишь ли, мэр объявил, так под это дело тут же и акцию нарисовали – ловить авто, нарушающие режим изоляции в городе. Исключение – дачникам и труженикам, остальных – к ответственности.
На улице мерзко, погода совсем разнюнилась – чуть за плюс. То снег, то дождь с порывистым ветром, холодрыга ещё та, зуб на зуб не попадает. Хорошо хоть за пазухой фляжка с отменным армянским коньячком, но и он ненадолго, по всему видно, согреваться подполковнику частенько приходится.
Сделав очередной глоток, Дорошенков взглянул на дорогу и тут же скомандовал старшему лейтенанту, указывая на приближающийся минивэн дядьки Агафона:
– Ну-ка, старшой, тормозни-ка вон ту колымагу.
– Стопори, – передал офицер команду Дорошенкова своему подчинённому.
Машина дядьки Агафона сошла со своей полосы и прижалась к обочине впереди постового автомобиля. Агафон приспустил боковое стекло и, дружелюбно улыбаясь сквозь бороду, обратился к молоденькому сержанту:
– Чего тормозишь, начальник, вроде я не нарушал ничего. С детьми еду, дело ответственное, дорогу под контролем цепко держу, скоростной режим выдерживаю.
– Как не нарушал? – выглянул из-за спины рядового дэпээсника Дорошенков. – А семь человек в малом пространстве – это что, не нарушение по-твоему? Предписание правительства не читаем, санитарные нормы не соблюдаем, дистанцию не выдерживаем. Документы покажи.
Дядька Агафон, увидев звёзды на погонах подошедшего офицера, улыбку на лице погасил и, глубоко вздохнув, вылез из машины.
– Пожалуйста, – протянул он подполковнику права и свидетельство.
– Почему в салоне семь человек? Сказано же, что больше трёх не собираться. А у тебя друг на друге сидят и все без масок. Настоящий рассадник заразы. Подкалымить решил?
– Какой – подкалымить! Это всё моя семья, жена с детьми. Так что нам дистанцию соблюдать необязательно, все свои.
– Семья, говоришь, – окинул взглядом пассажиров Дорошенков. – Семья – это хорошо, это дело другое. Только вот куда ты её тащишь в такую непогодь? Кино с зоопарками на карантине, музеи тоже, магазины промтоварные не работают. На дачу, что ли? И что там делать собираетесь в такой холод? Детишек не жалко?
Подполковник, поёжившись, приподнял воротник форменного пальто и уже собрался вернуть многодетному папаше документы, как вдруг услышал:
– В храм Покрова Богородицы на праздничную службу едем. Святая Пасха грядёт. Христос воскресе!
Лицо дядьки Агафона расплылось душевной улыбкой, физиономия же Дорошенкова медленно стала вытягиваться, губы сжались в тонкую нить, глаза сузились.
– В какой такой храм? Патриарх же поддержал Президента, запретил пасхальные службы для народа проводить во время локдауна, чтобы не провоцировать эпидемию. Церкви не должны принимать верующих, все молитвы – дома. Священники служат без прихожан. Или я чего-то не знаю?
– Ну, так это ваши церкви не принимают, а наши принимают. И митрополит наш ничего не запрещал, – спрятал улыбку дядька Агафон.
– Какие ещё ваши-наши? Ты что, евангелист какой?
– Нет. Самый что ни на есть православный. Старообрядцы мы.
– Сектанты, значит. То-то я смотрю, больно имя у тебя подозрительное, не наше совсем, – утвердительно кивнул головой Дорошенков.
– Какие же мы сектанты? – обиделся дядька Агафон. – Мы ни в какую секту не уходили. Как были издревле православными, так и остались. Все изначальные традиции и обычаи соблюдаем в полной мере. Может, это вы сектанты? Это ж Никон от канонов ушёл, а наш Аввакум – он и сгинул за правильную веру, не поступился. Да и имя моё настоящее русское, прадедами определённое.
– Но-но мне тут, – лицо подполковника пошло красными пятнами, – поговори-ка ещё, хлыст поганый. Продали Россию вместе с Распутиным, отдали нехристям на поругание и ещё вякают.
– Чегой-то вы, господин офицер, попутали тут совсем? Причём тут Распутин с хлыстами и староверы? Историю знать надо, особенно если при таком звании. Не стыдно чушь нести? – перешёл почти на шепот дядька Агафон, не желая, чтобы его услышали стоявшие чуть в стороне подчинённые подполковника.
– Чего? – побледнел от злости Дорошенков и повернулся к лейтенанту. – Старшой, а штрафани-ка ты его за выезд за сплошную линию.
– Побойся Бога, подполковник, я ж не нарушал ничего, ты же прекрасно знаешь, – опешил Агафон.
– Мне нечего бояться, а вот ты бойся, потому как я сейчас над тобой Бог, и моё слово для тебя – закон. А моя воля такова. Вон там разворот, – указал в направлении дорожного знака Дорошенков, – и крути руль в обратную сторону, хлыстёныш. До мойки вмести со своими хлыстятами, чтоб и духа вашего тут не было, пока я тебя прав не лишил.
Дядька Агафон, получив назад права и штрафную квитанцию, сел за руль и нажал на сцепление.
– Ну, что там? – тревожно посмотрела на мужа Устинья.
– Он не Бог, никакой он не Бог, – проскочил мимо разворота дядька Агафон.
3.
– Ах ты, сукин сын, хлыстёныш задрипанный! – с досадой ударил кулаком по капоту патрульного автомобиля Дорошенков. – Ну, погоди у меня, я тебе устрою пасхальную службу! Такую отслужу, век помнить будешь!
4.
– Папка, мы успеем? – заёрзал на сиденье Прохор. – Может, газануть побыстрее?
– Никаких «газануть»! Хватит уже, нагазовались, и так спокойно доедем, не опоздаем.
– Оштрафовали-то хоть за что? – поинтересовалась спустя минуту Устинья.
– За пересечение сплошной полосы.
– Но ты же не пересекал!
– Не важно. У них сегодня очередная акция, надо план давать по нарушениям, вот и подвернулись под горячую руку. Да тут ещё за своего Никона обиделся, хлыстами нас обозвал…
– Опять спорить полез? Ну кто тебя вечно за язык-то тянет? Сколько раз уже говорено – не суйся в чужой монастырь со своими правилами, бесполезная затея, только себе в убыток. И вот опять, – укоризненно посмотрела на мужа Устинья.
– Так а что он нас хлыстами обозвал? Истории не знает совсем, – попытался оправдаться дядька Агафон.
– Слишком ты много требуешь с обычного постового.
– Он не обычный, он подполковник, старший офицер. Он должен знать историю. Знать и понимать.
– Офицер, – скривила губы Устинья. – Какой он офицер, если многодетную семью за ни за что денег лишает? Он обычный злобный неумный карьерист. Офицеры себе такой низости никогда не позволят.
– А тебе откуда это знать, позволят или не позволят? – усмехнулся в бороду дядька Агафон.
– У меня дед офицером был и отец тоже, забыл что ли? – обиделась на мужа Устинья.
5.
Дорошенков достал из внутреннего кармана фляжку, подержал её на весу, чуток взболтал и полностью влил в себя остатки коньяка. Постояв с минуту в раздумье, он вдруг мстительно улыбнулся и обратился к старлею:
– Ну-ка, дай мне следующий пост по направлению к этой их чёртовой молельне.
– Какой молельне? – не понял подполковника старший лейтенант.
– Ну, на храм их сектантский, Покрова Богородицы вроде.
6.
– Смотри, опять останавливают, – заволновалась Устинья, глядя на машущего жезлом дэпээсника.
– Вижу, – напрягся за рулём дядька Агафон и сбавил скорость.
Постовой медленной походкой подошёл к агафоновскому автомобилю.
– Лейтенант Выползов, – представился дэпээсник. – Ваши права, страховку. Куда следуем?
– На праздник Святой Пасхи в храм Покрова Богородицы.
– Выйдите из машины.
– А что случилось, что-то с авто не в порядке? – прикрыл за собой дверцу дядька Агафон, не заглушая движок.
– С вами не в порядке. Вы превысили допустимую скорость при обгоне рейсового автобуса. Создали аварийную ситуацию, так сказать, – достал из своей папки штрафной бланк дэпээсник.
– Я ничего не нарушал, никакие автобусы не обгонял. У меня пятеро детей в салоне, какое превышение скорости может быть? – возмутился многодетный отец. – Лейтенант, побойся Бога!
– А чего мне его бояться? Он мне не начальник, премию за тебя не выпишет и с работы за неподчинение не выгонит. А вот подполковник выгонит. Ну, не выгонит, то премии точно лишит, если я тебя не оштрафую. Мне это надо? Так что для меня он и есть Бог. С утра тут торчу на ветру да на дожде, всякие ковиды от таких, как ты, вылавливаю, так хоть компенсацию за эти лишения заработаю. Сейчас оформим нарушение, и езжай себе со своим богом. Но мой совет: лучше назад, домой. Если дальше, только хуже будет.
Дядька Агафон молча взял штрафную квитанцию и, садясь в минивэн, тихо пробурчал:
– Твой подполковник не Бог, овца он самая настоящая. А кто ж на овцу молится? Язычники разве.
– Чего ты там? Недоволен чем-то? Повтори, – с угрозой в голосе наклонился к боковому окну лейтенант.
– Ничего. Так, сам с собой разговариваю.
– Во-во, и молчи в тряпочку, целее будешь.
7.
Устинья с опаской посмотрела на мужа, лицо которого походило на грозовое облако.
– Что, снова оштрафовали?
– Да, – кивнул дядька Агафон, – и предупредили: дальше – хуже. Видать, подполковник что-то пакостное затеял против нас. Что решаем, может, назад вернёмся? Так всю зарплату отдашь, пока доедешь, а то и не одну. Так это в лучшем случае, а в худшем….
– И думать об этом не смей! Мы потом себе этого вовек не простим, да и Прохор тоже, – положила Устинья свою ладонь на мужнино бедро. – Пусть штрафуют, деньги в жизни не главное. Не разоримся, по миру не пойдём, заработаем ещё. Да и не арестуют же тебя, в конце концов. Если хочешь, я за руль пересяду. Со мной они, может, не посмеют так нагличать, всё же женщина.
– Нет, Устюша, – покачал головой дядька Агафон, – я этот крест до конца вынесу. Бог поможет! А то, что ты – женщина, их не тревожит. Они распоряжение своего начальника выполняют, он их Бог.
– Нашли себе Бога, овцу неразумную.
8.
Дядьку Агафона ещё несколько раз тормозили дэпээсники и лишали денег под надуманными предлогами.
– Побойся Бога, майор!
– Бога нет.
– Побойся Бога, старлей!
– Бог завтра на Пасху будет, сегодня подполковник командует.
9.
Подполковник Дорошенков все детали продумал досконально, всё просчитал. По его плану дядьку Агафона должны были штрафовать на всех постах по пути к церкви, на последнем же задержать строптивца за неисправленные тормоза и сопроводить его вместе с семьёй в ближайшее отделение полиции, а машину отправить на штрафстоянку.
– Капитан, – давал последние указания по рации Дорошенков своему подчинённому, – как в отделение этих сектантов доставишь, мне сразу доложи, я подъеду потом, понял?
– Так точно, товарищ подполковник!
10.
– Папа, мы, н-наверное, точно оп-поздаем, – начал заикаться Прохор, увидев в окно, как очередной дэпээсник стал останавливать их машину.
– Не волнуйся, сын, всё будет хорошо. Бог нам в помощь!
– Господи, за что вы издеваетесь так-то над нами в такой день, креста на вас нет, – с укоризной всматривалась Устинья в приближающегося офицера.
– Капитан Пономарёв, – отдал честь дэпээсник. – Ваши права, пожалуйста.
Дядька Агафон молча протянул документы моложавому офицеру.
– Куда следуем?
– В храм Покрова Богородицы, на пасхальную службу. Сына нынче в свещеносцы поставили. Спешим.
– Вот как. Церковь вроде старообрядческая?
– Да, православная.
– Ну что ж, не смею задерживать, – капитан вернул права Агафону и отдал честь. – Для сына праздник великий сегодня. Удачи в первом служении. С наступающей вас Пасхой. Поезжайте с богом!
У дядьки Агафона аж челюсть отвисла от изумления, да и Устинья сползла по сидению.
– Что смотрите на меня, как на невидаль? – улыбнулся дэпээсник. – Будто чудо увидели.
– Так оно самое и есть. Чудо чудесное, – опомнился дядька Агафон. – И не оштрафуешь даже, просто отпускаешь?
– Что я, не православный что ли?
– Тоже из староверов будешь?
– Нет. Да и какая в этом деле разница? Все мы одной веры. Христос воскрес!
– Воистину воскресе, капитан, воистину!
11.
Подполковник Дорошенков нервно ходил из стороны в сторону вдоль обочины дороги и постоянно посматривал на часы, ожидая сообщения от капитана Новикова. Коньяк давно закончился, и холодный ветер делал своё дело, выдувал тепло и последние пары хмеля из начальственного тела. Затушив очередной окурок, Дорошенков повернулся в сторону сержанта:
– Эй, малой, вызови срочно капитана Пономарёва и рацию мне передай.
Через минуту подполковник выговаривал подчинённому:
– В чём дело, капитан, почему не докладываешь по нарушителю? Сколько я, по-твоему, должен ждать? Все сроки уже вышли. Задержал, надеюсь, этого сектанта? Как он там, не плачет отпустить, взятку не предлагает? Или Богом своим пугает? Сейчас приеду, полюбуюсь на этот цирк.
– Я его отпустил, – прохрипела рация.
– Чего?
– Отпустил я их, – повторила рация, – не за что было задерживать. Документы в норме, тормоза тоже в порядке, ехал тихо. Никаких нарушений.
– Чего? – побагровел подполковник.
– Отпустил я их, говорю, – ещё раз донеслось из рации.
В воздухе повисло тяжёлое молчание.
– Твою мать! – через несколько секунд заматюгался эфир.
А ещё через минуту рация зашипела:
– В понедельник с утра ко мне с рапортом, мля!
12.
В понедельник утром капитан Пономарёв вошёл в приёмную Дорошенкова.
– Подполковник у себя? Доложите, мне назначено, – показал он удостоверение секретарше Валечке Ерофеевой.
– А вы что, не знаете? – посмотрела на него покрасневшими глазами Валечка.
– О чём?
– Николая Васильевича вчера ночью инсульт разбил, – всхлипнула секретарша, – в реанимации лежит. Говорят, шансов никаких. Беда-то, беда! И главное, прямо на Пасху.
– Господи, – мысленно перекрестился Пономарёв, – видать, Бог к ответу призвал.
1.
Дядька Агафон жил в посёлке Миньково, что каким-то чудом сохранился внутри Москвы нетронутым загребущей рукой столичного застройщика. Настоящая подмосковная деревня, окружённая со всех сторон высотными кварталами. Добрая половина миньковских домов были деревянными, многие с наличниками, вырезанными ещё дедами да прадедами. Внутри них, как и полагается в таких случаях, присутствовали сени, чуланы и просторные подполы, стояли русские печи. Всё по старинке, всё по традициям, будто из ветхозаветного прошлого. Да и сами жители посёлка от исконного москвича заметно отличались своей неспешностью, основательностью, мудрой рассудительностью. К каждому дому примыкали земельные наделы, небольшие по деревенским меркам, всего-то соток шесть, изредка восемь, но по столичным понятиям – шикарное дополнение к жилью. Кто огородики свои держал с тепличками и подсобочками, у кого и живность водилась, например, курочки, уточки, индюшки да козочки всякие, а кому и поросёнок по силам приходился. Более продвинутые и современные европейскими лужайками довольствовались.
У дядьки Агафона – огородик. Да и как без него, если деток пятеро – две девчонки да три басурмана. Старшей семнадцать, младшенькой два всего, и басурманы – от семи и выше через каждые четыре года. А им витамины для роста ой как нужны, да и бюджету послабление, не одна тысяча рубликов экономится. Дядька Агафон – мужик работящий, трезвый, с утра до вечера в трудах праведных, и Устинья – подруга верная, старается мужу подсобить, никакой работы не чурается. От этого и семья – что надо, крепкая, дружная, на любви замешанная. А то! Вот как, к примеру, младшенькая вышла. Решил три года назад дядька Агафон Устинью в очередной раз порадовать, отложил кое-какие деньжонки, подкалымленные на частных ремонтах квартир, для поездки к тёплому морю. А в августе, аккурат к концу лета, сюрприз супруге и предоставил – билеты на самолёт и чек на оплату частного домика на берегу. Детей родственникам определили и улетели к морским восходам-закатам. Вернулись через три недели загорелые и счастливые. Друг на друга смотрели, будто только свадьбу сыграли.
– Ох, Агафон, смотри, как бы в пятый раз отцом тебе не стать, – посмеивались друзья, обращая внимание на необыкновенный блеск в глазах влюблённой парочки.
И точно, ровно через девять месяцев теперь уже подарочек от Устиньи подоспел – лапочка-дочка. Агафон на седьмом небе от счастья, детвора сестрёнке не нарадуется, Устинья вся светится. Так и живут.
Нынче у семейства дядьки Агафона большой праздник – Пасха. Средний басурман Прохор свещеносцем поставлен на вечерней службе. Для басурмана волнительно, для самого Агафона – почётно.
– Папа, не пора ли ехать? Уже время вон сколько, – с утра наседал на отца Прохор.
– Да рано ещё, приедем, никого и не будет в храме.
– А если пробки на дорогах? Застрянем ведь.
– Какие пробки в субботу, сын? Сейчас вот ещё, может, и есть, а на дачи народ поразъедется – и вовсе пустынно станет, погода-то совсем стылая, ветер да дождь. Уже апрель, а весны толком не было и нет. Так что не переживай, прибудем вовремя. Лучше пойди уроки на понедельник сделай.
– Я ещё вчера их сделал, пап.
После обеда вся семья расположилась в стареньком минивэне.
– Устюша, яйца, куличи, всё взяла, ничего не оставила? Прохор, не забыл кафтан? Готовы в дорогу? Ну, тогда с Богом! – перекрестился на дорожную иконку дядька Агафон и выжал сцепление.
2.
Подполковник Дорошенков с утра был не в настроении, хмур, как московское небо. Да и чему тут радоваться, когда в предпраздничный день, считай, на саму Пасху тебя на дежурство приказом сверху назначают. Ладно бы ещё в кабинете сидеть у телефона, погулять и тут можно, яйцами с подчинёнными побиться, коньячком с замом побаловаться, с секретаршей Валечкой Ерофеевой в удовольствие похристосоваться. Но нет, на улицу определили, как самого отстойного постового. У министерских ни уважения к чину, ни сострадания к человеку. Как только праздники, так у них шило в задницу, бзики сплошные, то проверки, то ответственные мероприятия. Вот и нынче не забыли про рядового полицейского, поздравили, так сказать, очередным рабочим авралом. Локдаун, видишь ли, мэр объявил, так под это дело тут же и акцию нарисовали – ловить авто, нарушающие режим изоляции в городе. Исключение – дачникам и труженикам, остальных – к ответственности.
На улице мерзко, погода совсем разнюнилась – чуть за плюс. То снег, то дождь с порывистым ветром, холодрыга ещё та, зуб на зуб не попадает. Хорошо хоть за пазухой фляжка с отменным армянским коньячком, но и он ненадолго, по всему видно, согреваться подполковнику частенько приходится.
Сделав очередной глоток, Дорошенков взглянул на дорогу и тут же скомандовал старшему лейтенанту, указывая на приближающийся минивэн дядьки Агафона:
– Ну-ка, старшой, тормозни-ка вон ту колымагу.
– Стопори, – передал офицер команду Дорошенкова своему подчинённому.
Машина дядьки Агафона сошла со своей полосы и прижалась к обочине впереди постового автомобиля. Агафон приспустил боковое стекло и, дружелюбно улыбаясь сквозь бороду, обратился к молоденькому сержанту:
– Чего тормозишь, начальник, вроде я не нарушал ничего. С детьми еду, дело ответственное, дорогу под контролем цепко держу, скоростной режим выдерживаю.
– Как не нарушал? – выглянул из-за спины рядового дэпээсника Дорошенков. – А семь человек в малом пространстве – это что, не нарушение по-твоему? Предписание правительства не читаем, санитарные нормы не соблюдаем, дистанцию не выдерживаем. Документы покажи.
Дядька Агафон, увидев звёзды на погонах подошедшего офицера, улыбку на лице погасил и, глубоко вздохнув, вылез из машины.
– Пожалуйста, – протянул он подполковнику права и свидетельство.
– Почему в салоне семь человек? Сказано же, что больше трёх не собираться. А у тебя друг на друге сидят и все без масок. Настоящий рассадник заразы. Подкалымить решил?
– Какой – подкалымить! Это всё моя семья, жена с детьми. Так что нам дистанцию соблюдать необязательно, все свои.
– Семья, говоришь, – окинул взглядом пассажиров Дорошенков. – Семья – это хорошо, это дело другое. Только вот куда ты её тащишь в такую непогодь? Кино с зоопарками на карантине, музеи тоже, магазины промтоварные не работают. На дачу, что ли? И что там делать собираетесь в такой холод? Детишек не жалко?
Подполковник, поёжившись, приподнял воротник форменного пальто и уже собрался вернуть многодетному папаше документы, как вдруг услышал:
– В храм Покрова Богородицы на праздничную службу едем. Святая Пасха грядёт. Христос воскресе!
Лицо дядьки Агафона расплылось душевной улыбкой, физиономия же Дорошенкова медленно стала вытягиваться, губы сжались в тонкую нить, глаза сузились.
– В какой такой храм? Патриарх же поддержал Президента, запретил пасхальные службы для народа проводить во время локдауна, чтобы не провоцировать эпидемию. Церкви не должны принимать верующих, все молитвы – дома. Священники служат без прихожан. Или я чего-то не знаю?
– Ну, так это ваши церкви не принимают, а наши принимают. И митрополит наш ничего не запрещал, – спрятал улыбку дядька Агафон.
– Какие ещё ваши-наши? Ты что, евангелист какой?
– Нет. Самый что ни на есть православный. Старообрядцы мы.
– Сектанты, значит. То-то я смотрю, больно имя у тебя подозрительное, не наше совсем, – утвердительно кивнул головой Дорошенков.
– Какие же мы сектанты? – обиделся дядька Агафон. – Мы ни в какую секту не уходили. Как были издревле православными, так и остались. Все изначальные традиции и обычаи соблюдаем в полной мере. Может, это вы сектанты? Это ж Никон от канонов ушёл, а наш Аввакум – он и сгинул за правильную веру, не поступился. Да и имя моё настоящее русское, прадедами определённое.
– Но-но мне тут, – лицо подполковника пошло красными пятнами, – поговори-ка ещё, хлыст поганый. Продали Россию вместе с Распутиным, отдали нехристям на поругание и ещё вякают.
– Чегой-то вы, господин офицер, попутали тут совсем? Причём тут Распутин с хлыстами и староверы? Историю знать надо, особенно если при таком звании. Не стыдно чушь нести? – перешёл почти на шепот дядька Агафон, не желая, чтобы его услышали стоявшие чуть в стороне подчинённые подполковника.
– Чего? – побледнел от злости Дорошенков и повернулся к лейтенанту. – Старшой, а штрафани-ка ты его за выезд за сплошную линию.
– Побойся Бога, подполковник, я ж не нарушал ничего, ты же прекрасно знаешь, – опешил Агафон.
– Мне нечего бояться, а вот ты бойся, потому как я сейчас над тобой Бог, и моё слово для тебя – закон. А моя воля такова. Вон там разворот, – указал в направлении дорожного знака Дорошенков, – и крути руль в обратную сторону, хлыстёныш. До мойки вмести со своими хлыстятами, чтоб и духа вашего тут не было, пока я тебя прав не лишил.
Дядька Агафон, получив назад права и штрафную квитанцию, сел за руль и нажал на сцепление.
– Ну, что там? – тревожно посмотрела на мужа Устинья.
– Он не Бог, никакой он не Бог, – проскочил мимо разворота дядька Агафон.
3.
– Ах ты, сукин сын, хлыстёныш задрипанный! – с досадой ударил кулаком по капоту патрульного автомобиля Дорошенков. – Ну, погоди у меня, я тебе устрою пасхальную службу! Такую отслужу, век помнить будешь!
4.
– Папка, мы успеем? – заёрзал на сиденье Прохор. – Может, газануть побыстрее?
– Никаких «газануть»! Хватит уже, нагазовались, и так спокойно доедем, не опоздаем.
– Оштрафовали-то хоть за что? – поинтересовалась спустя минуту Устинья.
– За пересечение сплошной полосы.
– Но ты же не пересекал!
– Не важно. У них сегодня очередная акция, надо план давать по нарушениям, вот и подвернулись под горячую руку. Да тут ещё за своего Никона обиделся, хлыстами нас обозвал…
– Опять спорить полез? Ну кто тебя вечно за язык-то тянет? Сколько раз уже говорено – не суйся в чужой монастырь со своими правилами, бесполезная затея, только себе в убыток. И вот опять, – укоризненно посмотрела на мужа Устинья.
– Так а что он нас хлыстами обозвал? Истории не знает совсем, – попытался оправдаться дядька Агафон.
– Слишком ты много требуешь с обычного постового.
– Он не обычный, он подполковник, старший офицер. Он должен знать историю. Знать и понимать.
– Офицер, – скривила губы Устинья. – Какой он офицер, если многодетную семью за ни за что денег лишает? Он обычный злобный неумный карьерист. Офицеры себе такой низости никогда не позволят.
– А тебе откуда это знать, позволят или не позволят? – усмехнулся в бороду дядька Агафон.
– У меня дед офицером был и отец тоже, забыл что ли? – обиделась на мужа Устинья.
5.
Дорошенков достал из внутреннего кармана фляжку, подержал её на весу, чуток взболтал и полностью влил в себя остатки коньяка. Постояв с минуту в раздумье, он вдруг мстительно улыбнулся и обратился к старлею:
– Ну-ка, дай мне следующий пост по направлению к этой их чёртовой молельне.
– Какой молельне? – не понял подполковника старший лейтенант.
– Ну, на храм их сектантский, Покрова Богородицы вроде.
6.
– Смотри, опять останавливают, – заволновалась Устинья, глядя на машущего жезлом дэпээсника.
– Вижу, – напрягся за рулём дядька Агафон и сбавил скорость.
Постовой медленной походкой подошёл к агафоновскому автомобилю.
– Лейтенант Выползов, – представился дэпээсник. – Ваши права, страховку. Куда следуем?
– На праздник Святой Пасхи в храм Покрова Богородицы.
– Выйдите из машины.
– А что случилось, что-то с авто не в порядке? – прикрыл за собой дверцу дядька Агафон, не заглушая движок.
– С вами не в порядке. Вы превысили допустимую скорость при обгоне рейсового автобуса. Создали аварийную ситуацию, так сказать, – достал из своей папки штрафной бланк дэпээсник.
– Я ничего не нарушал, никакие автобусы не обгонял. У меня пятеро детей в салоне, какое превышение скорости может быть? – возмутился многодетный отец. – Лейтенант, побойся Бога!
– А чего мне его бояться? Он мне не начальник, премию за тебя не выпишет и с работы за неподчинение не выгонит. А вот подполковник выгонит. Ну, не выгонит, то премии точно лишит, если я тебя не оштрафую. Мне это надо? Так что для меня он и есть Бог. С утра тут торчу на ветру да на дожде, всякие ковиды от таких, как ты, вылавливаю, так хоть компенсацию за эти лишения заработаю. Сейчас оформим нарушение, и езжай себе со своим богом. Но мой совет: лучше назад, домой. Если дальше, только хуже будет.
Дядька Агафон молча взял штрафную квитанцию и, садясь в минивэн, тихо пробурчал:
– Твой подполковник не Бог, овца он самая настоящая. А кто ж на овцу молится? Язычники разве.
– Чего ты там? Недоволен чем-то? Повтори, – с угрозой в голосе наклонился к боковому окну лейтенант.
– Ничего. Так, сам с собой разговариваю.
– Во-во, и молчи в тряпочку, целее будешь.
7.
Устинья с опаской посмотрела на мужа, лицо которого походило на грозовое облако.
– Что, снова оштрафовали?
– Да, – кивнул дядька Агафон, – и предупредили: дальше – хуже. Видать, подполковник что-то пакостное затеял против нас. Что решаем, может, назад вернёмся? Так всю зарплату отдашь, пока доедешь, а то и не одну. Так это в лучшем случае, а в худшем….
– И думать об этом не смей! Мы потом себе этого вовек не простим, да и Прохор тоже, – положила Устинья свою ладонь на мужнино бедро. – Пусть штрафуют, деньги в жизни не главное. Не разоримся, по миру не пойдём, заработаем ещё. Да и не арестуют же тебя, в конце концов. Если хочешь, я за руль пересяду. Со мной они, может, не посмеют так нагличать, всё же женщина.
– Нет, Устюша, – покачал головой дядька Агафон, – я этот крест до конца вынесу. Бог поможет! А то, что ты – женщина, их не тревожит. Они распоряжение своего начальника выполняют, он их Бог.
– Нашли себе Бога, овцу неразумную.
8.
Дядьку Агафона ещё несколько раз тормозили дэпээсники и лишали денег под надуманными предлогами.
– Побойся Бога, майор!
– Бога нет.
– Побойся Бога, старлей!
– Бог завтра на Пасху будет, сегодня подполковник командует.
9.
Подполковник Дорошенков все детали продумал досконально, всё просчитал. По его плану дядьку Агафона должны были штрафовать на всех постах по пути к церкви, на последнем же задержать строптивца за неисправленные тормоза и сопроводить его вместе с семьёй в ближайшее отделение полиции, а машину отправить на штрафстоянку.
– Капитан, – давал последние указания по рации Дорошенков своему подчинённому, – как в отделение этих сектантов доставишь, мне сразу доложи, я подъеду потом, понял?
– Так точно, товарищ подполковник!
10.
– Папа, мы, н-наверное, точно оп-поздаем, – начал заикаться Прохор, увидев в окно, как очередной дэпээсник стал останавливать их машину.
– Не волнуйся, сын, всё будет хорошо. Бог нам в помощь!
– Господи, за что вы издеваетесь так-то над нами в такой день, креста на вас нет, – с укоризной всматривалась Устинья в приближающегося офицера.
– Капитан Пономарёв, – отдал честь дэпээсник. – Ваши права, пожалуйста.
Дядька Агафон молча протянул документы моложавому офицеру.
– Куда следуем?
– В храм Покрова Богородицы, на пасхальную службу. Сына нынче в свещеносцы поставили. Спешим.
– Вот как. Церковь вроде старообрядческая?
– Да, православная.
– Ну что ж, не смею задерживать, – капитан вернул права Агафону и отдал честь. – Для сына праздник великий сегодня. Удачи в первом служении. С наступающей вас Пасхой. Поезжайте с богом!
У дядьки Агафона аж челюсть отвисла от изумления, да и Устинья сползла по сидению.
– Что смотрите на меня, как на невидаль? – улыбнулся дэпээсник. – Будто чудо увидели.
– Так оно самое и есть. Чудо чудесное, – опомнился дядька Агафон. – И не оштрафуешь даже, просто отпускаешь?
– Что я, не православный что ли?
– Тоже из староверов будешь?
– Нет. Да и какая в этом деле разница? Все мы одной веры. Христос воскрес!
– Воистину воскресе, капитан, воистину!
11.
Подполковник Дорошенков нервно ходил из стороны в сторону вдоль обочины дороги и постоянно посматривал на часы, ожидая сообщения от капитана Новикова. Коньяк давно закончился, и холодный ветер делал своё дело, выдувал тепло и последние пары хмеля из начальственного тела. Затушив очередной окурок, Дорошенков повернулся в сторону сержанта:
– Эй, малой, вызови срочно капитана Пономарёва и рацию мне передай.
Через минуту подполковник выговаривал подчинённому:
– В чём дело, капитан, почему не докладываешь по нарушителю? Сколько я, по-твоему, должен ждать? Все сроки уже вышли. Задержал, надеюсь, этого сектанта? Как он там, не плачет отпустить, взятку не предлагает? Или Богом своим пугает? Сейчас приеду, полюбуюсь на этот цирк.
– Я его отпустил, – прохрипела рация.
– Чего?
– Отпустил я их, – повторила рация, – не за что было задерживать. Документы в норме, тормоза тоже в порядке, ехал тихо. Никаких нарушений.
– Чего? – побагровел подполковник.
– Отпустил я их, говорю, – ещё раз донеслось из рации.
В воздухе повисло тяжёлое молчание.
– Твою мать! – через несколько секунд заматюгался эфир.
А ещё через минуту рация зашипела:
– В понедельник с утра ко мне с рапортом, мля!
12.
В понедельник утром капитан Пономарёв вошёл в приёмную Дорошенкова.
– Подполковник у себя? Доложите, мне назначено, – показал он удостоверение секретарше Валечке Ерофеевой.
– А вы что, не знаете? – посмотрела на него покрасневшими глазами Валечка.
– О чём?
– Николая Васильевича вчера ночью инсульт разбил, – всхлипнула секретарша, – в реанимации лежит. Говорят, шансов никаких. Беда-то, беда! И главное, прямо на Пасху.
– Господи, – мысленно перекрестился Пономарёв, – видать, Бог к ответу призвал.

Наталия ФИШЕР
Мой литературный путь начался еще 20 лет назад. Тогда это были наивные фантастические сказки, написанные ребёнком. На смену им пришли любовные терзания подростка и соответствующие романы. Время от времени я публиковала рассказы и статьи на заказ в студенческих журналах и даже подрабатывала корректором. Но по большей части писала «в стол», на клочках бумаги, между делом отмечая приходящие в голову идеи. Когда же в 2020 году планету накрыл тотальный карантин, и все дела за пределами квартиры неожиданно испарились, я и решила, что пришло время собрать мысли в кучу и опубликовать что-то стоящее. Так начался мой более осмысленный путь писателя, и родился первый серьёзный роман «На границе миров». Я стала публиковаться на ЛитРес, участвовать во всевозможных литературных конкурсах и премиях. Я верю, что нахожусь только в самом начале интересной и плодотворной писательской жизни, а впереди меня ждёт множество необычайных открытий и стоящих книг.
Мой литературный путь начался еще 20 лет назад. Тогда это были наивные фантастические сказки, написанные ребёнком. На смену им пришли любовные терзания подростка и соответствующие романы. Время от времени я публиковала рассказы и статьи на заказ в студенческих журналах и даже подрабатывала корректором. Но по большей части писала «в стол», на клочках бумаги, между делом отмечая приходящие в голову идеи. Когда же в 2020 году планету накрыл тотальный карантин, и все дела за пределами квартиры неожиданно испарились, я и решила, что пришло время собрать мысли в кучу и опубликовать что-то стоящее. Так начался мой более осмысленный путь писателя, и родился первый серьёзный роман «На границе миров». Я стала публиковаться на ЛитРес, участвовать во всевозможных литературных конкурсах и премиях. Я верю, что нахожусь только в самом начале интересной и плодотворной писательской жизни, а впереди меня ждёт множество необычайных открытий и стоящих книг.
ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА
На замирающий город опускаются сумерки: люди спешат спрятаться в свои уютные ячейки, гордо именуемые квартирами, птицы выдают последние трели и уходят на покой до рассвета. Кто-то плеснул на дерущихся котов водой из окна, и они с душераздирающими криками устремились в соседнюю подворотню, тоже вскоре смолкнув. Пышущий огнями и людскими судьбами мегаполис готовится к отбою, изрыгая иссякающий поток пассажиров из-под земли навстречу пусть и загазованному, но воздуху. Алое зарево, сулящее дожди, если верить народным приметам, которые давно не работают, поблескивает на горизонте, окрашивая стекло и бетон, из которых соткан город, в багрянец и охру.
Наконец все затихает, только ветер может позволить себе взъерошить шапки зелени на редких деревьях да игриво погонять брошенную кем-то обертку.
И тут в тусклом свете фонарей появляется фигура. Она невесомой поступью кошки, такая же гибкая и грациозная, часто-часто цокая каблуками, подлетает к фонтану. Похоже, она очень торопилась, боясь пропустить что-то важное. Она присаживается на край фонтана, подставляя водяной взвеси голые плечи, ее легкое шифоновое платье цвета слоновой кости струится по ногам, оголяя изящ-ные щиколотки. Она молода, не больше двадцати, легка и красива: ее черные вьющиеся волосы ниспадают до талии, а не менее черные брови и ресницы очень выгодно оттеняют глубокие зеленые глаза. Она взволнована: то и дело поглядывает на часы и вертит головой по сторонам. Кого же она ждет?
В дальнем конце аллеи появляется другая фигура: широкий шаг, высокий рост, короткие, светлые с проседью волосы. Он двигается уверенно и в то же время слишком порывисто. Вглядывается вдаль, щуря глаза: зря он все-таки снял очки, в его преклонном возрасте зрение имеет свойство шалить. То ли дело, когда он был молод! Но для нее не важно, как он выглядит. Наконец он замечает ее и, забывая обо всем на свете, бросается навстречу гигантскими шагами. Она тоже срывается с места, не в силах терпеть еще хотя бы минуту без любимого.
Они падают в объятия друг друга и прижимаются с такой силой, что вот-вот земля под ними разверзнется от напряжения. Они так счастливы и так влюблены, что разница в сорок лет не имеет значения.
– Ты пришел! – всхлипнула она, глотая слезы.
– Я всегда прихожу, ты же знаешь, – он ласково погладил ее по волосам, – такие мягкие. А как-то раз у тебя был совсем короткий ежик, помнишь?
– Конечно, помню! Ты в тот раз был карликом. Вот уж я удивилась!
– Да уж, нелегко нам тогда пришлось, – он с нескрываемой страстью прижимал ее к себе, – в этот раз нам повезло куда больше!
– Это почти пятисотый фонтан. Где же ты был раньше?
– Я проживал такую непростую жизнь, у нас будет время на рассказы. Еще пара лет.
– Почему же так мало? – возмутилась она.
– Прости, я не мог прийти раньше. Ты и сама все понимаешь…
– Ну что ж, два года в две тысячи двадцать первом в Москве куда лучше тех пяти минут в Риме во времена Октавиана Августа.
На спящий город надвигались грозовые тучи – все же приметы не всегда врут в наши дни. Тяжелые капли застучали по асфальту, смывая накопившийся за день зной и человеческие проблемы. И только две сплетенные воедино фигуры возвышались над этим миром, сливаясь в поцелуе длиною в вечность.
* * *
Мощеная камнем улица, тянущаяся через центр Рима и упирающаяся в Триумфальную арку, изнывает от зноя. Люди уже потеряли надежду на малейший дождик и из последних сил молят богов даровать живительную влагу. Они прячутся по храмам и жилищам, не в силах выносить палящее солнце. Даже предстоящий бой гладиаторов не приносит радости и привычного оживления – все вокруг замерло в томительном ожидании.
Ровный строй бойцов, обреченных на сокрушительную победу или верную смерть, будто не замечая жары, двигается вдоль улицы в направлении арены будущей битвы. Все они погружены в свои тяжелые мысли, лица их суровы и сосредоточены. И только один из них нетерпеливо бегает глазами из стороны в сторону, постоянно запинаясь и сбивая шаг. Он смугл и хорошо сложен, с наголо бритой головы струится соленый пот, попадая в глаза и разъедая их. Он щурится и все смотрит-смотрит в направлении пересохшего фонтана. Кого же он хочет там увидеть?
Неожиданно загудели трубы, возвещающие о приближении самого императора. Император грузен и устал, в его планы не входило присутствовать на гладиаторских боях и уж тем более прогуливаться пешком, но отказать супруге он не смог. Императрица под руку с правителем не спеша проходит мимо, бросая мимолетный взгляд на бойцов. Один легкий кивок, почти незаметная улыбка, и взгляд гладиатора успокаивается. Он больше не ищет, не боится, он полон надежд и всеобъемлющей любви. «Удачи, бойцы! Пусть победит сильнейший!» – срывается с уст императрицы. Ах, если бы она только могла хоть на секунду обнять любимого, прижаться к его опаленной солнцем щеке! Но эта фраза, брошенная всем, но адресованная ему, – большее, что она может себе позволить.
И вот он на арене, он знает правило «победи или умри». Он должен победить, тогда он сможет еще хоть миг побыть рядом с любимой. Она, нервно кусая губу, склонилась над перилами трибуны и всем своим существом жаждет увидеть его; император же, попивая вино, скучает и не обращает внимания на напряженный и до предела сосредоточенный взгляд супруги. Сейчас, сейчас она еще раз увидит любимого хоть на мгновение. Только бы он победил!
Он погиб в первом же бою, успев выкрикнуть только одну фразу: «Я буду ждать тебя у фонтана!» Она поймала эти слова всем своим естеством и бережно сохранила в душе для следующей попытки.
На древний Рим после двухмесячной засухи надвигались грузные грозовые тучи, несущие долгожданное облегчение.
* * *
Город на Неве, одетый в гранит и мрамор, заволокла такая привычная для этих болотистых мест пелена дождя. Мелкая взвесь, принесенная морским бризом с залива, зависла в воздухе, и никак не понять – летят капли вниз или вверх, нарушая законы гравитации. Вот так посмотришь по сторонам и не сразу поймешь, что сейчас разгар лета – самая середина июля.
По тенистым аллеям Летнего сада, раскинувшегося между двух рек, в приподнятом, несмотря на погоду, настроении, не спеша прогуливаются пары, разодетые во все самое лучшее. К вечеру они отправятся на бал, а сейчас – время пить чай на многочисленных верандах, прикрываясь ажурными дамскими зонтиками, любоваться жемчужной белизной статуй полуобнаженных красавиц, заливаясь краской по самые уши, и беседовать со знатными особами, наслаждаясь видом грандиозного фонтана «Пирамида».
Здесь никогда не знаешь, кем окажется вон тот прихрамывающий господин с тростью и во фраке – известным поэтом, а может быть, начинающим художником или великим композитором. Припадая на одну ногу, он, невысокий, лысоватый, с пушистыми усами, делающими выражение его лица всегда немного удивленным, но все еще статный, ведет под руку даму гораздо крупнее его. Их дети давно выросли и обзавелись своими семьями, разумеется, выбрав самую удачную партию не без помощи полной дамы.
Двигаясь вглубь сада, они то и дело останавливаются обсудить «эту надоедливую погоду» или последние новости из жизни высших слоев общества с такими же вальяжными и довольными своим положением парами.
Он выглядит расслабленным и степенным, и только взгляд выцветших серых глаз выдает его беспокойство. Чем ближе слышится шум струй фонтана, тем беспокойнее он становится, даже его дородная супруга это замечает и незаметно дергает за рукав.
Что же его так взволновало?
Навстречу им, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, с трудом шлепает необъятных размеров старушка, на фоне которой даже его супруга кажется юной и стройной. Старушка ведет под руку совсем молоденькую и неискушенную дорогими нарядами и балами девчушку. На ней самое простое, но густо накрахмаленное платье, неудобные новые туфли, мешающие идти привычным широким шагом, а волосы убраны в слишком тяжелую для ее хрупкой шеи прическу. Девушка смущается и беспрестанно краснеет, ловя на себе взгляды прохожих.
Но вот ее взор достигает цели – всего в нескольких шагах от себя она видит его и, не в силах сдержаться, улыбается во весь рот. Старушка одергивает ее, напоминая, что нужно поклониться почтенному господину и его спутнице.
– Добрый вечер, генерал-адъютант, – подобострастно расшаркивается старушка, утягивая за собой в поклон девчушку, – вы простите мою племянницу. Она впервые в столице, хочу найти ей выгодную партию на сегодняшнем балу.
Девчушка зарделась еще сильнее, исподлобья глядя ему прямо в глаза. Одними губами он произносит: «Увидимся на балу». Она робко улыбается в ответ.
На балу его грузной супруге слишком тяжело танцевать, и она пребывает в компании таких же довольных и состоявшихся дам, не имеющих необходимости больше привлекать к себе внимание противоположного пола нарядами и ласковыми улыбками.
Он подходит к старушке и просит пригласить ее племянницу на вальс, та в свою очередь смущается и даже хотела бы отказать, – как же тут найдешь жениха, если старики приглашают, но положение обязывает согласиться.
Он берет ее под руку, и весь мир вокруг перестает для них существовать. Только они, только их бескрайнее чувство, пронесенное сквозь пространство и время, – они не могут подойти друг к другу ближе положенного, и уж тем более не имеют права поцеловать друг друга хотя бы в щеку. Одно лишь еле заметное прикосновение – его рука на ее талии, ладонь в ладони, глаза в глаза.
– Снова ты старый, – смеется она, заглушаемая звуками оркестра, – когда уже ты будешь молодым?
– В следующий раз точно, – его пушистые усы скрывают улыбку, но она-то знает его как никто другой. – Прости, что не получилось, как задумывали.
– Ничего, у нас еще миллионы попыток, ты знаешь, где меня искать, – успокаивает она.
Музыка угасает; он под руку ведет ее обратно к тетушке, а в душе его снова разгорается пожар – символ неугасающей любви двух чистых душ, кочующих в веках.
Вечерний Петербург укутывается в туман, как в вуаль. Разгоряченная и уставшая, натанцевавшаяся вдоволь знать разъезжается по домам. По каменным мостовым слышится цокот уставших ждать своей очереди лошадей, погоняемых поддатым кучером, тянущих позади себя кареты с довольными дворянами. И только для двоих сегодняшний вечер стал счастливейшим в жизни. В этой жизни. Она ведь не последняя, будет у них еще общее время, они в этом уверены.
* * *
По многоярусной трассе на бешеных скоростях пролетают крылатые машины на воздушных подушках. Хитрое переплетение паутины дорог опутывает стеклянные высотки, тонущие в облаках своими вершинами. Первые полсотни этажей где-то там, у самой земли, заняты магазинами, офисами и дешевыми забегаловками. Повыше поселился средний класс – их панорамные окна выходят на верхние ярусы дорог, и сквозь бурное движение и то и дело всплывающие голограммы они даже могут видеть небо. Ну, а те, кому в жизни повезло больше остальных, вальяжно расположились далеко за границей облаков – их не беспокоит вся эта кипучая жизнь внизу, им позволительно наслаждаться умиротворением и неспешным ежесекундным перерождением грозовых гигантов и легких полупрозрачных перышек.
Где-то внизу, среди хаоса бытия все еще остались самые обыкновенные скверы с березками, сочащимися жизнью по весне, тополями и их июньским пухом, залепляющим глаза, и, конечно, фонтанами – местом притяжения людей, когда усталый город распаляется докрасна и выжигает все вокруг.
В одном из таких палисадников на трехколесном велосипеде катается девочка лет пяти. Ее растрепанные косички не успевают за ней – так усердно она крутит педали своими маленькими ножками в розовых сандалиях. Мама уже давно зовет девочку домой: время клонится к вечеру, а им еще почти час добираться, да и вообще, «что ты прилипла к этому фонтану?» Но девочка ждет, устремив сосредоточенный взгляд куда-то вдаль. Она точно знает, что должна дождаться. Вдруг им больше не дадут шанса?
Со стороны одной из высоток к скверу приближается хрупкая фигурка мальчика, совсем худенького и узкого в плечах. Он бежит вприпрыжку и широко улыбается; в одной руке он держит воздушный шарик, а в другой – букетик отцветших одуванчиков, разлетающихся на ходу пляшущими зонтиками. Он издалека заприметил ее, а потому торопился, не обращая внимания на улетающий подарок.
Она останавливается и бросает велосипед, устремив все свое существо ему навстречу. Еще секунда, и они оказываются в объятиях друг друга – букетик облетевших цветков падает на раскаленный асфальт, а шарик уносится в небо, к самым лучшим и дорогим квартирам. Только все это неважно: ни время, ни город, ни возраст и положение в обществе, когда они обретают друг друга.
– Наконец-то! – шепчет она сквозь слезы. – Наконец-то у нас будет целая жизнь впереди.
– И мы проживем эту жизнь как следует! – он целует ее в соленую нежную щечку. – В этот раз у нас куча времени!
Два дрожащих детских тельца стоят, прижавшись друг к другу, под неожиданно начавшимся ливнем, и время для них замирает. Вокруг суетятся люди, спасаясь от холодных струй, бегут в укрытие, прикрываются тем, что попало под руку. И только для них все это не имеет значения – они наконец обрели друг друга и никогда больше не отпустят.
В любую эпоху. На любом континенте. В любом возрасте. Они просто есть друг у друга. Во веки веков.
На замирающий город опускаются сумерки: люди спешат спрятаться в свои уютные ячейки, гордо именуемые квартирами, птицы выдают последние трели и уходят на покой до рассвета. Кто-то плеснул на дерущихся котов водой из окна, и они с душераздирающими криками устремились в соседнюю подворотню, тоже вскоре смолкнув. Пышущий огнями и людскими судьбами мегаполис готовится к отбою, изрыгая иссякающий поток пассажиров из-под земли навстречу пусть и загазованному, но воздуху. Алое зарево, сулящее дожди, если верить народным приметам, которые давно не работают, поблескивает на горизонте, окрашивая стекло и бетон, из которых соткан город, в багрянец и охру.
Наконец все затихает, только ветер может позволить себе взъерошить шапки зелени на редких деревьях да игриво погонять брошенную кем-то обертку.
И тут в тусклом свете фонарей появляется фигура. Она невесомой поступью кошки, такая же гибкая и грациозная, часто-часто цокая каблуками, подлетает к фонтану. Похоже, она очень торопилась, боясь пропустить что-то важное. Она присаживается на край фонтана, подставляя водяной взвеси голые плечи, ее легкое шифоновое платье цвета слоновой кости струится по ногам, оголяя изящ-ные щиколотки. Она молода, не больше двадцати, легка и красива: ее черные вьющиеся волосы ниспадают до талии, а не менее черные брови и ресницы очень выгодно оттеняют глубокие зеленые глаза. Она взволнована: то и дело поглядывает на часы и вертит головой по сторонам. Кого же она ждет?
В дальнем конце аллеи появляется другая фигура: широкий шаг, высокий рост, короткие, светлые с проседью волосы. Он двигается уверенно и в то же время слишком порывисто. Вглядывается вдаль, щуря глаза: зря он все-таки снял очки, в его преклонном возрасте зрение имеет свойство шалить. То ли дело, когда он был молод! Но для нее не важно, как он выглядит. Наконец он замечает ее и, забывая обо всем на свете, бросается навстречу гигантскими шагами. Она тоже срывается с места, не в силах терпеть еще хотя бы минуту без любимого.
Они падают в объятия друг друга и прижимаются с такой силой, что вот-вот земля под ними разверзнется от напряжения. Они так счастливы и так влюблены, что разница в сорок лет не имеет значения.
– Ты пришел! – всхлипнула она, глотая слезы.
– Я всегда прихожу, ты же знаешь, – он ласково погладил ее по волосам, – такие мягкие. А как-то раз у тебя был совсем короткий ежик, помнишь?
– Конечно, помню! Ты в тот раз был карликом. Вот уж я удивилась!
– Да уж, нелегко нам тогда пришлось, – он с нескрываемой страстью прижимал ее к себе, – в этот раз нам повезло куда больше!
– Это почти пятисотый фонтан. Где же ты был раньше?
– Я проживал такую непростую жизнь, у нас будет время на рассказы. Еще пара лет.
– Почему же так мало? – возмутилась она.
– Прости, я не мог прийти раньше. Ты и сама все понимаешь…
– Ну что ж, два года в две тысячи двадцать первом в Москве куда лучше тех пяти минут в Риме во времена Октавиана Августа.
На спящий город надвигались грозовые тучи – все же приметы не всегда врут в наши дни. Тяжелые капли застучали по асфальту, смывая накопившийся за день зной и человеческие проблемы. И только две сплетенные воедино фигуры возвышались над этим миром, сливаясь в поцелуе длиною в вечность.
* * *
Мощеная камнем улица, тянущаяся через центр Рима и упирающаяся в Триумфальную арку, изнывает от зноя. Люди уже потеряли надежду на малейший дождик и из последних сил молят богов даровать живительную влагу. Они прячутся по храмам и жилищам, не в силах выносить палящее солнце. Даже предстоящий бой гладиаторов не приносит радости и привычного оживления – все вокруг замерло в томительном ожидании.
Ровный строй бойцов, обреченных на сокрушительную победу или верную смерть, будто не замечая жары, двигается вдоль улицы в направлении арены будущей битвы. Все они погружены в свои тяжелые мысли, лица их суровы и сосредоточены. И только один из них нетерпеливо бегает глазами из стороны в сторону, постоянно запинаясь и сбивая шаг. Он смугл и хорошо сложен, с наголо бритой головы струится соленый пот, попадая в глаза и разъедая их. Он щурится и все смотрит-смотрит в направлении пересохшего фонтана. Кого же он хочет там увидеть?
Неожиданно загудели трубы, возвещающие о приближении самого императора. Император грузен и устал, в его планы не входило присутствовать на гладиаторских боях и уж тем более прогуливаться пешком, но отказать супруге он не смог. Императрица под руку с правителем не спеша проходит мимо, бросая мимолетный взгляд на бойцов. Один легкий кивок, почти незаметная улыбка, и взгляд гладиатора успокаивается. Он больше не ищет, не боится, он полон надежд и всеобъемлющей любви. «Удачи, бойцы! Пусть победит сильнейший!» – срывается с уст императрицы. Ах, если бы она только могла хоть на секунду обнять любимого, прижаться к его опаленной солнцем щеке! Но эта фраза, брошенная всем, но адресованная ему, – большее, что она может себе позволить.
И вот он на арене, он знает правило «победи или умри». Он должен победить, тогда он сможет еще хоть миг побыть рядом с любимой. Она, нервно кусая губу, склонилась над перилами трибуны и всем своим существом жаждет увидеть его; император же, попивая вино, скучает и не обращает внимания на напряженный и до предела сосредоточенный взгляд супруги. Сейчас, сейчас она еще раз увидит любимого хоть на мгновение. Только бы он победил!
Он погиб в первом же бою, успев выкрикнуть только одну фразу: «Я буду ждать тебя у фонтана!» Она поймала эти слова всем своим естеством и бережно сохранила в душе для следующей попытки.
На древний Рим после двухмесячной засухи надвигались грузные грозовые тучи, несущие долгожданное облегчение.
* * *
Город на Неве, одетый в гранит и мрамор, заволокла такая привычная для этих болотистых мест пелена дождя. Мелкая взвесь, принесенная морским бризом с залива, зависла в воздухе, и никак не понять – летят капли вниз или вверх, нарушая законы гравитации. Вот так посмотришь по сторонам и не сразу поймешь, что сейчас разгар лета – самая середина июля.
По тенистым аллеям Летнего сада, раскинувшегося между двух рек, в приподнятом, несмотря на погоду, настроении, не спеша прогуливаются пары, разодетые во все самое лучшее. К вечеру они отправятся на бал, а сейчас – время пить чай на многочисленных верандах, прикрываясь ажурными дамскими зонтиками, любоваться жемчужной белизной статуй полуобнаженных красавиц, заливаясь краской по самые уши, и беседовать со знатными особами, наслаждаясь видом грандиозного фонтана «Пирамида».
Здесь никогда не знаешь, кем окажется вон тот прихрамывающий господин с тростью и во фраке – известным поэтом, а может быть, начинающим художником или великим композитором. Припадая на одну ногу, он, невысокий, лысоватый, с пушистыми усами, делающими выражение его лица всегда немного удивленным, но все еще статный, ведет под руку даму гораздо крупнее его. Их дети давно выросли и обзавелись своими семьями, разумеется, выбрав самую удачную партию не без помощи полной дамы.
Двигаясь вглубь сада, они то и дело останавливаются обсудить «эту надоедливую погоду» или последние новости из жизни высших слоев общества с такими же вальяжными и довольными своим положением парами.
Он выглядит расслабленным и степенным, и только взгляд выцветших серых глаз выдает его беспокойство. Чем ближе слышится шум струй фонтана, тем беспокойнее он становится, даже его дородная супруга это замечает и незаметно дергает за рукав.
Что же его так взволновало?
Навстречу им, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, с трудом шлепает необъятных размеров старушка, на фоне которой даже его супруга кажется юной и стройной. Старушка ведет под руку совсем молоденькую и неискушенную дорогими нарядами и балами девчушку. На ней самое простое, но густо накрахмаленное платье, неудобные новые туфли, мешающие идти привычным широким шагом, а волосы убраны в слишком тяжелую для ее хрупкой шеи прическу. Девушка смущается и беспрестанно краснеет, ловя на себе взгляды прохожих.
Но вот ее взор достигает цели – всего в нескольких шагах от себя она видит его и, не в силах сдержаться, улыбается во весь рот. Старушка одергивает ее, напоминая, что нужно поклониться почтенному господину и его спутнице.
– Добрый вечер, генерал-адъютант, – подобострастно расшаркивается старушка, утягивая за собой в поклон девчушку, – вы простите мою племянницу. Она впервые в столице, хочу найти ей выгодную партию на сегодняшнем балу.
Девчушка зарделась еще сильнее, исподлобья глядя ему прямо в глаза. Одними губами он произносит: «Увидимся на балу». Она робко улыбается в ответ.
На балу его грузной супруге слишком тяжело танцевать, и она пребывает в компании таких же довольных и состоявшихся дам, не имеющих необходимости больше привлекать к себе внимание противоположного пола нарядами и ласковыми улыбками.
Он подходит к старушке и просит пригласить ее племянницу на вальс, та в свою очередь смущается и даже хотела бы отказать, – как же тут найдешь жениха, если старики приглашают, но положение обязывает согласиться.
Он берет ее под руку, и весь мир вокруг перестает для них существовать. Только они, только их бескрайнее чувство, пронесенное сквозь пространство и время, – они не могут подойти друг к другу ближе положенного, и уж тем более не имеют права поцеловать друг друга хотя бы в щеку. Одно лишь еле заметное прикосновение – его рука на ее талии, ладонь в ладони, глаза в глаза.
– Снова ты старый, – смеется она, заглушаемая звуками оркестра, – когда уже ты будешь молодым?
– В следующий раз точно, – его пушистые усы скрывают улыбку, но она-то знает его как никто другой. – Прости, что не получилось, как задумывали.
– Ничего, у нас еще миллионы попыток, ты знаешь, где меня искать, – успокаивает она.
Музыка угасает; он под руку ведет ее обратно к тетушке, а в душе его снова разгорается пожар – символ неугасающей любви двух чистых душ, кочующих в веках.
Вечерний Петербург укутывается в туман, как в вуаль. Разгоряченная и уставшая, натанцевавшаяся вдоволь знать разъезжается по домам. По каменным мостовым слышится цокот уставших ждать своей очереди лошадей, погоняемых поддатым кучером, тянущих позади себя кареты с довольными дворянами. И только для двоих сегодняшний вечер стал счастливейшим в жизни. В этой жизни. Она ведь не последняя, будет у них еще общее время, они в этом уверены.
* * *
По многоярусной трассе на бешеных скоростях пролетают крылатые машины на воздушных подушках. Хитрое переплетение паутины дорог опутывает стеклянные высотки, тонущие в облаках своими вершинами. Первые полсотни этажей где-то там, у самой земли, заняты магазинами, офисами и дешевыми забегаловками. Повыше поселился средний класс – их панорамные окна выходят на верхние ярусы дорог, и сквозь бурное движение и то и дело всплывающие голограммы они даже могут видеть небо. Ну, а те, кому в жизни повезло больше остальных, вальяжно расположились далеко за границей облаков – их не беспокоит вся эта кипучая жизнь внизу, им позволительно наслаждаться умиротворением и неспешным ежесекундным перерождением грозовых гигантов и легких полупрозрачных перышек.
Где-то внизу, среди хаоса бытия все еще остались самые обыкновенные скверы с березками, сочащимися жизнью по весне, тополями и их июньским пухом, залепляющим глаза, и, конечно, фонтанами – местом притяжения людей, когда усталый город распаляется докрасна и выжигает все вокруг.
В одном из таких палисадников на трехколесном велосипеде катается девочка лет пяти. Ее растрепанные косички не успевают за ней – так усердно она крутит педали своими маленькими ножками в розовых сандалиях. Мама уже давно зовет девочку домой: время клонится к вечеру, а им еще почти час добираться, да и вообще, «что ты прилипла к этому фонтану?» Но девочка ждет, устремив сосредоточенный взгляд куда-то вдаль. Она точно знает, что должна дождаться. Вдруг им больше не дадут шанса?
Со стороны одной из высоток к скверу приближается хрупкая фигурка мальчика, совсем худенького и узкого в плечах. Он бежит вприпрыжку и широко улыбается; в одной руке он держит воздушный шарик, а в другой – букетик отцветших одуванчиков, разлетающихся на ходу пляшущими зонтиками. Он издалека заприметил ее, а потому торопился, не обращая внимания на улетающий подарок.
Она останавливается и бросает велосипед, устремив все свое существо ему навстречу. Еще секунда, и они оказываются в объятиях друг друга – букетик облетевших цветков падает на раскаленный асфальт, а шарик уносится в небо, к самым лучшим и дорогим квартирам. Только все это неважно: ни время, ни город, ни возраст и положение в обществе, когда они обретают друг друга.
– Наконец-то! – шепчет она сквозь слезы. – Наконец-то у нас будет целая жизнь впереди.
– И мы проживем эту жизнь как следует! – он целует ее в соленую нежную щечку. – В этот раз у нас куча времени!
Два дрожащих детских тельца стоят, прижавшись друг к другу, под неожиданно начавшимся ливнем, и время для них замирает. Вокруг суетятся люди, спасаясь от холодных струй, бегут в укрытие, прикрываются тем, что попало под руку. И только для них все это не имеет значения – они наконец обрели друг друга и никогда больше не отпустят.
В любую эпоху. На любом континенте. В любом возрасте. Они просто есть друг у друга. Во веки веков.
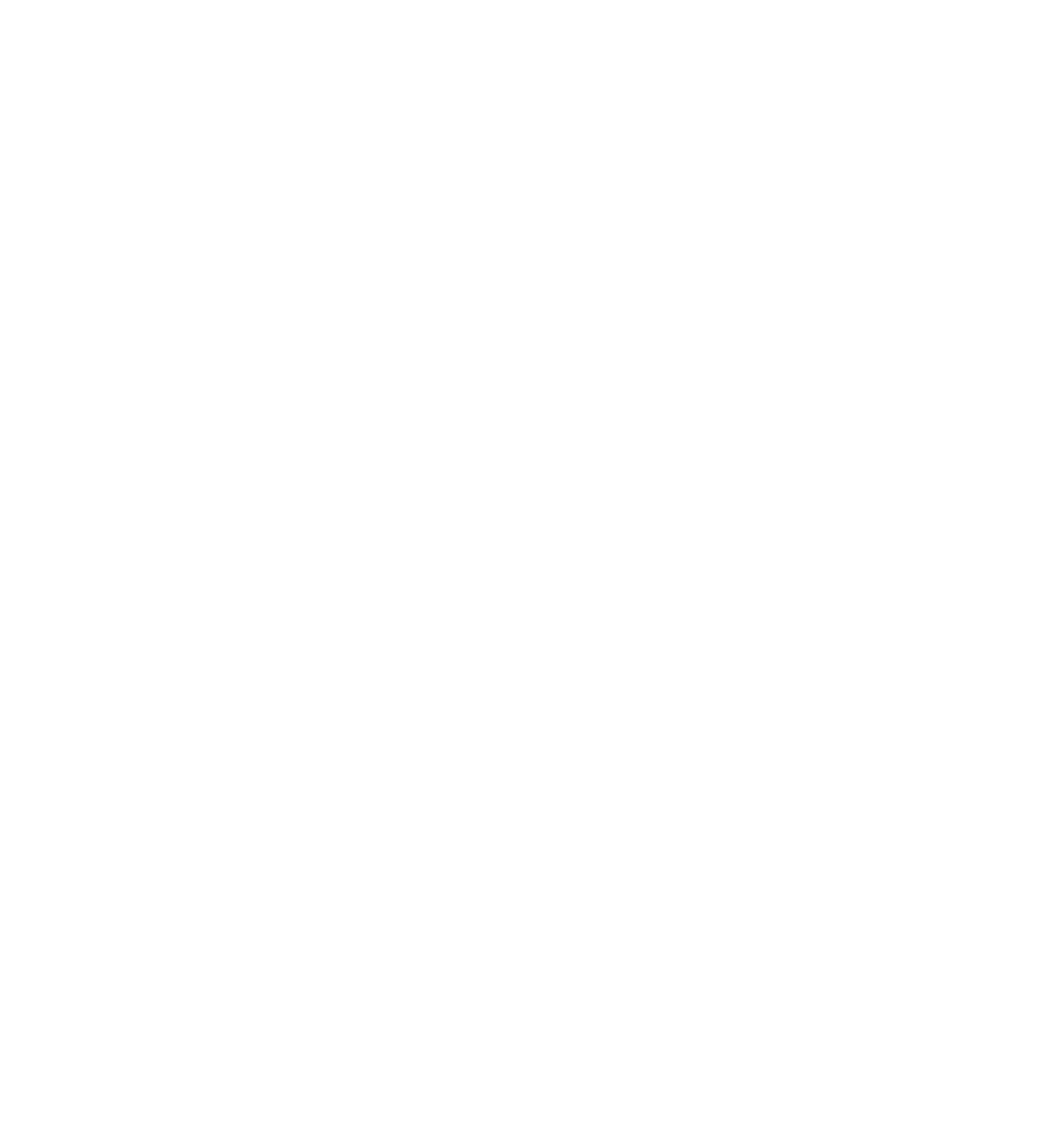
Андрей СТРОКОВ
Родился в год 50-летия Октября, в День радио в Казахстане. Родители – металлурги. Служил на флоте, работал на руководящих должностях в кабельной промышленности. Писать стихи и рассказы начал давно, но упорядочить и развивать все это дело получил возможность только сейчас. Основная тема – военно-морской флот. Данная публикация – первая «бумажная» в моей жизни.
Родился в год 50-летия Октября, в День радио в Казахстане. Родители – металлурги. Служил на флоте, работал на руководящих должностях в кабельной промышленности. Писать стихи и рассказы начал давно, но упорядочить и развивать все это дело получил возможность только сейчас. Основная тема – военно-морской флот. Данная публикация – первая «бумажная» в моей жизни.
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
Октябрятско-пионерское детство мое, комсомольская юность не оставили в душе места для Рождества. Новый год — да, любимый праздник, а Рождество — это что-то ненастоящее, старорежимное, из произведений Гоголя. Поэтому веры в рождественские чудеса и праздничного настроения нет, а перестраиваться поздно: коней на переправе не меняют.
Вот и в это Рождество, устав от новогоднего марафона, как в обычный вечер, сижу за компьютером, гоняю новости. Темнеет на юге быстро – как лампочку гасят, обычный кисловодский декабрь, около нуля за бортом. Кабинет кроме мерцания монитора освещен керосиновой лампой, люблю ее желтоватый, волшебно-живой свет.
Вдруг в окно постучали. Вежливо, но настойчиво. Наверное, кошка Вася вернулась с прогулки. Маленьким котенком она была подобрана моей матушкой, названа котом Василием и определена жить в квартире. Но потом вдруг оказалось, что кот Васька вовсе не кот, а держать у себя «не кота» матушка не хочет, вот и притащила зверя мне – дом большой, места всем хватит. Кот Васька стал кошкой Василисой или проще – Васей. Но стучала Вася более мягко и не в это окно, а в более удобное для запрыгивания — со стороны крыльца. Тут что-то не так.
Я приоткрыл раму. В щель протиснулся незнакомый котик, бодро прошел по подоконнику и сел в профиль ко мне на тумбочку возле принтера. В загадочном свете монитора и керосиновой лампы он смотрелся весьма странно. Размера среднего. Шерсть очень короткая, почти как у сфинкса, окрас черный в синеву, с узкими белыми полосками, как у зебры. Грива, похожая на львиную, тоже черная с проседью, маленькие торчащие ушки. А вот хвост… Это был типичный конский хвост, густой, шелковистый, шикарного платинового цвета. Замечательный по всем параметрам хвост, но вот не кошачий вовсе.
Я проделал все положенные в таком случае манипуляции: почесал нос, ущипнул себя за ухо, протер глаза — хвост оставался на своем штатном месте.
Котик изящно почесал задней лапой за ухом, и я к своему ужасу обнаружил, что лапа заканчивается не обычной кошачьей ладошкой, а копытцем. Черненьким, маленьким, бархатистым на вид. Вот почему стук в окно был не таким мягким, как кошачий.
Тут меня накрыло уже всерьез. Мгновенно вспомнилось, что ночь сейчас не простая, в голове пролетел алгоритм действий: трижды прочесть «Отче наш», плюнуть ему на хвост, перекрестить… Да вот беда, первую суру Корана я как-то сподобился выучить, а до «Отче наш» дело не дошло. Вряд ли поможет в данном случае сура… Пока пролетали эти мысли, успел заметить, что копытце-то не раздвоенное, как у черта, а вполне себе лошадиное. Может, пронесет? И вообще — хорошо, что не ворон.
— Привет, — голос был мягкий, вежливый, негромкий, приятного баритона. — Мог бы и побыстрее впустить, не май на дворе, — в голосе появилась капризная нотка.
Котик повернулся ко мне анфас, и я увидел его морду. Точнее — лицо. Лицо было человеческое, но какое-то мультяшное, вроде как лица паровозиков из известного мультсериала. Так и не разобравшись в алгоритмах магических действий, я медленно попятился к противоположной стене кабинета, где у меня висит инсталляция: голова горного козла, рог в серебре, кавказский кинжал и казачья шашка.
— Даже и не думай, — мультяшные глаза показали на инсталляцию. — Это не работает. Извини, что не представился сразу, — продолжил он, понимая, что дар речи ко мне вернется не скоро.
— Пегас. Твой персональный Пегас. Для тебя — просто Пег.
— Привет, Пег. Как дела? — промямлил я стандартный автоматический ответ. — А я — Андрей.
— Знаю. Но для меня ты — Мастер, Маэстро, Мэтр, можно Шеф. По инструкции мы, Пегасы, имеем право только так обращаться к своим авторам. Предназначение Пегаса — возвышать, вдохновлять, выпячивать достоинства. Короче — способствовать росту и творчеству всеми доступными способами.
Диалог начался, мандраж стал проходить, но дрожь в коленках все еще оставалась, я медленно переместился в кресло за компьютером. Пег по-прежнему сидел в классической кошачьей позе, обернувшись конским замечательным хвостом, и сопровождал меня взглядом. Монитор подсвечивал его лицо голубовато-белым, керосиновая лампа бросала на его спину неровные желтоватые блики.
— Мне кажется, что Пегас должен выглядеть несколько иначе, — в доказательство я быстро нагуглил «пегас картинки» и слегка повернул монитор в его сторону.
— Верно. Конь. Высота в холке до четырех локтей, размах крыльев — до девяти. Цвет белый, серебристый, платиновый. Но это Пегас сформировавшегося писателя или поэта. Дело в том, что мы, Пегасы, рождаемся в момент рождения своего Мастера, не физического, а творческого – рождения как автора. Выглядим при этом ужасно, что-то вроде бесформенного кокона, личинки или инфузории. С литературным ростом Мастера и мы растем, трансформируемся, развиваемся, превращаемся в итоге в Пегаса классической компоновки и комплектации. У особо продвинутых авторов Пегасы в комплектации люкс: размеров гигантских, пропорций великанских, копыта из горного хрусталя, подковы золотые, проба – «три девятки». Такой Пегас где ни ударит копытом, там источники монетизации открываются, золотые монеты, точнее, баксы, рассыпаются — только подбирай. Если Мастер хиреет, то и Пегас вместе с ним. А умирает конь в момент смерти своего Мастера, хоть творческой, хоть физической.
— Ты хочешь сказать, что твой внешний вид сейчас — это отображение моего авторского уровня, и мне до успешного автора — как тебе до классического Пегаса?
— Догадлив, Шеф. Я — то, что ты писал до сих пор. Вот, например, про котиков писал?
— Писал.
— Спасибо огромное, я серьезно. А ведь мог бы и про крокодилов. Говорят, у Пегаса Успенского после Чебурашки проблемы возникли. Или вот этот окрас. Белого раньше не было вообще, чем больше я светлею, тем выше мой уровень. Теперь нетрудно догадаться, откуда полоски.
— Дык, морская тематика.
— Точно.
— А размеры? Пишу малые формы или вообще пишу мало?
— На малых формах у Шекли, скажем, или О`Генри, знаешь, какие пегасища отъелись? А вот пишешь редко, да. Ленишься. Сколько ты написал за прошедший год? Вот что ты делал сейчас за компьютером, только честно?
— Ленту крутил, в видосики залипал…Не пишется…
— Не пишется ему. А ты подумал о том, что в сети полно авторов, которые пишут криво, но каждый день? Их Пегасы корявые, страшненькие, но размером с барана или того же крокодила уже повымахали! А как мне при таких пропорциях среди них тусить? Затопчут — что будешь делать?
— Погоди-ка, — я перешел в активную оборону. — У меня же полностью сменилась тактика публикаций: из интернета убрал хорошие вещи, предлагаю их в толстые журналы, а сам знаешь, что это — дело не мгновенное. Быстро только кошки родятся. И пару рассказов зачетных написал, один уже вышел в альманахе на бумаге, на очереди еще три рассказа в журнале.
— Это ты молодец, Мастер. Результат налицо, точнее — на корме. Вона — хвост какой знатный. Но все равно, ленишься ты. Сознайся, ведь и черновиков у тебя изрядно, и набросков, и задумок, и сюжетов всяких? А как сядешь за комп — так в интернет в этот вот богопротивный залипать. Прямо стыдно за тебя.
Стыдно стало и мне за себя. Ну, я ж не знал, что кто-то из-за меня вот так страдает. Я протянул руку и провел пальцами по хвосту. Действительно — шелковистый.
— Эй, ты еще под хвост загляни, — отодвинулся Пег. — Там все в норме. Стихи с намеком на эротику писал? Писал. Рассказы про любовь для женской аудитории были? Были. Девочкам нравится? Нравится. Так что все в порядке у меня под хвостом, есть чем заняться, когда делать нечего, а танцором мне все равно не быть. И мерином стать желания нет, так что ты пиши «иесчо», Маэстро!
Пег, распушив замечательный хвост, конкурным аллюром прогарцевал мимо меня прямиком по клавиатуре. Раздалось мелодичное цоканье — клавиатура у меня старая, «с кликом», люблю ощущать обратную связь.
«И снится нам не рокот космодрома», — пробил курсор на мониторе. Я заметил, что копытца у Пега в точности совпадают по размеру с клавишами и идеально с ними стыкуются.
— Ух ты, а пройдись-ка обратно!
Пегас процокал справа налево, на экране выбилось: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».
— Классно, — восхитился я. – «Идет направо, песнь заводит, налево — сказку говорит»!
— Сказку говорить будешь ты жене, когда пойдешь налево или когда будешь ей объяснять источник вдохновения своих сочинений про любовь к различным женщинам, — съязвил мой визави.
— Погоди-ка, а как дела с Пегасами для поэтесс и писательниц? У них что — кобылы? Пегги?
— Однозначно нет. Написано в скрижалях — конь, значит — конь, гендерные девиации тут неуместны. С ними проблем куча, с авторшами. Как ее называть? Мастерица, Мастерша? Или вот вырастет у крутой писательницы пегасище матерый, со всеми причиндалами; одним нравится до жути, седлают Пегасов радостно, а другие впадают в декаданс. Отсюда и перегибы всякие, и расстройства нервические.
— А журналисты, блогеры?
— С этой публикой вообще беда. Поначалу им, как и всем пишущим, было положено. И стали у них вырастать создания крупные, но убогие, тупые, на вид страшные. Не пегасы, а какие-то кадавры. И плодиться они начали неимоверно, ты ж сам в сети зависаешь – знаешь, сколько развелось этих блогеров. Начальство за голову схватилось, вышел срочный циркуляр по департаменту: всех старых кадавров изъять и утилизировать, новых не выдавать. Но у некоторых, особо отъявленных писак они почему-то остались, иногда и новые откуда-то берутся. Видимо, начальству нашему, как и вашему, коррупция не чужда.
— Слушай, Пег, а может, тебя угостить чем-то? В блюдечко молока, например, или зелени какой? Салат у меня есть, огурец и пастернак, — во мне проснулся радушный хозяин.
— Ну, ты и рассмешил, Шеф! За заботу — спасибо, но мы — существа мифологические, питаемся исключительно эфиром. Хотя эфир нынче не тот, экология и все такое. Можем припадать иногда к Кастальскому ключу или Гиппокренову, но и то — фигурально. А пастернак при мне не упоминай, тяжелые аллюзии возникают. Хочешь доброе дело сделать — лучше спинку мне почеши.
А я и сам давно хотел, но стеснялся попросить. Конь вытянулся рядом с принтером во весь свой кошачий рост, подставив мне полосатую спину. Я осторожно погладил. Шерстка была нежная, кожа — теплая. Через пальцы к голове моей, к груди побежали удивительные волны, на душе стало спокойно, умиротворенно, как в теплый июльский вечер. Даже послышалось где-то вдалеке пение птиц и журчание ручья, видимо, Кастальского.
— Хорошо, хорошо, не стесняйся, чеши, — замурлыкал мой подопечный. — Ничего необычного не нащупал?
— Есть такое. Два бугорка небольших над лопатками.
— Правильно, чеши еще. Это не бугорки, это крылья под кожей. Они пока не прорезались, но чешутся, а это хороший признак. Для нас это очень важно! Пегас бескрылый — не Пегас вовсе, а как прорежутся — это переход на новый уровень. Но от нас тут ничего не зависит, только от Мастера. Так что на тебя одного уповаю!
— Вот появятся крылья, окрепнут, да мы с тобой таких дел наворочаем! Это ж не только Пегас на новый уровень переходит, это и его Мастер тоже! А там — только успевай ловить за хвост вдохновение и не ленись, не почивай на лаврах, — продолжал мечтать Пег. — Вот вырасту я в коня настоящего, привезу тебе такую музу — закачаешься! А они ведь, музы, по греческой моде, белья не носят, только туники. А поют как! А танцуют! Благоухают! — продолжал коварный искуситель.
— Слушай, Пег, мы как раз про муз-то и не поговорили. Они ж с вами вроде бы коллеги, так?
— В целом так, но есть нюансы, — конь повернулся ко мне другим боком. — Они вообще по другому ведомству проходят, хотя общего с нами много. Тоже за вдохновение отвечают. Самое главное — их целых девять разновидностей, у каждой свой уровень компетенций. А как узнать, какую какому Мастеру надо? Муза рождается, как и Пегас, неоформленная и начинает развиваться, согласно творчеству своего Шефа. Но ведь сразу определить-то невозможно. Вот, например, какая твоя? Ну, не Терпсихора, это точно, ты танцы много лет назад забросил. И не Урания с Каллиопой. Скорее всего — Клио или Талия, но это не точно. Так что я твою музу не советую тебе видеть, пока она не созреет, точнее, твое творчество не оформится в зрелое. А вот потом уже — и туника, и танцы с песнями, все для твоего блаженства, а блаженство — суть вдохновение.
— И еще нюанс, — продолжил Пег. — Муза и Пегас одновременно не каждому положены по уставу. Исполнителям, например, певцам или танцорам — только муза. А сочинителям, скажем, композиторам или поэтам — полный комплект. Ну, хватит чесать, спасибо, друг.
— А как быть, если исполнитель и сочинитель в одном флаконе? Среди музыкантов такого предостаточно.
— Тут либо определяется по основному виду деятельности, согласно декларации, либо — индивидуально. Начальству виднее. Но больше одной не положено, музы — позиция штучная.
— Пег, хвост и прочее мы обсудили, а отчего лицо у тебя не конское и такое мультяшное? — задал я давно висящий на языке вопрос.
— Почему пока что не конское — не могу знать. А вот не мультяшное оно, а доброе. Ты на своих героев посмотри — все сплошь добрые и хорошие, положительные. Отрицательных вовсе нет. И это не совсем правильно. Мне порой злобности не хватает в повседневной жизни! У нас ведь публика всякая, не в сферическом вакууме живем. Так что будь добр, вводи негодяев в творчество, твой Пегас должен развиваться гармонично и всесторонне.
— Или вот — язык повествования, — продолжил он. — Твой язык в целом хорош, хвалят его, и лексикон вроде бы богатый, но есть куда стремиться. И, опять же, слишком он у тебя прилизанный, язык-то. Ну пусть кто-нибудь у тебя по фене ботает. И стилистику свою оживишь, и службу мне добрую сослужишь: у нас-то архаровцев всяких хватает, мне частенько надо отбрить кого-нибудь, глаголом стегануть, но не могу. Не может Пегас изъясняться теми словами, которых нет в творчестве его Мастера. Это только с тобой я могу говорить по-человечески, обычно, а во всей остальной своей жизни — только твоим писательским лексиконом обходиться должен.
— Спасибо что заострил, я над этим обязательно поработаю. Как-то в голову не приходило, — поддержал я товарища.
— Ну и вдогонку к лексикону — грамотность русского языка, — продолжил Пег. — Вот эти все ошибки в грамматике, орфографии, пунктуации, стилистике, логике и прочее — знаешь, как по нам, по Пегасам, бьют? Зуд по всему телу, несварение эфира, метеоризм, нарушения сна — это еще цветочки! А редакторы, знаешь, что вытворяют? Они уверены, что для авторов, сдающих рукопись с кучей ошибок, в аду отдельный котел приготовлен. И они правы. Но что эти редакторы удумали? Они покупают какую-нибудь китайскую страшную игрушку типа хагги-вагги, вырезают лицо автора из фотографии, наклеивают ихнюю морду на ейною харю и начинают протыкать, протыкать булавками! Кукла Вуду типа, и проклятия всякие шлют на голову данного литератора. Да вот только автору — как с гуся вода, а все траблы достаются его Пегасу. Знаю я одного, на вид — более-менее нормальный конь, но весь истыкан булавками, как еж. Так и ходит: ни присесть, ни прилечь, смотреть страшно. Ты уж, Мастер, не подводи меня, пожалуйста.
— Дружище, я и так стараюсь, ты прости, если пропускаю что. А на будущее — утрою бдительность, ты не дрейфь! — от таких откровений мне аж дурно стало, представил себе того бедного коника. Как бы донести до редакторов, чтоб проклинали да знали меру?
— А теперь — самое главное, — Пегас подсел поближе и приблизил ко мне посерьезневшее лицо. — Знаешь, почему в истории, литературе и в этих интернетах Пегасы только в своем окончательном обличье? Почему нигде нет упоминания о таком вот промежуточном виде, в котором я предстал перед тобой сейчас?
— Интересно, почему? — подобная мысль мне не успела прийти в голову, и так перегруз оперативной памяти от новой невероятной информации.
— Во-первых, Пегас может явиться только своему Мастеру, никто другой – ни люди, ни животные – его видеть не могут. Разве что кошки. Но кошки никому не расскажут, не было случая, чтоб кошка проболталась. А во-вторых, Пегасу строго-настрого запрещено являться до срока полного формирования. Настолько строго, что никому и никогда в пегасью голову не приходило это сделать. Да и возможности нет такой, переход закрыт для несформированных. Это у нормальных Пегасов мультивиза. Именно поэтому мы имеем массу изображений полноценных классических крылатых коней, ведь Мастерам не запрещено о них рассказывать или их изображать. А по моим наблюдениям, в нашем департаменте таких, с мультивизой, процентов десять, остальные — в разных стадиях развития. Большинство и не доживают до своего триумфа.
— И что же тебя привело сюда и, тем более, как? И стоило ли так рисковать? — насторожился я.
— Стоило, Мастер, стоило. У тебя есть потенциал, я это чувствую. Но нет самодисциплины и писательского упорства. Есть настроение — пишешь, нет — забиваешь. А время уходит. Но что заметил — у тебя присутствует чувство ответственности, в основном не за себя — за других. И вот пришла однажды в мою голову шальная мысль. А вдруг ты узнаешь, что твое творчество не только тебе нужно, что от него зависят еще чья-то жизнь и благополучие? Если есть на свете кто-то, для кого твой успех — вопрос жизни и смерти? И жизни какой: червя с глупым пингвином или сокола с буревестником?
Пег заговорил быстрее, его мультяшное доброе лицо заострилось от волнения, шикарный платиновый хвост мотался из стороны в сторону, стегая по крупу то справа, то слева.
— Эта мысль не давала мне покоя, и вдруг случайно узнал, что сделать несанкционированный переход можно, но всего один-единственный раз, именно в эту Рождественскую ночь. Какие-то там звезды с кометами сходятся, я в этом ничего не понимаю. Решил рискнуть. И вот я здесь и почти уверен — в тебе не ошибся. Что скажешь, Мастер?
— Что мне тебе на это сказать, дружище? Ты не ошибся. Я постоянно чувствовал какой-то стыд, когда просто так тратил свое время на ерунду. Теперь мне все понятно. Я буду стараться, обещаю.
— Обещаешь? — Пегас протянул мне свою правую лапу, и я пожал крохотное мягкое копытце. Из угла мультяшного глаза скатилась совсем не мультяшная слезинка.
— Обещаю, старик. Будешь ты конем огромным и крылатым!.. А как ты вернешься? А если тебя хватятся?
— Палева не должно быть, я все просчитал. Давай я посплю остаток ночи, у тебя тут так тихо, тепло, уютно. У нас-то в общаге вечно суета и бедлам. А с рассветом просто растаю. Но обещаю вернуться «на белом коне», как у вас говорят, — Пегас ободряюще улыбнулся и подмигнул лиловым глазом.
Я остался один перед монитором. Какой же я безответственный балбес! Время, самый ценный ресурс, затрачено впустую! Нет, дружище Пег, не зря ты так рискуешь, выходя за красные флажки. Ты прав, из набитой колеи, из ложной зоны комфорта нужно вытаскивать себя за волосы.
В кончиках пальцев, в груди, в голове вдруг начал чувствовать я то самое тепло и возбуждение, которое ощутил недавно, когда чесал спинку Пегаса. В углах кабинета тихонько зажурчал заветный ручей, послышались тихие аккорды кифары и авлоса.
Мне даже не нужно было лезть в папки с черновиками и набросками. Сюжет рассказа, герои, диалоги — все рождалось, выстраивалось в голове само собой. Эпитеты, метафоры и синекдохи вились затейливыми тропами, инверсии, антитезы и эпифоры рисовали загадочные синтаксические узоры. Пальцы молотили по клавишам «с кликом», как пулеметные очереди из литер, не поспевая за полетом мысли. Рассказ рождался сам собой, азартно и радостно.
Пару раз отвлекся — развел растворимого кофе, на заваривание настоящего времени не было. В полночь для прочистки мозгов выкурил на крыльце под звездами трубку. Керосинка давно прогорела, приоткрыл окно, выпустив керосиновый чад. И вот — новый рассказ готов, теперь ему нужно слегка вылежаться, потом наведу красоту, поправлю огрехи. Основное дело сделано!
Небо слегка просветлело, над верхней границей Джинальского хребта проявилась, отделяя горы от неба, тонюсенькая красная полоска. В обувной коробке под батареей, обернувшись шикарным конским хвостом и прикрыв нос копытцем, спал мой персональный Пегас. Я наклонился погладить ему спинку. Пег, не просыпаясь, потянулся, а я осторожно нащупал между лопаток малюсенькие, только что прорезавшиеся и пока слабенькие крылья.
Первый луч солнца проник сквозь горизонт и радостно выскочил на волю студеного утреннего неба. Коробка была пуста.
— Прорвемся, Пег! До встречи, дружище!
Октябрятско-пионерское детство мое, комсомольская юность не оставили в душе места для Рождества. Новый год — да, любимый праздник, а Рождество — это что-то ненастоящее, старорежимное, из произведений Гоголя. Поэтому веры в рождественские чудеса и праздничного настроения нет, а перестраиваться поздно: коней на переправе не меняют.
Вот и в это Рождество, устав от новогоднего марафона, как в обычный вечер, сижу за компьютером, гоняю новости. Темнеет на юге быстро – как лампочку гасят, обычный кисловодский декабрь, около нуля за бортом. Кабинет кроме мерцания монитора освещен керосиновой лампой, люблю ее желтоватый, волшебно-живой свет.
Вдруг в окно постучали. Вежливо, но настойчиво. Наверное, кошка Вася вернулась с прогулки. Маленьким котенком она была подобрана моей матушкой, названа котом Василием и определена жить в квартире. Но потом вдруг оказалось, что кот Васька вовсе не кот, а держать у себя «не кота» матушка не хочет, вот и притащила зверя мне – дом большой, места всем хватит. Кот Васька стал кошкой Василисой или проще – Васей. Но стучала Вася более мягко и не в это окно, а в более удобное для запрыгивания — со стороны крыльца. Тут что-то не так.
Я приоткрыл раму. В щель протиснулся незнакомый котик, бодро прошел по подоконнику и сел в профиль ко мне на тумбочку возле принтера. В загадочном свете монитора и керосиновой лампы он смотрелся весьма странно. Размера среднего. Шерсть очень короткая, почти как у сфинкса, окрас черный в синеву, с узкими белыми полосками, как у зебры. Грива, похожая на львиную, тоже черная с проседью, маленькие торчащие ушки. А вот хвост… Это был типичный конский хвост, густой, шелковистый, шикарного платинового цвета. Замечательный по всем параметрам хвост, но вот не кошачий вовсе.
Я проделал все положенные в таком случае манипуляции: почесал нос, ущипнул себя за ухо, протер глаза — хвост оставался на своем штатном месте.
Котик изящно почесал задней лапой за ухом, и я к своему ужасу обнаружил, что лапа заканчивается не обычной кошачьей ладошкой, а копытцем. Черненьким, маленьким, бархатистым на вид. Вот почему стук в окно был не таким мягким, как кошачий.
Тут меня накрыло уже всерьез. Мгновенно вспомнилось, что ночь сейчас не простая, в голове пролетел алгоритм действий: трижды прочесть «Отче наш», плюнуть ему на хвост, перекрестить… Да вот беда, первую суру Корана я как-то сподобился выучить, а до «Отче наш» дело не дошло. Вряд ли поможет в данном случае сура… Пока пролетали эти мысли, успел заметить, что копытце-то не раздвоенное, как у черта, а вполне себе лошадиное. Может, пронесет? И вообще — хорошо, что не ворон.
— Привет, — голос был мягкий, вежливый, негромкий, приятного баритона. — Мог бы и побыстрее впустить, не май на дворе, — в голосе появилась капризная нотка.
Котик повернулся ко мне анфас, и я увидел его морду. Точнее — лицо. Лицо было человеческое, но какое-то мультяшное, вроде как лица паровозиков из известного мультсериала. Так и не разобравшись в алгоритмах магических действий, я медленно попятился к противоположной стене кабинета, где у меня висит инсталляция: голова горного козла, рог в серебре, кавказский кинжал и казачья шашка.
— Даже и не думай, — мультяшные глаза показали на инсталляцию. — Это не работает. Извини, что не представился сразу, — продолжил он, понимая, что дар речи ко мне вернется не скоро.
— Пегас. Твой персональный Пегас. Для тебя — просто Пег.
— Привет, Пег. Как дела? — промямлил я стандартный автоматический ответ. — А я — Андрей.
— Знаю. Но для меня ты — Мастер, Маэстро, Мэтр, можно Шеф. По инструкции мы, Пегасы, имеем право только так обращаться к своим авторам. Предназначение Пегаса — возвышать, вдохновлять, выпячивать достоинства. Короче — способствовать росту и творчеству всеми доступными способами.
Диалог начался, мандраж стал проходить, но дрожь в коленках все еще оставалась, я медленно переместился в кресло за компьютером. Пег по-прежнему сидел в классической кошачьей позе, обернувшись конским замечательным хвостом, и сопровождал меня взглядом. Монитор подсвечивал его лицо голубовато-белым, керосиновая лампа бросала на его спину неровные желтоватые блики.
— Мне кажется, что Пегас должен выглядеть несколько иначе, — в доказательство я быстро нагуглил «пегас картинки» и слегка повернул монитор в его сторону.
— Верно. Конь. Высота в холке до четырех локтей, размах крыльев — до девяти. Цвет белый, серебристый, платиновый. Но это Пегас сформировавшегося писателя или поэта. Дело в том, что мы, Пегасы, рождаемся в момент рождения своего Мастера, не физического, а творческого – рождения как автора. Выглядим при этом ужасно, что-то вроде бесформенного кокона, личинки или инфузории. С литературным ростом Мастера и мы растем, трансформируемся, развиваемся, превращаемся в итоге в Пегаса классической компоновки и комплектации. У особо продвинутых авторов Пегасы в комплектации люкс: размеров гигантских, пропорций великанских, копыта из горного хрусталя, подковы золотые, проба – «три девятки». Такой Пегас где ни ударит копытом, там источники монетизации открываются, золотые монеты, точнее, баксы, рассыпаются — только подбирай. Если Мастер хиреет, то и Пегас вместе с ним. А умирает конь в момент смерти своего Мастера, хоть творческой, хоть физической.
— Ты хочешь сказать, что твой внешний вид сейчас — это отображение моего авторского уровня, и мне до успешного автора — как тебе до классического Пегаса?
— Догадлив, Шеф. Я — то, что ты писал до сих пор. Вот, например, про котиков писал?
— Писал.
— Спасибо огромное, я серьезно. А ведь мог бы и про крокодилов. Говорят, у Пегаса Успенского после Чебурашки проблемы возникли. Или вот этот окрас. Белого раньше не было вообще, чем больше я светлею, тем выше мой уровень. Теперь нетрудно догадаться, откуда полоски.
— Дык, морская тематика.
— Точно.
— А размеры? Пишу малые формы или вообще пишу мало?
— На малых формах у Шекли, скажем, или О`Генри, знаешь, какие пегасища отъелись? А вот пишешь редко, да. Ленишься. Сколько ты написал за прошедший год? Вот что ты делал сейчас за компьютером, только честно?
— Ленту крутил, в видосики залипал…Не пишется…
— Не пишется ему. А ты подумал о том, что в сети полно авторов, которые пишут криво, но каждый день? Их Пегасы корявые, страшненькие, но размером с барана или того же крокодила уже повымахали! А как мне при таких пропорциях среди них тусить? Затопчут — что будешь делать?
— Погоди-ка, — я перешел в активную оборону. — У меня же полностью сменилась тактика публикаций: из интернета убрал хорошие вещи, предлагаю их в толстые журналы, а сам знаешь, что это — дело не мгновенное. Быстро только кошки родятся. И пару рассказов зачетных написал, один уже вышел в альманахе на бумаге, на очереди еще три рассказа в журнале.
— Это ты молодец, Мастер. Результат налицо, точнее — на корме. Вона — хвост какой знатный. Но все равно, ленишься ты. Сознайся, ведь и черновиков у тебя изрядно, и набросков, и задумок, и сюжетов всяких? А как сядешь за комп — так в интернет в этот вот богопротивный залипать. Прямо стыдно за тебя.
Стыдно стало и мне за себя. Ну, я ж не знал, что кто-то из-за меня вот так страдает. Я протянул руку и провел пальцами по хвосту. Действительно — шелковистый.
— Эй, ты еще под хвост загляни, — отодвинулся Пег. — Там все в норме. Стихи с намеком на эротику писал? Писал. Рассказы про любовь для женской аудитории были? Были. Девочкам нравится? Нравится. Так что все в порядке у меня под хвостом, есть чем заняться, когда делать нечего, а танцором мне все равно не быть. И мерином стать желания нет, так что ты пиши «иесчо», Маэстро!
Пег, распушив замечательный хвост, конкурным аллюром прогарцевал мимо меня прямиком по клавиатуре. Раздалось мелодичное цоканье — клавиатура у меня старая, «с кликом», люблю ощущать обратную связь.
«И снится нам не рокот космодрома», — пробил курсор на мониторе. Я заметил, что копытца у Пега в точности совпадают по размеру с клавишами и идеально с ними стыкуются.
— Ух ты, а пройдись-ка обратно!
Пегас процокал справа налево, на экране выбилось: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».
— Классно, — восхитился я. – «Идет направо, песнь заводит, налево — сказку говорит»!
— Сказку говорить будешь ты жене, когда пойдешь налево или когда будешь ей объяснять источник вдохновения своих сочинений про любовь к различным женщинам, — съязвил мой визави.
— Погоди-ка, а как дела с Пегасами для поэтесс и писательниц? У них что — кобылы? Пегги?
— Однозначно нет. Написано в скрижалях — конь, значит — конь, гендерные девиации тут неуместны. С ними проблем куча, с авторшами. Как ее называть? Мастерица, Мастерша? Или вот вырастет у крутой писательницы пегасище матерый, со всеми причиндалами; одним нравится до жути, седлают Пегасов радостно, а другие впадают в декаданс. Отсюда и перегибы всякие, и расстройства нервические.
— А журналисты, блогеры?
— С этой публикой вообще беда. Поначалу им, как и всем пишущим, было положено. И стали у них вырастать создания крупные, но убогие, тупые, на вид страшные. Не пегасы, а какие-то кадавры. И плодиться они начали неимоверно, ты ж сам в сети зависаешь – знаешь, сколько развелось этих блогеров. Начальство за голову схватилось, вышел срочный циркуляр по департаменту: всех старых кадавров изъять и утилизировать, новых не выдавать. Но у некоторых, особо отъявленных писак они почему-то остались, иногда и новые откуда-то берутся. Видимо, начальству нашему, как и вашему, коррупция не чужда.
— Слушай, Пег, а может, тебя угостить чем-то? В блюдечко молока, например, или зелени какой? Салат у меня есть, огурец и пастернак, — во мне проснулся радушный хозяин.
— Ну, ты и рассмешил, Шеф! За заботу — спасибо, но мы — существа мифологические, питаемся исключительно эфиром. Хотя эфир нынче не тот, экология и все такое. Можем припадать иногда к Кастальскому ключу или Гиппокренову, но и то — фигурально. А пастернак при мне не упоминай, тяжелые аллюзии возникают. Хочешь доброе дело сделать — лучше спинку мне почеши.
А я и сам давно хотел, но стеснялся попросить. Конь вытянулся рядом с принтером во весь свой кошачий рост, подставив мне полосатую спину. Я осторожно погладил. Шерстка была нежная, кожа — теплая. Через пальцы к голове моей, к груди побежали удивительные волны, на душе стало спокойно, умиротворенно, как в теплый июльский вечер. Даже послышалось где-то вдалеке пение птиц и журчание ручья, видимо, Кастальского.
— Хорошо, хорошо, не стесняйся, чеши, — замурлыкал мой подопечный. — Ничего необычного не нащупал?
— Есть такое. Два бугорка небольших над лопатками.
— Правильно, чеши еще. Это не бугорки, это крылья под кожей. Они пока не прорезались, но чешутся, а это хороший признак. Для нас это очень важно! Пегас бескрылый — не Пегас вовсе, а как прорежутся — это переход на новый уровень. Но от нас тут ничего не зависит, только от Мастера. Так что на тебя одного уповаю!
— Вот появятся крылья, окрепнут, да мы с тобой таких дел наворочаем! Это ж не только Пегас на новый уровень переходит, это и его Мастер тоже! А там — только успевай ловить за хвост вдохновение и не ленись, не почивай на лаврах, — продолжал мечтать Пег. — Вот вырасту я в коня настоящего, привезу тебе такую музу — закачаешься! А они ведь, музы, по греческой моде, белья не носят, только туники. А поют как! А танцуют! Благоухают! — продолжал коварный искуситель.
— Слушай, Пег, мы как раз про муз-то и не поговорили. Они ж с вами вроде бы коллеги, так?
— В целом так, но есть нюансы, — конь повернулся ко мне другим боком. — Они вообще по другому ведомству проходят, хотя общего с нами много. Тоже за вдохновение отвечают. Самое главное — их целых девять разновидностей, у каждой свой уровень компетенций. А как узнать, какую какому Мастеру надо? Муза рождается, как и Пегас, неоформленная и начинает развиваться, согласно творчеству своего Шефа. Но ведь сразу определить-то невозможно. Вот, например, какая твоя? Ну, не Терпсихора, это точно, ты танцы много лет назад забросил. И не Урания с Каллиопой. Скорее всего — Клио или Талия, но это не точно. Так что я твою музу не советую тебе видеть, пока она не созреет, точнее, твое творчество не оформится в зрелое. А вот потом уже — и туника, и танцы с песнями, все для твоего блаженства, а блаженство — суть вдохновение.
— И еще нюанс, — продолжил Пег. — Муза и Пегас одновременно не каждому положены по уставу. Исполнителям, например, певцам или танцорам — только муза. А сочинителям, скажем, композиторам или поэтам — полный комплект. Ну, хватит чесать, спасибо, друг.
— А как быть, если исполнитель и сочинитель в одном флаконе? Среди музыкантов такого предостаточно.
— Тут либо определяется по основному виду деятельности, согласно декларации, либо — индивидуально. Начальству виднее. Но больше одной не положено, музы — позиция штучная.
— Пег, хвост и прочее мы обсудили, а отчего лицо у тебя не конское и такое мультяшное? — задал я давно висящий на языке вопрос.
— Почему пока что не конское — не могу знать. А вот не мультяшное оно, а доброе. Ты на своих героев посмотри — все сплошь добрые и хорошие, положительные. Отрицательных вовсе нет. И это не совсем правильно. Мне порой злобности не хватает в повседневной жизни! У нас ведь публика всякая, не в сферическом вакууме живем. Так что будь добр, вводи негодяев в творчество, твой Пегас должен развиваться гармонично и всесторонне.
— Или вот — язык повествования, — продолжил он. — Твой язык в целом хорош, хвалят его, и лексикон вроде бы богатый, но есть куда стремиться. И, опять же, слишком он у тебя прилизанный, язык-то. Ну пусть кто-нибудь у тебя по фене ботает. И стилистику свою оживишь, и службу мне добрую сослужишь: у нас-то архаровцев всяких хватает, мне частенько надо отбрить кого-нибудь, глаголом стегануть, но не могу. Не может Пегас изъясняться теми словами, которых нет в творчестве его Мастера. Это только с тобой я могу говорить по-человечески, обычно, а во всей остальной своей жизни — только твоим писательским лексиконом обходиться должен.
— Спасибо что заострил, я над этим обязательно поработаю. Как-то в голову не приходило, — поддержал я товарища.
— Ну и вдогонку к лексикону — грамотность русского языка, — продолжил Пег. — Вот эти все ошибки в грамматике, орфографии, пунктуации, стилистике, логике и прочее — знаешь, как по нам, по Пегасам, бьют? Зуд по всему телу, несварение эфира, метеоризм, нарушения сна — это еще цветочки! А редакторы, знаешь, что вытворяют? Они уверены, что для авторов, сдающих рукопись с кучей ошибок, в аду отдельный котел приготовлен. И они правы. Но что эти редакторы удумали? Они покупают какую-нибудь китайскую страшную игрушку типа хагги-вагги, вырезают лицо автора из фотографии, наклеивают ихнюю морду на ейною харю и начинают протыкать, протыкать булавками! Кукла Вуду типа, и проклятия всякие шлют на голову данного литератора. Да вот только автору — как с гуся вода, а все траблы достаются его Пегасу. Знаю я одного, на вид — более-менее нормальный конь, но весь истыкан булавками, как еж. Так и ходит: ни присесть, ни прилечь, смотреть страшно. Ты уж, Мастер, не подводи меня, пожалуйста.
— Дружище, я и так стараюсь, ты прости, если пропускаю что. А на будущее — утрою бдительность, ты не дрейфь! — от таких откровений мне аж дурно стало, представил себе того бедного коника. Как бы донести до редакторов, чтоб проклинали да знали меру?
— А теперь — самое главное, — Пегас подсел поближе и приблизил ко мне посерьезневшее лицо. — Знаешь, почему в истории, литературе и в этих интернетах Пегасы только в своем окончательном обличье? Почему нигде нет упоминания о таком вот промежуточном виде, в котором я предстал перед тобой сейчас?
— Интересно, почему? — подобная мысль мне не успела прийти в голову, и так перегруз оперативной памяти от новой невероятной информации.
— Во-первых, Пегас может явиться только своему Мастеру, никто другой – ни люди, ни животные – его видеть не могут. Разве что кошки. Но кошки никому не расскажут, не было случая, чтоб кошка проболталась. А во-вторых, Пегасу строго-настрого запрещено являться до срока полного формирования. Настолько строго, что никому и никогда в пегасью голову не приходило это сделать. Да и возможности нет такой, переход закрыт для несформированных. Это у нормальных Пегасов мультивиза. Именно поэтому мы имеем массу изображений полноценных классических крылатых коней, ведь Мастерам не запрещено о них рассказывать или их изображать. А по моим наблюдениям, в нашем департаменте таких, с мультивизой, процентов десять, остальные — в разных стадиях развития. Большинство и не доживают до своего триумфа.
— И что же тебя привело сюда и, тем более, как? И стоило ли так рисковать? — насторожился я.
— Стоило, Мастер, стоило. У тебя есть потенциал, я это чувствую. Но нет самодисциплины и писательского упорства. Есть настроение — пишешь, нет — забиваешь. А время уходит. Но что заметил — у тебя присутствует чувство ответственности, в основном не за себя — за других. И вот пришла однажды в мою голову шальная мысль. А вдруг ты узнаешь, что твое творчество не только тебе нужно, что от него зависят еще чья-то жизнь и благополучие? Если есть на свете кто-то, для кого твой успех — вопрос жизни и смерти? И жизни какой: червя с глупым пингвином или сокола с буревестником?
Пег заговорил быстрее, его мультяшное доброе лицо заострилось от волнения, шикарный платиновый хвост мотался из стороны в сторону, стегая по крупу то справа, то слева.
— Эта мысль не давала мне покоя, и вдруг случайно узнал, что сделать несанкционированный переход можно, но всего один-единственный раз, именно в эту Рождественскую ночь. Какие-то там звезды с кометами сходятся, я в этом ничего не понимаю. Решил рискнуть. И вот я здесь и почти уверен — в тебе не ошибся. Что скажешь, Мастер?
— Что мне тебе на это сказать, дружище? Ты не ошибся. Я постоянно чувствовал какой-то стыд, когда просто так тратил свое время на ерунду. Теперь мне все понятно. Я буду стараться, обещаю.
— Обещаешь? — Пегас протянул мне свою правую лапу, и я пожал крохотное мягкое копытце. Из угла мультяшного глаза скатилась совсем не мультяшная слезинка.
— Обещаю, старик. Будешь ты конем огромным и крылатым!.. А как ты вернешься? А если тебя хватятся?
— Палева не должно быть, я все просчитал. Давай я посплю остаток ночи, у тебя тут так тихо, тепло, уютно. У нас-то в общаге вечно суета и бедлам. А с рассветом просто растаю. Но обещаю вернуться «на белом коне», как у вас говорят, — Пегас ободряюще улыбнулся и подмигнул лиловым глазом.
Я остался один перед монитором. Какой же я безответственный балбес! Время, самый ценный ресурс, затрачено впустую! Нет, дружище Пег, не зря ты так рискуешь, выходя за красные флажки. Ты прав, из набитой колеи, из ложной зоны комфорта нужно вытаскивать себя за волосы.
В кончиках пальцев, в груди, в голове вдруг начал чувствовать я то самое тепло и возбуждение, которое ощутил недавно, когда чесал спинку Пегаса. В углах кабинета тихонько зажурчал заветный ручей, послышались тихие аккорды кифары и авлоса.
Мне даже не нужно было лезть в папки с черновиками и набросками. Сюжет рассказа, герои, диалоги — все рождалось, выстраивалось в голове само собой. Эпитеты, метафоры и синекдохи вились затейливыми тропами, инверсии, антитезы и эпифоры рисовали загадочные синтаксические узоры. Пальцы молотили по клавишам «с кликом», как пулеметные очереди из литер, не поспевая за полетом мысли. Рассказ рождался сам собой, азартно и радостно.
Пару раз отвлекся — развел растворимого кофе, на заваривание настоящего времени не было. В полночь для прочистки мозгов выкурил на крыльце под звездами трубку. Керосинка давно прогорела, приоткрыл окно, выпустив керосиновый чад. И вот — новый рассказ готов, теперь ему нужно слегка вылежаться, потом наведу красоту, поправлю огрехи. Основное дело сделано!
Небо слегка просветлело, над верхней границей Джинальского хребта проявилась, отделяя горы от неба, тонюсенькая красная полоска. В обувной коробке под батареей, обернувшись шикарным конским хвостом и прикрыв нос копытцем, спал мой персональный Пегас. Я наклонился погладить ему спинку. Пег, не просыпаясь, потянулся, а я осторожно нащупал между лопаток малюсенькие, только что прорезавшиеся и пока слабенькие крылья.
Первый луч солнца проник сквозь горизонт и радостно выскочил на волю студеного утреннего неба. Коробка была пуста.
— Прорвемся, Пег! До встречи, дружище!

Дарья ЕВДОШЕНКО
Для меня литература – это возможность поделиться своими мыслями, чувствами и идеями с другими людьми. Порой каждому из нас приходится непросто, и я думаю, что миры, которые придумывают писатели, созданы для того, чтобы помогать людям. Некоторые истории заставляют задуматься о своей жизни, другие даны, чтобы понять, что с тобой все в порядке и ты не один. Надеюсь, что окунувшись в мой мир, ты почувствуешь поддержку. В каком бы шторме ни оказался корабль, нужно верить, что наступит штиль, который ты оценишь по достоинству.
Живу в г. Санкт-Петербург.
Для меня литература – это возможность поделиться своими мыслями, чувствами и идеями с другими людьми. Порой каждому из нас приходится непросто, и я думаю, что миры, которые придумывают писатели, созданы для того, чтобы помогать людям. Некоторые истории заставляют задуматься о своей жизни, другие даны, чтобы понять, что с тобой все в порядке и ты не один. Надеюсь, что окунувшись в мой мир, ты почувствуешь поддержку. В каком бы шторме ни оказался корабль, нужно верить, что наступит штиль, который ты оценишь по достоинству.
Живу в г. Санкт-Петербург.
ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА: ДОЖДЬ
Устало прикрыв глаза, дрожащими пальцами я потянулся к пачке сигарет.
«Это слишком сложно. Потребуется много времени, сил… не думаю, что тебе стоит начинать», – всплыл в голове нежный девичий голос, звонким тембром ворвавшийся в мой мир. Я хотел, нуждался в том, чтобы в меня поверили. Она могла ею стать…моей опорой, оплотом счастья. Но нет в человеке веры в дни спокойствия. И покуда не грянул гром… кто вообще думает о духовности?
Моя мечта вела меня поросшими тропами, мимо заснеженных вершин и зеркальной озерной глади. Она шептала мне на ухо песнь веры, и в туманном блаженстве я шел за нею, минуя преграды босыми стопами. В дни, когда голос ее за вьюгой из страхов и сомнений слышался хуже, я лишь поднимал голову выше. Я знаю, что моя мечта зовет меня. Даже если крик ее стал лишь эхом, даже если песнь ее стала лишь шепотом – она всегда со мной. Она где-то рядом.
Эта девчонка, прекрасная, будто первый луч рассветного солнца, оказалась пустой. Мысли ее – что землетрясение, оставляющее после себя глубокие трещины в земле человеческой души. Дно… настоящее дно! Ее безнадежная холодность, сочувствующий взгляд… они едва не опустили меня на дно! Как низко человеческая птица может пасть… но как узнать, где предел? Слишком ли я высоко взлетел или крыльев уже давно не имею, и всё, что остается – это шагать босиком по земле, смотря в бездну человечьей души? Есть ли у меня надежда на счастье?
Я запутался. Я заплутал. Она не первая… нет. Многие не понимали меня – ведомого идеей. Ведомого мечтой и идеалом. Многие говорили, что я зря трачу время. Многие… уж не сосчитать, сколько их было. И она не первая, нет-нет. Но как тонкому чувству внутри, так отчаянно взывавшему к теплоте, объяснить, что нет здесь его? Что не стоит его так упорно искать, раз за разом пробивая стену в попытке узнать – есть ли за ней нутро? А душа? И оставить ли тогда все так, как есть – смириться с холодным одиночеством и тоской? Я запутался. Я заплутал.
Но я даже ей благодарен. Лишив веры, она лишь вновь обратила меня к голосу души – я почти перестал его слышать, напрасно рыская среди каменных зданий в шумных городах. И тропа моя, что затерялась высоко-высоко в горах, поросла инеем, и стопы стерты в кровь от острых камней, шипов. Но никто не говорил, что будет просто. Даже дивный голос, напевающий в ночной тиши мелодию веры, никогда не говорил, что я дойду целиком. Тонкие шрамы, остающиеся на теле – это лишь доказательство того, что я готов идти дальше. Утерев слезы обиды и горечи, я лишь выше подниму голову. Моя вера – она со мной, и это самое главное.
Она ушла. Я остался в пустой комнате, где каждый клочок обоев впитал в себя запах ее духов. Сладкий запах… даже слишком. Он напомнил мне беззаботную юность и еще не обрушившийся на меня дар – дар творца. Он напомнил мне о той жизни, которую я почти забыл. Я старался ее забыть – та, другая жизнь, она уже не про меня.
И пусть сейчас внутри меня проливной дождь тоски не оставлял и тени надежды на то, что однажды встретится Он – человек, у которого будет не зонт, но безграничная любовь к дождю, я принимал и даже любил этот плач души. Я знаю, точно знаю – облака рассеются, и как бы много шрамов ни украшало мое тело, я все равно буду верить в лучшее. Я буду верить, что однажды мне встретится мой человек: увидев мельчайшие капли дождя, он не отпрянет, но обрадуется. Он скажет, что всегда любил дождь и доверчиво подставит лицо под теплые капли воды. Он шепнет мне на ухо, что принимает меня всецело. И станет дождь солнцем, ведь он поверит в меня! Я согрею его в своих усталых руках и обрету покой. Покой творца, доселе еще неизведанный. Я знаю, это нашептал мне нежный голос песни. Он сказал, что я буду счастлив!
Но пока я продолжаю идти по длинной тропе мечты, что ведет меня закоулками. Из городов – в высочайшие небеса и долины, из лесов – в самые глубинные океаны. Я почти смирился с тяжелой дорогой – погляди, как высоко поднята голова! Но это не высокомерие, друг мой. Это я готовлюсь к первым лучам солнца, чтобы, счастливо зажмурив глаза, навсегда запомнить яркие искры, что мерещатся в темноте. Я верю, и меня это спасает. Я жду солнце и уже поднял к нему голову! Эта вера сильнее любых крепостей. И я его дождусь… в газетах писали, что завтра нас ждет счастливый день.
Так и не взяв в руки сигарету, я сел у распахнутого окна. Оно тоже дрожало от весеннего ветра.
Устало прикрыв глаза, дрожащими пальцами я потянулся к пачке сигарет.
«Это слишком сложно. Потребуется много времени, сил… не думаю, что тебе стоит начинать», – всплыл в голове нежный девичий голос, звонким тембром ворвавшийся в мой мир. Я хотел, нуждался в том, чтобы в меня поверили. Она могла ею стать…моей опорой, оплотом счастья. Но нет в человеке веры в дни спокойствия. И покуда не грянул гром… кто вообще думает о духовности?
Моя мечта вела меня поросшими тропами, мимо заснеженных вершин и зеркальной озерной глади. Она шептала мне на ухо песнь веры, и в туманном блаженстве я шел за нею, минуя преграды босыми стопами. В дни, когда голос ее за вьюгой из страхов и сомнений слышался хуже, я лишь поднимал голову выше. Я знаю, что моя мечта зовет меня. Даже если крик ее стал лишь эхом, даже если песнь ее стала лишь шепотом – она всегда со мной. Она где-то рядом.
Эта девчонка, прекрасная, будто первый луч рассветного солнца, оказалась пустой. Мысли ее – что землетрясение, оставляющее после себя глубокие трещины в земле человеческой души. Дно… настоящее дно! Ее безнадежная холодность, сочувствующий взгляд… они едва не опустили меня на дно! Как низко человеческая птица может пасть… но как узнать, где предел? Слишком ли я высоко взлетел или крыльев уже давно не имею, и всё, что остается – это шагать босиком по земле, смотря в бездну человечьей души? Есть ли у меня надежда на счастье?
Я запутался. Я заплутал. Она не первая… нет. Многие не понимали меня – ведомого идеей. Ведомого мечтой и идеалом. Многие говорили, что я зря трачу время. Многие… уж не сосчитать, сколько их было. И она не первая, нет-нет. Но как тонкому чувству внутри, так отчаянно взывавшему к теплоте, объяснить, что нет здесь его? Что не стоит его так упорно искать, раз за разом пробивая стену в попытке узнать – есть ли за ней нутро? А душа? И оставить ли тогда все так, как есть – смириться с холодным одиночеством и тоской? Я запутался. Я заплутал.
Но я даже ей благодарен. Лишив веры, она лишь вновь обратила меня к голосу души – я почти перестал его слышать, напрасно рыская среди каменных зданий в шумных городах. И тропа моя, что затерялась высоко-высоко в горах, поросла инеем, и стопы стерты в кровь от острых камней, шипов. Но никто не говорил, что будет просто. Даже дивный голос, напевающий в ночной тиши мелодию веры, никогда не говорил, что я дойду целиком. Тонкие шрамы, остающиеся на теле – это лишь доказательство того, что я готов идти дальше. Утерев слезы обиды и горечи, я лишь выше подниму голову. Моя вера – она со мной, и это самое главное.
Она ушла. Я остался в пустой комнате, где каждый клочок обоев впитал в себя запах ее духов. Сладкий запах… даже слишком. Он напомнил мне беззаботную юность и еще не обрушившийся на меня дар – дар творца. Он напомнил мне о той жизни, которую я почти забыл. Я старался ее забыть – та, другая жизнь, она уже не про меня.
И пусть сейчас внутри меня проливной дождь тоски не оставлял и тени надежды на то, что однажды встретится Он – человек, у которого будет не зонт, но безграничная любовь к дождю, я принимал и даже любил этот плач души. Я знаю, точно знаю – облака рассеются, и как бы много шрамов ни украшало мое тело, я все равно буду верить в лучшее. Я буду верить, что однажды мне встретится мой человек: увидев мельчайшие капли дождя, он не отпрянет, но обрадуется. Он скажет, что всегда любил дождь и доверчиво подставит лицо под теплые капли воды. Он шепнет мне на ухо, что принимает меня всецело. И станет дождь солнцем, ведь он поверит в меня! Я согрею его в своих усталых руках и обрету покой. Покой творца, доселе еще неизведанный. Я знаю, это нашептал мне нежный голос песни. Он сказал, что я буду счастлив!
Но пока я продолжаю идти по длинной тропе мечты, что ведет меня закоулками. Из городов – в высочайшие небеса и долины, из лесов – в самые глубинные океаны. Я почти смирился с тяжелой дорогой – погляди, как высоко поднята голова! Но это не высокомерие, друг мой. Это я готовлюсь к первым лучам солнца, чтобы, счастливо зажмурив глаза, навсегда запомнить яркие искры, что мерещатся в темноте. Я верю, и меня это спасает. Я жду солнце и уже поднял к нему голову! Эта вера сильнее любых крепостей. И я его дождусь… в газетах писали, что завтра нас ждет счастливый день.
Так и не взяв в руки сигарету, я сел у распахнутого окна. Оно тоже дрожало от весеннего ветра.

Диана АСНИНА
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение», «Горизонт». Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона и литклуба «Поиск». Почётный работник культуры г. Москвы.
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение», «Горизонт». Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона и литклуба «Поиск». Почётный работник культуры г. Москвы.
БАБА МИЛА
Баба Мила любит сидеть у окна. Мимо проезжают машины, бегут куда-то дети... За окном бурлит жизнь.
Баба Мила совсем одна. Муж умер давно. Дочь далеко, заграницей. А больше никого у нее нет. Вот и живет она от звонка до звонка дочери в ожидании, когда та приедет в отпуск.
Это сейчас она баба Мила, а когда-то это была Людмила Михайловна, врач, завотделением, красивая, энергичная женщина, бывшая фронтовичка, на которую все заглядывались.
Что старость делает с человеком? Людмила Михайловна даже представить себе не могла, что наступит такой момент, когда у нее не будет сил разъезжать по курортам, ходить по театрам, концертам, выставкам, быть в центре всех событий. Сейчас самое большое удовольствие – послушать «Радио-Орфей» да посидеть на лавочке во дворе либо у окна. Читать ей стало трудно – зрение испортилось, а раньше она так много читала. Куда-то подевались многочисленные подружки – кто умер, кто... Никого нет рядом. Приходит раз в неделю социальный работник, приносит продукты, помогает по хозяйству. Это надо же – сил нет себя обслужить!
Но вот позвонила Инночка. Людмила Михайловна такая счастливая. У Инночки все хорошо, все замечательно, собирается летом приехать.
Людмила Михайловна откладывает часть пенсии (на что она живет, непонятно), чтобы отдать её Инночке. «Девочка потратилась («девочке» за пятьдесят), надо ей помочь». Что тут скажешь – мама.
«Я не хочу уезжать из своей квартиры. Не буду жить с ними, не хочу усложнять их жизнь. Инночке и так достается: работа, семья. У нее слабое здоровье, а тут я еще. И потом, кто знает, может, они вернутся. Я сохраняю им московскую квартиру».
Инночка приезжала. Мать смотрела на нее счастливыми глазами. Всячески старалась ей угодить. Дочь это только раздражало. А что надо старому одинокому человеку? Чтоб его выслушали.
– Я скоро разучусь говорить, – сетовала на жизнь баба Мила.
Бабе Миле все труднее и труднее становилось жить одной. Она стала многое забывать, часто повторяла одно и то же, у нее начались головокружения.
Когда Инночка в очередной раз приехала домой, мать не сразу узнала ее, не хотела впускать в дом. Это несмотря на то, что все глаза проглядела, ожидая дочь.
Инночка не знала, что делать. Забрать к себе мать она не могла – с зятем теща плохо ладит, муж болеет, только что ему сделали шунтирование сердца. Выход один – Дом престарелых.
И хотя у бабы Милы была там отдельная маленькая комнатка со всеми удобствами, телевизор в комнате, все стерильно чисто, и кормят неплохо, в магазин за продуктами ходить не надо, особенно зимой в гололед, у плиты стоять не надо – живи на всем готовом, и артисты приезжают, и приятели, такие же одинокие старики, завелись, баба Мила ждет не дождется: «Скорее бы лето – приедет Инночка, заберет меня домой. Я хочу умереть в своей постели».
Не дождалась. Пустует московская квартира. Мимо проезжают машины, бегут куда-то дети, за окном бурлит жизнь.
ВСЕГО НЕ ОБЪЯСНИШЬ
Он звонил мне двадцать раз на день. Встречались мы почти ежедневно. С ним было легко и просто: не надо было ничего из себя изображать, он тонко чувствовал твое настроение и поразительно точно угадывал желания. Обладал чувством юмора. И внешне был довольно приятен.
Я не была в него влюблена, я еще не пришла в себя от «предыдущей любви», но мне было с ним хорошо, даже слишком хорошо. И это настораживало, мешало дружес-ким отношениям перерасти в нечто большее.
– А, пусть идет, как идет! – махнула я рукой. – Была у тебя Великая любовь, и что? Остались одни осколки. Может быть, спокойное чувство надежнее? Есть взаимопонимание. Он тебя не раздражает. Кому эти страсти нужны?
С ним происходило то же самое, что и со мной. Думаю, он тоже пережил некий удар судьбы и медленно «выздоравливал». Никаких вопросов я ему не задавала, как и он мне. Со мной ему было тепло, спокойно. Мы очень приятно проводили время. За полгода отношения не продвинулись ни на йоту. Меня это устраивало. Его... не знаю. Попытки продвинуться вперед у него были, но очень уж робкие.
Неожиданно он решил познакомить меня со своими друзьями. Я человек открытый, общительный, все, с кем я встречалась, запросто приходили ко мне домой, были знакомы с моими родными, друзьями. Его же друзья, его прошлая жизнь были мне неизвестны. Поэтому предложение встретить Новый год в компании было чем-то новым. Я не люблю встречать этот праздник вне дома. Но он так этого хотел, что сумел уговорить маму отпустить меня с ним. Мама расчувствовалась и пообещала испечь фирменный торт.
Итак, мы отправились к его друзьям. Меня приняли, как свою. Было очень весело. И я ни на минуту не пожалела, что встречала Новый год не в кругу семьи.
Через несколько дней он уехал в командировку. Прислал нежное и трогательное письмо. Привез мне из поездки смешной сувенир. Все было замечательно! Еще лучше, чем всегда.
Он должен был мне позвонить, но я почему-то почувствовала: звонка не последует. Неужели у меня так сильно развита интуиция?
Не могу сказать, что я сильно переживала. Но не давал покоя вопрос: почему? Ведь было так хорошо! И что-то внутри уже начало шевелиться... Ну почему все оборвалось на самой «высокой ноте»?
А на Восьмое марта я получила открытку: «Спасибо тебе за все. Было сказочно хорошо. Извини, что я так бесследно исчез. Но всего не объяснишь». Ну что ж, будь счастлив, дорогой!
Грустить мне было некогда. На работе была запарка. Я так уставала, что в голове была одна лишь мысль: «Только бы добраться до постели».
Неожиданно мне позвонил отец хозяйки квартиры, в которой мы встречали Новый год. Он рад, что у его дочери появилась такая знакомая. Я очень ему понравилась. (Когда успела? Он видел меня мельком.) Знает, что с Ариком у меня все кончено. Очень меня жалеет. (Напрасно!) Хотел бы меня видеть. Он овдовел, ему очень тяжело. Просит не говорить дочери о звонке, так как мой номер взял из ее записной книжки, которая раскрытой лежала на тумбочке. И так ему захотелось мне позвонить!
Что он знает об Арике? В чем причина его исчезновения? Но как я ни пыталась это выяснить, Петр Григорьевич уходил от этой темы. Я пообещала, когда будет время, его навестить. Интересно же: почему меня покинули?
Когда я рассказала об интригующем звонке маме, она воскликнула:
– Какой человек! Конечно, навести его. Ему так тяжело! Нельзя быть неблагодарной. Заодно и узнаешь, что случилось с Ариком.
У меня сорвалось свидание.
Мы с приятелем не точно договорились о месте встречи. Он ждал меня у одного выхода из метро, я же ждала его у другого. Вечер был испорчен. И тут позвонил Петр Григорьевич. Ну, я и поехала к нему на другой конец города. Не пропадать же вечеру! Очень переживала, что все ларьки по дороге были закрыты, и я приехала с пустыми руками.
Петр Григорьевич радостно меня встретил. И первым делом стал кормить. Готовил он прекрасно! Переживал, что я не могу увидеть его ковры, которые в химчистке, и хрусталь. Демонстрировал шикарную библиотеку, почетное место в которой было отведено литературе на сексуальные темы. Надо же, в его возрасте... (Ему было шестьдесят). Меня это не волновало. Меня интересовало лишь одно: куда и почему исчез Арик. Петр Григорьевич ловко уходил от ответа.
Раздался звонок:
– Анечка, я не могу сейчас с тобой разговаривать. У меня дама.
Кусок остановился у меня в горле. Ну и дура же я! Какая наивная дура! А мама, почему мама ничего не заподозрила? Мне это напомнило анекдот: что такое наивность и сверхнаивность. Наивность – это когда дочка думает, что ее мама выходила замуж девушкой, а сверхнаивность – когда мама думает, что её дочь – девушка.
Что делать?
Как без лишнего шума покинуть этот дом? Хотя бы час надо продержаться. Я притворилась, что ничего не поняла.
– Я Вам очень сочувствую, Петр Григорьевич. Давайте, я Вас познакомлю с мамой. У нее много приятельниц, и Вы не будете одиноки.
Он поморщился:
– О нет, я не могу, когда вижу старую шею, мне надо, чтобы хотелось всегда...
Ничего себе!
Наконец я «вспомнила», что у меня еще одно «важное дело», и мне надо бежать.
Он потащился меня провожать. Слава Богу, только до метро.
– Приезжайте, я Вас познакомлю с родителями.
– С удовольствием. Но я боюсь, что они поймут, что я приехал к тебе, а не к ним.
О нет, это им в голову не придет!
Когда Петр Григорьевич мне еще позвонил, я была уже на своей территории, мне не стоило большого труда поставить точку на этом знакомстве.
А Арик? Бог с ним! Всего не объяснишь...
МАМА ВСЕДЕЛКА
– Моя мама – вседелка, – сообщила мне шестилетняя Марина. – Она ни секунды не сидит без дела: готовит вкусную еду, убирается в квартире, гладит, стирает, играет и гуляет со мной, водит меня на разные занятия. Мама умеет шить, вязать, гвозди забивать, клеить обои и еще много разного.
– А папа твой что в это время делает? – спрашиваю Маришу.
– Папа много работает, устает, – пожалела папу девочка.
– Так и мама твоя тоже работает и тоже устает.
– Мама говорит, что на работе она отдыхает от дома. А папа дома отдыхает от работы, – объясняет мне девочка.
– Бабушка говорит, что мужчин надо беречь, – рассказывает Марина, – потому что, во-первых, их мало: «на десять девчонок по статистике девять ребят»; во-вторых, хотя и считается, что мужчины – сильный пол, а женщины слабый, на самом деле все наоборот: женщины выносливее и живут дольше мужчин. «Так что, – учит бабушка маму, – пришел муж с работы, покорми его, и пусть делает, что хочет: футбол смотрит, с машиной возится, с друзьями пиво пьет. Будешь приставать к нему – уйдет, и будешь одна куковать с ребенком. Он-то один не останется, тут же подберут», – пугает она маму.
Какой кошмар! Разве можно вести при ребенке такие разговоры!
– Вот папа и лежит все время на диване, читает газету или смотрит телевизор. Его отвлекать нельзя, а то он будет сердиться, – продолжает рассказывать девочка. – Папа тут как-то уснул во время одной из телевизионных передач. Мама тихонько убрала звук. Так папа тут же проснулся и начал ругаться, что ему не дают отдохнуть. Когда папа дома, все должны ходить на цыпочках.
Что тут скажешь! Мама – вседелка, а папа устает.
Раньше мужчина был хозяином в доме, главой семьи. «САМ», – уважительно называли его.
– А что теперь? Кто глава семьи?
– САМА. Сама «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»?
– Зачем ей, если она – САМА, если она ВСЕДЕЛКА, нужен такой САМ?
Ответ прост:
– Дети. Сами по себе дети не появляются на свет. А детям нужны и мама, и папа.
И, как когда-то сказал отец моей подруги:
– Бриллиант должен быть в оправе. Ты вышла в свет – ты замужняя женщина, а не одинокая, никому ненужная «гармонь». Грустно.
ОН НАМ НЕ ЧУЖОЙ
Люди сходятся и расходятся. Такова реальность. По-разному складываются отношения после разрыва. Понятно, что лучшими друзьями, после того как развелись или расстались, вы не станете. Но разве нельзя сохранить нормальные, добрые отношения со вчерашним супругом или супругой? Ведь когда-то вас тянуло друг к другу, у вас было много общего, вы любили друг друга, иначе вы просто не вступили бы в брак. У вас общие дети, которые любят и маму, и папу, и в их воспитании должны участвовать оба родителя. А у нас большинство разводится, когда уже видеть не могут друг друга. И это нежелание видеть друг друга сохраняют и в дальнейшем. Многие мамы вообще не дают бывшим мужьям видеться с детьми, настраивают детей против отца, не понимая, как это разрушительно для психики ребенка.
Шестилетняя Марина играет в куклы.
– Ты опять нализался, пьянь ты эдакая! – ругает кукла-мама куклу-папу.
– Мариночка, – спрашиваю я девочку, – разве папа обязательно должен быть пьяницей?
– Конечно, он же мужчина, – заявляет девочка.
– Почему папа больше с нами не хочет жить? Из-за меня? – плачет четырехлетний Дима. – Мама, скажи папе, что я больше не буду так себя вести, я буду хорошим. Я его люблю. Я хочу, чтобы мы втроем гуляли – ты, папа и я, и чтобы папа носил меня на плечах, как раньше.
– Ты такой же, как твой папаша, – с раздражением говорит мать провинившемуся сынишке.
– Мама меня не любит, – думает мальчик. – У папы родился другой сынок. Никому я не нужен! – сокрушается он.
Я знаю немало таких бывших пар, которые сумели оставить в прошлом все свои обиды, которые благодарны друг другу за все хорошее, что было и ушло, и сохранили теплые, дружеские отношения.
– Бедная мама! – плачет дочь. – Как мне тебя жалко! Я вдруг поняла, что похожа на него, а не на тебя. Ты со мной тоже разведешься?
– Солнышко мое, ты это о чем? Папа у тебя хороший, он часто к тебе приходит, занимается с тобой. И мы с твоим папой общаемся.
– А почему же вы не живете вместе?
– Детка, это наши взрослые дела, и это не должно тебя волновать. У тебя есть и мама, и папа. Ты много хорошего взяла от нас обоих. Мы тебя очень любим.
– У меня замечательные родители, – сказал как-то мне племянник. – Оба. Но то, что они разошлись, благо для всех. Надо было это cделать раньше. Сейчас, когда они свободны, их отношения намного лучше, чем были раньше – ни ссор, ни упреков. У каждого своя жизнь: папа женился, мама наслаждается свободой. Но они общаются, помогают друг другу.
Георгий развелся с женой, когда сыну было три года, но сохранил с матерью ребенка хорошие, я бы даже сказала, дружеские отношения. Каждый день после работы отец приходил к сыну, гулял с мальчиком, занимался с ним, привил сыну любовь к математике. Мальчик в четырнадцать лет экстерном окончил школу и поступил на мехмат университета.
Конечно, как любой ребенок, мальчик хотел бы жить вместе с мамой и папой, но раз это невозможно… От него же никто не отказывается, его любят, им занимаются. Они с папой друзья. И мама с папой дружат. Все хорошо.
Брак Иры и Володи распался после десяти лет совместной жизни. Ни он, ни она больше не создали семью. Как-то я спросила Иру:
– Может быть, вы снова сойдетесь? Ты одна, он один… Без недостатков людей не бывает. Но человек он хороший, отзывчивый, всегда в трудную минуту приходит на помощь. У вас общая дочь. Подумай…
– Володя действительно хороший человек, – согласилась со мной Ира. – Когда я лежала в больнице, он волновался за меня, как пройдет операция, привозил мне все, что я просила. По сей день помогает нам с ремонтом – у него золотые руки, он все умеет делать, обеспечивает нас картошкой, капустой и другими продуктами, чтобы мы с Катюшей не носили тяжести. Когда мама умерла, он принял большое участие в организации похорон. Без его помощи мне было бы очень тяжело. Но сойтись с ним снова… Это исключено. Что ушло, то ушло. Да, у нас общая дочь. И я никогда не препятствовала их общению. У нас хорошие, дружеские отношения. Он нам не чужой, он отец моей дочери.
– Людей, которые когда-то любили друг друга, а потом по тем или иным причинам расстались, хотят они того или не хотят, связывает прошлое, – говорила моя мама. – Вот Виктор, племянник моей подруги Светы, давно разошелся со своей женой. Детей у них не было. Но узнав, что Аня заболела (родных у нее нет – помочь некому), навещал ее в больнице, привозил все, что ей было нужно. Когда Аню выписали, Виктор приехал за ней и отвез домой. Он забил Анин холодильник продуктами, чтобы ей было что поесть.
– Какой молодец! Может, они снова сойдутся? – спросила я.
– Не думаю, – ответила мама. – Света говорит, что когда она задала Виктору этот вопрос, он ответил: «Мы же люди! Постороннему человеку оказываешь помощь, а тут – бывшая жена... Как тут не помочь!»
Никто не просит вас дружить с бывшим партнером самой крепкой дружбой и доверять ему все на свете, но что бы там ни было, нельзя расставаться врагами, надо простить друг друга и отпустить обиду. Человек всегда должен оставаться человеком. И если у вас есть общие дети, надо постараться сохранить хорошие отношения. Подумайте о детях!
Баба Мила любит сидеть у окна. Мимо проезжают машины, бегут куда-то дети... За окном бурлит жизнь.
Баба Мила совсем одна. Муж умер давно. Дочь далеко, заграницей. А больше никого у нее нет. Вот и живет она от звонка до звонка дочери в ожидании, когда та приедет в отпуск.
Это сейчас она баба Мила, а когда-то это была Людмила Михайловна, врач, завотделением, красивая, энергичная женщина, бывшая фронтовичка, на которую все заглядывались.
Что старость делает с человеком? Людмила Михайловна даже представить себе не могла, что наступит такой момент, когда у нее не будет сил разъезжать по курортам, ходить по театрам, концертам, выставкам, быть в центре всех событий. Сейчас самое большое удовольствие – послушать «Радио-Орфей» да посидеть на лавочке во дворе либо у окна. Читать ей стало трудно – зрение испортилось, а раньше она так много читала. Куда-то подевались многочисленные подружки – кто умер, кто... Никого нет рядом. Приходит раз в неделю социальный работник, приносит продукты, помогает по хозяйству. Это надо же – сил нет себя обслужить!
Но вот позвонила Инночка. Людмила Михайловна такая счастливая. У Инночки все хорошо, все замечательно, собирается летом приехать.
Людмила Михайловна откладывает часть пенсии (на что она живет, непонятно), чтобы отдать её Инночке. «Девочка потратилась («девочке» за пятьдесят), надо ей помочь». Что тут скажешь – мама.
«Я не хочу уезжать из своей квартиры. Не буду жить с ними, не хочу усложнять их жизнь. Инночке и так достается: работа, семья. У нее слабое здоровье, а тут я еще. И потом, кто знает, может, они вернутся. Я сохраняю им московскую квартиру».
Инночка приезжала. Мать смотрела на нее счастливыми глазами. Всячески старалась ей угодить. Дочь это только раздражало. А что надо старому одинокому человеку? Чтоб его выслушали.
– Я скоро разучусь говорить, – сетовала на жизнь баба Мила.
Бабе Миле все труднее и труднее становилось жить одной. Она стала многое забывать, часто повторяла одно и то же, у нее начались головокружения.
Когда Инночка в очередной раз приехала домой, мать не сразу узнала ее, не хотела впускать в дом. Это несмотря на то, что все глаза проглядела, ожидая дочь.
Инночка не знала, что делать. Забрать к себе мать она не могла – с зятем теща плохо ладит, муж болеет, только что ему сделали шунтирование сердца. Выход один – Дом престарелых.
И хотя у бабы Милы была там отдельная маленькая комнатка со всеми удобствами, телевизор в комнате, все стерильно чисто, и кормят неплохо, в магазин за продуктами ходить не надо, особенно зимой в гололед, у плиты стоять не надо – живи на всем готовом, и артисты приезжают, и приятели, такие же одинокие старики, завелись, баба Мила ждет не дождется: «Скорее бы лето – приедет Инночка, заберет меня домой. Я хочу умереть в своей постели».
Не дождалась. Пустует московская квартира. Мимо проезжают машины, бегут куда-то дети, за окном бурлит жизнь.
ВСЕГО НЕ ОБЪЯСНИШЬ
Он звонил мне двадцать раз на день. Встречались мы почти ежедневно. С ним было легко и просто: не надо было ничего из себя изображать, он тонко чувствовал твое настроение и поразительно точно угадывал желания. Обладал чувством юмора. И внешне был довольно приятен.
Я не была в него влюблена, я еще не пришла в себя от «предыдущей любви», но мне было с ним хорошо, даже слишком хорошо. И это настораживало, мешало дружес-ким отношениям перерасти в нечто большее.
– А, пусть идет, как идет! – махнула я рукой. – Была у тебя Великая любовь, и что? Остались одни осколки. Может быть, спокойное чувство надежнее? Есть взаимопонимание. Он тебя не раздражает. Кому эти страсти нужны?
С ним происходило то же самое, что и со мной. Думаю, он тоже пережил некий удар судьбы и медленно «выздоравливал». Никаких вопросов я ему не задавала, как и он мне. Со мной ему было тепло, спокойно. Мы очень приятно проводили время. За полгода отношения не продвинулись ни на йоту. Меня это устраивало. Его... не знаю. Попытки продвинуться вперед у него были, но очень уж робкие.
Неожиданно он решил познакомить меня со своими друзьями. Я человек открытый, общительный, все, с кем я встречалась, запросто приходили ко мне домой, были знакомы с моими родными, друзьями. Его же друзья, его прошлая жизнь были мне неизвестны. Поэтому предложение встретить Новый год в компании было чем-то новым. Я не люблю встречать этот праздник вне дома. Но он так этого хотел, что сумел уговорить маму отпустить меня с ним. Мама расчувствовалась и пообещала испечь фирменный торт.
Итак, мы отправились к его друзьям. Меня приняли, как свою. Было очень весело. И я ни на минуту не пожалела, что встречала Новый год не в кругу семьи.
Через несколько дней он уехал в командировку. Прислал нежное и трогательное письмо. Привез мне из поездки смешной сувенир. Все было замечательно! Еще лучше, чем всегда.
Он должен был мне позвонить, но я почему-то почувствовала: звонка не последует. Неужели у меня так сильно развита интуиция?
Не могу сказать, что я сильно переживала. Но не давал покоя вопрос: почему? Ведь было так хорошо! И что-то внутри уже начало шевелиться... Ну почему все оборвалось на самой «высокой ноте»?
А на Восьмое марта я получила открытку: «Спасибо тебе за все. Было сказочно хорошо. Извини, что я так бесследно исчез. Но всего не объяснишь». Ну что ж, будь счастлив, дорогой!
Грустить мне было некогда. На работе была запарка. Я так уставала, что в голове была одна лишь мысль: «Только бы добраться до постели».
Неожиданно мне позвонил отец хозяйки квартиры, в которой мы встречали Новый год. Он рад, что у его дочери появилась такая знакомая. Я очень ему понравилась. (Когда успела? Он видел меня мельком.) Знает, что с Ариком у меня все кончено. Очень меня жалеет. (Напрасно!) Хотел бы меня видеть. Он овдовел, ему очень тяжело. Просит не говорить дочери о звонке, так как мой номер взял из ее записной книжки, которая раскрытой лежала на тумбочке. И так ему захотелось мне позвонить!
Что он знает об Арике? В чем причина его исчезновения? Но как я ни пыталась это выяснить, Петр Григорьевич уходил от этой темы. Я пообещала, когда будет время, его навестить. Интересно же: почему меня покинули?
Когда я рассказала об интригующем звонке маме, она воскликнула:
– Какой человек! Конечно, навести его. Ему так тяжело! Нельзя быть неблагодарной. Заодно и узнаешь, что случилось с Ариком.
У меня сорвалось свидание.
Мы с приятелем не точно договорились о месте встречи. Он ждал меня у одного выхода из метро, я же ждала его у другого. Вечер был испорчен. И тут позвонил Петр Григорьевич. Ну, я и поехала к нему на другой конец города. Не пропадать же вечеру! Очень переживала, что все ларьки по дороге были закрыты, и я приехала с пустыми руками.
Петр Григорьевич радостно меня встретил. И первым делом стал кормить. Готовил он прекрасно! Переживал, что я не могу увидеть его ковры, которые в химчистке, и хрусталь. Демонстрировал шикарную библиотеку, почетное место в которой было отведено литературе на сексуальные темы. Надо же, в его возрасте... (Ему было шестьдесят). Меня это не волновало. Меня интересовало лишь одно: куда и почему исчез Арик. Петр Григорьевич ловко уходил от ответа.
Раздался звонок:
– Анечка, я не могу сейчас с тобой разговаривать. У меня дама.
Кусок остановился у меня в горле. Ну и дура же я! Какая наивная дура! А мама, почему мама ничего не заподозрила? Мне это напомнило анекдот: что такое наивность и сверхнаивность. Наивность – это когда дочка думает, что ее мама выходила замуж девушкой, а сверхнаивность – когда мама думает, что её дочь – девушка.
Что делать?
Как без лишнего шума покинуть этот дом? Хотя бы час надо продержаться. Я притворилась, что ничего не поняла.
– Я Вам очень сочувствую, Петр Григорьевич. Давайте, я Вас познакомлю с мамой. У нее много приятельниц, и Вы не будете одиноки.
Он поморщился:
– О нет, я не могу, когда вижу старую шею, мне надо, чтобы хотелось всегда...
Ничего себе!
Наконец я «вспомнила», что у меня еще одно «важное дело», и мне надо бежать.
Он потащился меня провожать. Слава Богу, только до метро.
– Приезжайте, я Вас познакомлю с родителями.
– С удовольствием. Но я боюсь, что они поймут, что я приехал к тебе, а не к ним.
О нет, это им в голову не придет!
Когда Петр Григорьевич мне еще позвонил, я была уже на своей территории, мне не стоило большого труда поставить точку на этом знакомстве.
А Арик? Бог с ним! Всего не объяснишь...
МАМА ВСЕДЕЛКА
– Моя мама – вседелка, – сообщила мне шестилетняя Марина. – Она ни секунды не сидит без дела: готовит вкусную еду, убирается в квартире, гладит, стирает, играет и гуляет со мной, водит меня на разные занятия. Мама умеет шить, вязать, гвозди забивать, клеить обои и еще много разного.
– А папа твой что в это время делает? – спрашиваю Маришу.
– Папа много работает, устает, – пожалела папу девочка.
– Так и мама твоя тоже работает и тоже устает.
– Мама говорит, что на работе она отдыхает от дома. А папа дома отдыхает от работы, – объясняет мне девочка.
– Бабушка говорит, что мужчин надо беречь, – рассказывает Марина, – потому что, во-первых, их мало: «на десять девчонок по статистике девять ребят»; во-вторых, хотя и считается, что мужчины – сильный пол, а женщины слабый, на самом деле все наоборот: женщины выносливее и живут дольше мужчин. «Так что, – учит бабушка маму, – пришел муж с работы, покорми его, и пусть делает, что хочет: футбол смотрит, с машиной возится, с друзьями пиво пьет. Будешь приставать к нему – уйдет, и будешь одна куковать с ребенком. Он-то один не останется, тут же подберут», – пугает она маму.
Какой кошмар! Разве можно вести при ребенке такие разговоры!
– Вот папа и лежит все время на диване, читает газету или смотрит телевизор. Его отвлекать нельзя, а то он будет сердиться, – продолжает рассказывать девочка. – Папа тут как-то уснул во время одной из телевизионных передач. Мама тихонько убрала звук. Так папа тут же проснулся и начал ругаться, что ему не дают отдохнуть. Когда папа дома, все должны ходить на цыпочках.
Что тут скажешь! Мама – вседелка, а папа устает.
Раньше мужчина был хозяином в доме, главой семьи. «САМ», – уважительно называли его.
– А что теперь? Кто глава семьи?
– САМА. Сама «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет»?
– Зачем ей, если она – САМА, если она ВСЕДЕЛКА, нужен такой САМ?
Ответ прост:
– Дети. Сами по себе дети не появляются на свет. А детям нужны и мама, и папа.
И, как когда-то сказал отец моей подруги:
– Бриллиант должен быть в оправе. Ты вышла в свет – ты замужняя женщина, а не одинокая, никому ненужная «гармонь». Грустно.
ОН НАМ НЕ ЧУЖОЙ
Люди сходятся и расходятся. Такова реальность. По-разному складываются отношения после разрыва. Понятно, что лучшими друзьями, после того как развелись или расстались, вы не станете. Но разве нельзя сохранить нормальные, добрые отношения со вчерашним супругом или супругой? Ведь когда-то вас тянуло друг к другу, у вас было много общего, вы любили друг друга, иначе вы просто не вступили бы в брак. У вас общие дети, которые любят и маму, и папу, и в их воспитании должны участвовать оба родителя. А у нас большинство разводится, когда уже видеть не могут друг друга. И это нежелание видеть друг друга сохраняют и в дальнейшем. Многие мамы вообще не дают бывшим мужьям видеться с детьми, настраивают детей против отца, не понимая, как это разрушительно для психики ребенка.
Шестилетняя Марина играет в куклы.
– Ты опять нализался, пьянь ты эдакая! – ругает кукла-мама куклу-папу.
– Мариночка, – спрашиваю я девочку, – разве папа обязательно должен быть пьяницей?
– Конечно, он же мужчина, – заявляет девочка.
– Почему папа больше с нами не хочет жить? Из-за меня? – плачет четырехлетний Дима. – Мама, скажи папе, что я больше не буду так себя вести, я буду хорошим. Я его люблю. Я хочу, чтобы мы втроем гуляли – ты, папа и я, и чтобы папа носил меня на плечах, как раньше.
– Ты такой же, как твой папаша, – с раздражением говорит мать провинившемуся сынишке.
– Мама меня не любит, – думает мальчик. – У папы родился другой сынок. Никому я не нужен! – сокрушается он.
Я знаю немало таких бывших пар, которые сумели оставить в прошлом все свои обиды, которые благодарны друг другу за все хорошее, что было и ушло, и сохранили теплые, дружеские отношения.
– Бедная мама! – плачет дочь. – Как мне тебя жалко! Я вдруг поняла, что похожа на него, а не на тебя. Ты со мной тоже разведешься?
– Солнышко мое, ты это о чем? Папа у тебя хороший, он часто к тебе приходит, занимается с тобой. И мы с твоим папой общаемся.
– А почему же вы не живете вместе?
– Детка, это наши взрослые дела, и это не должно тебя волновать. У тебя есть и мама, и папа. Ты много хорошего взяла от нас обоих. Мы тебя очень любим.
– У меня замечательные родители, – сказал как-то мне племянник. – Оба. Но то, что они разошлись, благо для всех. Надо было это cделать раньше. Сейчас, когда они свободны, их отношения намного лучше, чем были раньше – ни ссор, ни упреков. У каждого своя жизнь: папа женился, мама наслаждается свободой. Но они общаются, помогают друг другу.
Георгий развелся с женой, когда сыну было три года, но сохранил с матерью ребенка хорошие, я бы даже сказала, дружеские отношения. Каждый день после работы отец приходил к сыну, гулял с мальчиком, занимался с ним, привил сыну любовь к математике. Мальчик в четырнадцать лет экстерном окончил школу и поступил на мехмат университета.
Конечно, как любой ребенок, мальчик хотел бы жить вместе с мамой и папой, но раз это невозможно… От него же никто не отказывается, его любят, им занимаются. Они с папой друзья. И мама с папой дружат. Все хорошо.
Брак Иры и Володи распался после десяти лет совместной жизни. Ни он, ни она больше не создали семью. Как-то я спросила Иру:
– Может быть, вы снова сойдетесь? Ты одна, он один… Без недостатков людей не бывает. Но человек он хороший, отзывчивый, всегда в трудную минуту приходит на помощь. У вас общая дочь. Подумай…
– Володя действительно хороший человек, – согласилась со мной Ира. – Когда я лежала в больнице, он волновался за меня, как пройдет операция, привозил мне все, что я просила. По сей день помогает нам с ремонтом – у него золотые руки, он все умеет делать, обеспечивает нас картошкой, капустой и другими продуктами, чтобы мы с Катюшей не носили тяжести. Когда мама умерла, он принял большое участие в организации похорон. Без его помощи мне было бы очень тяжело. Но сойтись с ним снова… Это исключено. Что ушло, то ушло. Да, у нас общая дочь. И я никогда не препятствовала их общению. У нас хорошие, дружеские отношения. Он нам не чужой, он отец моей дочери.
– Людей, которые когда-то любили друг друга, а потом по тем или иным причинам расстались, хотят они того или не хотят, связывает прошлое, – говорила моя мама. – Вот Виктор, племянник моей подруги Светы, давно разошелся со своей женой. Детей у них не было. Но узнав, что Аня заболела (родных у нее нет – помочь некому), навещал ее в больнице, привозил все, что ей было нужно. Когда Аню выписали, Виктор приехал за ней и отвез домой. Он забил Анин холодильник продуктами, чтобы ей было что поесть.
– Какой молодец! Может, они снова сойдутся? – спросила я.
– Не думаю, – ответила мама. – Света говорит, что когда она задала Виктору этот вопрос, он ответил: «Мы же люди! Постороннему человеку оказываешь помощь, а тут – бывшая жена... Как тут не помочь!»
Никто не просит вас дружить с бывшим партнером самой крепкой дружбой и доверять ему все на свете, но что бы там ни было, нельзя расставаться врагами, надо простить друг друга и отпустить обиду. Человек всегда должен оставаться человеком. И если у вас есть общие дети, надо постараться сохранить хорошие отношения. Подумайте о детях!

Ольга РУМЯНЦЕВА
Родилась в Ярославле в 1994 г. В 2012 г. поступила в Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского на факультет русской филологии и культуры, а в 2023 г. успешно окончила магистратуру по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков (английский язык)». Помимо научной деятельности, активно интересуюсь живописью, кинематографом, однако мое сердце всецело принадлежит литературе. Впервые попробовала свои силы в области литературного мастерства в 2022 году, участвуя в конкурсе короткого рассказа.
Родилась в Ярославле в 1994 г. В 2012 г. поступила в Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского на факультет русской филологии и культуры, а в 2023 г. успешно окончила магистратуру по специальности «Теория и методика преподавания иностранных языков (английский язык)». Помимо научной деятельности, активно интересуюсь живописью, кинематографом, однако мое сердце всецело принадлежит литературе. Впервые попробовала свои силы в области литературного мастерства в 2022 году, участвуя в конкурсе короткого рассказа.
ИСПОВЕДЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
Едва ли нашелся хотя бы один человек, который радовался окончанию лета. На вокзале с бесчисленными чемоданами уныло плелись румяные от загара люди, предвкушая наступление рабочей недели. Но больше всего окончание лета волновало детей. С ужасом каждый школьник ожидал наступления нового учебного года, к этому периоду особенно трепетно относились будущие первоклассники. Мамочки будущих школьников исступленно сновали по торговым центрам и канцелярским магазинам, выбирая все самое лучшее для своих малышей.
Егор Белов был именно тем маленьким мучеником, которому предстояло впервые попробовать на вкус таинственный гранит науки. Не понаслышке малыш знал, что школа – отнюдь не веселое место. От своих более старших товарищей он слышал множество историй о страшных существах под названием учитель. Сознанию его представлялось огромное чудище с острыми клыками, из руки которого торчал огромный меч-линейка. Этот меч служил чудовищу для наказания нерадивых учеников, например, за невыполнение домашней работы. Временами чудовище издавало дикие, подобные раскатам грома звуки. Его излюбленными фразами были: «А голову ты дома не забыл?!», «Кто за тебя учиться будет? Пушкин?!» и т.д.
Егор смутно представлял себе, что такое домашняя работа. Казалось бы, за что его ругать, если он регулярно помогает маме по дому: моет посуду, ругает кота за очередной погрызенный цветок, исправно ест суп. Но даже здесь его надежды не оправдали себя – более опытные школьники, отбывающие свой срок за партой уже не первый год, рассказали, что домашнее задание больше похоже на пытку: вечерами, после школы, ты часами сидишь над умными книжками под чутким присмотром строгого надзирателя-мамы. Егор не мог в это поверить. Как его добрая, заботливая мама может превратиться в строгого надзирателя…
И вот этот день настал. Егор не спал всю ночь, ожидая наступления утра. Мать застала сына в холодном поту. Малыш был настолько напуган, что даже отказался есть свою любимую кашу. Нехотя Егор поплелся чистить зубы и умываться, затем мама помогла ему одеться и взгромоздила на хрупкие плечи сына тяжелый от знаний рюкзак. Казалось, церемония инициации была почти завершена, как вдруг мать сунула в руки Егора огромный букет, который тот должен был принести в жертву чудовищу.
На пороге школы уже стояли старшеклассники, они отвели Егора в зону ожидания своей участи. Во дворе школы он увидел множество таких же первоклассников, облаченных в серую школьную робу.
И вот двери школы распахнулись, и организованной группой детей повели в класс. Егор решительно устремился в сторону последней парты в надежде, что так монстр не сразу заметит его. И в то же время он был поражен той смелостью и необычайной глупостью детей, которые решились сесть за первые парты.
Ожидание оказалось долгим. Из дверного проема то и дело выглядывали довольные родители. Вот появилась и мать Егора, она, широко улыбаясь, неистово махала ему, но Егор только обиженно отвернулся. Внезапно в коридоре послышались шаги. Сердце Егора забилось с бешеной скоростью и уже готово было выпрыгнуть из груди. Тут в класс вошла девушка, это была первая в жизни Егора учительница. На вид она оказалась не такой уж и страшной – золотые кудри волос ослепительно блестели в лучах осеннего солнца. Ее бархатный голос струился, словно горный ручей. На некоторое время Егор потерял бдительность, расплываясь в застенчивой улыбке, но вскоре взял себя в руки и решил не смотреть в сторону учительницы, дабы не оказаться в ее плену.
В целом урок прошел неплохо, пока дело не дошло до домашнего задания. Обилие заданий на сложение и вычитание, а также заполнение целых двух страниц прописи до такой степени его напугало, что он целый вечер просидел за уроками, чтобы не разгневать учителя. Мама заботливо сидела рядом с сыном, следя за тем, чтобы тот не допустил ошибок, однако прописи все же оказались безнадежно испорчены: как ни старался Егор выводить стройные изгибы букв дрожащей рукой, у него ничего не получалось. Предательски взлетала в разные стороны буква «о», казалось бы, самая элементарная буква. Казалось, что самые страшные ожидания Егора вот-вот воплотятся в жизнь.
На следующий день он был готов к неминуемому наказанию за криво выцарапанные на изящно прорисованных строчках буквы. Наконец подошла очередь Егора демонстрировать домашние плоды интеллектуального и физического труда. Малыш сжался, ожидая самого страшного наказания, однако Татьяна Ивановна лишь улыбнулась и погладила Егора по голове, высоко оценив его старания.
На секунду он оцепенел от неожиданности, то чудовище, которое рисовало его сознание, неожиданно исчезло, уступив место доброй, заботливой девушке. В тот момент Татьяна Ивановна напомнила ему маму. Малыш расплылся в улыбке и обнял ее так крепко, сколько было сил в его маленьких ручках.
Тогда Егор дал себе слово никогда не доверять слепо чужому мнению, а слушать только свое сердце, которое, подобно маленькому огоньку, разгорается от добрых слов и окружающей его любви, озаряя своим ярким светом все вокруг.
Едва ли нашелся хотя бы один человек, который радовался окончанию лета. На вокзале с бесчисленными чемоданами уныло плелись румяные от загара люди, предвкушая наступление рабочей недели. Но больше всего окончание лета волновало детей. С ужасом каждый школьник ожидал наступления нового учебного года, к этому периоду особенно трепетно относились будущие первоклассники. Мамочки будущих школьников исступленно сновали по торговым центрам и канцелярским магазинам, выбирая все самое лучшее для своих малышей.
Егор Белов был именно тем маленьким мучеником, которому предстояло впервые попробовать на вкус таинственный гранит науки. Не понаслышке малыш знал, что школа – отнюдь не веселое место. От своих более старших товарищей он слышал множество историй о страшных существах под названием учитель. Сознанию его представлялось огромное чудище с острыми клыками, из руки которого торчал огромный меч-линейка. Этот меч служил чудовищу для наказания нерадивых учеников, например, за невыполнение домашней работы. Временами чудовище издавало дикие, подобные раскатам грома звуки. Его излюбленными фразами были: «А голову ты дома не забыл?!», «Кто за тебя учиться будет? Пушкин?!» и т.д.
Егор смутно представлял себе, что такое домашняя работа. Казалось бы, за что его ругать, если он регулярно помогает маме по дому: моет посуду, ругает кота за очередной погрызенный цветок, исправно ест суп. Но даже здесь его надежды не оправдали себя – более опытные школьники, отбывающие свой срок за партой уже не первый год, рассказали, что домашнее задание больше похоже на пытку: вечерами, после школы, ты часами сидишь над умными книжками под чутким присмотром строгого надзирателя-мамы. Егор не мог в это поверить. Как его добрая, заботливая мама может превратиться в строгого надзирателя…
И вот этот день настал. Егор не спал всю ночь, ожидая наступления утра. Мать застала сына в холодном поту. Малыш был настолько напуган, что даже отказался есть свою любимую кашу. Нехотя Егор поплелся чистить зубы и умываться, затем мама помогла ему одеться и взгромоздила на хрупкие плечи сына тяжелый от знаний рюкзак. Казалось, церемония инициации была почти завершена, как вдруг мать сунула в руки Егора огромный букет, который тот должен был принести в жертву чудовищу.
На пороге школы уже стояли старшеклассники, они отвели Егора в зону ожидания своей участи. Во дворе школы он увидел множество таких же первоклассников, облаченных в серую школьную робу.
И вот двери школы распахнулись, и организованной группой детей повели в класс. Егор решительно устремился в сторону последней парты в надежде, что так монстр не сразу заметит его. И в то же время он был поражен той смелостью и необычайной глупостью детей, которые решились сесть за первые парты.
Ожидание оказалось долгим. Из дверного проема то и дело выглядывали довольные родители. Вот появилась и мать Егора, она, широко улыбаясь, неистово махала ему, но Егор только обиженно отвернулся. Внезапно в коридоре послышались шаги. Сердце Егора забилось с бешеной скоростью и уже готово было выпрыгнуть из груди. Тут в класс вошла девушка, это была первая в жизни Егора учительница. На вид она оказалась не такой уж и страшной – золотые кудри волос ослепительно блестели в лучах осеннего солнца. Ее бархатный голос струился, словно горный ручей. На некоторое время Егор потерял бдительность, расплываясь в застенчивой улыбке, но вскоре взял себя в руки и решил не смотреть в сторону учительницы, дабы не оказаться в ее плену.
В целом урок прошел неплохо, пока дело не дошло до домашнего задания. Обилие заданий на сложение и вычитание, а также заполнение целых двух страниц прописи до такой степени его напугало, что он целый вечер просидел за уроками, чтобы не разгневать учителя. Мама заботливо сидела рядом с сыном, следя за тем, чтобы тот не допустил ошибок, однако прописи все же оказались безнадежно испорчены: как ни старался Егор выводить стройные изгибы букв дрожащей рукой, у него ничего не получалось. Предательски взлетала в разные стороны буква «о», казалось бы, самая элементарная буква. Казалось, что самые страшные ожидания Егора вот-вот воплотятся в жизнь.
На следующий день он был готов к неминуемому наказанию за криво выцарапанные на изящно прорисованных строчках буквы. Наконец подошла очередь Егора демонстрировать домашние плоды интеллектуального и физического труда. Малыш сжался, ожидая самого страшного наказания, однако Татьяна Ивановна лишь улыбнулась и погладила Егора по голове, высоко оценив его старания.
На секунду он оцепенел от неожиданности, то чудовище, которое рисовало его сознание, неожиданно исчезло, уступив место доброй, заботливой девушке. В тот момент Татьяна Ивановна напомнила ему маму. Малыш расплылся в улыбке и обнял ее так крепко, сколько было сил в его маленьких ручках.
Тогда Егор дал себе слово никогда не доверять слепо чужому мнению, а слушать только свое сердце, которое, подобно маленькому огоньку, разгорается от добрых слов и окружающей его любви, озаряя своим ярким светом все вокруг.
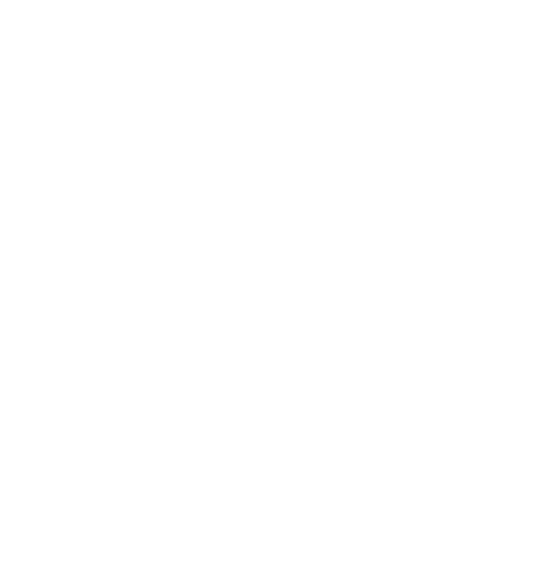
Анастасия СУРОЕГИНА
В школе писала стихи, обожала сочинения и эссе, участвовала в литературных конкурсах. В 2018 году я закончила филологический факультет педагогического университета. Успела поработать в газете, SMM-менеджером, пресс-секретарем, преподавала русский иностранцам на удалёнке. В свободное время пишу короткие новеллы — это своего рода разгрузка. Литература помогает мне выплёскивать чувства, которые иногда столь велики, что становятся громче меня самой. Мои увлечения, окружение, профессии, которые я успела попробовать, места, в которых успела побывать, подталкивали начать писать, и роль их огромна. И всё-таки ведущей силой в этой связке, несущей меня по литературному пути, всегда была и, наверное, будет любовь. Ведь из неё рождается любое искусство.
В школе писала стихи, обожала сочинения и эссе, участвовала в литературных конкурсах. В 2018 году я закончила филологический факультет педагогического университета. Успела поработать в газете, SMM-менеджером, пресс-секретарем, преподавала русский иностранцам на удалёнке. В свободное время пишу короткие новеллы — это своего рода разгрузка. Литература помогает мне выплёскивать чувства, которые иногда столь велики, что становятся громче меня самой. Мои увлечения, окружение, профессии, которые я успела попробовать, места, в которых успела побывать, подталкивали начать писать, и роль их огромна. И всё-таки ведущей силой в этой связке, несущей меня по литературному пути, всегда была и, наверное, будет любовь. Ведь из неё рождается любое искусство.
КУРТУАЗНАЯ ИСТОРИЯ
За колосок ячменя
Ухватился, ища опоры…
— Возможно, в других обстоятельствах или эпохах всё могло бы сложиться иначе.
— Свинцовый пух и ледяное пламя — погружаясь в одно, ты тут же оглушён другим.
— И на том балу, помнишь, может быть, не стоило нам вовсе знакомиться, потому что сколько бы мы ни знакомились, всё никак не получается удачно. Меня бы успокоила Розалина.
— Это иллюзия, душа моя. Сколько бы мы ни знакомились, случается эта минута. Я всё равно буду и на балу, и на балконе. Везде буду, всё равно мы встретимся… Это уже решено. Не приди ты тогда, какая бы вышла история? Ну просто ерунда, а не история! Мы бы всё загубили нашему автору! Разве так интересно?
— Просто нужно было жениться или сменить имя и сбежать, как ты хотела. План был хорош, с письмом только просчитались. Проблемы с коммуникацией в этой эпохе…
— Роза пахнет розой, помнишь? В этом и был смысл. Ну что бы нас ждало, если бы не вот так? Миг нежнейшей влюбленности потерялся бы в хаосе бытовых забот: хозяйство, слуги, дети… Я бы располнела…
— Может быть, мы были бы счастливы…
— О, нет, это хуже ада. Вот сейчас мы с тобой здесь. 384 400 км, кажется… Ждём следующей истории. И она, конечно, случится очень скоро. Но разве тебе здесь хорошо? Вечный покой? Вишня, это дурацкое окно, виноград и Шуберт? Я вот скучаю по Бетховену…
— Мы его послушаем скоро, не унывай. В одной из историй точно. Мне просто так хочется покоя.
— Покой — это болото. Стагнация. Отсутствие чувств, – она задумалась и посмотрела вокруг. – Какой-то корявый мостик, не находишь?
— Я просто хочу сказать, что счастье всё равно так стремительно, что мне кажется, его нет. А покой есть. И воля.
— В покое мы бы не встретились. Вообще этого всего не было бы. Это же куча энергии! И ты, и я — кусочки звезды, которые по инерции порхают между эпохами на ядерной тяге. Ни в каком вакууме мы бы не появились. Как бы я тогда узнала от тебя про орла, и поезд, и этого…
— Гейзенберга.
— Да! Классный мужик… Слушай, ну в другой раз получится обязательно. Это не последняя весна. В половине историй мы и до 31 не дожили, что унывать? Тут, конечно, стоики правы: что-то ты просто не можешь проконтролировать, придётся смириться… Другое дело, что то, что можешь, не всегда контролируешь. Но мы научимся, я думаю. Ещё лет 500-600…
— Тебе удобно вообще?
— Да.
— Спи тогда.
АГОН
— Любопытно… — женщина пристально вглядывалась в поле шерстяных жучков, расползавшихся от спицеобразных пальцев в разные стороны. Вспышки всех возможных отрезков видимого спектра (она, конечно, могла заметить больше) собирались в молекулярные сетки, выстраивая какую-то пьесу. Драматическую, очевидно.
— Это будет весьма трагичная история.
— И весьма тривиальная, — фигура, восседающая на спинке кровати, вальяжно качала смуглой ножкой, обдаваемой белой хлопковой волной. Каждый новый прилив бился о коричневую кожу сандалий, но откатывал таким же блистательно белым гребнем.
— Вот если бы ты выткала меня или, скажем, папу… Или братца на худой конец. Тогда ты бы обязательно меня победила. Люди признают за тобой первенство, но это раздражает меня меньше, чем такая глупая трата нити.
— Помнится, в прошлый раз за победу я получила отнюдь не лавровый венок, — мастерица улыбнулась, обернувшись на гостью. В глазах пробежала дружеская издевка.
— Я не умею проигрывать, ты же знаешь… — взгляд ударился об пол, но быстро оправился и отпрыгнул обратно с наглым накатом. — Ну скучно же!
— Моя история тоже довольно скучна, — пальцы продолжали неровный бег, выстраивали ряд за рядом проступающую картину.
— Всего лишь сохранится в разных вариантах легенд на пару-тройку тысячелетий. Действительно. Не впечатляет, — бровь выброшена вверх громким воздушным залпом.
— Смотри, — палец скользил по готовой части вышивки, соединяя сцену за сценой, — их история очень похожа на мою. Тоже будет ткаться несколько лет, пока ты или кто-нибудь из твоей родни не подбросит плот или волшебное покрывало. Кто-то из них будет ждать, а кто-то — искать дорогу… И когда-нибудь, я верю, обязательно найдёт. Тебя это не захватывает?
За театральным зевком последовало немедленное оживление: женщина сняла с головы металл, оставив его у кровати, подошла к медленно прорастающему гобелену.
— Это глупо. Одно дело — сражаться с циклопом, другое — с общественным осуждением. Второе можно пережить.
— А?
— Неважно… Вы мне надоели. Я столько раз услышу и увижу всё вот это вот, что уже тошно. Как бы я ни помогала — вечно всё усложняете. Чудеса какие-то. Это даже я не могу проконтролировать.
— Хорошая история не может быть простой.
— Я доверила вам самим разобраться со своей жизнью, и что вышло? Теперь ты и этих бедолаг обрекаешь на испытания? — смуглая костяшка указательного пальца под присмотром карих прожекторов скользнула по вытканной щеке. — Общение со мной делает тебя такой жестокой или власть над этими фигурками?
Мастерица хихикнула.
— Ты же знаешь, что я не закончу. Через пару часов там внизу начнется хаос, а завтра какой-то старик разгадает мою загадку и превратится в моего мужа. Всё, конечно, с твоей подачки. А у этих ребят останется еще метров десять свободной нити на то, чтобы самим разобраться. Может выйти увлекательно, — ниточка натянулась и уголок губ дёрнулся вверх.
— Я уже посмотрела на это…
— И как?
— В них осознанности меньше, чем в твоём муженьке! Лажают абсолютно в любую эпоху, с любыми вводными. Я ещё не решила, буду ли помогать… — белые волны забили в сторону окна.
— Будь терпелива. Пусть набьют шишки, — плеск волн потихоньку смешивался с криками и звоном металла. — Хотя мы бы без твоей помощи не справились… Сердобольная. Когда-нибудь устанешь смотреть на слепых котят, — маленькие голубые озёра тепло окутали гостью. Ниточка снова дёрнулась, потянув за собой уголок губ. Вечерний розовый фильтр делал декорации густыми, отчего время на минутку-другую вязло, а затем, торопясь, возобновляло ход.
— Ладно. Я там закончила, если что — зови, — гостья переместилась на подоконник, коричневые сандалии болтались в воздухе.
— Спасибо, — мастерица улыбнулась, — ты же поможешь им? — силуэт в оконном проеме засутулился и отвёл взгляд, потихоньку растворяясь в солёном воздухе.
— Постараюсь.
БАЛКОН
— Весело тогда было, и правда… — губы изогнулись в такую непривычную для них за столько лет форму, что рука немедленно поднесла к ним отрезвляющий никотиноноситель.
Напротив сидела девушка лет 30. Чёрное платье обволакивало мягкую фигуру. Вся она была такой маслено-текучей, что даже сейчас, сидя на краю балкона, выглядела так, словно вот-вот стечет куда-то вниз. Она ни за что не держалась, болтала ногами, а гравитация игнорировала её существование.
— Так глупо. Мне казалось, что это никогда не закончится, — копна каштановых кудрей хихикнула и качнулась туда-сюда, угрожая сорваться.
— Мне тоже, — бычок-метеорит исчез на далёком асфальте, тонкие руки скользнули вниз, поправляя серый пиджак, и повисли на балконном ограждении, подпирая короткостриженную голову.
— Но ты всё закончил. Причём очень некрасиво, чтобы ты знал. Я всё ещё зла, — кудри демонстративно отлетели с плеча за спину, задев по инерции диафрагму соседней фигуры.
Мужчина посмеялся. Ему было чуть больше сорока.
— Ты очаровательна, — смех добрый, но всерьез он говорит или в шутку — никто бы не смог ответить точно.
— Не смейся. Ты правда меня сильно обидел.
— Я знаю. Я тебя много раз обижал, но иначе от тебя не отдалиться…
— Зачем вообще было отдаляться? Разве нам не было хорошо?
Лёгкие надулись, как пара дирижаблей, и резко спустили всё, что было, тяжелым вздохом.
— Я ведь уже говорил об этом. Ты была слишком близко. Это пугает.
— Ты бездушный. Обвинял меня во всех смертных грехах. Шпынял ежедневно, как будто без этого день не сложится. Обязательно быть таким козлом? Совершенно не умеешь разделять…
— Поэтому я делегировал это тебе.
— Ты выдвинул мне отвратительный ультиматум. Манипулировать моим хорошим к тебе отношением… Фу.
Дирижабли выпустили остатки воздуха и удлинённое каре упало на тонкие кисти.
Августовский вечер на редкость тихий. Прохладный. Огромный стеклянный центр постиндустриальной эпохи почти полностью опустел, хотя кое-где в коридорах отдалённо слышался смех потерявших счёт времени клерков.
— Ты замёрзнешь. Возьми кофту.
— Я не мерзлячка.
— Вообще не меняешься: упрямая, как всегда.
Вот как ощущается временная петля. Или клиническая смерть. Когда ты в Чистилище, а номер твоего талончика — семизначное число.
— Но ты так долго пыталась… А потом перестала. Почему?
— Будет метафора, — девушка выпрямилась и приготовилась к глубокому нырку, на пару лье — не меньше. — Лежит провод. Ты потянулась к нему, и тебя ударило током. Насколько охотно ты потянешься к нему ещё раз? Скорее всего, не очень-то охотно. Это не значит, что ты вовсе не захочешь больше дотронуться до него, но должны будут произойти какие-то изменения, чтобы ты почувствовала себя в безопасности. Ну... Не знаю... Ты наденешь резиновые перчатки и тогда потянешься к проводу или придёт мастер и скажет, что теперь провод током не бьётся — трогайте на здоровье… Я сейчас как будто в резиновых перчатках, но всё ещё не чувствую себя уверено.
— Долго сочиняла?
— Лет 7 этот диалог веду. Не каждый день — не зазнавайся. Так… иногда ночью, с субботы на воскресенье… Я ведь почти вышла замуж, ты знаешь? Вот оно. Блестит, — наигранная пантомима с демонстрацией чудес ювелирного дела прямо перед смуглым носом собеседницы длилась секунд десять. Потом рука нервно одёрнулась назад.
— Поздравляю. Планируете домик у моря и десять детишек? — вторая сигарета.
— Фу, хватит дымить, убери это, — тонкие пальцы взяли в плен свёрток табака и поднесли к губам их обладательницы. Та затянулась.
– Ужас. Ты же будущая мать.
– Ха-ха. Забочусь о тебе вообще-то. Заботушка, — девушка выпустила пару серых колец, играючи поймала одно на безымянный палец. Блестяшка ударилась о только-только расслабившийся взгляд:
– Я не люблю его.
– Весьма трагично.
– Почему ты так жесток ко мне? Что ты хочешь? Мы торчим на этом чёртовом балконе уже часа два! По твоей инициативе (если, конечно, ты опять не сделаешь вид, будто я тебя сюда силком тянула). Все разошлись, здание скоро закроют, а ты всё не можешь выдавить из себя хоть что-то! — снова маленькая комета сорвалась в чёрно-зелёную бездну.
— Если не любишь, зачем он тебе?
— Я ждала 7 лет. Больше не могу, я не хочу быть одна. Прими уже решение! Ты как чертов бумеранг. Я устала! — стрелка красиво расползалась чёрной полоской по щеке, впитываясь в кожные прожилки. Нефтяная капелька играла на подбородке в отблесках падающего из коридоров света, но была жестоко размазана чужими тонкими пальцами.
— Снова ты это делаешь, — щека потянулась к ладони, всеми силами создавая неприступный вид, но сил было не очень-то много, — а что дальше?..
Серая фигура пожала плечами. Губы снова выдали эту непривычную форму. Который раз за этот вечер?
Нефтяные капельки заиграли по плитке. Это были первые за 7 лет объятья. 384 400 км. Клиническая смерть. Шуберт. Семизначное число на талончике.
За колосок ячменя
Ухватился, ища опоры…
— Возможно, в других обстоятельствах или эпохах всё могло бы сложиться иначе.
— Свинцовый пух и ледяное пламя — погружаясь в одно, ты тут же оглушён другим.
— И на том балу, помнишь, может быть, не стоило нам вовсе знакомиться, потому что сколько бы мы ни знакомились, всё никак не получается удачно. Меня бы успокоила Розалина.
— Это иллюзия, душа моя. Сколько бы мы ни знакомились, случается эта минута. Я всё равно буду и на балу, и на балконе. Везде буду, всё равно мы встретимся… Это уже решено. Не приди ты тогда, какая бы вышла история? Ну просто ерунда, а не история! Мы бы всё загубили нашему автору! Разве так интересно?
— Просто нужно было жениться или сменить имя и сбежать, как ты хотела. План был хорош, с письмом только просчитались. Проблемы с коммуникацией в этой эпохе…
— Роза пахнет розой, помнишь? В этом и был смысл. Ну что бы нас ждало, если бы не вот так? Миг нежнейшей влюбленности потерялся бы в хаосе бытовых забот: хозяйство, слуги, дети… Я бы располнела…
— Может быть, мы были бы счастливы…
— О, нет, это хуже ада. Вот сейчас мы с тобой здесь. 384 400 км, кажется… Ждём следующей истории. И она, конечно, случится очень скоро. Но разве тебе здесь хорошо? Вечный покой? Вишня, это дурацкое окно, виноград и Шуберт? Я вот скучаю по Бетховену…
— Мы его послушаем скоро, не унывай. В одной из историй точно. Мне просто так хочется покоя.
— Покой — это болото. Стагнация. Отсутствие чувств, – она задумалась и посмотрела вокруг. – Какой-то корявый мостик, не находишь?
— Я просто хочу сказать, что счастье всё равно так стремительно, что мне кажется, его нет. А покой есть. И воля.
— В покое мы бы не встретились. Вообще этого всего не было бы. Это же куча энергии! И ты, и я — кусочки звезды, которые по инерции порхают между эпохами на ядерной тяге. Ни в каком вакууме мы бы не появились. Как бы я тогда узнала от тебя про орла, и поезд, и этого…
— Гейзенберга.
— Да! Классный мужик… Слушай, ну в другой раз получится обязательно. Это не последняя весна. В половине историй мы и до 31 не дожили, что унывать? Тут, конечно, стоики правы: что-то ты просто не можешь проконтролировать, придётся смириться… Другое дело, что то, что можешь, не всегда контролируешь. Но мы научимся, я думаю. Ещё лет 500-600…
— Тебе удобно вообще?
— Да.
— Спи тогда.
АГОН
— Любопытно… — женщина пристально вглядывалась в поле шерстяных жучков, расползавшихся от спицеобразных пальцев в разные стороны. Вспышки всех возможных отрезков видимого спектра (она, конечно, могла заметить больше) собирались в молекулярные сетки, выстраивая какую-то пьесу. Драматическую, очевидно.
— Это будет весьма трагичная история.
— И весьма тривиальная, — фигура, восседающая на спинке кровати, вальяжно качала смуглой ножкой, обдаваемой белой хлопковой волной. Каждый новый прилив бился о коричневую кожу сандалий, но откатывал таким же блистательно белым гребнем.
— Вот если бы ты выткала меня или, скажем, папу… Или братца на худой конец. Тогда ты бы обязательно меня победила. Люди признают за тобой первенство, но это раздражает меня меньше, чем такая глупая трата нити.
— Помнится, в прошлый раз за победу я получила отнюдь не лавровый венок, — мастерица улыбнулась, обернувшись на гостью. В глазах пробежала дружеская издевка.
— Я не умею проигрывать, ты же знаешь… — взгляд ударился об пол, но быстро оправился и отпрыгнул обратно с наглым накатом. — Ну скучно же!
— Моя история тоже довольно скучна, — пальцы продолжали неровный бег, выстраивали ряд за рядом проступающую картину.
— Всего лишь сохранится в разных вариантах легенд на пару-тройку тысячелетий. Действительно. Не впечатляет, — бровь выброшена вверх громким воздушным залпом.
— Смотри, — палец скользил по готовой части вышивки, соединяя сцену за сценой, — их история очень похожа на мою. Тоже будет ткаться несколько лет, пока ты или кто-нибудь из твоей родни не подбросит плот или волшебное покрывало. Кто-то из них будет ждать, а кто-то — искать дорогу… И когда-нибудь, я верю, обязательно найдёт. Тебя это не захватывает?
За театральным зевком последовало немедленное оживление: женщина сняла с головы металл, оставив его у кровати, подошла к медленно прорастающему гобелену.
— Это глупо. Одно дело — сражаться с циклопом, другое — с общественным осуждением. Второе можно пережить.
— А?
— Неважно… Вы мне надоели. Я столько раз услышу и увижу всё вот это вот, что уже тошно. Как бы я ни помогала — вечно всё усложняете. Чудеса какие-то. Это даже я не могу проконтролировать.
— Хорошая история не может быть простой.
— Я доверила вам самим разобраться со своей жизнью, и что вышло? Теперь ты и этих бедолаг обрекаешь на испытания? — смуглая костяшка указательного пальца под присмотром карих прожекторов скользнула по вытканной щеке. — Общение со мной делает тебя такой жестокой или власть над этими фигурками?
Мастерица хихикнула.
— Ты же знаешь, что я не закончу. Через пару часов там внизу начнется хаос, а завтра какой-то старик разгадает мою загадку и превратится в моего мужа. Всё, конечно, с твоей подачки. А у этих ребят останется еще метров десять свободной нити на то, чтобы самим разобраться. Может выйти увлекательно, — ниточка натянулась и уголок губ дёрнулся вверх.
— Я уже посмотрела на это…
— И как?
— В них осознанности меньше, чем в твоём муженьке! Лажают абсолютно в любую эпоху, с любыми вводными. Я ещё не решила, буду ли помогать… — белые волны забили в сторону окна.
— Будь терпелива. Пусть набьют шишки, — плеск волн потихоньку смешивался с криками и звоном металла. — Хотя мы бы без твоей помощи не справились… Сердобольная. Когда-нибудь устанешь смотреть на слепых котят, — маленькие голубые озёра тепло окутали гостью. Ниточка снова дёрнулась, потянув за собой уголок губ. Вечерний розовый фильтр делал декорации густыми, отчего время на минутку-другую вязло, а затем, торопясь, возобновляло ход.
— Ладно. Я там закончила, если что — зови, — гостья переместилась на подоконник, коричневые сандалии болтались в воздухе.
— Спасибо, — мастерица улыбнулась, — ты же поможешь им? — силуэт в оконном проеме засутулился и отвёл взгляд, потихоньку растворяясь в солёном воздухе.
— Постараюсь.
БАЛКОН
— Весело тогда было, и правда… — губы изогнулись в такую непривычную для них за столько лет форму, что рука немедленно поднесла к ним отрезвляющий никотиноноситель.
Напротив сидела девушка лет 30. Чёрное платье обволакивало мягкую фигуру. Вся она была такой маслено-текучей, что даже сейчас, сидя на краю балкона, выглядела так, словно вот-вот стечет куда-то вниз. Она ни за что не держалась, болтала ногами, а гравитация игнорировала её существование.
— Так глупо. Мне казалось, что это никогда не закончится, — копна каштановых кудрей хихикнула и качнулась туда-сюда, угрожая сорваться.
— Мне тоже, — бычок-метеорит исчез на далёком асфальте, тонкие руки скользнули вниз, поправляя серый пиджак, и повисли на балконном ограждении, подпирая короткостриженную голову.
— Но ты всё закончил. Причём очень некрасиво, чтобы ты знал. Я всё ещё зла, — кудри демонстративно отлетели с плеча за спину, задев по инерции диафрагму соседней фигуры.
Мужчина посмеялся. Ему было чуть больше сорока.
— Ты очаровательна, — смех добрый, но всерьез он говорит или в шутку — никто бы не смог ответить точно.
— Не смейся. Ты правда меня сильно обидел.
— Я знаю. Я тебя много раз обижал, но иначе от тебя не отдалиться…
— Зачем вообще было отдаляться? Разве нам не было хорошо?
Лёгкие надулись, как пара дирижаблей, и резко спустили всё, что было, тяжелым вздохом.
— Я ведь уже говорил об этом. Ты была слишком близко. Это пугает.
— Ты бездушный. Обвинял меня во всех смертных грехах. Шпынял ежедневно, как будто без этого день не сложится. Обязательно быть таким козлом? Совершенно не умеешь разделять…
— Поэтому я делегировал это тебе.
— Ты выдвинул мне отвратительный ультиматум. Манипулировать моим хорошим к тебе отношением… Фу.
Дирижабли выпустили остатки воздуха и удлинённое каре упало на тонкие кисти.
Августовский вечер на редкость тихий. Прохладный. Огромный стеклянный центр постиндустриальной эпохи почти полностью опустел, хотя кое-где в коридорах отдалённо слышался смех потерявших счёт времени клерков.
— Ты замёрзнешь. Возьми кофту.
— Я не мерзлячка.
— Вообще не меняешься: упрямая, как всегда.
Вот как ощущается временная петля. Или клиническая смерть. Когда ты в Чистилище, а номер твоего талончика — семизначное число.
— Но ты так долго пыталась… А потом перестала. Почему?
— Будет метафора, — девушка выпрямилась и приготовилась к глубокому нырку, на пару лье — не меньше. — Лежит провод. Ты потянулась к нему, и тебя ударило током. Насколько охотно ты потянешься к нему ещё раз? Скорее всего, не очень-то охотно. Это не значит, что ты вовсе не захочешь больше дотронуться до него, но должны будут произойти какие-то изменения, чтобы ты почувствовала себя в безопасности. Ну... Не знаю... Ты наденешь резиновые перчатки и тогда потянешься к проводу или придёт мастер и скажет, что теперь провод током не бьётся — трогайте на здоровье… Я сейчас как будто в резиновых перчатках, но всё ещё не чувствую себя уверено.
— Долго сочиняла?
— Лет 7 этот диалог веду. Не каждый день — не зазнавайся. Так… иногда ночью, с субботы на воскресенье… Я ведь почти вышла замуж, ты знаешь? Вот оно. Блестит, — наигранная пантомима с демонстрацией чудес ювелирного дела прямо перед смуглым носом собеседницы длилась секунд десять. Потом рука нервно одёрнулась назад.
— Поздравляю. Планируете домик у моря и десять детишек? — вторая сигарета.
— Фу, хватит дымить, убери это, — тонкие пальцы взяли в плен свёрток табака и поднесли к губам их обладательницы. Та затянулась.
– Ужас. Ты же будущая мать.
– Ха-ха. Забочусь о тебе вообще-то. Заботушка, — девушка выпустила пару серых колец, играючи поймала одно на безымянный палец. Блестяшка ударилась о только-только расслабившийся взгляд:
– Я не люблю его.
– Весьма трагично.
– Почему ты так жесток ко мне? Что ты хочешь? Мы торчим на этом чёртовом балконе уже часа два! По твоей инициативе (если, конечно, ты опять не сделаешь вид, будто я тебя сюда силком тянула). Все разошлись, здание скоро закроют, а ты всё не можешь выдавить из себя хоть что-то! — снова маленькая комета сорвалась в чёрно-зелёную бездну.
— Если не любишь, зачем он тебе?
— Я ждала 7 лет. Больше не могу, я не хочу быть одна. Прими уже решение! Ты как чертов бумеранг. Я устала! — стрелка красиво расползалась чёрной полоской по щеке, впитываясь в кожные прожилки. Нефтяная капелька играла на подбородке в отблесках падающего из коридоров света, но была жестоко размазана чужими тонкими пальцами.
— Снова ты это делаешь, — щека потянулась к ладони, всеми силами создавая неприступный вид, но сил было не очень-то много, — а что дальше?..
Серая фигура пожала плечами. Губы снова выдали эту непривычную форму. Который раз за этот вечер?
Нефтяные капельки заиграли по плитке. Это были первые за 7 лет объятья. 384 400 км. Клиническая смерть. Шуберт. Семизначное число на талончике.

Дарья СВИРСКАЯ
Родилась в 1978 году. В 16 лет увлеклась созданием поэтических форм, к прозе пришла много позже. В конце 2018 года опубликовала на Интернет-портале роман «Дневник моих желаний», к настоящему времени к нему добавились романы «Эверест» и «Желания исполняются». Являюсь автором рассказов, статей, сценариев, которые можно найти в открытом доступе. Пишу под псевдонимом. Живу и работаю в Москве. Публикация здесь – первая, вышедшая на бумаге.
Родилась в 1978 году. В 16 лет увлеклась созданием поэтических форм, к прозе пришла много позже. В конце 2018 года опубликовала на Интернет-портале роман «Дневник моих желаний», к настоящему времени к нему добавились романы «Эверест» и «Желания исполняются». Являюсь автором рассказов, статей, сценариев, которые можно найти в открытом доступе. Пишу под псевдонимом. Живу и работаю в Москве. Публикация здесь – первая, вышедшая на бумаге.
ТЫ ОДНА ТАКАЯ...
– Малыыыш, – протянула она томно, а я, щёлкнув выключателем, поднес к глазам пузатый будильник. Пол-второго ночи. Супер!
– Зааай, – раздалось снова ее тянуще-просящее. Я, поняв, что про сон можно забыть, вернул часы на тумбочку и уселся в кровати, потирая глаза.
– Слушаю.
– Забери меня отсюда, – чётко и внятно произнесла она, уловив, что я включился.
– Откуда? – устало вздохнул, окончательно убедившись, что три часа отдыха – мой максимум в этих сутках.
– Отделение полиции 413 по центральному округу.
– О, Господи! Что ты натворила? – простонал, стекая с постели. По привычке хотел съязвить, спросив, уж не убила ли она кого, но сдержался, понимая как никто, что разговор может записываться.
– Ничего... – святой невинностью шепнул телефон, а до меня только сейчас дошло, что номер не определился.
– С чьего звонишь? – тревожно уточнил, топая в ванную.
– Капитан Лесин любезно предоставил такую возможность, – сообщила она. Умница! Научилась-таки, общаясь со мной, как важны подробности.
– Все понял. Выезжаю.
– Когда будешь? – спросила она растерянно, убедив, что вовсе не так спокойна, как хочет казаться.
– В течение часа управлюсь.
– Жду, – услышал перед тем, как она отключилась.
Холодная вода окончательно привела в чувство, и, на ходу одеваясь одной рукой, другой задавал маршрут навигатору, чтобы как можно быстрее оказаться на месте. Спускаясь в лифте прямо на парковку, чертыхался: «Эта женщина когда-нибудь сведет с ума...» И ехал. По первому же зову…
Я увидел ее сразу же. Открыв дверь в кабинет капитана, выхватил бледное лицо с вечерним макияжем, блестящее платье и усталый взгляд. Как всегда, безупречна. И этот шикарный смоки-айз… Почему я не удивлен, что она находится здесь, а не в комнате административно задержанных?
– Доброй ночи! – поздоровался с капитаном, представившись по всем правилам.
– Холтев? Серьезно? Тот самый? – выдал неожиданно много эмоций страж закона, внимательно ознакомившись с документами.
– Да, – сдержанно отозвался я.
Последний год стал для меня «звездным». Пара громких процессов, немного пиара за счет компании и личной подачи шефа, и мое имя неслось из каждого утюга. Малюсенький ролик на федеральном канале разобрали для мемов блогеры и тиктокеры, и я стал персонажем многочисленных сюжетов. Моя фамилия зазвучала. А присутствие на паре программ в качестве эксперта вознесли популярность на пик. Слава Богу, ажиотаж длился недолго, но меня запомнили, что очень помогало в карьере…
– Чем обязан? – спросил Лесин, будто мы на светском рауте. А я губкой впитывал детали: сидят за столом напротив друг друга, перед каждым чашки. Чаек? Кофеек? Внешне – абсолютный покер-фейс, но я слишком хорошо ее знал, чтоб на это купиться…
– Я представляю интересы госпожи Вересковой, – отчеканил с ударением на третьем слоге, наблюдая, как вытягивается лицо капитана. Она терпеть не могла, когда коверкали ее фамилию, и сейчас внимательно за всем наблюдала. А он, вероятно, вспоминал, какое обращение ко мне она использовала по телефону, строя догадки.
– Какова причина доставления в отделение моей клиентки? – перешел я к делу.
– Конфликт в общественном месте.
– Вторая сторона конфликта?
– Тоже здесь.
– Я могу поговорить с гражданкой наедине? – зная, как бесит ее это обращение, сейчас употребил намеренно, специально выделив голосом. Ораторское искусство давалось мне великолепно, и она включилась моментально: в ее глазах заплясали черти. Я ухмыльнулся, незаметно подмигнув: ты и правда думала, что вырвав меня среди ночи из теплой постели, получишь нудного юриста? Готовься, вечер перестает быть томным…
– Да. У вас десять минут.
Он вышел, а я, показав жестами, что нас могут слушать, пододвинул стул и сел рядом, обняв за плечи. Она склонила ко мне голову, а я произнес ее коронное:
– Давай, жги!
– Я хотела потанцевать. И пошла в ночной клуб, – начала она.
– Одна?
– Нет, с Анютой и Миланой.
– Они все видели?
– Нет, они танцевали.
– Тогда с самого начала. Еще раз.
– Мы пришли в клуб, сели за столик. Периодически выходили танцевать то вместе, то по очереди. Ко мне начал клеиться клоун… – голос дрогнул, и я, поглаживая ей руку, промурчал:
– Конечно. Твое платье цвета «вырвиглаз» никого не оставит равнодушным… – она возмущенно фыркнула.
– От клоуна – подробнее…
– Когда зазвучала медленная композиция, ко мне подошел этот олень и пригласил на танец.
– А ты?
– Отказала.
– Как?
– Не беси меня! – устало сказала она, а я, положив голову ей на плечо, поглаживая ладошку, спокойно заметил:
– Важна каждая деталь, и если ты не введешь меня в курс дела четко, ясно и быстро, останешься без квалифицированной помощи профессионала.
– Который, к тому же, еще очень скромный…
– А также очень красивый. И умный. За что ты меня и любишь…
– Я сказала, что не танцую, а он – что я только что танцевала. Для тех, кто в танке, уточнила, что не танцую медленные и ушла за столик. Через полчаса примерно, выйдя на танцпол, увидела, что он тоже нарисовался и постоянно ошивается рядом. А когда ущипнул меня за зад, развернулась, дала пощечину и пошла за стол к девчонкам.
– Значит, они ничего не видели…
– Да.
– А дальше?
– Он пошел следом и возле столика стал говорить, что я строю из себя недотрогу (я обнял ее сильнее), а сама филеем виляю (заправил прядь волос за ушко) и завлекаю мужиков (поцеловал в щеку).
– А ты?
– Ответила, что не нуждаюсь в его внимании, и сказала, чтобы оставил меня в покое.
– Без мата? – уточнил, зная, насколько эмоциональной она может быть.
– Да.
– А он?
– Сказал, что я пенсионерка, поэтому на меня ни один нормальный мужик не посмотрит. И что мне не по клубам надо ходить, а кошек выращивать. Вот я и не сдержалась.
– Заехала по яйцам? – закатил глаза, прикидывая, во что же выльется это дело.
– Нет. Вылила коктейль ему в рожу, – я понял, это было первое, что попалось под руку. Ведь когда-то она гонялась с первым попавшимся под руку за мной. И тогда это был вовсе не коктейль, а бейсбольная бита…
– И все?
– Ну да. А он позвал охрану, потом вызвал полицию. И вот.
– Что он предъявляет?
– Порчу дорогой пайты.
– Ясно. Девчонки где твои?
– Хотели с нами ехать, но я отправила их по домам. Сказала, что все хорошо будет, у меня же ты есть.
– Умница, – я отодвинул стул, отсев подальше.
Дверь открылась, и, бросив взгляд на часы, отметил, что прошло девять с половиной минут. Я сидел, сложив руки на коленях, и решал подброшенную ею задачку. А она в диагонали от меня нервничала при всем своем внешне непрошибаемом спокойствии. Потому что полицейские были самым большим ее страхом. Фобией. И знал об этом только я…
– Спасибо, капитан. Могу я ознакомиться с материалами?
– Да, конечно, – он протянул несколько листов бумаги.
– А поговорить со второй стороной? – она напряглась, а капитан, усмехнувшись, жестом показал на выход.
В соседнем кабинете с важным видом восседало это. Самодовольный гусь с раздутой самозначимостью, на кипенно-белой пайте которого вокруг ворота засыхало бордовое пятно, кажется, даже с мелкими кусочками фруктов. Забавно. Надеюсь, в лицо попало больше.
– Адвокат Холтев, – представился я, и тело протянуло руку, которую я проигнорировал. – Представляю интересы госпожи Вересковой. Какие у вас к ней претензии?
– Порча имущества, – с важным видом заявил пингвин.
– Во сколько оцениваете ущерб?
– Десять тысяч рублей.
Навскидку пайта стоила трешник, и мне стало смешно. Но с серьёзным видом продолжил:
– Хорошо, мы согласны.
– Что? Она согласна?
– Да, как и выдвинуть встречный иск о сексуальных домогательствах, оскорблениях, преследовании и взыскании морального вреда в размере миллиона рублей.
– Что? Вы в своём уме? Какой миллион? – ожидаемо взвился мужик.
– Видеофиксация факта нахождения вашей руки на ягодице моей подзащитной имеется. Как и ее реакция на это, подтверждающая нежелание идти на контакт. Свидетели преследования и оскорблений готовы с нами сотрудничать. Моя подзащитная имеет безупречную репутацию и ни разу не доставлялась в отделение, отчего испытывает моральные терзания и душевные муки.
Блефовал, конечно, насчёт видео, но получить его не будет проблемой. Вопрос в том, будет ли там хоть что-нибудь видно...
– Да она пьяная, не соображала, что творит… – на ходу выкручивался гусь.
– Госпожа Верескова более года не употребляет алкоголь. А вас я попрошу пройти тест.
– Да что эта старая кошёлка возомнила? – взвился этот недомужик, и я начал терять хладнокровие.
– Моей клиентке всего пятьдесят, – сказал своим фирменным тоном, способным заморозить солнце, – и если бы все женщины в этом возрасте выглядели так, как она, мир стал бы значительно краше. А характеристику, которую дал моей подзащитной потерпевший, прошу зафиксировать в присутствии свидетелей, дословно. Полицейский, сидевший в кабинете, кивнул и что-то начал писать. А Лесин откровенно развлекался, не скрывая улыбки.
– Сколько??? – ошарашенно прошамкал мужик, а я про себя усмехнулся.
«Тебе не светит хотя бы на четверть к этому возрасту быть в такой форме. В тридцать восемь уже обрюзгший, с животом и претензиями, – подумал я. – В то время как она спуску не даёт себе в тренажерном зале, имея идеальную фигуру, и продолжает тренироваться, считая, что нет предела совершенству. Как же непросто тебе, райской птичке с весёлым нравом и лёгким характером, существовать в мире таких недоумков. Терпеть неадекватную реакцию лишь за чувство ущербности рядом с тобой, и злости, что такая как ты никогда не будет рядом...»
Когда-то она говорила, что не каждый может позволить себе дорогие вещи. И лишь теперь я понял, что речь тогда шла вовсе не о вещах...
Переговоры затянулись, и капитан ушел. А когда я вернулся в его кабинет, вышел навстречу.
– Ну, что? – спросил с участием в голосе.
– Отказ от всех претензий ввиду того, что стороны пришли к взаимопониманию, – я протянул лист, который он внимательно изучил и удовлетворённо кивнул. Пожав руку, указал на дверь:
– Можете быть свободны.
– Благодарю. Но не могу не задать вопрос Ирине Александровне.
Она непонимающе смотрела, взглядом показывая, что пора закругляться. Но я настаивал:
– Не желаете выдвинуть иск против господина Козлова?
– Кого? – неожиданно для всех она заливисто расхохоталась.
– Против гражданина, с которым произошёл инцидент.
– Нет... – она потерла глаза, на которых выступили слезы. Стресс уходит. Это хорошо... Это очень-очень хорошо...
– Подумайте, – произнёс я с нажимом, – вы можете получить значительную компенсацию...
– С кого? С этого? Да что вы, Илья Борисович, он, поди, голодранец. Ему и так с фамилией не повезло, зачем усугублять? Да и вам добавлять работы... И вообще... Я домой хочу, – включила капризную девочку, и я наконец выдохнул. Значит, в порядке...
Глянул на часы – четвёртый час, все нормальные люди давным-давно спят. А такие сумасшедшие, как мы, сидят не пойми где, разруливая проблемы...
– Что ж, это ваше решение, – выразительно посмотрел на неё, и она закатила глаза, – не передумает, такая же упертая, как и я. Пойдёмте!
– Спасибо, капитан!
Открывая перед ней дверь автомобиля, выговаривал:
– Зря отказалась. Таких мудаков надо наказывать.
– Я не хочу встречаться с ним снова, не хочу, чтоб ты взваливал это на себя, мне и так неловко, что выдернула посреди ночи.
– Перестань, – фыркнул я; но было приятно. – Ко мне?
– Нет, ко мне. Хочу в душ и в свою кроватку. И ты остаёшься. Без возражений.
Я усмехнулся, направляя машину к её дому. Под легкую мелодию она начала клевать носом. На светофоре достал плед с заднего сиденья и укутал хрупкую фигурку. Она часто мерзла, и я возил укрывашку в авто специально для нее.
Заснув, она преобразилась в беззащитную девочку. Которая, тем не менее, обладала несгибаемой волей. Я всегда гордился ею. И было чем. В сорок, когда многие уже живут по накатанной, не задумываясь о чем-то новом, она стала учить английский и сейчас бегло разговаривала на нем. В сорок три она освоила танго, в сорок пять – коньки, а в сорок восемь научилась водить автомобиль. Эта женщина никогда не сидела на месте, и что она выкинет в следующий раз, было для меня загадкой. Сделав было ставку на то, что она угомонилась, я вновь проигрывал. И с интересом продолжал наблюдать за ее трансформациями.
Неделю назад она подсунула мне на изучение контракт со школой возрастных моделей, куда записалась после своего полувекового юбилея. Чувствую, вскоре её начнут узнавать…
Погрузившись в воспоминания, заулыбался. Когда-то давно мы гуляли по ночному приморскому городу, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Вдруг раздался страшный грохот, и от разбитой витрины магазина побежал какой-то человек, отбрасывая в сторону булыжник. Я достал телефон, фиксируя время события, но она, накрыв экран ладонью, спросила:
– Что ты собрался делать?
– Вызвать полицию.
– Не нужно, – она была убедительна.
– А что нужно? – непонимающе спросил я.
– Смываться! – схватив меня за руку, она побежала, а я по инерции последовал за ней.
В лабиринтах слабоосвещенных дворов под звуки полицейских сирен мы остановились отдышаться, и я спросил:
– Почему?
– Так будет лучше. Просто поверь…
Тогда я негодовал, считая, что пошел на поводу, но потом, начав крутиться в адвокатской среде, понял, как она была права… Мудрая дальновидная женщина… Она действительно во многом смотрела наперед, особенно в том, что касалось моих интересов. И находила возможности там, где я даже не догадался бы посмотреть.
Однажды она затащила меня на приём попрактиковаться в нетворкинге. В один миг я, не большой любитель всяческих тусовок, был выдернут в общество людей, пришедших показать себя. Здесь велись неспешные смолл-толки, завязывались полезные знакомства, происходил обмен контактами… Я с интересом наблюдал, как неспешно она перетекала от одной группы к другой. Улыбаясь, что-то говорила. Была естественна и органична. Стоя в отдалении, любовался…
Вот только ее спутник редко оказывался рядом. Я не знал, как давно они знакомы, но был уверен, что случайных людей рядом с ней быть не может. И не понимал, как он может ее игнорировать…
Вскоре заиграла музыка, они оказались рядом. Мягко улыбаясь, она смотрела на него и что-то рассказывала, а он стоял с каменным лицом, не выдавая эмоций. Не удивлюсь, если отвечал невпопад, мне не было слышно от противоположной стены. Но когда в комнату вошла эффектная девушка в облегающем платье, его взгляд изменился, устремившись на незнакомку.
По мне, наряд красотки был не совсем уместен, хотя тогда я не особо разбирался в этом. Девушка перемещалась от группы к группе и когда подошла к ним, мужчина оживленно начал с ней общаться. А она стояла рядом, как ненужное приложение…
Внутри все перевернулось. Она не заслужила такого. Как он мог?!! Решив было идти спасать ситуацию, все же остался на месте. Потому что она снова сделала то, чего я не ожидал.
На тот момент мне было известно о трех типах женской реакции на внимание мужчины к другой. Первая – увести, исключив контакт. Вторая – предъявить претензии, вызвав чувство вины. Третья – закатить скандал. Четвертый тип в тот вечер я увидел собственными глазами и даже заснял на телефон.
Подав знак музыкантам, она «от бедра» пошла в середину зала. Навстречу ей вышел мужчина, и под звуки аргентинского танго начался танец, полный огня и страсти. Я засмотрелся, вовремя смекнув включить видео. Это было завораживающее зрелище. У меня дух захватывало от увиденного, я не подозревал, что она так умеет. Стоит ли говорить, что внимание всех присутствующих переключилось только на них? Когда утихла музыка, раздались аплодисменты. Её спутник шагнул навстречу, но она, не одарив его даже взглядом, прошла мимо с видом королевы. Больше я его рядом с ней никогда не видел... А она подошла ко мне и попросила увезти оттуда.
Аккуратно тронув соню за плечо, объявил «конечную станцию». А утром проснулся от запахов. Протопав на кухню, обнаружил её в компании кофе у панорамного окна. Когда-то она сказала, что смотреть в окно – признак одиночества. Поэтому легонько обнял сзади, положив голову ей на плечо, а она, отставив чашку на подоконник, прижалась, целуя мои руки…
– Спасибо тебе, – искренне сказала она, поворачиваясь. – Давай завтракать...
На столе под клошами оказались тонкие блинчики, малосольная сёмга, оливки, маслины и творожный сыр, – она назубок знала мои предпочтения, сервируя стол по высшему разряду. Апельсиновый сок со льдом, джем, мед и ароматный капучино, к которому она меня пристрастила, дополняли аппетитный натюрморт.
– Я говорил, что люблю тебя? – спросил с улыбкой, усаживаясь и раскладывая на коленях льняную салфетку.
– Да, но я готова слушать на «бис».
– Ты одна такая… Лучшая мама на свете!
Она осветила это утро счастливой улыбкой, произнеся в ответ:
– Я горжусь тобой, мой невероятный, талантливый сын! Люблю тебя! Приятного аппетита!
– Малыыыш, – протянула она томно, а я, щёлкнув выключателем, поднес к глазам пузатый будильник. Пол-второго ночи. Супер!
– Зааай, – раздалось снова ее тянуще-просящее. Я, поняв, что про сон можно забыть, вернул часы на тумбочку и уселся в кровати, потирая глаза.
– Слушаю.
– Забери меня отсюда, – чётко и внятно произнесла она, уловив, что я включился.
– Откуда? – устало вздохнул, окончательно убедившись, что три часа отдыха – мой максимум в этих сутках.
– Отделение полиции 413 по центральному округу.
– О, Господи! Что ты натворила? – простонал, стекая с постели. По привычке хотел съязвить, спросив, уж не убила ли она кого, но сдержался, понимая как никто, что разговор может записываться.
– Ничего... – святой невинностью шепнул телефон, а до меня только сейчас дошло, что номер не определился.
– С чьего звонишь? – тревожно уточнил, топая в ванную.
– Капитан Лесин любезно предоставил такую возможность, – сообщила она. Умница! Научилась-таки, общаясь со мной, как важны подробности.
– Все понял. Выезжаю.
– Когда будешь? – спросила она растерянно, убедив, что вовсе не так спокойна, как хочет казаться.
– В течение часа управлюсь.
– Жду, – услышал перед тем, как она отключилась.
Холодная вода окончательно привела в чувство, и, на ходу одеваясь одной рукой, другой задавал маршрут навигатору, чтобы как можно быстрее оказаться на месте. Спускаясь в лифте прямо на парковку, чертыхался: «Эта женщина когда-нибудь сведет с ума...» И ехал. По первому же зову…
Я увидел ее сразу же. Открыв дверь в кабинет капитана, выхватил бледное лицо с вечерним макияжем, блестящее платье и усталый взгляд. Как всегда, безупречна. И этот шикарный смоки-айз… Почему я не удивлен, что она находится здесь, а не в комнате административно задержанных?
– Доброй ночи! – поздоровался с капитаном, представившись по всем правилам.
– Холтев? Серьезно? Тот самый? – выдал неожиданно много эмоций страж закона, внимательно ознакомившись с документами.
– Да, – сдержанно отозвался я.
Последний год стал для меня «звездным». Пара громких процессов, немного пиара за счет компании и личной подачи шефа, и мое имя неслось из каждого утюга. Малюсенький ролик на федеральном канале разобрали для мемов блогеры и тиктокеры, и я стал персонажем многочисленных сюжетов. Моя фамилия зазвучала. А присутствие на паре программ в качестве эксперта вознесли популярность на пик. Слава Богу, ажиотаж длился недолго, но меня запомнили, что очень помогало в карьере…
– Чем обязан? – спросил Лесин, будто мы на светском рауте. А я губкой впитывал детали: сидят за столом напротив друг друга, перед каждым чашки. Чаек? Кофеек? Внешне – абсолютный покер-фейс, но я слишком хорошо ее знал, чтоб на это купиться…
– Я представляю интересы госпожи Вересковой, – отчеканил с ударением на третьем слоге, наблюдая, как вытягивается лицо капитана. Она терпеть не могла, когда коверкали ее фамилию, и сейчас внимательно за всем наблюдала. А он, вероятно, вспоминал, какое обращение ко мне она использовала по телефону, строя догадки.
– Какова причина доставления в отделение моей клиентки? – перешел я к делу.
– Конфликт в общественном месте.
– Вторая сторона конфликта?
– Тоже здесь.
– Я могу поговорить с гражданкой наедине? – зная, как бесит ее это обращение, сейчас употребил намеренно, специально выделив голосом. Ораторское искусство давалось мне великолепно, и она включилась моментально: в ее глазах заплясали черти. Я ухмыльнулся, незаметно подмигнув: ты и правда думала, что вырвав меня среди ночи из теплой постели, получишь нудного юриста? Готовься, вечер перестает быть томным…
– Да. У вас десять минут.
Он вышел, а я, показав жестами, что нас могут слушать, пододвинул стул и сел рядом, обняв за плечи. Она склонила ко мне голову, а я произнес ее коронное:
– Давай, жги!
– Я хотела потанцевать. И пошла в ночной клуб, – начала она.
– Одна?
– Нет, с Анютой и Миланой.
– Они все видели?
– Нет, они танцевали.
– Тогда с самого начала. Еще раз.
– Мы пришли в клуб, сели за столик. Периодически выходили танцевать то вместе, то по очереди. Ко мне начал клеиться клоун… – голос дрогнул, и я, поглаживая ей руку, промурчал:
– Конечно. Твое платье цвета «вырвиглаз» никого не оставит равнодушным… – она возмущенно фыркнула.
– От клоуна – подробнее…
– Когда зазвучала медленная композиция, ко мне подошел этот олень и пригласил на танец.
– А ты?
– Отказала.
– Как?
– Не беси меня! – устало сказала она, а я, положив голову ей на плечо, поглаживая ладошку, спокойно заметил:
– Важна каждая деталь, и если ты не введешь меня в курс дела четко, ясно и быстро, останешься без квалифицированной помощи профессионала.
– Который, к тому же, еще очень скромный…
– А также очень красивый. И умный. За что ты меня и любишь…
– Я сказала, что не танцую, а он – что я только что танцевала. Для тех, кто в танке, уточнила, что не танцую медленные и ушла за столик. Через полчаса примерно, выйдя на танцпол, увидела, что он тоже нарисовался и постоянно ошивается рядом. А когда ущипнул меня за зад, развернулась, дала пощечину и пошла за стол к девчонкам.
– Значит, они ничего не видели…
– Да.
– А дальше?
– Он пошел следом и возле столика стал говорить, что я строю из себя недотрогу (я обнял ее сильнее), а сама филеем виляю (заправил прядь волос за ушко) и завлекаю мужиков (поцеловал в щеку).
– А ты?
– Ответила, что не нуждаюсь в его внимании, и сказала, чтобы оставил меня в покое.
– Без мата? – уточнил, зная, насколько эмоциональной она может быть.
– Да.
– А он?
– Сказал, что я пенсионерка, поэтому на меня ни один нормальный мужик не посмотрит. И что мне не по клубам надо ходить, а кошек выращивать. Вот я и не сдержалась.
– Заехала по яйцам? – закатил глаза, прикидывая, во что же выльется это дело.
– Нет. Вылила коктейль ему в рожу, – я понял, это было первое, что попалось под руку. Ведь когда-то она гонялась с первым попавшимся под руку за мной. И тогда это был вовсе не коктейль, а бейсбольная бита…
– И все?
– Ну да. А он позвал охрану, потом вызвал полицию. И вот.
– Что он предъявляет?
– Порчу дорогой пайты.
– Ясно. Девчонки где твои?
– Хотели с нами ехать, но я отправила их по домам. Сказала, что все хорошо будет, у меня же ты есть.
– Умница, – я отодвинул стул, отсев подальше.
Дверь открылась, и, бросив взгляд на часы, отметил, что прошло девять с половиной минут. Я сидел, сложив руки на коленях, и решал подброшенную ею задачку. А она в диагонали от меня нервничала при всем своем внешне непрошибаемом спокойствии. Потому что полицейские были самым большим ее страхом. Фобией. И знал об этом только я…
– Спасибо, капитан. Могу я ознакомиться с материалами?
– Да, конечно, – он протянул несколько листов бумаги.
– А поговорить со второй стороной? – она напряглась, а капитан, усмехнувшись, жестом показал на выход.
В соседнем кабинете с важным видом восседало это. Самодовольный гусь с раздутой самозначимостью, на кипенно-белой пайте которого вокруг ворота засыхало бордовое пятно, кажется, даже с мелкими кусочками фруктов. Забавно. Надеюсь, в лицо попало больше.
– Адвокат Холтев, – представился я, и тело протянуло руку, которую я проигнорировал. – Представляю интересы госпожи Вересковой. Какие у вас к ней претензии?
– Порча имущества, – с важным видом заявил пингвин.
– Во сколько оцениваете ущерб?
– Десять тысяч рублей.
Навскидку пайта стоила трешник, и мне стало смешно. Но с серьёзным видом продолжил:
– Хорошо, мы согласны.
– Что? Она согласна?
– Да, как и выдвинуть встречный иск о сексуальных домогательствах, оскорблениях, преследовании и взыскании морального вреда в размере миллиона рублей.
– Что? Вы в своём уме? Какой миллион? – ожидаемо взвился мужик.
– Видеофиксация факта нахождения вашей руки на ягодице моей подзащитной имеется. Как и ее реакция на это, подтверждающая нежелание идти на контакт. Свидетели преследования и оскорблений готовы с нами сотрудничать. Моя подзащитная имеет безупречную репутацию и ни разу не доставлялась в отделение, отчего испытывает моральные терзания и душевные муки.
Блефовал, конечно, насчёт видео, но получить его не будет проблемой. Вопрос в том, будет ли там хоть что-нибудь видно...
– Да она пьяная, не соображала, что творит… – на ходу выкручивался гусь.
– Госпожа Верескова более года не употребляет алкоголь. А вас я попрошу пройти тест.
– Да что эта старая кошёлка возомнила? – взвился этот недомужик, и я начал терять хладнокровие.
– Моей клиентке всего пятьдесят, – сказал своим фирменным тоном, способным заморозить солнце, – и если бы все женщины в этом возрасте выглядели так, как она, мир стал бы значительно краше. А характеристику, которую дал моей подзащитной потерпевший, прошу зафиксировать в присутствии свидетелей, дословно. Полицейский, сидевший в кабинете, кивнул и что-то начал писать. А Лесин откровенно развлекался, не скрывая улыбки.
– Сколько??? – ошарашенно прошамкал мужик, а я про себя усмехнулся.
«Тебе не светит хотя бы на четверть к этому возрасту быть в такой форме. В тридцать восемь уже обрюзгший, с животом и претензиями, – подумал я. – В то время как она спуску не даёт себе в тренажерном зале, имея идеальную фигуру, и продолжает тренироваться, считая, что нет предела совершенству. Как же непросто тебе, райской птичке с весёлым нравом и лёгким характером, существовать в мире таких недоумков. Терпеть неадекватную реакцию лишь за чувство ущербности рядом с тобой, и злости, что такая как ты никогда не будет рядом...»
Когда-то она говорила, что не каждый может позволить себе дорогие вещи. И лишь теперь я понял, что речь тогда шла вовсе не о вещах...
Переговоры затянулись, и капитан ушел. А когда я вернулся в его кабинет, вышел навстречу.
– Ну, что? – спросил с участием в голосе.
– Отказ от всех претензий ввиду того, что стороны пришли к взаимопониманию, – я протянул лист, который он внимательно изучил и удовлетворённо кивнул. Пожав руку, указал на дверь:
– Можете быть свободны.
– Благодарю. Но не могу не задать вопрос Ирине Александровне.
Она непонимающе смотрела, взглядом показывая, что пора закругляться. Но я настаивал:
– Не желаете выдвинуть иск против господина Козлова?
– Кого? – неожиданно для всех она заливисто расхохоталась.
– Против гражданина, с которым произошёл инцидент.
– Нет... – она потерла глаза, на которых выступили слезы. Стресс уходит. Это хорошо... Это очень-очень хорошо...
– Подумайте, – произнёс я с нажимом, – вы можете получить значительную компенсацию...
– С кого? С этого? Да что вы, Илья Борисович, он, поди, голодранец. Ему и так с фамилией не повезло, зачем усугублять? Да и вам добавлять работы... И вообще... Я домой хочу, – включила капризную девочку, и я наконец выдохнул. Значит, в порядке...
Глянул на часы – четвёртый час, все нормальные люди давным-давно спят. А такие сумасшедшие, как мы, сидят не пойми где, разруливая проблемы...
– Что ж, это ваше решение, – выразительно посмотрел на неё, и она закатила глаза, – не передумает, такая же упертая, как и я. Пойдёмте!
– Спасибо, капитан!
Открывая перед ней дверь автомобиля, выговаривал:
– Зря отказалась. Таких мудаков надо наказывать.
– Я не хочу встречаться с ним снова, не хочу, чтоб ты взваливал это на себя, мне и так неловко, что выдернула посреди ночи.
– Перестань, – фыркнул я; но было приятно. – Ко мне?
– Нет, ко мне. Хочу в душ и в свою кроватку. И ты остаёшься. Без возражений.
Я усмехнулся, направляя машину к её дому. Под легкую мелодию она начала клевать носом. На светофоре достал плед с заднего сиденья и укутал хрупкую фигурку. Она часто мерзла, и я возил укрывашку в авто специально для нее.
Заснув, она преобразилась в беззащитную девочку. Которая, тем не менее, обладала несгибаемой волей. Я всегда гордился ею. И было чем. В сорок, когда многие уже живут по накатанной, не задумываясь о чем-то новом, она стала учить английский и сейчас бегло разговаривала на нем. В сорок три она освоила танго, в сорок пять – коньки, а в сорок восемь научилась водить автомобиль. Эта женщина никогда не сидела на месте, и что она выкинет в следующий раз, было для меня загадкой. Сделав было ставку на то, что она угомонилась, я вновь проигрывал. И с интересом продолжал наблюдать за ее трансформациями.
Неделю назад она подсунула мне на изучение контракт со школой возрастных моделей, куда записалась после своего полувекового юбилея. Чувствую, вскоре её начнут узнавать…
Погрузившись в воспоминания, заулыбался. Когда-то давно мы гуляли по ночному приморскому городу, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Вдруг раздался страшный грохот, и от разбитой витрины магазина побежал какой-то человек, отбрасывая в сторону булыжник. Я достал телефон, фиксируя время события, но она, накрыв экран ладонью, спросила:
– Что ты собрался делать?
– Вызвать полицию.
– Не нужно, – она была убедительна.
– А что нужно? – непонимающе спросил я.
– Смываться! – схватив меня за руку, она побежала, а я по инерции последовал за ней.
В лабиринтах слабоосвещенных дворов под звуки полицейских сирен мы остановились отдышаться, и я спросил:
– Почему?
– Так будет лучше. Просто поверь…
Тогда я негодовал, считая, что пошел на поводу, но потом, начав крутиться в адвокатской среде, понял, как она была права… Мудрая дальновидная женщина… Она действительно во многом смотрела наперед, особенно в том, что касалось моих интересов. И находила возможности там, где я даже не догадался бы посмотреть.
Однажды она затащила меня на приём попрактиковаться в нетворкинге. В один миг я, не большой любитель всяческих тусовок, был выдернут в общество людей, пришедших показать себя. Здесь велись неспешные смолл-толки, завязывались полезные знакомства, происходил обмен контактами… Я с интересом наблюдал, как неспешно она перетекала от одной группы к другой. Улыбаясь, что-то говорила. Была естественна и органична. Стоя в отдалении, любовался…
Вот только ее спутник редко оказывался рядом. Я не знал, как давно они знакомы, но был уверен, что случайных людей рядом с ней быть не может. И не понимал, как он может ее игнорировать…
Вскоре заиграла музыка, они оказались рядом. Мягко улыбаясь, она смотрела на него и что-то рассказывала, а он стоял с каменным лицом, не выдавая эмоций. Не удивлюсь, если отвечал невпопад, мне не было слышно от противоположной стены. Но когда в комнату вошла эффектная девушка в облегающем платье, его взгляд изменился, устремившись на незнакомку.
По мне, наряд красотки был не совсем уместен, хотя тогда я не особо разбирался в этом. Девушка перемещалась от группы к группе и когда подошла к ним, мужчина оживленно начал с ней общаться. А она стояла рядом, как ненужное приложение…
Внутри все перевернулось. Она не заслужила такого. Как он мог?!! Решив было идти спасать ситуацию, все же остался на месте. Потому что она снова сделала то, чего я не ожидал.
На тот момент мне было известно о трех типах женской реакции на внимание мужчины к другой. Первая – увести, исключив контакт. Вторая – предъявить претензии, вызвав чувство вины. Третья – закатить скандал. Четвертый тип в тот вечер я увидел собственными глазами и даже заснял на телефон.
Подав знак музыкантам, она «от бедра» пошла в середину зала. Навстречу ей вышел мужчина, и под звуки аргентинского танго начался танец, полный огня и страсти. Я засмотрелся, вовремя смекнув включить видео. Это было завораживающее зрелище. У меня дух захватывало от увиденного, я не подозревал, что она так умеет. Стоит ли говорить, что внимание всех присутствующих переключилось только на них? Когда утихла музыка, раздались аплодисменты. Её спутник шагнул навстречу, но она, не одарив его даже взглядом, прошла мимо с видом королевы. Больше я его рядом с ней никогда не видел... А она подошла ко мне и попросила увезти оттуда.
Аккуратно тронув соню за плечо, объявил «конечную станцию». А утром проснулся от запахов. Протопав на кухню, обнаружил её в компании кофе у панорамного окна. Когда-то она сказала, что смотреть в окно – признак одиночества. Поэтому легонько обнял сзади, положив голову ей на плечо, а она, отставив чашку на подоконник, прижалась, целуя мои руки…
– Спасибо тебе, – искренне сказала она, поворачиваясь. – Давай завтракать...
На столе под клошами оказались тонкие блинчики, малосольная сёмга, оливки, маслины и творожный сыр, – она назубок знала мои предпочтения, сервируя стол по высшему разряду. Апельсиновый сок со льдом, джем, мед и ароматный капучино, к которому она меня пристрастила, дополняли аппетитный натюрморт.
– Я говорил, что люблю тебя? – спросил с улыбкой, усаживаясь и раскладывая на коленях льняную салфетку.
– Да, но я готова слушать на «бис».
– Ты одна такая… Лучшая мама на свете!
Она осветила это утро счастливой улыбкой, произнеся в ответ:
– Я горжусь тобой, мой невероятный, талантливый сын! Люблю тебя! Приятного аппетита!

Виктория МАКСИМОВА
Я только начинаю пробовать свое слово и писать. Для меня большая честь – быть напечатанной в этом альманахе. Это первые мои публикации. Хочу поделиться своим творчеством с миром!
Я только начинаю пробовать свое слово и писать. Для меня большая честь – быть напечатанной в этом альманахе. Это первые мои публикации. Хочу поделиться своим творчеством с миром!
МИР ПОД ИМЕНЕМ ЛЮБОВЬ
Расставание длиною в год навеяло прелюдию встречи. И слезы горошинами катились по ее щекам...
В каждой слезинке сохранялся весь ее мир. Такой глубокий и бездонный. Совсем не каждый в силах в него заглянуть и понять. Мир, который погружает, поглощает и растворяет. Мир, соприкоснувшись с которым, ты никогда не будешь прежним, горошинами катился из ее глаз.
Всё будет по-другому. Абсолютно очевидно, что всё уже будет по-другому.
Он и вправду освежил голову юной художнице, навевая мысль лишь о творении того, чего до неё не делал никто. А, возможно, сотни раз это воспроизводилось... впрочем, неважно.
...Да, холст давно лежал перед ней, а краски уже непроизвольно, полётом бабочки, а иногда и обычными смазами отображали фон.
И она молчала...
Почему?
– Послушай, ты испачкалась.
– Нет-нет, не убирай!
Лёгкая клякса бирюзово-желто-красного цвета на её щеке, словно бабочка, пьющая утреннюю росу на цветке, придавала её работе исключительный смысл и подчеркивала всю прелесть её женственности и красоты.
– Да, дорогая... мне очень нравится наблюдать за твоим письмом..
– Не отвлекайся, прошу! Продолжай... Зачем ты испачкала мне рубаху?
– Ты удивительно переносишься в другой мир на одном холсте...Что в твоей голове?
– Как понять тебя? Это выражение радости, наслаждения? Или чего-то другого? Твой скрытый Мир? Нет ничего прекраснее твоих рук...
– Пойду застираю рубаху...
Оставшись одна, она задумалась... А что же в моей голове? И он об этом спросил...
Так многие спрашивали. И для всех остаётся загадка. Словно тайна мироздания в оковах вечности. Быстрее ветра и нежнее моря, сильнее камня и жарче огня. И это не мысли, это чувства.
О, как же мне хочется разжечь огонь страсти, а потом перенести его на холст! Чтобы всё вокруг трепетало и согревалось от волны тепла.
Как же он точно попал! Наслаждение... Словно пустынная дорога в туманном лесу. Долгая и бесконечная, там, где далеко не видно, но все чувствуешь. Как же мне хочется всё ему рассказать! Довериться, быть понятой.
В часы одиночества он в сотый раз, как будто прочитывая вновь и вновь, переписывал историю свой жизни, пытаясь сопоставить все «за» и «против», «черное» и «белое», но так ничего и не выходило...
И снова кисть... и снова мысли, повисшие тяжёлой грозовой тучей.
Но нет!!! Я не должен, говорил он себе, создавая фон непонятных теней на холсте своей жизни. Да, в жизни он получил много опыта, много чему научился и из бесшабашного мальчишки превратился в того, кто стал примером для подражания...
Но как бы ни посмотреть на холст – она, все время она, девочка в лёгкой рубашке с кляксой масла на щеке и упавшей с мягкой кисти капли масла на колене, лёгкой и совсем доброй, а иногда детской улыбкой, она прекрасна...
Рисуй, пиши, ставь кляксы и дорисовывай!
В этом порыве творчества и создается жизнь...
– Милый, в моих снах ты прекрасен! Я смотрю, как ты стоишь на горе и рисуешь пейзаж. Ты чувствуешь, как порыв ветра хочет унести твой холст вдаль, но ты стоишь и рисуешь... Солнце ослепляет тебя, обжигая лучами лицо, но и оно не в силах помешать. Соединяясь со стихиями природы, ты, преображаясь, властвуешь над миром... Посмотри на меня. Посмотри в мои глаза, и ты всё поймёшь про себя...
Мои краски придадут твоей картине искристость, чтобы сияние шедевра озарило мир, и каждый в нем мог найти что-то своё.
Я хочу, чтобы ты не останавливался и рисовал, ведь я учусь у тебя. Помнишь меня десять лет назад? Ведь еще совсем девчонкой я смотрела на тебя, восхищаясь и любя. Ты брызгами раздавал свои краски, и я утопала во всей палитре цветов! Ведь это ты показал, как можно смешивать цвета и создавать свой мир на холсте.
– Скажи, в чем твой секрет?
– Я просто люблю тебя...
Расставание длиною в год навеяло прелюдию встречи. И слезы горошинами катились по ее щекам...
В каждой слезинке сохранялся весь ее мир. Такой глубокий и бездонный. Совсем не каждый в силах в него заглянуть и понять. Мир, который погружает, поглощает и растворяет. Мир, соприкоснувшись с которым, ты никогда не будешь прежним, горошинами катился из ее глаз.
Всё будет по-другому. Абсолютно очевидно, что всё уже будет по-другому.
Он и вправду освежил голову юной художнице, навевая мысль лишь о творении того, чего до неё не делал никто. А, возможно, сотни раз это воспроизводилось... впрочем, неважно.
...Да, холст давно лежал перед ней, а краски уже непроизвольно, полётом бабочки, а иногда и обычными смазами отображали фон.
И она молчала...
Почему?
– Послушай, ты испачкалась.
– Нет-нет, не убирай!
Лёгкая клякса бирюзово-желто-красного цвета на её щеке, словно бабочка, пьющая утреннюю росу на цветке, придавала её работе исключительный смысл и подчеркивала всю прелесть её женственности и красоты.
– Да, дорогая... мне очень нравится наблюдать за твоим письмом..
– Не отвлекайся, прошу! Продолжай... Зачем ты испачкала мне рубаху?
– Ты удивительно переносишься в другой мир на одном холсте...Что в твоей голове?
– Как понять тебя? Это выражение радости, наслаждения? Или чего-то другого? Твой скрытый Мир? Нет ничего прекраснее твоих рук...
– Пойду застираю рубаху...
Оставшись одна, она задумалась... А что же в моей голове? И он об этом спросил...
Так многие спрашивали. И для всех остаётся загадка. Словно тайна мироздания в оковах вечности. Быстрее ветра и нежнее моря, сильнее камня и жарче огня. И это не мысли, это чувства.
О, как же мне хочется разжечь огонь страсти, а потом перенести его на холст! Чтобы всё вокруг трепетало и согревалось от волны тепла.
Как же он точно попал! Наслаждение... Словно пустынная дорога в туманном лесу. Долгая и бесконечная, там, где далеко не видно, но все чувствуешь. Как же мне хочется всё ему рассказать! Довериться, быть понятой.
В часы одиночества он в сотый раз, как будто прочитывая вновь и вновь, переписывал историю свой жизни, пытаясь сопоставить все «за» и «против», «черное» и «белое», но так ничего и не выходило...
И снова кисть... и снова мысли, повисшие тяжёлой грозовой тучей.
Но нет!!! Я не должен, говорил он себе, создавая фон непонятных теней на холсте своей жизни. Да, в жизни он получил много опыта, много чему научился и из бесшабашного мальчишки превратился в того, кто стал примером для подражания...
Но как бы ни посмотреть на холст – она, все время она, девочка в лёгкой рубашке с кляксой масла на щеке и упавшей с мягкой кисти капли масла на колене, лёгкой и совсем доброй, а иногда детской улыбкой, она прекрасна...
Рисуй, пиши, ставь кляксы и дорисовывай!
В этом порыве творчества и создается жизнь...
– Милый, в моих снах ты прекрасен! Я смотрю, как ты стоишь на горе и рисуешь пейзаж. Ты чувствуешь, как порыв ветра хочет унести твой холст вдаль, но ты стоишь и рисуешь... Солнце ослепляет тебя, обжигая лучами лицо, но и оно не в силах помешать. Соединяясь со стихиями природы, ты, преображаясь, властвуешь над миром... Посмотри на меня. Посмотри в мои глаза, и ты всё поймёшь про себя...
Мои краски придадут твоей картине искристость, чтобы сияние шедевра озарило мир, и каждый в нем мог найти что-то своё.
Я хочу, чтобы ты не останавливался и рисовал, ведь я учусь у тебя. Помнишь меня десять лет назад? Ведь еще совсем девчонкой я смотрела на тебя, восхищаясь и любя. Ты брызгами раздавал свои краски, и я утопала во всей палитре цветов! Ведь это ты показал, как можно смешивать цвета и создавать свой мир на холсте.
– Скажи, в чем твой секрет?
– Я просто люблю тебя...

Ольга МАСТЕПАН
Мастепан Ольга Евгеньевна (г. Новосибирск, 19 лет). В школьные годы была членом ЛИТО «Окно», публиковала прозу и стихи в альманахе объединения. Участвовала в различных литературных конкурсах. В 2022 году издала дебютную книгу «Сердце Вселенной» при поддержке редакции Эксмо Digital (доступна на сайте ЛитРес).
Мастепан Ольга Евгеньевна (г. Новосибирск, 19 лет). В школьные годы была членом ЛИТО «Окно», публиковала прозу и стихи в альманахе объединения. Участвовала в различных литературных конкурсах. В 2022 году издала дебютную книгу «Сердце Вселенной» при поддержке редакции Эксмо Digital (доступна на сайте ЛитРес).
КОГДА ЗВЕЗДЫ МОЛЧАТ
Ей было чуть больше семи. Она верила, что станет учёным. А ещё, быть может, изобретателем, художником, путешественником и гонщиком «Формулы 1». Она построит ракету из стиральной машины и создаст портальное устройство, открывающее двери в иные миры. Вместе со своими котами отправится в увлекательное приключение по далёким планетам, посетит Плутон, доберется до Сириуса. Звёзды услышат её, ведь иначе и быть не могло.
Оставалось лишь только ждать. Прилежно учиться, заводить друзей и слушаться маму. Тогда все мечты обязательно сбудутся, а жизнь станет похожей на фантастическое кино. Будут встречи с пришельцами, эпические сражения на световых мечах, стрельба из бластеров и, может, даже настоящая любовь.
Ей было почти тринадцать. Мечты лежали в руинах. Быть может, они затерялись между двойками по точным наукам и заплаканными страницами с домашней работой. Друзья как-то не заводились. А даже если иногда появлялись, то не задерживались более, чем на год. Вот только она не знала, что было тому причиной.
Космос казался недостижимым. Но она всё равно продолжала мечтать, надеясь, что однажды он станет ближе. Сердце сжималось и не хотело сдаваться. В нём кипела вера в чудо, в загадки и никем не раскрытые тайны. Самолёты, пролетавшие по ночному небу, казались кораблями пришельцев, а от одного только взгляда на звёзды захватывало дух. Ей хотелось всем доказать, что они неправы. Будто бы им назло стать настоящим ученым, таким, который на всё и всегда знает ответы, поражая мир феноменальными открытиями.
Однако наука её невзлюбила. И это, впрочем, было взаимно. На физике все задачи казались ей глупыми. В них никто не просил рассчитать скорость ракеты, траекторию полёта метеорита или угол вращения только что открытой планеты. Нет. Там были лишь цифры и формулы, по большей части безличные. Лишь изредка на страницах попадались люди, но только не космонавты, а странные чудаки, решающие замерить температуру кипения ртути или силу, с которой нужно толкать шкаф.
На химии никогда ничего не взрывалось, кроме, пожалуй, терпения. За год лишь один или два раза давали взглянуть на пробирки, соли и горелки. И то лишь для того, чтобы засунуть в колбу лакмусовую бумажку и наблюдать, как она меняет свой цвет. Ничего не кипело, не булькало и не растворяло в себе металл. Очередные противные формулы, выведенные шариковой ручкой, смотрели с листа с осуждением. Вот только рецепта панацеи в них не было, как и топлива для ракет, преодолевающих скорость света.
Сердце, однако, не унималось, взволнованно стуча каждое утро. Дыхание иногда сбивалось, а в голове мелькала безумная мысль: «Может быть, это знак?» Хотелось верить, что это предчувствие, интуиция, и позже, в течение дня случится нечто невероятное, что навсегда изменит её жизнь. Вот только это не происходило. И она, скрипя зубами, продолжала ждать.
Ей было шестнадцать. В каждом глубоком сугробе она искала кроличью нору, чтобы туда провалиться. Ведь где-то же должен быть вход в иные миры! Она это знала, а потому никогда не переставала искать. В надежде, что это поможет, она красила волосы, подражая вымышленным героям, лишь бы перенять их судьбу и увлекательные приключения. Одевалась порой не по погоде, брала с собой вещи, едва ли способные пригодиться в течение обычного школьного дня. Но что, если по пути от дома или обратно ей всё-таки повезет? Что, если загадочный мир призовёт её? Тогда-то всё, что другим могло показаться ненужным барахлом, сразу сыграет свою роль. Тогда все поймут, что она была права, и даже её саму начнут воспринимать иначе, так, как она того заслуживала.
Рожденная, быть может, слишком рано или, наоборот, слишком поздно, искательница приключений часто смотрела в окно. Звёзды в ночном небе приветственно мерцали, будто бы пытаясь подозвать её поближе. Вот только она не могла до них дотянутся. От безысходности она посылала им свои просьбы, больше похожие на молитвы. Она просила послать ей знак, направить на приключения или хотя бы столкнуть с тем, кто станет хорошим другом. Таким, что с радостью сразится с ней на световых мечах, посмотрит за одну ночь все любимые фильмы и никогда-никогда не осудит.
Каждое утро она вставала, надеясь, что звёзды её услышат. И сердце, будто бы подначивая, вторило этому желанию, заполняя грудь тянущим волнением. В горле образовывался ком, а в теле было столько энергии, что легко можно было бы сдвинуть горы. Но сова, затерявшаяся где-то многие годы назад, так и не приносила заветного письма. Волшебник не стучал посохом в дверь, приглашая на фантастический квест. А пришельцы раз за разом забывали, что в тот самый день должны кого-то похитить. И верный товарищ всё никак не появлялся, возможно, занятый тем, чтобы дружить с кем-то другим.
Ей было почти двадцать. И всё резко стало по-взрослому. То странное чувство, что некогда звалось интуицией, теперь называлось нервным расстройством. Сердце всё еще билось часто, но все говорили, что это лечится. Вот только легче от этого почему-то не становилось. Быть может, ей не хотелось верить, что она обычная. Такая же, как и сотни, и тысячи людей по всему миру. Ей нравилось думать, что в жизни был смысл, и заключался он вовсе не в детях или счастливом браке.
Она смотрела кино и читала книги. Слушала музыку, глядя в ночное небо. Оттуда всё так же смотрели вниз далёкие, холодные звёзды. Они звали её, протягивая свои длинные, тонкие лучики. Но она не тянула к ним руки, боясь, что кто-то это увидит. Ей не хотелось быть сумасшедшей, впрочем, наивной или мечтательной она тоже себя не считала. Там, где-то среди звёздных скоплений должна быть иная жизнь. Судьба, которую стоит только подождать. Вот только, казалось, судьба эта вечно медлила, опаздывала к нетерпеливой космической путешественнице. И та больше не знала, сможет ли однажды её дождаться.
Она тянулась к звёздам душой, сглатывая солёные слёзы. И в свете самолётов видела космические корабли. Быть может, один из них заберёт её. В мир, который она хотела увидеть.
В мир, который зачем-то её звал.
Ей было чуть больше семи. Она верила, что станет учёным. А ещё, быть может, изобретателем, художником, путешественником и гонщиком «Формулы 1». Она построит ракету из стиральной машины и создаст портальное устройство, открывающее двери в иные миры. Вместе со своими котами отправится в увлекательное приключение по далёким планетам, посетит Плутон, доберется до Сириуса. Звёзды услышат её, ведь иначе и быть не могло.
Оставалось лишь только ждать. Прилежно учиться, заводить друзей и слушаться маму. Тогда все мечты обязательно сбудутся, а жизнь станет похожей на фантастическое кино. Будут встречи с пришельцами, эпические сражения на световых мечах, стрельба из бластеров и, может, даже настоящая любовь.
Ей было почти тринадцать. Мечты лежали в руинах. Быть может, они затерялись между двойками по точным наукам и заплаканными страницами с домашней работой. Друзья как-то не заводились. А даже если иногда появлялись, то не задерживались более, чем на год. Вот только она не знала, что было тому причиной.
Космос казался недостижимым. Но она всё равно продолжала мечтать, надеясь, что однажды он станет ближе. Сердце сжималось и не хотело сдаваться. В нём кипела вера в чудо, в загадки и никем не раскрытые тайны. Самолёты, пролетавшие по ночному небу, казались кораблями пришельцев, а от одного только взгляда на звёзды захватывало дух. Ей хотелось всем доказать, что они неправы. Будто бы им назло стать настоящим ученым, таким, который на всё и всегда знает ответы, поражая мир феноменальными открытиями.
Однако наука её невзлюбила. И это, впрочем, было взаимно. На физике все задачи казались ей глупыми. В них никто не просил рассчитать скорость ракеты, траекторию полёта метеорита или угол вращения только что открытой планеты. Нет. Там были лишь цифры и формулы, по большей части безличные. Лишь изредка на страницах попадались люди, но только не космонавты, а странные чудаки, решающие замерить температуру кипения ртути или силу, с которой нужно толкать шкаф.
На химии никогда ничего не взрывалось, кроме, пожалуй, терпения. За год лишь один или два раза давали взглянуть на пробирки, соли и горелки. И то лишь для того, чтобы засунуть в колбу лакмусовую бумажку и наблюдать, как она меняет свой цвет. Ничего не кипело, не булькало и не растворяло в себе металл. Очередные противные формулы, выведенные шариковой ручкой, смотрели с листа с осуждением. Вот только рецепта панацеи в них не было, как и топлива для ракет, преодолевающих скорость света.
Сердце, однако, не унималось, взволнованно стуча каждое утро. Дыхание иногда сбивалось, а в голове мелькала безумная мысль: «Может быть, это знак?» Хотелось верить, что это предчувствие, интуиция, и позже, в течение дня случится нечто невероятное, что навсегда изменит её жизнь. Вот только это не происходило. И она, скрипя зубами, продолжала ждать.
Ей было шестнадцать. В каждом глубоком сугробе она искала кроличью нору, чтобы туда провалиться. Ведь где-то же должен быть вход в иные миры! Она это знала, а потому никогда не переставала искать. В надежде, что это поможет, она красила волосы, подражая вымышленным героям, лишь бы перенять их судьбу и увлекательные приключения. Одевалась порой не по погоде, брала с собой вещи, едва ли способные пригодиться в течение обычного школьного дня. Но что, если по пути от дома или обратно ей всё-таки повезет? Что, если загадочный мир призовёт её? Тогда-то всё, что другим могло показаться ненужным барахлом, сразу сыграет свою роль. Тогда все поймут, что она была права, и даже её саму начнут воспринимать иначе, так, как она того заслуживала.
Рожденная, быть может, слишком рано или, наоборот, слишком поздно, искательница приключений часто смотрела в окно. Звёзды в ночном небе приветственно мерцали, будто бы пытаясь подозвать её поближе. Вот только она не могла до них дотянутся. От безысходности она посылала им свои просьбы, больше похожие на молитвы. Она просила послать ей знак, направить на приключения или хотя бы столкнуть с тем, кто станет хорошим другом. Таким, что с радостью сразится с ней на световых мечах, посмотрит за одну ночь все любимые фильмы и никогда-никогда не осудит.
Каждое утро она вставала, надеясь, что звёзды её услышат. И сердце, будто бы подначивая, вторило этому желанию, заполняя грудь тянущим волнением. В горле образовывался ком, а в теле было столько энергии, что легко можно было бы сдвинуть горы. Но сова, затерявшаяся где-то многие годы назад, так и не приносила заветного письма. Волшебник не стучал посохом в дверь, приглашая на фантастический квест. А пришельцы раз за разом забывали, что в тот самый день должны кого-то похитить. И верный товарищ всё никак не появлялся, возможно, занятый тем, чтобы дружить с кем-то другим.
Ей было почти двадцать. И всё резко стало по-взрослому. То странное чувство, что некогда звалось интуицией, теперь называлось нервным расстройством. Сердце всё еще билось часто, но все говорили, что это лечится. Вот только легче от этого почему-то не становилось. Быть может, ей не хотелось верить, что она обычная. Такая же, как и сотни, и тысячи людей по всему миру. Ей нравилось думать, что в жизни был смысл, и заключался он вовсе не в детях или счастливом браке.
Она смотрела кино и читала книги. Слушала музыку, глядя в ночное небо. Оттуда всё так же смотрели вниз далёкие, холодные звёзды. Они звали её, протягивая свои длинные, тонкие лучики. Но она не тянула к ним руки, боясь, что кто-то это увидит. Ей не хотелось быть сумасшедшей, впрочем, наивной или мечтательной она тоже себя не считала. Там, где-то среди звёздных скоплений должна быть иная жизнь. Судьба, которую стоит только подождать. Вот только, казалось, судьба эта вечно медлила, опаздывала к нетерпеливой космической путешественнице. И та больше не знала, сможет ли однажды её дождаться.
Она тянулась к звёздам душой, сглатывая солёные слёзы. И в свете самолётов видела космические корабли. Быть может, один из них заберёт её. В мир, который она хотела увидеть.
В мир, который зачем-то её звал.
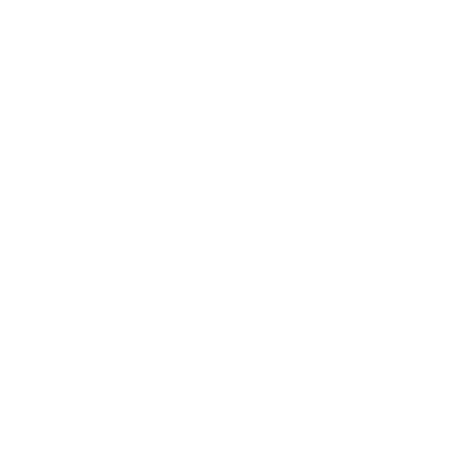
Лариса КАЛЬМАТКИНА
Родилась в 1972 году в Республике Коми. Окончила исторический факультет Сыктывкарского университета. Работала учителем Пыёлдинской средней школы. С 1994 по 2019 годы – сотрудник газеты «Маяк Сысолы». С 2019 по 2022 год – хранитель музейных предметов Музея истории и культуры Сысольского района. В настоящее время – педагог дополнительного образования в Визингской средней школе. Публиковалась в журналах «Войвыв кодзув» (Северная звезда), «Ротонда», альманахах «Новое слово» и «Белый бор», сборниках «Питер», «Остров Лето», «Авторы XXI века» и других. Дважды лауреат премии администрации муниципального района «Сысольский» в области литературы, дипломант нескольких конкурсов. Член Союза журналистов России. Живу в с. Визинга Сысольского района Республики Коми.
Родилась в 1972 году в Республике Коми. Окончила исторический факультет Сыктывкарского университета. Работала учителем Пыёлдинской средней школы. С 1994 по 2019 годы – сотрудник газеты «Маяк Сысолы». С 2019 по 2022 год – хранитель музейных предметов Музея истории и культуры Сысольского района. В настоящее время – педагог дополнительного образования в Визингской средней школе. Публиковалась в журналах «Войвыв кодзув» (Северная звезда), «Ротонда», альманахах «Новое слово» и «Белый бор», сборниках «Питер», «Остров Лето», «Авторы XXI века» и других. Дважды лауреат премии администрации муниципального района «Сысольский» в области литературы, дипломант нескольких конкурсов. Член Союза журналистов России. Живу в с. Визинга Сысольского района Республики Коми.
ДЯДЯ КОЛЯ
Я — дитя Севера, девственных лесов — единственных, сохранившихся в таком огромном количестве в Европе. И жизнь моя в основном проходит здесь, в краю белых ночей и бодрящих морозов.
Но судьба не раз забрасывала меня в южные края. Видела я и раздольные степи, и безбрежные моря, и заоблачные вершины. Однажды даже летала над горами на параплане.
Но сегодня я хочу рассказать вам не о полётах, а о том, как первая же моя южная поездка едва не стала единственной и последней в жизни.
— И чтоб больше в воду ни ногой! — только и крикнул дядя Коля, бросив меня на раскалённый песок.
Я лежу на спине с открытыми глазами. Жадно глотаю воздух. Сердце бьётся о грудную клетку, как птица, попавшая в сеть. Небо над головой синее-синее. Ни облачка. Приподнимаюсь, опираясь на локоть. Кашляю. На глаза набегают слёзы. От кашля. И от обиды на слова дяди Коли.
На пляже людей мало. Никто из них даже не заметил, что я только что чуть не утонула. Недалеко от меня молодая мама играет с сыном. Малыш совсем голенький. Он смешно бегает вокруг мамы, садится на землю, собирает в ладошки песок, просеивает его. От восторга звонко смеётся.
Мне же не до смеха. Я ищу глазами дядю Колю. Он сидит на упавшем дереве спиной ко мне. Ему надо отдышаться. И мне нужно прийти в себя. Это хорошо, что я такая худая и лёгкая, и он легко выудил меня из реки и дотащил до берега.
Как же я не заметила, что ноги потеряли опору? Когда я почувствовала, что дна нет, меня охватила такая паника! Я судорожно хваталась руками за воду, проваливаясь в бездну. Дважды мне удавалось вынырнуть. И каждый раз я видела перед собой искажённое, словно в кривом зеркале, солнце. А потом вода окончательно накрыла меня с головой. И даже когда я пошла ко дну, я всё ещё не верила, что тону.
Чьи-то сильные руки подхватили меня и вытолкнули на поверхность. Я не видела, кто это. Как вдруг услышала голос дяди Коли:
— И чтоб больше в воду ни ногой!
Выходит, он всё это время наблюдал за мной. Хотя мог бы просто отдыхать, как остальные люди на пляже. А он ни на секунду не выпускал меня из поля зрения.
Я представила, как бы дядя Коля вернулся на родину без меня. Что бы он сказал своей сестре, моей маме? Что её единственная дочь утонула? Что стало бы с мамой? Эти вопросы налетели на меня, как рой ос.
Встаю, отряхиваюсь от налипшего песка, иду к своим вещам. Сажусь на полотенце. На реку даже не смотрю. На дядю Колю тоже.
И чего меня понесло в то опасное место? Я же знаю, что на слиянии протоки и реки глубоко. Мне об этом говорили. И я всегда была осторожна. Но не сегодня.
Дядя Коля, видимо, немного остыл. Идёт купаться. Я сижу, не шелохнувшись. Время приближается к полудню, солнце припекает сильнее. За две недели, что мы на Дону, я превратилась в смуглянку. Дядя Коля сказал, что южный загар быстро сходит. На севере загар садится в течение всего лета, зато и в бане смывается не сразу.
Разглядываю свои ноги. Худые и длинные, они часто становятся объектом шуток для мальчишек из нашего класса. Но теперь мне это безразлично, как и многое другое. Теперь мне жаль дядю Колю.
Меня охватывает невиданная грусть. Не оттого, что запретили купаться впредь, а оттого, что моя глупость рассорила нас с дядей Колей. Я не знаю, как загладить вину.
Дядя Коля выходит из воды. Фыркая и подпрыгивая на одной ноге, приближается ко мне. Улыбается. Я боюсь улыбнуться в ответ. Он ложится на живот. Оба молчим. Дядя Коля повернул голову в другую сторону. О чём он думает?
— Извини меня, — чуть слышно шепчу я, нервно сжимая ладони.
Не знаю, слышит ли мои слова дядя Коля.
Я поднимаю глаза. Передо мной — могучая река Дон. Она рвётся вперёд. Живёт насыщенной жизнью. Ей совершенно неинтересно, что думают люди и чем они заняты. У неё своя важная работа — катить воды в море.
СУП
Я съела голубя! Ужас охватил меня. Почему они мне сразу не сказали, что это голубь? Почему они, угощая меня горячим супом, говорили, что он из рябчика?
Суп мне казался замечательным. И запах, и вкус разогревали аппетит. Я съела всё до последней капли. Косточки обсосала и положила на синее блюдце.
Отложила ложку. И вот тут они, смеясь, сказали, что это был голубь.
– Как голубь? – у меня на глаза навернулись слёзы. – Как голубь…
Я готова была разрыдаться. Для меня голубь – птица мира, семейного счастья. Неприкосновенная птица! А я его, получается, съела и даже не подавилась.
Они смотрели на меня и хохотали. Я встала из-за стола. Вышла на улицу. В воздухе одурманивающе пахло сиренью и тёплой пылью. Кругом щебетали птицы.
В горле у меня стоял ком. Я вспомнила вкус птичьего мяса – нежный, мягкий – и не хотела верить, что это голубь. Я плакала.
Меня не вырвало, нет, хотя мутило ещё долго. И сейчас, когда я вспоминаю голодные девяностые годы, вижу перед собой тарелку с голубиным супом в доме дяди Коли.
КРАСНЫЕ КРОССОВКИ
Левый глаз периодически дёргается уже с августа. Вот и сейчас я стою на остановке, а он нервно подмигивает. И никак не угомонить. Бесполезно пить успокоительные, заваривать травки, слушать расслабляющую музыку. Можно только закрыть глаз или прижать пальцем веко, словно бы говоря: «Ну что ты, малыш, перестань. Всё же хорошо». Это ненадолго помогает.
Подмигивая, глаз непроизвольно зацепился за высокого мужчину в чёрной куртке, синих джинсах и красных кроссовках. На всей сумеречной улице его обувь была единственным ярким пятном, не считая светофора. «Вырядился, как клоун, – подумала я. – Если бы был подростком, ещё куда ни шло, а тут явно к сорока приближается».
Мужчина заметил мой оценивающий взгляд и подмигнул. Я почувствовала, что краснею. Становлюсь похожей цветом на его обувь. Хотела отвернуться, но вдруг мужчина обратился ко мне:
– Барышня, вы не подскажете, где находится женская консультация?
Глаз на секунду перестал дёргаться. Давно вышедшее из обихода обращение сбило с толку. А женская консультация никак не вязалась с красными кроссовками. И что ещё больше меня удивило – я там работала. Может, этот тип следит за мной? Откуда он знает, где я работаю? Внутри шевельнулось что-то холодное. Зря я вчера на ночь читала Кинга.
Я хотела сказать, что не местная и не знаю никаких консультаций, но пионерское детство не позволило мне соврать:
– На двадцать третьем можно доехать. Вот он уже едет.
– Хорошо, спасибо, – тип широко улыбнулся.
Почему он улыбнулся? Тут явно что-то не то. Я посмотрела на приближающийся автобус. Забрызганный грязью жёлтый пазик резко остановился, с грохотом распахнул двери.
В автобусе народу было мало. Я села возле окна. Тип в красных кроссовках устроился рядом:
– Меня Толя зовут.
Незнакомец, впрочем, теперь уже знакомец, протянул ладонь. Я посмотрела на его руку. Концы пальцев жёлтые. Курит и, скорее всего, дешёвые сигареты. Хотя где сейчас найдёшь дешёвые? Обручального кольца нет. Либо не женат, либо развёлся. Либо женат, но кольцо не носит. Так многие мужчины делают. Пускают пыль в глаза. Я кивнула. Но руки не подала. Он убрал ладонь:
– И даже не скажете, как вас зовут?
Мне совершенно не нравился его натиск, но я ответила:
– Люся.
– Красивое имя. По-французски – Люси. Даже песня такая есть про собаку Люси. Газманов поёт.
– Не слышала, – я крепче прижала сумочку к себе.
– У вас красивый город, – сказал Толя, удобнее пристраивая на коленях чёрный рюкзак.
Я посмотрела в окно, чтобы убедиться в его правоте. На улицах было мрачно. Серые дома, над ними – тяжёлые тучи, проливающиеся мелким дождём. Голые деревья, огромные лужи. Люди с хмурыми лицами. Два бомжа роются в мусорных баках. Рядом бегает рыжая собака, виляя мокрым хвостом.
– Да, красивый, – согласилась я и вздохнула.
Толя почему-то тоже вздохнул. Какое-то время ехали молча.
– Ваша остановка, – сказала я. – И моя тоже.
– Выходим, – Толя накинул на левое плечо рюкзак, вышел из автобуса и подал мне руку.
– Вон за тем поворотом – женская консультация. Могу вас проводить. Я там работаю, – раскрывая зонтик с подсолнухами, сказала я.
– Здорово. А я как раз иду на собеседование.
– Так это вы вчера звонили? Анатолий Сергеевич Лушков?
– Да. А вы Людмила Ричардовна?
Я кивнула.
– Приятно познакомиться! – Толя расплылся в широкой улыбке. – А вы мне сразу понравились!
– Вы мне тоже, – соврала я, начисто забыв о том, что когда-то была пионеркой.
СОРОК ГРЕХОВ
Завтра воскресенье. Анна готовится идти на исповедь. Сидя в кресле и склонившись над журнальным столиком, она записывает свои грехи на листке, вырванном из тетради дочери.
Временами Анна поднимает голову и задумывается, глядя перед собой. Перед ней окно, занавешенное светло-зелёными шторами. Под ними, возле батареи разлёгся рыжий кот Жора, всем своим видом показывая, что судьбой он вполне доволен.
Этого нельзя сказать об Анне. Она беспокоится. Каждая исповедь – как испытание. Как полёт в космос, к которому надо тщательно подготовиться. Вспомнить всё.
Анна вновь склоняется к листку и твёрдой рукой записывает свои прегрешения. Раньше она не умела этого делать, но два года общения с батюшкой и прихожанами храма научили многое понимать в церковной жизни.
Строчки бегут ровно. В начале текста печатными буквами выведено: «МОИ ГРЕХИ». Дальше каждое прегрешение, вольное и невольное, пронумеровано. Не для того, чтобы взять количеством, а, скорее, для порядка. Уж что-что, а порядок Анна любит. В её бухгалтерских делах на работе всё идеально, комар носа не подточит.
Вскоре двойной лист в клетку заполняется. Описаны все случаи, когда Анна кого-то обидела или на кого-то обиделась сама. Моменты, когда она не сумела сдержать раздражение или гнев, позволила вылететь матерному слову. Да мало ли что за человеком может накопиться за два месяца. И за день можно таких дел наворотить, что ни одна бумага не выдержит, покраснеет от стыда.
К вере Анна пришла не от хорошей жизни. Беспутным и непонятным было её прошлое. Её бросало из стороны в сторону. От одного мужчины к другому. А потом она встретила Петра, у них родилась дочь, и Анна успокоилась.
Однажды в Прощёное воскресенье соседка Мария Андреевна предложила ей вместе сходить на воскресную службу. А потом Анну ноги сами уже несли в храм. Она им не противилась.
Ну, что было, то было. Анна ещё раз перечитала написанное. В комнату вошла дочь Оля и с порога спросила:
– Привет. Что делаешь?
– Готовлюсь к исповеди, – Анна сложила вчетверо исписанный лист.
– Записала свои грехи? – продолжала любопытствовать Оля. – И много у тебя грехов?
– Сорок получилось.
– Напиши ещё сорок первый, – улыбнулась дочь. – Что у тебя низкая самооценка.
Анна вздохнула, но ничего не ответила. В детстве она тоже считала своих родителей почти святыми.
ДВЕ СЕСТРЫ
Варя сидела напротив окна, щурясь от яркого мартовского солнца. Её пышные светло-русые локоны ниспадали до табуретки. Бабушка вертелась возле внучки, стараясь заплести косы так, чтобы они выглядели толще.
– Всё подходит: и сама ты – Варвара, и коса у тебя – всем на загляденье, – рассуждала бабушка. – Никакие конкурсы тебе не страшны.
– Со всей школы девочки участвуют, поэтому и боюсь, – призналась Варя, стараясь сидеть прямо.
– В детстве у меня тоже были густые и длинные волосы. Лет до четырнадцати. Даже голова уставала к вечеру от их тяжести, – продолжала бабушка, колдуя над причёской.
– А потом ты их отрезала? Устала носить? – полюбопытствовала Варя.
– Не я. Бабушка Марья, моя сестра. Ссора между нами была. Мы поспорили, чьи волосы красивее. Мерили линейкой длину и толщину кос. Мои оказались длиннее. Вот сестра и обиделась. На следующее утро я проснулась, а одной косы у меня нет. Маша ночью отрезала. На плач прибежала мама. Уж на что суровая была женщина, а ничего не сказала. Усадила меня на стул и острым ножом оттяпала вторую косу. Я повязала голову белым платком. Так и ходила. Помню, весь день в доме стояла тишина. Никто ни с кем не разговаривал.
– А что же бабушка Марья? – заёрзала Варя, устав сидеть в одном положении.
– Утром следующего дня я проснулась от того, что кто-то на меня смотрит. Открыла глаза. Смотрю – Машка. Без кос. Стоит и улыбается. Я сразу всё поняла. Это она сама себя обкромсала. Сестра рассмеялась. Я не удержалась и улыбнулась. Она запрыгнула ко мне на кровать. Мы залезли под одеяло и там хохотали, чтобы не разбудить родителей. Отсмеявшись, обнялись и заснули. Больше таких красивых волос у нас с Машей не было, – бабушка отошла на несколько шагов и залюбовалась внучкой. – Ну вот, готово. Красавица!
Варя надела пальто и шапку, взяла розовый рюкзачок и встала возле двери.
– Удачи тебе, Варвара! – напутствовала бабушка внучку, поправляя на ней шапку.
Вечером Варя вернулась с большой куклой и тортом.
– Бабушка! – крикнула она от порога. – Ставь самовар, будем пить чай. Мне первое место дали!
В это время бабушка сидела в комнате за круглым столом и рассматривала старые фотографии. Она отложила альбом, подошла к Варе и обняла её.
Я — дитя Севера, девственных лесов — единственных, сохранившихся в таком огромном количестве в Европе. И жизнь моя в основном проходит здесь, в краю белых ночей и бодрящих морозов.
Но судьба не раз забрасывала меня в южные края. Видела я и раздольные степи, и безбрежные моря, и заоблачные вершины. Однажды даже летала над горами на параплане.
Но сегодня я хочу рассказать вам не о полётах, а о том, как первая же моя южная поездка едва не стала единственной и последней в жизни.
— И чтоб больше в воду ни ногой! — только и крикнул дядя Коля, бросив меня на раскалённый песок.
Я лежу на спине с открытыми глазами. Жадно глотаю воздух. Сердце бьётся о грудную клетку, как птица, попавшая в сеть. Небо над головой синее-синее. Ни облачка. Приподнимаюсь, опираясь на локоть. Кашляю. На глаза набегают слёзы. От кашля. И от обиды на слова дяди Коли.
На пляже людей мало. Никто из них даже не заметил, что я только что чуть не утонула. Недалеко от меня молодая мама играет с сыном. Малыш совсем голенький. Он смешно бегает вокруг мамы, садится на землю, собирает в ладошки песок, просеивает его. От восторга звонко смеётся.
Мне же не до смеха. Я ищу глазами дядю Колю. Он сидит на упавшем дереве спиной ко мне. Ему надо отдышаться. И мне нужно прийти в себя. Это хорошо, что я такая худая и лёгкая, и он легко выудил меня из реки и дотащил до берега.
Как же я не заметила, что ноги потеряли опору? Когда я почувствовала, что дна нет, меня охватила такая паника! Я судорожно хваталась руками за воду, проваливаясь в бездну. Дважды мне удавалось вынырнуть. И каждый раз я видела перед собой искажённое, словно в кривом зеркале, солнце. А потом вода окончательно накрыла меня с головой. И даже когда я пошла ко дну, я всё ещё не верила, что тону.
Чьи-то сильные руки подхватили меня и вытолкнули на поверхность. Я не видела, кто это. Как вдруг услышала голос дяди Коли:
— И чтоб больше в воду ни ногой!
Выходит, он всё это время наблюдал за мной. Хотя мог бы просто отдыхать, как остальные люди на пляже. А он ни на секунду не выпускал меня из поля зрения.
Я представила, как бы дядя Коля вернулся на родину без меня. Что бы он сказал своей сестре, моей маме? Что её единственная дочь утонула? Что стало бы с мамой? Эти вопросы налетели на меня, как рой ос.
Встаю, отряхиваюсь от налипшего песка, иду к своим вещам. Сажусь на полотенце. На реку даже не смотрю. На дядю Колю тоже.
И чего меня понесло в то опасное место? Я же знаю, что на слиянии протоки и реки глубоко. Мне об этом говорили. И я всегда была осторожна. Но не сегодня.
Дядя Коля, видимо, немного остыл. Идёт купаться. Я сижу, не шелохнувшись. Время приближается к полудню, солнце припекает сильнее. За две недели, что мы на Дону, я превратилась в смуглянку. Дядя Коля сказал, что южный загар быстро сходит. На севере загар садится в течение всего лета, зато и в бане смывается не сразу.
Разглядываю свои ноги. Худые и длинные, они часто становятся объектом шуток для мальчишек из нашего класса. Но теперь мне это безразлично, как и многое другое. Теперь мне жаль дядю Колю.
Меня охватывает невиданная грусть. Не оттого, что запретили купаться впредь, а оттого, что моя глупость рассорила нас с дядей Колей. Я не знаю, как загладить вину.
Дядя Коля выходит из воды. Фыркая и подпрыгивая на одной ноге, приближается ко мне. Улыбается. Я боюсь улыбнуться в ответ. Он ложится на живот. Оба молчим. Дядя Коля повернул голову в другую сторону. О чём он думает?
— Извини меня, — чуть слышно шепчу я, нервно сжимая ладони.
Не знаю, слышит ли мои слова дядя Коля.
Я поднимаю глаза. Передо мной — могучая река Дон. Она рвётся вперёд. Живёт насыщенной жизнью. Ей совершенно неинтересно, что думают люди и чем они заняты. У неё своя важная работа — катить воды в море.
СУП
Я съела голубя! Ужас охватил меня. Почему они мне сразу не сказали, что это голубь? Почему они, угощая меня горячим супом, говорили, что он из рябчика?
Суп мне казался замечательным. И запах, и вкус разогревали аппетит. Я съела всё до последней капли. Косточки обсосала и положила на синее блюдце.
Отложила ложку. И вот тут они, смеясь, сказали, что это был голубь.
– Как голубь? – у меня на глаза навернулись слёзы. – Как голубь…
Я готова была разрыдаться. Для меня голубь – птица мира, семейного счастья. Неприкосновенная птица! А я его, получается, съела и даже не подавилась.
Они смотрели на меня и хохотали. Я встала из-за стола. Вышла на улицу. В воздухе одурманивающе пахло сиренью и тёплой пылью. Кругом щебетали птицы.
В горле у меня стоял ком. Я вспомнила вкус птичьего мяса – нежный, мягкий – и не хотела верить, что это голубь. Я плакала.
Меня не вырвало, нет, хотя мутило ещё долго. И сейчас, когда я вспоминаю голодные девяностые годы, вижу перед собой тарелку с голубиным супом в доме дяди Коли.
КРАСНЫЕ КРОССОВКИ
Левый глаз периодически дёргается уже с августа. Вот и сейчас я стою на остановке, а он нервно подмигивает. И никак не угомонить. Бесполезно пить успокоительные, заваривать травки, слушать расслабляющую музыку. Можно только закрыть глаз или прижать пальцем веко, словно бы говоря: «Ну что ты, малыш, перестань. Всё же хорошо». Это ненадолго помогает.
Подмигивая, глаз непроизвольно зацепился за высокого мужчину в чёрной куртке, синих джинсах и красных кроссовках. На всей сумеречной улице его обувь была единственным ярким пятном, не считая светофора. «Вырядился, как клоун, – подумала я. – Если бы был подростком, ещё куда ни шло, а тут явно к сорока приближается».
Мужчина заметил мой оценивающий взгляд и подмигнул. Я почувствовала, что краснею. Становлюсь похожей цветом на его обувь. Хотела отвернуться, но вдруг мужчина обратился ко мне:
– Барышня, вы не подскажете, где находится женская консультация?
Глаз на секунду перестал дёргаться. Давно вышедшее из обихода обращение сбило с толку. А женская консультация никак не вязалась с красными кроссовками. И что ещё больше меня удивило – я там работала. Может, этот тип следит за мной? Откуда он знает, где я работаю? Внутри шевельнулось что-то холодное. Зря я вчера на ночь читала Кинга.
Я хотела сказать, что не местная и не знаю никаких консультаций, но пионерское детство не позволило мне соврать:
– На двадцать третьем можно доехать. Вот он уже едет.
– Хорошо, спасибо, – тип широко улыбнулся.
Почему он улыбнулся? Тут явно что-то не то. Я посмотрела на приближающийся автобус. Забрызганный грязью жёлтый пазик резко остановился, с грохотом распахнул двери.
В автобусе народу было мало. Я села возле окна. Тип в красных кроссовках устроился рядом:
– Меня Толя зовут.
Незнакомец, впрочем, теперь уже знакомец, протянул ладонь. Я посмотрела на его руку. Концы пальцев жёлтые. Курит и, скорее всего, дешёвые сигареты. Хотя где сейчас найдёшь дешёвые? Обручального кольца нет. Либо не женат, либо развёлся. Либо женат, но кольцо не носит. Так многие мужчины делают. Пускают пыль в глаза. Я кивнула. Но руки не подала. Он убрал ладонь:
– И даже не скажете, как вас зовут?
Мне совершенно не нравился его натиск, но я ответила:
– Люся.
– Красивое имя. По-французски – Люси. Даже песня такая есть про собаку Люси. Газманов поёт.
– Не слышала, – я крепче прижала сумочку к себе.
– У вас красивый город, – сказал Толя, удобнее пристраивая на коленях чёрный рюкзак.
Я посмотрела в окно, чтобы убедиться в его правоте. На улицах было мрачно. Серые дома, над ними – тяжёлые тучи, проливающиеся мелким дождём. Голые деревья, огромные лужи. Люди с хмурыми лицами. Два бомжа роются в мусорных баках. Рядом бегает рыжая собака, виляя мокрым хвостом.
– Да, красивый, – согласилась я и вздохнула.
Толя почему-то тоже вздохнул. Какое-то время ехали молча.
– Ваша остановка, – сказала я. – И моя тоже.
– Выходим, – Толя накинул на левое плечо рюкзак, вышел из автобуса и подал мне руку.
– Вон за тем поворотом – женская консультация. Могу вас проводить. Я там работаю, – раскрывая зонтик с подсолнухами, сказала я.
– Здорово. А я как раз иду на собеседование.
– Так это вы вчера звонили? Анатолий Сергеевич Лушков?
– Да. А вы Людмила Ричардовна?
Я кивнула.
– Приятно познакомиться! – Толя расплылся в широкой улыбке. – А вы мне сразу понравились!
– Вы мне тоже, – соврала я, начисто забыв о том, что когда-то была пионеркой.
СОРОК ГРЕХОВ
Завтра воскресенье. Анна готовится идти на исповедь. Сидя в кресле и склонившись над журнальным столиком, она записывает свои грехи на листке, вырванном из тетради дочери.
Временами Анна поднимает голову и задумывается, глядя перед собой. Перед ней окно, занавешенное светло-зелёными шторами. Под ними, возле батареи разлёгся рыжий кот Жора, всем своим видом показывая, что судьбой он вполне доволен.
Этого нельзя сказать об Анне. Она беспокоится. Каждая исповедь – как испытание. Как полёт в космос, к которому надо тщательно подготовиться. Вспомнить всё.
Анна вновь склоняется к листку и твёрдой рукой записывает свои прегрешения. Раньше она не умела этого делать, но два года общения с батюшкой и прихожанами храма научили многое понимать в церковной жизни.
Строчки бегут ровно. В начале текста печатными буквами выведено: «МОИ ГРЕХИ». Дальше каждое прегрешение, вольное и невольное, пронумеровано. Не для того, чтобы взять количеством, а, скорее, для порядка. Уж что-что, а порядок Анна любит. В её бухгалтерских делах на работе всё идеально, комар носа не подточит.
Вскоре двойной лист в клетку заполняется. Описаны все случаи, когда Анна кого-то обидела или на кого-то обиделась сама. Моменты, когда она не сумела сдержать раздражение или гнев, позволила вылететь матерному слову. Да мало ли что за человеком может накопиться за два месяца. И за день можно таких дел наворотить, что ни одна бумага не выдержит, покраснеет от стыда.
К вере Анна пришла не от хорошей жизни. Беспутным и непонятным было её прошлое. Её бросало из стороны в сторону. От одного мужчины к другому. А потом она встретила Петра, у них родилась дочь, и Анна успокоилась.
Однажды в Прощёное воскресенье соседка Мария Андреевна предложила ей вместе сходить на воскресную службу. А потом Анну ноги сами уже несли в храм. Она им не противилась.
Ну, что было, то было. Анна ещё раз перечитала написанное. В комнату вошла дочь Оля и с порога спросила:
– Привет. Что делаешь?
– Готовлюсь к исповеди, – Анна сложила вчетверо исписанный лист.
– Записала свои грехи? – продолжала любопытствовать Оля. – И много у тебя грехов?
– Сорок получилось.
– Напиши ещё сорок первый, – улыбнулась дочь. – Что у тебя низкая самооценка.
Анна вздохнула, но ничего не ответила. В детстве она тоже считала своих родителей почти святыми.
ДВЕ СЕСТРЫ
Варя сидела напротив окна, щурясь от яркого мартовского солнца. Её пышные светло-русые локоны ниспадали до табуретки. Бабушка вертелась возле внучки, стараясь заплести косы так, чтобы они выглядели толще.
– Всё подходит: и сама ты – Варвара, и коса у тебя – всем на загляденье, – рассуждала бабушка. – Никакие конкурсы тебе не страшны.
– Со всей школы девочки участвуют, поэтому и боюсь, – призналась Варя, стараясь сидеть прямо.
– В детстве у меня тоже были густые и длинные волосы. Лет до четырнадцати. Даже голова уставала к вечеру от их тяжести, – продолжала бабушка, колдуя над причёской.
– А потом ты их отрезала? Устала носить? – полюбопытствовала Варя.
– Не я. Бабушка Марья, моя сестра. Ссора между нами была. Мы поспорили, чьи волосы красивее. Мерили линейкой длину и толщину кос. Мои оказались длиннее. Вот сестра и обиделась. На следующее утро я проснулась, а одной косы у меня нет. Маша ночью отрезала. На плач прибежала мама. Уж на что суровая была женщина, а ничего не сказала. Усадила меня на стул и острым ножом оттяпала вторую косу. Я повязала голову белым платком. Так и ходила. Помню, весь день в доме стояла тишина. Никто ни с кем не разговаривал.
– А что же бабушка Марья? – заёрзала Варя, устав сидеть в одном положении.
– Утром следующего дня я проснулась от того, что кто-то на меня смотрит. Открыла глаза. Смотрю – Машка. Без кос. Стоит и улыбается. Я сразу всё поняла. Это она сама себя обкромсала. Сестра рассмеялась. Я не удержалась и улыбнулась. Она запрыгнула ко мне на кровать. Мы залезли под одеяло и там хохотали, чтобы не разбудить родителей. Отсмеявшись, обнялись и заснули. Больше таких красивых волос у нас с Машей не было, – бабушка отошла на несколько шагов и залюбовалась внучкой. – Ну вот, готово. Красавица!
Варя надела пальто и шапку, взяла розовый рюкзачок и встала возле двери.
– Удачи тебе, Варвара! – напутствовала бабушка внучку, поправляя на ней шапку.
Вечером Варя вернулась с большой куклой и тортом.
– Бабушка! – крикнула она от порога. – Ставь самовар, будем пить чай. Мне первое место дали!
В это время бабушка сидела в комнате за круглым столом и рассматривала старые фотографии. Она отложила альбом, подошла к Варе и обняла её.

Александр ЧЕРНЯК
Коренной ростовчанин. Работал в системе Главного Военно-Строительного Управления МО СССР и на административной работе – на должности заместителя главы администрации столицы Северного флота г.Североморска. Отец двух дочерей, в браке с любимой женой прожил сорок шесть лет. Через год после потери своей спутницы жизни, какая-то сила сверху взяла меня за руку и посадила к чистому листу бумаги, вложив в руку авторучку, результатом чего стало в 2022 году опубликование на площадках самиздата книги «Лестница в небо», а ровно через год – в феврале 2023 года – второй книги «Непристойное предложение». Обе книги сегодня можно увидеть в интернет-магазинах Ridero, ЛитРес, Озон.
Коренной ростовчанин. Работал в системе Главного Военно-Строительного Управления МО СССР и на административной работе – на должности заместителя главы администрации столицы Северного флота г.Североморска. Отец двух дочерей, в браке с любимой женой прожил сорок шесть лет. Через год после потери своей спутницы жизни, какая-то сила сверху взяла меня за руку и посадила к чистому листу бумаги, вложив в руку авторучку, результатом чего стало в 2022 году опубликование на площадках самиздата книги «Лестница в небо», а ровно через год – в феврале 2023 года – второй книги «Непристойное предложение». Обе книги сегодня можно увидеть в интернет-магазинах Ridero, ЛитРес, Озон.
НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отрывок из повести
Сегодня моего соседа по общежитию ни вечером, ни ночью не будет. Он только утром прилетит в Ростов из Мурманска. Я принял душ. Выпил стакан молока из холодильника с венской булочкой от известного в городе производителя кондитерских изделий, а память уже закружила меня в вихре событий, людей и дат, заставляя вернуться в армейские годы, когда защитить страну, своего сослуживца и командира я не просто был обязан и должен, но и хотел. Потушив в комнате свет и устроившись поудобнее на подушке, я уже и не думал сопротивляться этой бешеной карусели, уносящей меня в ночь, когда я сделал то, чему меня учили в ШСС и чего от меня ждали мои армейские учителя. Да и сам я должен был себе доказать, что на меня можно положиться в тяжёлых, практически безвыходных ситуациях, когда вроде бы чужая жизнь однополчан становится дороже своей. Что тебе есть за что себя уважать!
Шёл второй год службы в армии. К заставе, к её распорядку жизни, к её задачам, возможностям и способам решения задач я привык. Хорошо их знал, нормально ориентировался во всей кухне солдатской пограничной службы. Пару месяцев назад получил звание сержанта и теперь ходил с тремя «лычками». Здесь, в Мегри, очень пригодились знания, полученные в учебке – Школе сержантского состава…
Особо тёплые отношения я испытывал к прапорщику – нашему инструктору по метанию штык-ножа. Им был Иван Афанасьевич Лабунец. Афанасьич был сыном егеря. Всё в лесу знал и умел. Курил он сигареты «Прима», частенько при курении поплёвывал попадающими изредка в рот кусочками табака. Бычков, то есть окурков, после себя не оставлял. Докуривал сигарету практически до конца, обжигая пальцы, но не оставляя за собой следов. Сигарет с фильтром не признавал. Штык-нож он метал из любого положения: стоя, лёжа, сидя, снизу, сверху, спиной к мишени, даже в полной темноте и на звук.
Мог метать нож, держа его за клинок, за ручку и даже за шлейку. После первого занятия на метание ножа я для себя решил, что должен этому научиться. Я подошёл к товарищу прапорщику и честно сказал:
– Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? – и, получив кивком головы разрешение, продолжил. – Я просто поражён Вашим умением метать нож. Я сам до армии дома, в Ейске, занимался рукопашкой…
… Мы с лейтенантом поднимаемся на второй этаж пустого вокзала, по помещениям которого гулко разносятся наши тяжелые шаги. Впереди – Аракелян с фонариком и открытой кобурой с пистолетом. За ним иду я с автоматом, затвор которого уже передёрнут. По мере приближения к комнате дежурного по вокзалу, которая находится в середине коридора, маячок Смолякова горит всё ярче. Лейтенант выключает прибор, и так всё ясно – наряд спит. На стене перед комнатой – табличка «Дежурный по вокзалу», на русском и армянском языках. Двери в комнату нет. Лейтенант аккуратно направляет луч фонарика в комнату и кивает мне головой, показывая направление моего движения. Я с автоматом резко шагаю в комнату и включаю свой фонарик.
От увиденного мы с лейтенантом остолбенели. В пустой комнате в лучах света двух наших фонарей лежит у стены матрас. На матрасе лицом вниз, голова повернута на бок, с остановившимся взглядом лежит старший сержант Смоляков. Рядом на полу – рядовой Шелест смотрит в потолок остекленевшими глазами. Оба пограничника дышат так тихо, что мы с лейтенантом, кажется, одновременно подумали, что бойцы наши мертвы. Однако сильный запах спиртного в помещении, где отсутствуют окна и двери, говорит о том, что бойцы наши мертвецки пьяны. Вот умеют же люди спать с открытыми глазами! Так может пригодиться на политзанятиях! В изголовье смоляковской лежанки стоит трёхлитровый баллон, из которого наши товарищи успели отпить максимум пару стаканов. Назначение, крепость и вкусовые качества алкоголя можно с ходу определить. Если кратко и точно – виноградная самогонка местного изготовления. На грязном полу бывшей комнаты дежурного по вокзалу между телами пограничников расстелен светлый, с большими бордовыми полосами, разделяющими ткань на квадраты, не очень свежий, но на фоне заброшенного помещения просто сверкающий белизной носовой платок одного из участников застолья. На платке гордо возлежат две крупные кисти тёмно-синего винограда с оторванным сверху небольшим количеством ягод. Рядом жёлто-розовыми мазками известного художника мирно прислонились друг к другу спелые абрикосы. А рядом с абрикосами в художественном беспорядке лежали три спелых граната. Один из гранатов был разломлен пополам. В лучах наших фонариков разломленный гранат искрился ярко-красными, как кровь, косточками. Создавалось понимание, что бойцы госграницы не ставили акценты на еде. Они чётко акцентировали своё внимание на трёхлитровом баллоне, не имеющем наклейки с названием, маркой, производителем напитка, но говорящего о своём качестве – телами двух молодых ребят, думавших, что в западню попал баллон. Как бы не так: в западню попали они. Этот натюрморт в обстановке алкогольного буйства у нас называется закусь. Рядом с закусью стоит один пустой стакан. Второй стакан, видимо, не выдержал нагрузки и упал на бок, расплескав часть содержимого, так и оставшегося в лужице у головы Саши Шелеста, красиво блестя и переливаясь в лучах фонарей.
– Мурадов, проверь наличие оружия в комнате и документов у бойцов, – я осматриваю Смолякова и Шелеста, забираю документы из гимнастёрок. – Давай быстрее, нам еще пахать и пахать!
Внимательно обхожу всю комнату. Всё оружие на месте. Автоматы, штык-ножи, фонари собираю и кладу у стены рядом с дверным проёмом.
– Все патроны в автоматах и два запасных «рожка» – полные. Ни одного выстрела не сделано, товарищ младший лейтенант.
Иду в сторону оконного проёма. Большое и круглое окно раньше выходило на вокзальный перрон, на давно демонтированные и сданные в металлолом рельсы железнодорожных путей, но сейчас в темноте только с помощью мощного луча фонаря лейтенанта можно было бы увидеть это пиршество разрухи и запустения да еще в метрах пятидесяти – нашу следовую полосу с пограничным ограждением. Там, за ограждениями, в ущелье реки гудела и пенилась, бешено летя по каменному руслу, вода, которую собирал Аракс со всех окрестных гор. Днём я бы увидел влево и вправо от брошенного вокзала госграницу. Сейчас же практически ничего не было видно. Мозг тупо фиксировал окружающую действительность, а внутри его кипела работа: а вдруг ребят специально подпоили, готовя переход границы в этом районе, и где третий – Мухамедзянов. Ребят, с которыми я жил в одной казарме, делил в нарядах еду и кров, с которыми мы защищали друг друга в коротких боестолкновениях при задержании нарушителей госграницы, я хорошо знал. Никогда не замечал у них тягу к крепкому алкоголю. Я вернулся к лейтенанту, который молчаливо стоял над солдатами.
– Самвел Рафикович, рацию я не нашёл.
– Знаешь, сержант, – вдруг закричал лейтенант, – на хрен никому не нужна твоя рация. Все понимают же, что в первую минуту работы её засекут!!! Найдётся, железяка куева! А вот что-то эта картина мне очень не нравится? Два здоровых бойца свалились замертво от ста пятидесяти граммов самогонки? Это что за муйня такая? А? Мурадов?
– Может, им подсыпали в баллон чего-нибудь?
– Ты еще скажи, что им алкоголь через клизму влили! Так они не хотели бухать! Уроды!
И уже тихо сказал:
– А может, и подсыпали, мать их…
По лестнице, а через несколько секунд по коридору – топот сапог: наши пришли на доклад. Я в дверной проём им кричу сдавленным голосом:
– Ребята, сюда! – стараюсь не кричать громко автоматически, ведь когда друг твой спит, ты ж не будешь орать?
Ребята входят и замирают в проёме дверей, увидев интересную картину. Аракелян оборачивается к вошедшим с вопросом:
– Где доклад?
– Товарищ младший лейтенант, мы нашли Мухамедзянова метрах в тридцати от вокзала, за деревом, мёртвый. Автоматный рожок пустой. На первом этаже найдена рация. Отсек с батареей пустой, – я смотрю на лейтенанта: как он догадался, что рацию найдём?
– А вот это понятно! – произносит медленно наш командир. – Мухамедзянов – мусульманин. Коран запрещает алкоголь, и боец пить отказался. Вот он и вступил в бой с нарушителями один.
– Так, Протасов, включай нашу рацию! – Николай включает рацию, настраивается на волну заставы. – Орёл! Орёл! Ответьте Филину! Орёл! Орёл! Ответьте Филину! – Видимо, слышит в ответ: Орёл на связи, – передаёт разговорную гарнитуру младшему лейтенанту.
– Орёл, я – Филин, на объекте вокзал – один двухсотый, два трёхсотых – все наши. Нужна помощь и дознаватель. Оставляю своих двух бойцов с рацией на охране места происшествия до вашего прибытия. Как понял меня, Орёл? Отбой.
– Понял тебя, Филин, отбой.
Продолжая смотреть на рацию, Аракелян произносит:
– Сейчас понесут связь командиру. Через десять минут на заставе будет полный писец! Лучше этого не видеть! Протасов – вперёд, показываешь место гибели Мухамедзянова. Шмаков, Протасов – остаетесь на охране комнаты, наших бойцов и Мухамедзянова…
– На Смолякова и Шелеста надеть наручники. Шмаков охраняет эту комнату. Протасов патрулирует первый этаж и место гибели Мухамедзянова. За сохранность оружия, Шмаков, отвечаешь головой. Рацию держать включенной. К спиртному не дотрагиваться – подозреваю, что оно отравлено. На объект никого не пускать кроме наших. При неподчинении приказываю открывать огонь на поражение. Автоматы с предохранителей снять. Мурадов, забираешь фонари Смолякова и Шелеста: неизвестно еще, сколько времени займёт наша предстоящая ночная прогулка. Документы и оружие бухих защитников госграницы передать по прибытию старшему группы.
Двое наших провожают нас до входа на вокзал.
– Показывайте, где нашли Мухамедзянова.
Наши бойцы ведут нас в сторону от вокзала. Подсвечиваем себе дорогу фонариком. Протасов и Шмаков приводят нас с лейтенантом к старому платану, растущему невдалеке от бывшего вокзального перрона. За платаном лежит Мухамедзянов.
– Никому не подходить! – командует наш лейтенант. – Осмотрю сам. Мурадов, обойди место вокруг. Мне нужны следы в радиусе 15 метров! Быстрее, Мурадов! Протасов, Шмаков, бегом на посты. Вы мне здесь больше не нужны.
Через десять минут возвращаюсь к телу нашего бойца.
– Товарищ лейтенант, – говорю шепотом, – след нашёл один – резиновые сапоги.
– Где нашёл? В каком месте?
– След сзади тела Мухамедзянова, метрах в семи. Там кустарник растёт. Около куста.
– Всё?
– Нет. Нашёл две гильзы от пистолета Глок 17, девять миллиметров, справа от куста, в метре.
– Всё сходится! Мухамедзянов убит выстрелом из пистолета сзади. Одна пуля попала в голову, а вторая – в спину. Нарушителей границы здесь кто-то встречал. Местный. И прикрывал их. Жди меня здесь. Я должен доложить на заставу по нашему бойцу. И немедленно возвращаюсь. Нам надо догонять нарушителей границы! – лейтенант исчезает во тьме.
Через несколько минут возвращается хмурый. Дальше мы идём с младшим лейтенантом молча.
Дождь закончился. Ветер немного растащил тучи, и лунный свет чуть осветил окружающую картину: ущелье Аракса, горы, вокзал и пограничники, даже не догадывающиеся, что в ближайшие часы им предстоит сделать.
Быстро находим прорыв в заграждении и следы на контрольной полосе. По следам – нарушителей было четверо. Идём по следам в сторону города Мегри, мимо старого вокзала и через двадцать метров натыкаемся на два трупа. По одежде видно, что люди не местные. Всё понятно. Мухамедзянов – просто молодец! Выпустив весь «рожок», он должен был даже в темноте хоть в кого-то попасть, ведь на последних стрельбах он был в стрельбе из автомата второй на заставе. Стрелял на звук и на короткое включение луча своего фонаря. Вот он и попал!
– Мурадов, проверь на всякий случай, но думаю, что на них ничего не будет. Всё, что могло дать нам информацию о людях, грузе и направлении движения, оставшиеся двое унесли с собой. Несут они что-то очень дорогое! Для переброски через границу парфюмерии и ширпотреба пограничный наряд травить не будут и вступать в боестолкновение тоже не будут.
– Товарищ младший лейтенант, на погибших нарушителях границы нет ничего: ни документов, ни оружия, ни связи.
– Понятно! Идём быстро и внимательно смотрим себе под ноги.
Следы есть. Шли двое. Шли быстро – есть упор на носок ботинок. Шли груженые: в местах, где почва мягкая, виден в свете фонаря тяжёлый след. Следы от горных ботинок.
Оп-па! Около гранатового дерева следы сплетаются в кучу – остановились. На земле – разорванный пакет от бинтов – неаккуратно! На коре дерева видны следы крови. Видимо, один из двоих вытер руку.
– Умница Мухамедзянов – еще и третьего ранил! Пока Смоляков и Шмаков засели на вокзале и повелись, гады, на сраный баллон самогонки и кулёк с абрикосами, наш герой не дремал.
Аракелян говорит всё это, а сам, направив луч фонарика себе под ноги, осматривает всё вокруг дерева: нет, больше ничего нет.
– Только смотри как: дальше к городу идут уже трое – глянь на следы.
Я смотрю и вижу явные следы третьего человека. Похоже, обут он в резиновые сапоги.
– Это же тот же след, который я недавно видел у тела Мухамедзянова. Товарищ командир, вот и «местный» проявился!
– Юра, давай рассуждать! Раз один из двух нарушителей ранен, но идёт сам, то можно сделать вывод, что ранен он не смертельно, а, скорее, легко, но теряет кровь. В этом месте группу поджидал третий, правильно говоришь – наверняка местный. Он всё и всех вокруг знает. Как ты думаешь, куда местный их поведёт?
– Я думаю, к врачу.
– Правильно. Он поведёт двоих к врачу, так как надо спасать раненого. В Мегри живут два практикующих врача. Один – в центре. Другой – почти на выезде из города. К какому бы ты повёл людей, Мурадов?
– Я бы повёл на окраину: меньше шансов засветиться.
– И я бы пошёл туда же. Врач в Мегри – человек уважаемый и неплохо оплачиваемый. Значит, у него должна быть машина. Он обязан быстро добираться до своих больных. В центре могут засечь. Вывод – идём на окраину города. Врача зовут Карен Оганесович.
– Откуда Вы знаете, товарищ лейтенант?
– Свою погранзону надо знать. И людей, проживающих в этой зоне, тоже знать необходимо.
– Понял.
– Нарушителям помогает кто-то местный. Он знает, что второй врач, Вартанян, уехал вчера в Ереван на совещание, в Минздрав республики. И вернуться должен не раньше понедельника. А сегодня четверг.
– Ну вы даёте, Самвел Рафикович! У Вас картотека и информация на всех проживающих здесь?
– Да нет, Мурадов, не на всех. Дальше говорим только шёпотом. Давай ещё тише! Пошли… Выключаем фонари… Свет Луны поможет.
Мы шли по адресу врача, хранящемуся в архиве памяти младшего лейтенанта. По правую сторону одной центральной улицы городка дома уже заканчивались, и мы повернули направо. Самвел показал рукой на большой двухэтажный дом. В одной из комнат первого этажа горел свет, но окна были плотно зашторены.
– Мурадов, стоять! – прошептал лейтенант.
Я замер, не закончив шага.
– Снимай сапоги, они у тебя поскрипывают. Это может стоить нам с тобой жизни. А я, во-первых, отвечаю за тебя, а во-вторых, сам не против еще чуть-чуть, годков восемьдесят, пожить. Дальше пойдёшь босиком! – понятно объяснил, поэтому снимаю сапоги, портянки и ставлю под ближайший куст со стороны, противоположной дороге.
Дальше идём медленно, превратившись всем своим естеством в слух и зрение. Вход в дом находится в глубине неогороженного дворика. Если идти к дому по дорожке, то справа – стена дома, а слева – площадка, на которой стоит автомобиль Ауди-100. На лобовом стекле наклейка: красный крестик на белом кружочке.
Из дома выходят двое мужчин. Мы замираем. И тихонечко пятимся: я – за угол дома, а лейтенант прячется за автомашиной. Мужчины разговаривают, но я ничего не понимаю – говорят на непонятном языке! Это точно не армянский – я бы узнал. Не персидский ли язык?
По тону разговора понимаю, что один из двоих, который повыше, – главный. Люди говорят, но я не понимаю ничего. Зато, как оказалось позже, мой младший лейтенант понял всё.
«Безобразное начало операции. Потеряли двух носильщиков. Мой друг ранен. Слава Аллаху, что ранен в плечо. Доктор поработает над ним, и мы уезжаем. Товар надо срочно вывозить из пограничной зоны. Его ждут в Ереване и Москве. Подвести заказчиков мы не имеем права. Наши два баула по двадцать пять килограммов – это три с половиной миллиона долларов. Пятьдесят тысяч – твои, если всё этой ночью закончится благополучно со мной, моим другом и двумя сумками. Врач не должен знать, откуда мы и куда направляемся. Нам затемно надо въехать в Легваз. Сейчас мы должны забрать у врача машину. Пусть утром, не раньше полудня заявит об угоне. В это время мы должны быть далеко. А машина врача останется в Легвазе».
«Местный» отвечает:
– Врач знает только меня и свой долг в пять тысяч долларов. Он будет молчать.
– Если поймёшь, что врач не хочет держать язык за зубами, убери его.
– Да, конечно!
– Что за шорох? Дай-ка фонарь. Нервы ни к чёрту. Иди, принеси наши две сумки и ключи от машины. Не забудь документы от машины.
Конечно, я ничего не понял из разговора «главного» и «местного». Я стою за углом дома, на улице. В проходе к зданию, за машиной, сидит лейтенант. Луч фонаря «главного» двигается от двери дома, где произошёл разговор с «местным», в мою сторону, шарит по дорожке, по машине, в сторону Самвела, который тихо в полуприсяде пробирается к коттеджу с другой стороны машины. Я замер и делаю неимоверные усилия слиться с каменной стеной домовладения. Сердце от нервного напряжения выпрыгивает из груди. От угла строения и дорожки, по которой в сторону улицы медленно двигается «главный», меня отделяет только водосточная труба. Что происходит между домом и машиной, я уже не вижу. Минута, вторая – тишина. Луч фонарика в мою сторону не светит. Вдруг голос «главного» на русском языке с сильным кавказским акцентом.
– Офицер, поднимайся! Руки вверх, лицом к стене дома! Ноги шире! Ладони держи на стене! Ты пришёл один? С кем ты пришёл? Сколько вас человек?
– Да я к доктору пришёл. У меня жена рожает. Ей помощь врача нужна.
Я выглядываю из-за угла дома. Рядом со входной дверью, положа поднятые руки на стену строения, стоит мой командир. «Главный» стоит рядом. В его правой руке зажат пистолет с глушителем, упёртый дулом в спину Самвела. Свет, включенный в комнате доктора, кое-что на улице тоже освещает, хотя и совсем чуть-чуть. Но мне больше света и не надо.
– Если я сейчас не приведу домой врача, моя жена умрёт. Пожалуйста, помогите мне! – в голосе Самвела появились нотки мольбы. – Я пришёл со службы и вижу такую картину: жена лежит на диване в луже – вода вышла. А я слышал, что после отхода воды сразу начинаются роды. Но я сам не смогу принять роды. Пожалуйста!
Пока лейтенант говорит, я крадусь босиком вдоль машины к дому, не обращая внимание на острые камни, на которые наступаю. Иду, конечно, не по дорожке, а за машиной, где только что прошёл Самвел. Понимаю, что если «главный» что-нибудь услышит сзади, он тут же повернётся и выстрелит. А я с автоматом ничего сделать не могу: «главный» с лейтенантом стоят на одной линии – если выстрелю, положу обоих. Мой выход – Лабунец! Иван Афанасьевич! В мозгу проносятся картины его уроков. Выхода нет – только штык-нож. И только на поражение. Времени на принятие решения – тысячные доли секунды. Автомат кладу на землю, выпрямляюсь с уже зажатой в руке ручкой ножа. Как учили! Давай! Превращаюсь в точку на затылке «главного»! Оборотный бросок! Эх! Понимаю, что бросок совершён, что ножа в руке нет. Но от вдруг налетевшего страха в глазах темно! Страшно боюсь одного: что я промахнулся, и мы с младшим лейтенантом остаёмся безоружными. Секунда, две, начинаю видеть, как падает «главный» у ног Самвела. В его затылке торчит мой клинок! Неужели я его убил! Самвел опускает руки, медленно поворачивается ко мне и, понимая, что произошло, показывает мне большой палец руки и останавливает меня взмахом кисти руки – за мной не ходи…
Отрывок из повести
Сегодня моего соседа по общежитию ни вечером, ни ночью не будет. Он только утром прилетит в Ростов из Мурманска. Я принял душ. Выпил стакан молока из холодильника с венской булочкой от известного в городе производителя кондитерских изделий, а память уже закружила меня в вихре событий, людей и дат, заставляя вернуться в армейские годы, когда защитить страну, своего сослуживца и командира я не просто был обязан и должен, но и хотел. Потушив в комнате свет и устроившись поудобнее на подушке, я уже и не думал сопротивляться этой бешеной карусели, уносящей меня в ночь, когда я сделал то, чему меня учили в ШСС и чего от меня ждали мои армейские учителя. Да и сам я должен был себе доказать, что на меня можно положиться в тяжёлых, практически безвыходных ситуациях, когда вроде бы чужая жизнь однополчан становится дороже своей. Что тебе есть за что себя уважать!
Шёл второй год службы в армии. К заставе, к её распорядку жизни, к её задачам, возможностям и способам решения задач я привык. Хорошо их знал, нормально ориентировался во всей кухне солдатской пограничной службы. Пару месяцев назад получил звание сержанта и теперь ходил с тремя «лычками». Здесь, в Мегри, очень пригодились знания, полученные в учебке – Школе сержантского состава…
Особо тёплые отношения я испытывал к прапорщику – нашему инструктору по метанию штык-ножа. Им был Иван Афанасьевич Лабунец. Афанасьич был сыном егеря. Всё в лесу знал и умел. Курил он сигареты «Прима», частенько при курении поплёвывал попадающими изредка в рот кусочками табака. Бычков, то есть окурков, после себя не оставлял. Докуривал сигарету практически до конца, обжигая пальцы, но не оставляя за собой следов. Сигарет с фильтром не признавал. Штык-нож он метал из любого положения: стоя, лёжа, сидя, снизу, сверху, спиной к мишени, даже в полной темноте и на звук.
Мог метать нож, держа его за клинок, за ручку и даже за шлейку. После первого занятия на метание ножа я для себя решил, что должен этому научиться. Я подошёл к товарищу прапорщику и честно сказал:
– Товарищ прапорщик, разрешите обратиться? – и, получив кивком головы разрешение, продолжил. – Я просто поражён Вашим умением метать нож. Я сам до армии дома, в Ейске, занимался рукопашкой…
… Мы с лейтенантом поднимаемся на второй этаж пустого вокзала, по помещениям которого гулко разносятся наши тяжелые шаги. Впереди – Аракелян с фонариком и открытой кобурой с пистолетом. За ним иду я с автоматом, затвор которого уже передёрнут. По мере приближения к комнате дежурного по вокзалу, которая находится в середине коридора, маячок Смолякова горит всё ярче. Лейтенант выключает прибор, и так всё ясно – наряд спит. На стене перед комнатой – табличка «Дежурный по вокзалу», на русском и армянском языках. Двери в комнату нет. Лейтенант аккуратно направляет луч фонарика в комнату и кивает мне головой, показывая направление моего движения. Я с автоматом резко шагаю в комнату и включаю свой фонарик.
От увиденного мы с лейтенантом остолбенели. В пустой комнате в лучах света двух наших фонарей лежит у стены матрас. На матрасе лицом вниз, голова повернута на бок, с остановившимся взглядом лежит старший сержант Смоляков. Рядом на полу – рядовой Шелест смотрит в потолок остекленевшими глазами. Оба пограничника дышат так тихо, что мы с лейтенантом, кажется, одновременно подумали, что бойцы наши мертвы. Однако сильный запах спиртного в помещении, где отсутствуют окна и двери, говорит о том, что бойцы наши мертвецки пьяны. Вот умеют же люди спать с открытыми глазами! Так может пригодиться на политзанятиях! В изголовье смоляковской лежанки стоит трёхлитровый баллон, из которого наши товарищи успели отпить максимум пару стаканов. Назначение, крепость и вкусовые качества алкоголя можно с ходу определить. Если кратко и точно – виноградная самогонка местного изготовления. На грязном полу бывшей комнаты дежурного по вокзалу между телами пограничников расстелен светлый, с большими бордовыми полосами, разделяющими ткань на квадраты, не очень свежий, но на фоне заброшенного помещения просто сверкающий белизной носовой платок одного из участников застолья. На платке гордо возлежат две крупные кисти тёмно-синего винограда с оторванным сверху небольшим количеством ягод. Рядом жёлто-розовыми мазками известного художника мирно прислонились друг к другу спелые абрикосы. А рядом с абрикосами в художественном беспорядке лежали три спелых граната. Один из гранатов был разломлен пополам. В лучах наших фонариков разломленный гранат искрился ярко-красными, как кровь, косточками. Создавалось понимание, что бойцы госграницы не ставили акценты на еде. Они чётко акцентировали своё внимание на трёхлитровом баллоне, не имеющем наклейки с названием, маркой, производителем напитка, но говорящего о своём качестве – телами двух молодых ребят, думавших, что в западню попал баллон. Как бы не так: в западню попали они. Этот натюрморт в обстановке алкогольного буйства у нас называется закусь. Рядом с закусью стоит один пустой стакан. Второй стакан, видимо, не выдержал нагрузки и упал на бок, расплескав часть содержимого, так и оставшегося в лужице у головы Саши Шелеста, красиво блестя и переливаясь в лучах фонарей.
– Мурадов, проверь наличие оружия в комнате и документов у бойцов, – я осматриваю Смолякова и Шелеста, забираю документы из гимнастёрок. – Давай быстрее, нам еще пахать и пахать!
Внимательно обхожу всю комнату. Всё оружие на месте. Автоматы, штык-ножи, фонари собираю и кладу у стены рядом с дверным проёмом.
– Все патроны в автоматах и два запасных «рожка» – полные. Ни одного выстрела не сделано, товарищ младший лейтенант.
Иду в сторону оконного проёма. Большое и круглое окно раньше выходило на вокзальный перрон, на давно демонтированные и сданные в металлолом рельсы железнодорожных путей, но сейчас в темноте только с помощью мощного луча фонаря лейтенанта можно было бы увидеть это пиршество разрухи и запустения да еще в метрах пятидесяти – нашу следовую полосу с пограничным ограждением. Там, за ограждениями, в ущелье реки гудела и пенилась, бешено летя по каменному руслу, вода, которую собирал Аракс со всех окрестных гор. Днём я бы увидел влево и вправо от брошенного вокзала госграницу. Сейчас же практически ничего не было видно. Мозг тупо фиксировал окружающую действительность, а внутри его кипела работа: а вдруг ребят специально подпоили, готовя переход границы в этом районе, и где третий – Мухамедзянов. Ребят, с которыми я жил в одной казарме, делил в нарядах еду и кров, с которыми мы защищали друг друга в коротких боестолкновениях при задержании нарушителей госграницы, я хорошо знал. Никогда не замечал у них тягу к крепкому алкоголю. Я вернулся к лейтенанту, который молчаливо стоял над солдатами.
– Самвел Рафикович, рацию я не нашёл.
– Знаешь, сержант, – вдруг закричал лейтенант, – на хрен никому не нужна твоя рация. Все понимают же, что в первую минуту работы её засекут!!! Найдётся, железяка куева! А вот что-то эта картина мне очень не нравится? Два здоровых бойца свалились замертво от ста пятидесяти граммов самогонки? Это что за муйня такая? А? Мурадов?
– Может, им подсыпали в баллон чего-нибудь?
– Ты еще скажи, что им алкоголь через клизму влили! Так они не хотели бухать! Уроды!
И уже тихо сказал:
– А может, и подсыпали, мать их…
По лестнице, а через несколько секунд по коридору – топот сапог: наши пришли на доклад. Я в дверной проём им кричу сдавленным голосом:
– Ребята, сюда! – стараюсь не кричать громко автоматически, ведь когда друг твой спит, ты ж не будешь орать?
Ребята входят и замирают в проёме дверей, увидев интересную картину. Аракелян оборачивается к вошедшим с вопросом:
– Где доклад?
– Товарищ младший лейтенант, мы нашли Мухамедзянова метрах в тридцати от вокзала, за деревом, мёртвый. Автоматный рожок пустой. На первом этаже найдена рация. Отсек с батареей пустой, – я смотрю на лейтенанта: как он догадался, что рацию найдём?
– А вот это понятно! – произносит медленно наш командир. – Мухамедзянов – мусульманин. Коран запрещает алкоголь, и боец пить отказался. Вот он и вступил в бой с нарушителями один.
– Так, Протасов, включай нашу рацию! – Николай включает рацию, настраивается на волну заставы. – Орёл! Орёл! Ответьте Филину! Орёл! Орёл! Ответьте Филину! – Видимо, слышит в ответ: Орёл на связи, – передаёт разговорную гарнитуру младшему лейтенанту.
– Орёл, я – Филин, на объекте вокзал – один двухсотый, два трёхсотых – все наши. Нужна помощь и дознаватель. Оставляю своих двух бойцов с рацией на охране места происшествия до вашего прибытия. Как понял меня, Орёл? Отбой.
– Понял тебя, Филин, отбой.
Продолжая смотреть на рацию, Аракелян произносит:
– Сейчас понесут связь командиру. Через десять минут на заставе будет полный писец! Лучше этого не видеть! Протасов – вперёд, показываешь место гибели Мухамедзянова. Шмаков, Протасов – остаетесь на охране комнаты, наших бойцов и Мухамедзянова…
– На Смолякова и Шелеста надеть наручники. Шмаков охраняет эту комнату. Протасов патрулирует первый этаж и место гибели Мухамедзянова. За сохранность оружия, Шмаков, отвечаешь головой. Рацию держать включенной. К спиртному не дотрагиваться – подозреваю, что оно отравлено. На объект никого не пускать кроме наших. При неподчинении приказываю открывать огонь на поражение. Автоматы с предохранителей снять. Мурадов, забираешь фонари Смолякова и Шелеста: неизвестно еще, сколько времени займёт наша предстоящая ночная прогулка. Документы и оружие бухих защитников госграницы передать по прибытию старшему группы.
Двое наших провожают нас до входа на вокзал.
– Показывайте, где нашли Мухамедзянова.
Наши бойцы ведут нас в сторону от вокзала. Подсвечиваем себе дорогу фонариком. Протасов и Шмаков приводят нас с лейтенантом к старому платану, растущему невдалеке от бывшего вокзального перрона. За платаном лежит Мухамедзянов.
– Никому не подходить! – командует наш лейтенант. – Осмотрю сам. Мурадов, обойди место вокруг. Мне нужны следы в радиусе 15 метров! Быстрее, Мурадов! Протасов, Шмаков, бегом на посты. Вы мне здесь больше не нужны.
Через десять минут возвращаюсь к телу нашего бойца.
– Товарищ лейтенант, – говорю шепотом, – след нашёл один – резиновые сапоги.
– Где нашёл? В каком месте?
– След сзади тела Мухамедзянова, метрах в семи. Там кустарник растёт. Около куста.
– Всё?
– Нет. Нашёл две гильзы от пистолета Глок 17, девять миллиметров, справа от куста, в метре.
– Всё сходится! Мухамедзянов убит выстрелом из пистолета сзади. Одна пуля попала в голову, а вторая – в спину. Нарушителей границы здесь кто-то встречал. Местный. И прикрывал их. Жди меня здесь. Я должен доложить на заставу по нашему бойцу. И немедленно возвращаюсь. Нам надо догонять нарушителей границы! – лейтенант исчезает во тьме.
Через несколько минут возвращается хмурый. Дальше мы идём с младшим лейтенантом молча.
Дождь закончился. Ветер немного растащил тучи, и лунный свет чуть осветил окружающую картину: ущелье Аракса, горы, вокзал и пограничники, даже не догадывающиеся, что в ближайшие часы им предстоит сделать.
Быстро находим прорыв в заграждении и следы на контрольной полосе. По следам – нарушителей было четверо. Идём по следам в сторону города Мегри, мимо старого вокзала и через двадцать метров натыкаемся на два трупа. По одежде видно, что люди не местные. Всё понятно. Мухамедзянов – просто молодец! Выпустив весь «рожок», он должен был даже в темноте хоть в кого-то попасть, ведь на последних стрельбах он был в стрельбе из автомата второй на заставе. Стрелял на звук и на короткое включение луча своего фонаря. Вот он и попал!
– Мурадов, проверь на всякий случай, но думаю, что на них ничего не будет. Всё, что могло дать нам информацию о людях, грузе и направлении движения, оставшиеся двое унесли с собой. Несут они что-то очень дорогое! Для переброски через границу парфюмерии и ширпотреба пограничный наряд травить не будут и вступать в боестолкновение тоже не будут.
– Товарищ младший лейтенант, на погибших нарушителях границы нет ничего: ни документов, ни оружия, ни связи.
– Понятно! Идём быстро и внимательно смотрим себе под ноги.
Следы есть. Шли двое. Шли быстро – есть упор на носок ботинок. Шли груженые: в местах, где почва мягкая, виден в свете фонаря тяжёлый след. Следы от горных ботинок.
Оп-па! Около гранатового дерева следы сплетаются в кучу – остановились. На земле – разорванный пакет от бинтов – неаккуратно! На коре дерева видны следы крови. Видимо, один из двоих вытер руку.
– Умница Мухамедзянов – еще и третьего ранил! Пока Смоляков и Шмаков засели на вокзале и повелись, гады, на сраный баллон самогонки и кулёк с абрикосами, наш герой не дремал.
Аракелян говорит всё это, а сам, направив луч фонарика себе под ноги, осматривает всё вокруг дерева: нет, больше ничего нет.
– Только смотри как: дальше к городу идут уже трое – глянь на следы.
Я смотрю и вижу явные следы третьего человека. Похоже, обут он в резиновые сапоги.
– Это же тот же след, который я недавно видел у тела Мухамедзянова. Товарищ командир, вот и «местный» проявился!
– Юра, давай рассуждать! Раз один из двух нарушителей ранен, но идёт сам, то можно сделать вывод, что ранен он не смертельно, а, скорее, легко, но теряет кровь. В этом месте группу поджидал третий, правильно говоришь – наверняка местный. Он всё и всех вокруг знает. Как ты думаешь, куда местный их поведёт?
– Я думаю, к врачу.
– Правильно. Он поведёт двоих к врачу, так как надо спасать раненого. В Мегри живут два практикующих врача. Один – в центре. Другой – почти на выезде из города. К какому бы ты повёл людей, Мурадов?
– Я бы повёл на окраину: меньше шансов засветиться.
– И я бы пошёл туда же. Врач в Мегри – человек уважаемый и неплохо оплачиваемый. Значит, у него должна быть машина. Он обязан быстро добираться до своих больных. В центре могут засечь. Вывод – идём на окраину города. Врача зовут Карен Оганесович.
– Откуда Вы знаете, товарищ лейтенант?
– Свою погранзону надо знать. И людей, проживающих в этой зоне, тоже знать необходимо.
– Понял.
– Нарушителям помогает кто-то местный. Он знает, что второй врач, Вартанян, уехал вчера в Ереван на совещание, в Минздрав республики. И вернуться должен не раньше понедельника. А сегодня четверг.
– Ну вы даёте, Самвел Рафикович! У Вас картотека и информация на всех проживающих здесь?
– Да нет, Мурадов, не на всех. Дальше говорим только шёпотом. Давай ещё тише! Пошли… Выключаем фонари… Свет Луны поможет.
Мы шли по адресу врача, хранящемуся в архиве памяти младшего лейтенанта. По правую сторону одной центральной улицы городка дома уже заканчивались, и мы повернули направо. Самвел показал рукой на большой двухэтажный дом. В одной из комнат первого этажа горел свет, но окна были плотно зашторены.
– Мурадов, стоять! – прошептал лейтенант.
Я замер, не закончив шага.
– Снимай сапоги, они у тебя поскрипывают. Это может стоить нам с тобой жизни. А я, во-первых, отвечаю за тебя, а во-вторых, сам не против еще чуть-чуть, годков восемьдесят, пожить. Дальше пойдёшь босиком! – понятно объяснил, поэтому снимаю сапоги, портянки и ставлю под ближайший куст со стороны, противоположной дороге.
Дальше идём медленно, превратившись всем своим естеством в слух и зрение. Вход в дом находится в глубине неогороженного дворика. Если идти к дому по дорожке, то справа – стена дома, а слева – площадка, на которой стоит автомобиль Ауди-100. На лобовом стекле наклейка: красный крестик на белом кружочке.
Из дома выходят двое мужчин. Мы замираем. И тихонечко пятимся: я – за угол дома, а лейтенант прячется за автомашиной. Мужчины разговаривают, но я ничего не понимаю – говорят на непонятном языке! Это точно не армянский – я бы узнал. Не персидский ли язык?
По тону разговора понимаю, что один из двоих, который повыше, – главный. Люди говорят, но я не понимаю ничего. Зато, как оказалось позже, мой младший лейтенант понял всё.
«Безобразное начало операции. Потеряли двух носильщиков. Мой друг ранен. Слава Аллаху, что ранен в плечо. Доктор поработает над ним, и мы уезжаем. Товар надо срочно вывозить из пограничной зоны. Его ждут в Ереване и Москве. Подвести заказчиков мы не имеем права. Наши два баула по двадцать пять килограммов – это три с половиной миллиона долларов. Пятьдесят тысяч – твои, если всё этой ночью закончится благополучно со мной, моим другом и двумя сумками. Врач не должен знать, откуда мы и куда направляемся. Нам затемно надо въехать в Легваз. Сейчас мы должны забрать у врача машину. Пусть утром, не раньше полудня заявит об угоне. В это время мы должны быть далеко. А машина врача останется в Легвазе».
«Местный» отвечает:
– Врач знает только меня и свой долг в пять тысяч долларов. Он будет молчать.
– Если поймёшь, что врач не хочет держать язык за зубами, убери его.
– Да, конечно!
– Что за шорох? Дай-ка фонарь. Нервы ни к чёрту. Иди, принеси наши две сумки и ключи от машины. Не забудь документы от машины.
Конечно, я ничего не понял из разговора «главного» и «местного». Я стою за углом дома, на улице. В проходе к зданию, за машиной, сидит лейтенант. Луч фонаря «главного» двигается от двери дома, где произошёл разговор с «местным», в мою сторону, шарит по дорожке, по машине, в сторону Самвела, который тихо в полуприсяде пробирается к коттеджу с другой стороны машины. Я замер и делаю неимоверные усилия слиться с каменной стеной домовладения. Сердце от нервного напряжения выпрыгивает из груди. От угла строения и дорожки, по которой в сторону улицы медленно двигается «главный», меня отделяет только водосточная труба. Что происходит между домом и машиной, я уже не вижу. Минута, вторая – тишина. Луч фонарика в мою сторону не светит. Вдруг голос «главного» на русском языке с сильным кавказским акцентом.
– Офицер, поднимайся! Руки вверх, лицом к стене дома! Ноги шире! Ладони держи на стене! Ты пришёл один? С кем ты пришёл? Сколько вас человек?
– Да я к доктору пришёл. У меня жена рожает. Ей помощь врача нужна.
Я выглядываю из-за угла дома. Рядом со входной дверью, положа поднятые руки на стену строения, стоит мой командир. «Главный» стоит рядом. В его правой руке зажат пистолет с глушителем, упёртый дулом в спину Самвела. Свет, включенный в комнате доктора, кое-что на улице тоже освещает, хотя и совсем чуть-чуть. Но мне больше света и не надо.
– Если я сейчас не приведу домой врача, моя жена умрёт. Пожалуйста, помогите мне! – в голосе Самвела появились нотки мольбы. – Я пришёл со службы и вижу такую картину: жена лежит на диване в луже – вода вышла. А я слышал, что после отхода воды сразу начинаются роды. Но я сам не смогу принять роды. Пожалуйста!
Пока лейтенант говорит, я крадусь босиком вдоль машины к дому, не обращая внимание на острые камни, на которые наступаю. Иду, конечно, не по дорожке, а за машиной, где только что прошёл Самвел. Понимаю, что если «главный» что-нибудь услышит сзади, он тут же повернётся и выстрелит. А я с автоматом ничего сделать не могу: «главный» с лейтенантом стоят на одной линии – если выстрелю, положу обоих. Мой выход – Лабунец! Иван Афанасьевич! В мозгу проносятся картины его уроков. Выхода нет – только штык-нож. И только на поражение. Времени на принятие решения – тысячные доли секунды. Автомат кладу на землю, выпрямляюсь с уже зажатой в руке ручкой ножа. Как учили! Давай! Превращаюсь в точку на затылке «главного»! Оборотный бросок! Эх! Понимаю, что бросок совершён, что ножа в руке нет. Но от вдруг налетевшего страха в глазах темно! Страшно боюсь одного: что я промахнулся, и мы с младшим лейтенантом остаёмся безоружными. Секунда, две, начинаю видеть, как падает «главный» у ног Самвела. В его затылке торчит мой клинок! Неужели я его убил! Самвел опускает руки, медленно поворачивается ко мне и, понимая, что произошло, показывает мне большой палец руки и останавливает меня взмахом кисти руки – за мной не ходи…

Анастасия ЩЕРБА
Родилась в г. Троицке Челябинской области в 1988 году. С 1990 года живу в северном городе Сургуте. В 2009 году заканчиваю педагогический университет по специальности «учитель английского и немецкого языков». В этом же году начинаю свою педагогическую деятельность и продолжаю ее по сегодняшний день. Я – мама «в четвертой степени», и именно моя семья стала вдохновением для написания рассказа «Обыкновенное чудо».
Родилась в г. Троицке Челябинской области в 1988 году. С 1990 года живу в северном городе Сургуте. В 2009 году заканчиваю педагогический университет по специальности «учитель английского и немецкого языков». В этом же году начинаю свою педагогическую деятельность и продолжаю ее по сегодняшний день. Я – мама «в четвертой степени», и именно моя семья стала вдохновением для написания рассказа «Обыкновенное чудо».
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Для каждого из нас семья – это самое важное и дорогое. Каждому, даже взрослому, хочется каждое утро чувствовать теплые прикосновения мамы, слушать папины шутки, сидеть за круглым столом всей семьей. Так вот, и сказочному мальчишке безумно этого хочется.
Был обычный славный день! Дети в приюте бегали, играли, веселились от души, наряжали ёлку, ведь сегодня наступит Рождественская ночь. И вот вечер, всем пора спать… Вдруг легкий стук нарушил сон Алёши, и появилось Чудо.
– Привет! – сказало Чудо одному из мальчиков и засияло ярко. – Скажи, о чём ты мечтаешь?
Алексей не выговорил ни слова. Чудо было удивлено и сказало:
– Следуй за мной! Твоё желание мы должны отыскать любой ценой. Смотри: мишка за окном! Его лапы и ушки помогут нам добраться в нужное место. По воздуху мы поскачем – вот это ли не чудо?!
И вот уж мальчик наш и Чудо над крышами бегут. От дома дальше держат путь. Ответ хотят найти. Чудо знало, что есть одна страна – волшебная она. Возможно, там они сумеют желанное найти!
Вдруг вместо снега появился сильнейший буквопад, и Чудо говорит:
– Ты тут нужные буквы найдешь, но я помочь не в силах. Будь храбрым, смелым!
И растворилось без следа. Вдруг и медведь исчез, появился парашют. «Я приземлюсь и решу, куда пойду, вдруг здесь найду я то, о чем давно мечтал», – подумал мальчик.
Идёт, бредёт сквозь буквопад и видит вдруг слона. И, кажется, он не здоров. Алёша подошел и дал совет:
– Слон, тебе нужно быть в тепле!
И мальчик теплый шарф обмотал вокруг шеи слона. Алексей рассказал ему, почему он здесь, слон поспешил помочь. Он был умный, любил читать и дал совет:
– Вот книга мудрых слов, открой понравившуюся страницу и прочитай самую верхнюю строчку.
Открыл мальчишка книгу и произнес: «Кто смог вдруг слово позабыть, тот букву С обязан себе взять».
С этой буквы начинается так много важных слов – солнце, счастье, смех, слон – в конце концов.
Наш мальчик шел и шел, вдруг – ёжик на пути, и не бежит он, а плывет на вафельном плоту в форме буквы Е. «Запомню эту букву, вдруг пригодится мне…» – подумал Алексей.
Если так идти и идти, то в конце концов ты к чему-то придешь. Когда-нибудь ты точно что-то да найдешь. И тут опять медведь бежит по небесам.
– Эй, я могу тебе помочь? – спросил его медведь.
– Может, видел ты тут то, что нужно мне… но я не знаю как сказать… Пожалуйста, помоги!
– Ммм… смотри, ведь я такой большой, возьми и осмотри меня, вдруг что-то ты найдешь.
Мальчишка радостно бежит осматривать мишку. Всё ходит, смотрит и вдруг нашел… на лапе букву М.
– Спасибо, мишка, я всё нашел, возьми конфетку!
Пошел мальчишка дальше. Вдруг видит мастерскую вдалеке и радостно бежит он к ней. Мужчина в белом, совсем не доктор, чинит механизм. Увидев мальчика, сказал:
– Ты вовремя, малыш. Я создал желанье-выполнятель, давай проверим мы его! Проси, что хочешь, он всё создаст: мешок конфет, пирожное, торт.
Но мальчик так и не смог сказать, запрос был сложный, и он решил просто опустить рычаг, и выдал механизм мягкий знак Ь. Изобретатель был расстроен, а Лёша лишь вздохнул.
Об этом слове он задумался и шёл да шёл. Так много троп, дорог осталось позади. Тут видит Алёша желтый свет, бежит быстрей к нему. А это Чудо… то самое, которое вернулось к нему.
– До цели мы дошли, мой друг! – сказало громко Чудо.
– Но как? – подумал мальчик. – Ведь буквы-то не все.
– Все! – сказало Чудо. – Остался только ты.
– Я?! – робко произнес малыш.
– Ты, ты! – повторило Чудо.
– При чем тут я?
– Ты и есть то чудо, чудо под буквой Я! Теперь произнеси все буквы, что нашел в этой стране, нажми на клавиши, и я исчезну.
– Как много букв, ну, хорошо! Сначала я нашел С, потом Е, М, Ь и осталась Я. Ведь это получилось слово СЕМЬЯ.
Нажал на все клавиши, земля задрожала, мальчик от испуга закрыл глаза и вмиг оказался в постели.
Вот Алексей наш открыл глаза, узнав, что в комнату свою он возвратился, услышал робкие шаги и в постели затаился. Подходит к нему няня и нежно произносит:
– Малыш, сегодня, в Рождественскую ночь ты обрел семью, тебя усыновили! Теперь и ты будешь строить из «кирпичиков», которые называются любовь, терпение, понимание, внимание и прощение, семью. Это ли не есть чудо!
Для каждого из нас семья – это самое важное и дорогое. Каждому, даже взрослому, хочется каждое утро чувствовать теплые прикосновения мамы, слушать папины шутки, сидеть за круглым столом всей семьей. Так вот, и сказочному мальчишке безумно этого хочется.
Был обычный славный день! Дети в приюте бегали, играли, веселились от души, наряжали ёлку, ведь сегодня наступит Рождественская ночь. И вот вечер, всем пора спать… Вдруг легкий стук нарушил сон Алёши, и появилось Чудо.
– Привет! – сказало Чудо одному из мальчиков и засияло ярко. – Скажи, о чём ты мечтаешь?
Алексей не выговорил ни слова. Чудо было удивлено и сказало:
– Следуй за мной! Твоё желание мы должны отыскать любой ценой. Смотри: мишка за окном! Его лапы и ушки помогут нам добраться в нужное место. По воздуху мы поскачем – вот это ли не чудо?!
И вот уж мальчик наш и Чудо над крышами бегут. От дома дальше держат путь. Ответ хотят найти. Чудо знало, что есть одна страна – волшебная она. Возможно, там они сумеют желанное найти!
Вдруг вместо снега появился сильнейший буквопад, и Чудо говорит:
– Ты тут нужные буквы найдешь, но я помочь не в силах. Будь храбрым, смелым!
И растворилось без следа. Вдруг и медведь исчез, появился парашют. «Я приземлюсь и решу, куда пойду, вдруг здесь найду я то, о чем давно мечтал», – подумал мальчик.
Идёт, бредёт сквозь буквопад и видит вдруг слона. И, кажется, он не здоров. Алёша подошел и дал совет:
– Слон, тебе нужно быть в тепле!
И мальчик теплый шарф обмотал вокруг шеи слона. Алексей рассказал ему, почему он здесь, слон поспешил помочь. Он был умный, любил читать и дал совет:
– Вот книга мудрых слов, открой понравившуюся страницу и прочитай самую верхнюю строчку.
Открыл мальчишка книгу и произнес: «Кто смог вдруг слово позабыть, тот букву С обязан себе взять».
С этой буквы начинается так много важных слов – солнце, счастье, смех, слон – в конце концов.
Наш мальчик шел и шел, вдруг – ёжик на пути, и не бежит он, а плывет на вафельном плоту в форме буквы Е. «Запомню эту букву, вдруг пригодится мне…» – подумал Алексей.
Если так идти и идти, то в конце концов ты к чему-то придешь. Когда-нибудь ты точно что-то да найдешь. И тут опять медведь бежит по небесам.
– Эй, я могу тебе помочь? – спросил его медведь.
– Может, видел ты тут то, что нужно мне… но я не знаю как сказать… Пожалуйста, помоги!
– Ммм… смотри, ведь я такой большой, возьми и осмотри меня, вдруг что-то ты найдешь.
Мальчишка радостно бежит осматривать мишку. Всё ходит, смотрит и вдруг нашел… на лапе букву М.
– Спасибо, мишка, я всё нашел, возьми конфетку!
Пошел мальчишка дальше. Вдруг видит мастерскую вдалеке и радостно бежит он к ней. Мужчина в белом, совсем не доктор, чинит механизм. Увидев мальчика, сказал:
– Ты вовремя, малыш. Я создал желанье-выполнятель, давай проверим мы его! Проси, что хочешь, он всё создаст: мешок конфет, пирожное, торт.
Но мальчик так и не смог сказать, запрос был сложный, и он решил просто опустить рычаг, и выдал механизм мягкий знак Ь. Изобретатель был расстроен, а Лёша лишь вздохнул.
Об этом слове он задумался и шёл да шёл. Так много троп, дорог осталось позади. Тут видит Алёша желтый свет, бежит быстрей к нему. А это Чудо… то самое, которое вернулось к нему.
– До цели мы дошли, мой друг! – сказало громко Чудо.
– Но как? – подумал мальчик. – Ведь буквы-то не все.
– Все! – сказало Чудо. – Остался только ты.
– Я?! – робко произнес малыш.
– Ты, ты! – повторило Чудо.
– При чем тут я?
– Ты и есть то чудо, чудо под буквой Я! Теперь произнеси все буквы, что нашел в этой стране, нажми на клавиши, и я исчезну.
– Как много букв, ну, хорошо! Сначала я нашел С, потом Е, М, Ь и осталась Я. Ведь это получилось слово СЕМЬЯ.
Нажал на все клавиши, земля задрожала, мальчик от испуга закрыл глаза и вмиг оказался в постели.
Вот Алексей наш открыл глаза, узнав, что в комнату свою он возвратился, услышал робкие шаги и в постели затаился. Подходит к нему няня и нежно произносит:
– Малыш, сегодня, в Рождественскую ночь ты обрел семью, тебя усыновили! Теперь и ты будешь строить из «кирпичиков», которые называются любовь, терпение, понимание, внимание и прощение, семью. Это ли не есть чудо!
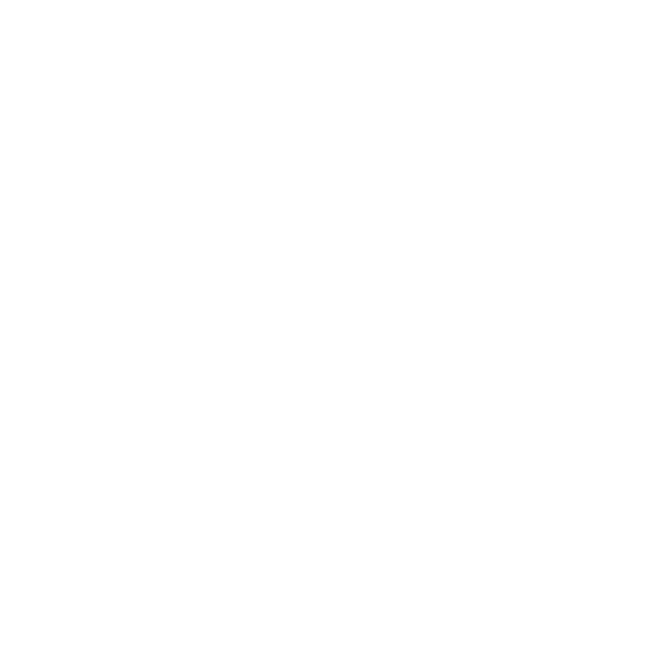
Арсений НАЗАРОВ
В школьные годы интересовался точными науками, в особенности математикой и физикой, но после знакомства с лирикой Маяковского и пятикнижием Достоевского увлекся литературой. С 15 лет принялся писать стихи и прозу, параллельно обучаясь техническим специальностям. Однако с ростом количества книг на полках и рукописей в столе росло и сомнение в выборе призвания и дальнейшей сферы деятельности. Впоследствии поступил на филологический факультет, полностью посвятив себя литературе.
В школьные годы интересовался точными науками, в особенности математикой и физикой, но после знакомства с лирикой Маяковского и пятикнижием Достоевского увлекся литературой. С 15 лет принялся писать стихи и прозу, параллельно обучаясь техническим специальностям. Однако с ростом количества книг на полках и рукописей в столе росло и сомнение в выборе призвания и дальнейшей сферы деятельности. Впоследствии поступил на филологический факультет, полностью посвятив себя литературе.
ВАНЮША
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты – дочь моя, а не мать.
Борис Рыжий, «Так я понял».
Стоял холодный, чуть светлый вечер. Влажный, леденящий руки воздух разгуливал по улицам порывами ветра, раскачивая голые ветки деревьев и освистывая хмурых прохожих. На дорогах и тротуарах лежал ещё не растаявший, перемешанный с мокрой грязью снег. Лужи были покрыты тонкими пленками льда, с брызгами и треском тонувшими под ботинками спешно шагающего с книжкой мальчика. Невзирая на раннюю весну, все вокруг напоминало о зиме, которая совсем не спешила уходить.
Никуда не спешили и люди, праздно бродившие по парку в выходной день. Среди длинных аллей размеренно отстукивали каблуками по брусчатке молодые мамы, толкая перед собой детские коляски с тепло укутанными и мирно дремавшими в них малышами. Игровые площадки заполнялись звонким визгом и беспокойными родительскими голосами, вытеснявшими некогда царившую вокруг тишину. В стороне от этого шума безмолвно сидела на лавочке у неработающего фонтана пожилая пара, рассматривая его бетонную облезлую кромку. Будучи еще молодыми, они видели его совсем новым, со свежей краской и эффектно бьющими вверх струями воды. Столько радости и свежести он приносил окружающим. Сегодня же фонтан стоял забытым памятником ушедших юношеских лет теперешних бабушки и дедушки, отчего вид его навевал тоску и воспоминания о далеком и невозвратимом времени.
– Каким замечательным он был раньше, – удрученно сказала она.
– И не говори, – также удрученно согласился он.
Вдруг их внимание привлекла аккуратная фигурка мальчика, крепко сжимавшего под мышкой старинную книгу. Его быстрые шаги, создававшие характерный топот сапог, казавшихся ему неудобными, заставили их невольно улыбнуться и любопытным взглядом проводить его по парковой тропе. Мальчик заметно покашливал.
– Бедняга, приболел, видимо, – тихо сказала она своему супругу.
– Да, – согласился он, – в такую погоду несложно простудиться.
– Куда же, интересно, он так торопится?
Однако ответа не последовало. Силуэт мальчика отдалялся, все глубже теряясь среди громадных кленов и оставляя озадаченную пару снова наедине друг с другом и старым фонтаном.
Мальчика звали Ванюшей, и торопился он в укромное, запрятанное от посторонних глаз место. Обычно там никто не появлялся, ведь ничего кроме одиноко склонившего грустную голову железного тела блеклого фонаря над неприметной скамейкой между стволами величественных деревьев там не было. Но большего Ванюше и не требовалось. Он уселся поближе к холодному столбу и развернул корешок разваливающегося на худых ногах томика, прижимая норовящие вылететь из него страницы. Стоило ему только начать вчитываться в смазанные строчки, как покашливания отступили, и он почувствовал приятное умиротворение.
Чехов. Ванюша с первых рассказов влюбился в эту фамилию. Одно за другим он проглатывал каждое попадавшееся ему произведение и искренне посмеивался над глупыми и даже нелепыми героями и сочувствовал оказавшимся в неприятностях людям. Ванюша не всегда понимал истинный смысл, заложенный писателем, но это только разжигало в нем фантазию и желание снова и снова перечитывать Антона Павловича и делать для себя все новые и новые открытия. Обычно так и проходил его досуг. Закончив школьный день, он скорее бежал домой, делал уроки и, прихватив с полки очередную книжку, отправлялся читать на улицу. Ванюша хорошо знал, где этим можно заняться в абсолютной тишине и уединении, и парковый уголок был именно таким местом, где он познакомился со многими писателями. Среди осенних опавших листьев он впервые прочитал Пушкина и Гоголя, а под палящим летним солнцем открыл для себя Горького и Паустовского. Пока его сверстники предавались дворовым играм и праздным гуляниям, он погружался в запыленные сочинения бессмертных классиков.
Любовь к литературе Ванюше привила мама, преподававшая ее в школе. Она покупала множество книг с красочными иллюстрациями и заставляла его читать вслух. Поначалу Ванюша часто упирался, но она стояла на своем. Ей было важно слышать его четкую, несбивчивую речь, видеть его сосредоточенный взгляд, следовавший за дрожащим, ползущим от буковки к буковке пальцем. Она откладывала все дела и садилась напротив, заботливо наблюдая за сыном. Нередко бывало, что она всплакивала, а когда он заканчивал читать, подбегала, вытирая глаза, крепко обнимала и долго целовала его волосы, лоб, виски. Вскоре Ванюша сам брался за книги, по очереди вытягивая их из домашней библиотеки. Так однажды ему попался тот самый Чехов, по рассказам которого он теперь трепетно пробегал глазами.
«Бедняжка, неужели ты так и останешься потерянной?» – думал Ванюша, наткнувшись на совсем новую для себя историю.
Он жадно впивался в каждое слово, стараясь не упустить ни единой детали и скорее пройти с героями по страницам произведения, доведя их до финала.
– Надеюсь, новый хозяин будет с тобой достаточно добр, – тихонько прошептал он, как бы боясь, что его услышат, но будучи уже не в силах сдержать эмоции.
Перелистывая очередную страницу, Ванюша случайно обратил внимание на часы, выглянувшие из-под варежки и рукава куртки. Это были маленькие, недорогие часы, которые при случае не страшно было разбить или потерять. С такими словами мама подарила ему их, а после учила определять по стрелочкам время. Однако он берег их, чтобы ни в коем случае не появилась царапинка или маленькая трещина.
«Уже совсем поздно, надо бы идти домой», – подумал Ванюша, тревожно поднимая взгляд от циферблата и оглядываясь вокруг. Увлекшись трогательными рассказами, он не заметил, как стемнело. «Ладно, потом дочитаю, а то мама будет волноваться», – решил он и, ровно сложив все листы книги и сунув ее обратно под мышку, спрыгнул со скамьи и направился к выходу из парка.
Не успел мальчик дойти до главных ворот, как его снова настигли резкие покашливания. Прохожие часто обращали на это внимание, но Ванюшу уже давно это не беспокоило, он свыкся с этим и научился не замечать свои нервные тики. Только вот для мамы это стало причиной сильных переживаний и проблем. Сыну было сложно найти друзей: сначала его долго сторонились, а потом и вовсе всячески издевались, передразнивая и насмехаясь. Немало школ пришлось сменить и немало скандалов вытерпеть за недолгие учебные годы. Ее коллеги сочувствовали и пытались помочь, усмиряя хулиганистых учеников порицаниями и разговорами с родителями. Ненадолго все утихало, но после вновь возобновлялись и драки, и ругательства, и глумления.
Ванюша воспитывался только мамой – доброй, заботливой, мягкой и любящей, – и, возможно, поэтому не мог за себя постоять, да и не сильно пытался, что вместе с его худощавостью позволяло сверстникам не сдерживаться в унижениях. Оттого он и старался избегать одноклассников. В школе он всегда сидел один за последней партой, а когда звенел звонок, ждал, пока все уйдут, чтобы добраться до следующего кабинета, ни с кем не пересекаясь.
Стоило Ванюше добрести до дома, избавиться от портфеля и выбраться с книгой на улицу, как его окутывало спокойствие, и он забывал все неприятности.
– Как красиво, – прошептал Ванюша, осматривая вечернее небо.
На нем сложно было что-то заметить, но это не мешало мальчику изумляться темно-синему полотну, вкрапленному маленькими, чуть мерцавшими звездными точками и сверкавшим лунным пятнышком. Он умел наслаждаться природой и крайне любил ее. Прогуливаясь по улицам, мог долго глядеть на пышные кроны деревьев, увешанные зеленеющими сережками; на мягкие, росистые ковры газонов с утыканными в них одуванчиками и, конечно же, на небо. Не имея возможности проводить детство с ровесниками, Ванюша нередко просился выезжать с мамой за город. У них было любимое место у речки, где он учился плавать и замечать всю пленительность и очарование природной стихии. Вдоволь накупавшись и понежившись на солнце, довольный, возвращался он к маме, приготовившей для него интересное занятие перед обратной дорогой. Пока он радостно плескался у берега, она срывала полевые цветы и несла их пушистым комом к нему:
– Ванюша, смотри, сколько собрала, – со счастливой улыбкой и немного устало говорила мама.
– Как красиво, – окунаясь носом в мягкую и свежую охапку, отвечал он, – и как вкусно.
– Вот, возьми это и сделай несколько пучков, – мама протягивала ему связку лент.
Ванюша садился перед ней на теплый плед, раскладывал цветы и составлял из них красивые букеты, она же наблюдала за этим и где-то внутри себя радовалась, что снова видит сосредоточенный и увлеченный взгляд сына, освобожденного на некоторое время от гнета нервных тиков. Ванюшина безмятежность заставляла ее торжествовать. Не делая ни единого движения и не издавая ни единого звука, она, как прикованная, ждала, пока сын закончит, а когда он довязывал последний бантик, скорее пододвигалась к нему поближе и, скрывая глаза и прикусывая губы, прижимала к сердцу и снова целовала его в волосы, лоб, виски.
– Какие замечательные букеты, – шептала мама, успокаивая свои чувства и оглядывая проделанную работу. – Заберем их домой.
В квартире цветы, аккуратно расставленные по вазам на подоконнике, одаривали комнаты красотой и душистым ароматом луговой травы и значительно скрашивали пейзаж из потрепанных домов за окном.
Но сейчас, когда Ванюша шел один по опустевшим переулкам, его взгляд от них могло отвлечь только темно-синее полотно, которое прекрасно проглядывалось сквозь обрубленные верхушки деревьев. Медленно ступая по асфальту и отдаваясь беспредметным мечтам, он глубоко погружался в свои мысли. Они метались в голове так интенсивно, что спроси у него кто-нибудь, о чем он раздумывает, он вряд ли бы смог достать из памяти хоть что-то. Но в этом и была их прелесть – мимолетность. Ничто не нагружало голову, а, лишь слегка касаясь и как бы поглаживая, проносилось мимо.
– О, это же Ванюша! – среди череды еле уловимых раздумий неожиданно пронесся мимо ушей и чей-то ехидный голос.
Ванюша не сразу распознал, откуда и кто его окликнул. Отгородившись от окружающей реальности настоящей стеной размышлений, он продолжал рассеянно топать дальше, однако ему не позволили просто так удалиться.
– Ванюша, а ну-ка стой! – повторный залп пронзительных воплей приближался из ниоткуда.
И в этот раз звук смог пробиться через стройный ряд мыслей. Сумев примерно определить, кто звал его поодаль, Ванюша впал в ступор, в ужасе предугадывая свою дальнейшую судьбу. Он не мог позволить себе убежать от нежданных нарушителей его благостного одиночества, ведь это только спровоцировало бы их. Да и бегал Ванюша всегда медленнее сверстников, поэтому сейчас он даже не тешил себя надеждами на возможный побег от грядущей участи. Перед ним начали всплывать дикие, исступленные лица, с которыми обычно произносили его имя. Источниками сардонических голосов и паясничавших физиономий были бывшие одноклассники, хорошо запомнившиеся Ванюше. Они преследовали мальчика даже после его ухода из школы. И, несмотря на все попытки избегать бессовестных мучителей, он все равно периодически натыкался на них, после чего его тут же окутывал безудержный страх. Нервные тики учащались и создавали вместе с ожиданиями очередных издевательств нестерпимую муку, к которой было невозможно привыкнуть. И этот случай не являлся исключением.
– Ну, привет, Ванюша. Давно не виделись, так ведь? – захлебываясь усмешками, говорили они.
Мальчиков было четверо, и они с легкостью обступили Ванюшу со всех сторон, исключая любые попытки улизнуть в сторону. Поймав свою жертву в ловушку, они тут же принялись покусывать его язвительными шуточками.
– Ты чего, не узнал что ли?
– А мы вот сразу поняли, что это ты.
– Ты своим кашлем нас серьезно напугал!
– Да ты даже шум ветра смог перебить!
Ванюша не реагировал на эти слова. Не раз находившись в таких обстоятельствах, он осознал, что ничего лучше молчания и смиренного ожидания здесь нельзя было предпринять, поэтому он лишь недвижимо смотрел себе под ноги, укрощая испытываемый им стресс и силясь отстраниться от терзающего положения. Мальчик желал вернуть утраченную цепочку размышлений, но все никак не мог сосредоточиться. Она, как бы в мгновение вырвавшись и щелчком юношеских криков, подобно кнуту, вернув его в сознание, развеялась в воздухе, не оставив на себя ни единого намека.
– Ванюша, неужели ты замерз? Что ты так весь трясешься? – подхватил один из хулиганов.
Во время сильного напряжения у Ванюши начинала чуть заметно дергаться голова. Они прекрасно знали об этом и поэтому улавливали малейшее проявление таких тиков. Ванюша старательно скрывал свои подергивания, но это никак не исправляло ситуацию, а только разжигало в его сердце беспокойство. Он зажимался в плечах и придавливал кулаки к ногам, словно полагая съежиться и исчезнуть перед обидчиками. Однако все было тщетно.
– А что это у тебя, Ванюша? Дай посмотреть, – прозвучало откуда-то сбоку.
Ванюша понял, что они заинтересовались его стареньким томиком Чехова, и почувствовал, как один из ребят стал с усилием тянуть его за руку, придерживающую книжку. Позволить ей оказаться в их руках означало бы навсегда распрощаться с сочинениями и обречь их на варварскую расправу, чего мальчик не мог допустить. Но неожиданно раздался хруст. Тот, кто некогда тянул его за руку, ухватился двумя руками за обложку книги, выглядывавшей с двух сторон из-под мышки Ванюши, и отчаянно перетаскивал ее на себя.
– Ну не жадничай, я всего лишь посмотрю и отдам, – ехидно говорил он, слыша одобрительный смех своих товарищей.
Ванюша был вынужден как можно скорее предпринять что-либо для сохранения трудов писателя и советских типографов. Вступление с хулиганами в борьбу казалось ему уже не глупой и безнадежной идеей, а единственным правильным решением. Крепко опершись одной ногой о землю, поджав локоть, стискивавший книжку, и накрыв его второй рукой, мальчик приложил всю хранившуюся в нем силу для противостояния безжалостному противнику. Сначала это помогло слегка сдержать его, однако Ванюша стал быстро сдавать позиции. Казалось, томик вот-вот окажется у неприятеля, но тут Ванюша потерял равновесие от сильного толчка со спины и обрушился на асфальт вместе с рассказами, рассыпавшимися перед ним.
– Что ты с ним возишься? – послышался недовольный голос.
Упав на бок, Ванюша ощутил острую боль в колене и плече, но он не придал этому значение, а больше заботился о листах, размокавших и впитывавших грязь. Подорвавшись с места, он на четвереньках начал судорожно хватать страницы и складывать их. Он был готов к новому толчку или удару и, более того, ждал этого, зная, что так просто его не оставят. Однако ничего не последовало. Все пораженно смотрели за паническими движениями человека, только что стоявшего в полном остолбенении. Наконец собрав всю кипу бумаг и прижав их к груди, Ванюша приподнялся и ринулся на стоящего напротив него обидчика, да так, что тот рухнул на землю под всплеск взлетевших бумаг, вырвавшихся из его рук. Он бежал со всех ног, уже не думая о возможном преследовании. Все, что он хотел, поскорее добраться до дома, донеся книгу в целости и сохранности. И ему позволили уйти. Еще не отойдя от удивления, мальчики лишь глядели вслед уносящемуся в темноту силуэту Ванюши. Вскоре он пропал совсем.
Охваченный страхом, он пробежал оставшуюся дорогу до дома, ни разу не остановившись, отчего сильно устал. Ванюше потребовалось какое-то время, чтобы отдышаться и вспомнить о плачевном облике, в котором находился томик в его руках. Набрав на домофоне номер своей квартиры, он стал кропотливо складывать страницы в корешок книги, невзирая на их нумерацию. Сейчас ему было важно как можно скорее придать ей нужный вид, а не восстановить последовательность. Раздался щелчок.
– Это я, мам, – тяжело дыша и покашливая, сказал Ванюша в домофон.
Дверь тут же открылась. Не успев войти в подъезд, Ванюша стал судорожно расстегивать на себе куртку и приподнимать теплый, вязанный мамой свитер. Пройдя первый этаж, он остановился на лестничной площадке, как мог, продул поверхность подоконника и аккуратно положил на самый его край собранную им, как пазл, книжку. Взвилось настоящее облако пыли, копившееся годами, а может, и целыми десятилетиями. Подъезд совсем не убирали, поэтому в нем царили грязь и разруха, став пристанищем для пауков и прочей подобной живности. Они замечательно уживались между дверьми смежных квартир и перил, за которые лишний раз боялись ухватиться даже престарелые жители, предпочитая терпеть боль в костях, нежели ползущих по себе насекомых. Ванюше же было некогда опасаться странствующих повсюду букашек. Он, ослабив ремень и создав достаточное пространство между спиной и поясом брюк, заправил туда книжку, пряча ее под свитером и курткой. Убедившись, что она плотно прилегает к телу, он направился к двери, за которой его уже давно ожидали.
– Извини, что так поздно, – зайдя домой и остановившись в коридоре, сказал Ванюша.
– Ничего страшного, – с улыбкой проговорила мама. – Ванюша, ты не замерз?
Заботу и нежность, с которыми она произносила его имя, Ванюша чувствовал очень тонко, и это рассеивало в нем любую суету.
– Нет, мам, на улице не так холодно.
– Ну, хорошо.
Она не отводила взгляд от сына, дожидаясь, пока он начнет раздеваться. Ванюша понимал это и слегка колебался. Он не хотел вызывать подозрений, поэтому перебирал в голове одежду, которую мог снять, не выдавая своей маленькой тайны. Медленно стянул с себя шапку, варежки и шарф под четким наблюдением мамы, а после, быстро сообразив, присел на корточки развязывать шнурки на ботинках. От резкого движения он немного пошатнулся, почувствовав, как твёрдая обложка книги, ударив по торчащим лопаткам, впилась в него и заставила выпрямиться, усложнив снятие обуви. Просидев несколько секунд в этом неудобном положении, он поднял голову на маму, улавливая ее реакцию на происходящее.
– Ты бы сначала куртку снял, – сказала она, улыбаясь его неуклюжим движениям.
– Да, мам, сейчас сниму, – серьезно ответил он, стаскивая ботинок.
– Ох, что же я здесь стою, у меня ведь там суп на плите. Ты будешь кушать? – вскочив с места и убегая на кухню, спросила мама.
– Да, конечно, – с облегчением и радостью вырвалось у Ванюши.
– Тогда скорее переодевайся и иди мыть руки, – глухо раздалось из кухни.
Воспользовавшись удобным моментом, мальчик накинулся на второй ботинок, как на дикого зверя, крепко вцепившегося в ногу, скинул его с себя и принялся наконец снимать куртку. Оставшись в свитере и брюках, он широкими шагами направился в комнату – к домашней библиотеке. Желая скорее избавиться от тяжелого груза великого писателя, Ванюша достал из-за спины книжку и небрежно поставил на первую попавшуюся полку. Почувствовав еще большее облегчение, он невозмутимо пошел в ванную.
Успешно проведя все манипуляции, Ванюша встал перед раковиной и, включив воду, обратил внимание на часы. И замер, ошеломленный их видом, стал осматривать паутинку из трещин.
– Как я мог их разбить? – прошептал и тут же смолк от испуга, что мама его услышит.
Перебрав все возможные варианты, он понял, что та самая встреча с бывшими одноклассниками могла стать причиной треснувших часов. Упав на плечо, Ванюша с размаху ударил кистью по асфальту, тем самым расколов их.
– Мама ведь так расстроится. Подарок все-таки, – с сожалением и все так же шепотом говорил Ванюша.
Очнувшись от шума включенной воды, он дрожащей рукой принялся расстегивать ремешок часов. Обычно Ванюша оставлял их в ванной на шкафчике, но теперь он искал, куда бы их подальше спрятать.
– Ванюша, я уже накладываю, – эхом пронесся голос из кухни.
Он выскочил из ванной в коридор и накинулся на свою куртку. Нащупав внутренний карман, Ванюша положил в него часы, рассчитывая заняться ими позже.
– Да, мам, уже иду, – крикнул он куда-то в неизвестность и забежал обратно.
Переодеваясь в домашние вещи, Ванюша обнаружил на колене кровавые ссадины – последствия все той же встречи. Недолго думая, он шагнул глубоко в ванну и стал обильно поливать рану водой, чтобы смыть подсохшую кровь.
«Что же делать? – думал он, смотря, как горячая струя, ударяясь об его колено, обрызгивает стенки ванны. – Где-то здесь была зеленка».
Обтерев ногу полотенцем, Ванюша неумело, на скорую руку намазал зеленку на рану. Он не хотел волновать этим маму, поэтому не стал просить ее помощи. Спрятав обработанные ссадины под штанами, Ванюша тщательно вымыл руки и лицо и направился на кухню. Не успел он выйти, как его накрыл аромат румяного, свежего хлеба и наваристого супа, стынувшего на столе. Квартира, в которой они с мамой жили, была небольшой, отчего любой запах или звук улавливался из каждого уголка. Одна общая комната, кухня, ванная – для такой маленькой семьи, как у Ванюши, этого более, чем хватало. Пусть не всегда удавалось насладиться комфортом и удобством, так как мебель нередко ломалась, обои от регулярных потопов отходили, набухали и покрывались желтыми пятнами, штукатурка на потолке осыпалась, отчего, поднимая лишний раз голову вверх, создавалось впечатление, что ты смотришь на старого далматинца, болеющего чем-то страшным и неизлечимым, но Ванюша и его мама смогли привыкнуть к такому окружению в силу невозможности что-либо изменить.
– Кушай, пока не остыло, – сказала мама, услышав, как он зашел, и не отрываясь от кухонного стола.
Ванюша уселся на табуретку вполоборота, взялся за ложку и принялся поедать суп, глубоко зачерпывая его и хватая зубами крупные куски хлеба. Вместе с теплотой, наполнявшей его желудок, он неожиданно почувствовал приятное умиротворение и, сам того не заметив, освободился от покашливаний.
– Если захочешь что-нибудь еще, ты говори, – сказала мама, дорезав салат и положив его перед сыном.
Стол был придвинут плотно к углу кухни, отчего сесть за него было возможно только с двух сторон – на одной сидел мальчик, а на другую присела мама, довольно наблюдая за тем, как он кушал.
– Ну, рассказывай, Ванюша, как погуляли? – спросила она, радостно улыбаясь.
– Хорошо, мам, – отчеканил Ванюша.
– Где гуляли?
– В парке, на площадке.
– Больше никуда не ходили? – желая получить подробности, расспрашивала она.
– Нет, мам.
– Чем занимались? – продолжала мама.
– Просто гуляли.
– Просто гуляли, – повторила мама, как бы отыскивая в его словах скрытые им детали. – Много народу, наверное, было?
– Нет, – немного задумавшись, ответил мальчик.
– Странно, обычно там не протолкнуться в такое время, – озадачилась мама. – Ну да ладно, как там дела у Леши с Петькой?
– Хорошо.
– Петька уже выздоровел? По-моему, он недавно болел.
– Да, ему намного лучше.
– А Леша все также ходит на футбол? Не забросил?
– Нет, не забросил. Все также ходит, – повторял Ванюша однозначные ответы.
– Это хорошо. Ладно, кушай, не буду отвлекать тебя. Как доешь, ложись в кровать, – так и не утолив своего любопытства, она решила оставить его, больше не беспокоя вопросами.
Не успели покашливания отступить, как Ванюша вновь ощутил их. Не придавая им значения, он спокойно доел суп и, с грохотом положив тарелку в раковину, прошел в комнату. Его взгляд случайно остановился на стоявшей перед книжными полками маме, которая оглядывала их, разыскивая необходимого автора.
– Ванюша, ты не видел Чехова? Вроде, я его где-то здесь оставляла, – задумчиво протянула она, щурясь на верхние полки.
– Вот он, – указал Ванюша, на то место, куда он в спешке положил томик.
– Странно, я его никогда не перекладывала сюда, – рассуждала она вслух. – Ты не брал его?
– Да, брал, в школу, – отчеканил Ванюша.
– Вы же еще не проходите Чехова, – с недоумением сказала мама.
– Да я так, для себя, – нашелся Ванюша.
– А, тогда ладно, это хорошо, – улыбнувшись, подытожила она. – Значит, пусть пока здесь и лежит.
Она поглубже задвинула Чехова среди других книг и пошла в ванную. Дождавшись, когда мама уйдет, Ванюша подскочил к полкам и снова вытащил оттуда полюбившегося автора, прислушался, не возвращается ли она обратно, и подбежал к своей кровати. Отбросив покрывало, он закопал в подушках несчастный томик и начал готовиться ко сну. Ванюша снял с себя одежду, повесил ее на спинку кровати, раскрыл одеяло и уже готовился залезть под него, но неожиданно его позвала мама, выходившая из ванной:
– Ванюша, сынок, ты брал зеленку? – спросила она и тотчас увидела ответ на свой вопрос.
С ужасом в глазах она смотрела на коленку Ванюши, удивленно вздыхая и подступая к ней.
– Ты как умудрился так упасть? И когда?
– С… сегодня… С качель упал… на площадке, – раздумывая, отвечал Ванюша.
– Почему сразу не сказал? Кто же так зеленкой мажет? Сиди тут, сейчас сама все обработаю, – недовольно проговорила мама, убегая из комнаты.
Ванюша огорчился. Его нервные тики учащались, а сам он стал чувствовать острую и необъяснимую вину перед мамой. Ему хотелось поскорее закончить эту процедуру, чтобы не утруждать ее волнениями, а себя – совестью.
– Дай посмотрю, – сказала она, вернувшись с зеленкой и присев рядом с ним на кровать.
Ванюша послушно положил стопу на покрывало, наблюдая, как мама скрупулезно обмакивает спичку с накрученной на нее ватой в пузырек с зеленкой.
– Говори, когда будет щипать, – серьезно сказала она, поднося к ссадинам спичечную головку, – я подую.
Однако Ванюша сидел смирно и терпел, не замечая жжения и лишь иногда нарушая покашливаниями установившееся в комнате безмолвие. Он смотрел на ее сконцентрированный взгляд и плавные движения, и ему становилось неспокойно. Мама заботливо обрабатывала колено, дуя на ранки. Он не понимал, что испытывает. Любовь наполняла его крошечное сердце, но, сталкиваясь с неведомой преградой, сразу же вытеснялась оттуда, вгоняя его в краску.
– Еще и шорты теперь в зеленке, – досадуя и не отрываясь от процедуры, говорила мама. – Ладно хоть домашние – не жалко.
Ванюша не слышал ее. Его застилала новая череда раздумий, и вместе с тем что-то норовило вырваться наружу. Что-то грузное, что так и хотелось стряхнуть с худых плеч, расправив их. Что-то жгучее, что болело в сотни раз сильнее ушибленной ноги и щипавшей раны. Что-то, освобождение от чего могло принести только большее мучение и горечь.
– Кстати, Ванюша, а где твои часы? Я их что-то не видела в шкафчике, – прервала его размышления мама, вспомнив замеченную пропажу.
Эти слова застали врасплох. Он не был готов к такому вопросу сейчас. Питая особенный трепет к этим часикам, он застыл в смятении.
– Я… Я дал их посмотреть Леше… Видимо… оставил у него. Потом… заберу, – сбиваясь от покашливаний, прошептал мальчик.
Мама, уловив дрожь в голосе Ванюши, медленно подняла на него глаза в надежде отыскать причину такого ответа. Однако, заметив дурной знак – подергивания головы, испугалась.
– С тобой все хорошо? – она озабоченно положила ладонь на его плечо.
Конечно же, Ванюша не чувствовал себя хорошо. Все, сказанное им, было ложью. Никакого Леши и Петьки не было. Формально они, конечно, существовали и даже учились с ним в одном классе очередной школы, но вряд ли подозревали, что дружат с ним. Ему приходилось врать и делать это все чаще и чаще. И это не могло не терзать его. Каждое лживое слово напоминало ему об унизительном положении, в котором он находился. Но Ванюше приходилось мириться с этим, ведь правда сказывалась намного губительней. И он давно заметил это. Всякий раз, говоря маме о притеснениях со стороны сверстников, он видел нечто, приносившее ему настоящие страдания. И видел не однажды и не единожды, а чуть ли не каждый день. Ее поникшая голова и понурое лицо крепко отпечатались в сознании Ванюши, а в памяти навсегда сохранились бессонные ночи, сопровождаемые маминым плачем на кухне. Лежа на кровати за стеной, он отчетливо слышал это и сам предавался слезам. Иногда, пытаясь совладать с собой, он брался за книгу и читал вслух, перебивая рыдания мамы. Но это не помогало, а только выработало в нем привычку лежать с книгой глубокой ночью. И как бы мама ни скрывала эмоции за красивой улыбкой или спиной сына, Ванюша все понимал. В эти минуты он корил себя за слабость, истязавшую его маму. Он был готов терпеть любые унижения, любые удары и слова и в любом количестве, только бы эти ночи не повторялись. Но так продолжалось снова и снова, и единственным выходом для Ванюши стал обман. Обман во спасение. Впредь он хранил любые неприятности втайне, справляясь с ними в одиночку. Это оказалось не так легко, как он думал, но Ванюша сумел убедить маму в том, что все наладилось, и теперь с ним обращаются как с равным себе, невзирая на нервные тики. Радостная улыбка, вернувшаяся к маме, утешала его и придавала моральные и физические силы для преодоления дальнейших трудностей. Выдать же сейчас всю правду означало снова увидеть полное мучений лицо родного человека. А этого Ванюша не смог бы вынести. Поэтому сейчас, глядя ей прямо в глаза и собравшись с духом, он тихо и насколько это было возможно, твердо сказал:
– Да, мам, все хорошо.
– Точно? – спрашивала она, побуждая Ванюшу к откровению.
Ничего не ответив, он кинулся маме на шею, испугав ее резким и неожиданным движением. Ванюша крепко обнял ее, отвернув лицо и спрятав глаза, чтобы сдержать нахлынувшие на него слезы.
– Что такое? Ванюша? – приобнимая сына, в замешательстве спрашивала мама.
Ванюша чувствовал, как любовь вновь наполняла его крошечное сердце. Уже сейчас он понимал, какая ответственность лежит на нем и как много можно сделать для дорогого тебе человека. Прикусывая губы, Ванюша старался найти подходящий ответ, способный успокоить маму.
– Я люблю тебя, – с тихой радостью прошептал он.
Пытаясь логически связать действия сына, она было хотела продолжить задавать вопросы, но потом лишь сильнее прижала мальчика к себе. Она поняла, что никакие ответы на её бесконечные вопросы ей теперь не требовались, ведь самый главный она уже получила.
– Мой хороший, я тоже тебя люблю. Очень люблю, – и тревога в ее голосе сменилась радостью.
Был уже поздний час, поэтому она скоро уложила Ванюшу в кровать, поцеловала его в лоб, пожелав спокойной ночи, разложила диван и легла на него, медленно засыпая. Преисполненный нежности, он был готов пожертвовать своим удобством и поменяться с ней спальными местами. Ванюша часто просил маму об этом, но она всегда отказывала, заботясь о нем и его здоровом сне. Но вдруг мальчик вспомнил, что под его подушками, притаившись, лежал запрятанный им томик Чехова, отчего эта идея быстро покинула его. Достав из-под кровати фонарик, хранившийся там для позднего чтения, он залил книгу ярким светом и ужаснулся от ее вида. Поперек обложки бугорком выступала огромная трещина, а страницы стали волнистыми от влаги, попавшей на них. Оглядев со скорбью следы катастрофы, Ванюша принялся искать рассказ, который не дочитал в парке. Сначала он медленно перелистывал страницы, но не обнаружив на месте недостающие главы, начал стремительно перебирать пальцем листы, пока не осознал, что потерял их по дороге.
«Неужели я так и не узнаю, что случилось с этой бедной собачкой!» – с грустью подумал Ванюша, положив книгу на живот и выключив фонарь. Но потом он увидел в бледном луче луны, проникнувшем в комнату через щель в занавесках, улыбающееся сквозь сон лицо мамы. Это заставило его позабыть о всех напастях, с которыми пришлось столкнуться сегодня.
Вернув книжку на полку, мальчик на цыпочках подкрался к спящей маме и тихонько коснулся губами ее лба, боясь разбудить ее.
– Спокойный ночи, мама, – пожелал ей Ванюша и счастливый лег спать, не думая о завтрашнем дне.
И когда ты плакала по ночам,
я, ладони в мыслях к твоим плечам
прижимая, смог наконец понять,
понял я: ты – дочь моя, а не мать.
Борис Рыжий, «Так я понял».
Стоял холодный, чуть светлый вечер. Влажный, леденящий руки воздух разгуливал по улицам порывами ветра, раскачивая голые ветки деревьев и освистывая хмурых прохожих. На дорогах и тротуарах лежал ещё не растаявший, перемешанный с мокрой грязью снег. Лужи были покрыты тонкими пленками льда, с брызгами и треском тонувшими под ботинками спешно шагающего с книжкой мальчика. Невзирая на раннюю весну, все вокруг напоминало о зиме, которая совсем не спешила уходить.
Никуда не спешили и люди, праздно бродившие по парку в выходной день. Среди длинных аллей размеренно отстукивали каблуками по брусчатке молодые мамы, толкая перед собой детские коляски с тепло укутанными и мирно дремавшими в них малышами. Игровые площадки заполнялись звонким визгом и беспокойными родительскими голосами, вытеснявшими некогда царившую вокруг тишину. В стороне от этого шума безмолвно сидела на лавочке у неработающего фонтана пожилая пара, рассматривая его бетонную облезлую кромку. Будучи еще молодыми, они видели его совсем новым, со свежей краской и эффектно бьющими вверх струями воды. Столько радости и свежести он приносил окружающим. Сегодня же фонтан стоял забытым памятником ушедших юношеских лет теперешних бабушки и дедушки, отчего вид его навевал тоску и воспоминания о далеком и невозвратимом времени.
– Каким замечательным он был раньше, – удрученно сказала она.
– И не говори, – также удрученно согласился он.
Вдруг их внимание привлекла аккуратная фигурка мальчика, крепко сжимавшего под мышкой старинную книгу. Его быстрые шаги, создававшие характерный топот сапог, казавшихся ему неудобными, заставили их невольно улыбнуться и любопытным взглядом проводить его по парковой тропе. Мальчик заметно покашливал.
– Бедняга, приболел, видимо, – тихо сказала она своему супругу.
– Да, – согласился он, – в такую погоду несложно простудиться.
– Куда же, интересно, он так торопится?
Однако ответа не последовало. Силуэт мальчика отдалялся, все глубже теряясь среди громадных кленов и оставляя озадаченную пару снова наедине друг с другом и старым фонтаном.
Мальчика звали Ванюшей, и торопился он в укромное, запрятанное от посторонних глаз место. Обычно там никто не появлялся, ведь ничего кроме одиноко склонившего грустную голову железного тела блеклого фонаря над неприметной скамейкой между стволами величественных деревьев там не было. Но большего Ванюше и не требовалось. Он уселся поближе к холодному столбу и развернул корешок разваливающегося на худых ногах томика, прижимая норовящие вылететь из него страницы. Стоило ему только начать вчитываться в смазанные строчки, как покашливания отступили, и он почувствовал приятное умиротворение.
Чехов. Ванюша с первых рассказов влюбился в эту фамилию. Одно за другим он проглатывал каждое попадавшееся ему произведение и искренне посмеивался над глупыми и даже нелепыми героями и сочувствовал оказавшимся в неприятностях людям. Ванюша не всегда понимал истинный смысл, заложенный писателем, но это только разжигало в нем фантазию и желание снова и снова перечитывать Антона Павловича и делать для себя все новые и новые открытия. Обычно так и проходил его досуг. Закончив школьный день, он скорее бежал домой, делал уроки и, прихватив с полки очередную книжку, отправлялся читать на улицу. Ванюша хорошо знал, где этим можно заняться в абсолютной тишине и уединении, и парковый уголок был именно таким местом, где он познакомился со многими писателями. Среди осенних опавших листьев он впервые прочитал Пушкина и Гоголя, а под палящим летним солнцем открыл для себя Горького и Паустовского. Пока его сверстники предавались дворовым играм и праздным гуляниям, он погружался в запыленные сочинения бессмертных классиков.
Любовь к литературе Ванюше привила мама, преподававшая ее в школе. Она покупала множество книг с красочными иллюстрациями и заставляла его читать вслух. Поначалу Ванюша часто упирался, но она стояла на своем. Ей было важно слышать его четкую, несбивчивую речь, видеть его сосредоточенный взгляд, следовавший за дрожащим, ползущим от буковки к буковке пальцем. Она откладывала все дела и садилась напротив, заботливо наблюдая за сыном. Нередко бывало, что она всплакивала, а когда он заканчивал читать, подбегала, вытирая глаза, крепко обнимала и долго целовала его волосы, лоб, виски. Вскоре Ванюша сам брался за книги, по очереди вытягивая их из домашней библиотеки. Так однажды ему попался тот самый Чехов, по рассказам которого он теперь трепетно пробегал глазами.
«Бедняжка, неужели ты так и останешься потерянной?» – думал Ванюша, наткнувшись на совсем новую для себя историю.
Он жадно впивался в каждое слово, стараясь не упустить ни единой детали и скорее пройти с героями по страницам произведения, доведя их до финала.
– Надеюсь, новый хозяин будет с тобой достаточно добр, – тихонько прошептал он, как бы боясь, что его услышат, но будучи уже не в силах сдержать эмоции.
Перелистывая очередную страницу, Ванюша случайно обратил внимание на часы, выглянувшие из-под варежки и рукава куртки. Это были маленькие, недорогие часы, которые при случае не страшно было разбить или потерять. С такими словами мама подарила ему их, а после учила определять по стрелочкам время. Однако он берег их, чтобы ни в коем случае не появилась царапинка или маленькая трещина.
«Уже совсем поздно, надо бы идти домой», – подумал Ванюша, тревожно поднимая взгляд от циферблата и оглядываясь вокруг. Увлекшись трогательными рассказами, он не заметил, как стемнело. «Ладно, потом дочитаю, а то мама будет волноваться», – решил он и, ровно сложив все листы книги и сунув ее обратно под мышку, спрыгнул со скамьи и направился к выходу из парка.
Не успел мальчик дойти до главных ворот, как его снова настигли резкие покашливания. Прохожие часто обращали на это внимание, но Ванюшу уже давно это не беспокоило, он свыкся с этим и научился не замечать свои нервные тики. Только вот для мамы это стало причиной сильных переживаний и проблем. Сыну было сложно найти друзей: сначала его долго сторонились, а потом и вовсе всячески издевались, передразнивая и насмехаясь. Немало школ пришлось сменить и немало скандалов вытерпеть за недолгие учебные годы. Ее коллеги сочувствовали и пытались помочь, усмиряя хулиганистых учеников порицаниями и разговорами с родителями. Ненадолго все утихало, но после вновь возобновлялись и драки, и ругательства, и глумления.
Ванюша воспитывался только мамой – доброй, заботливой, мягкой и любящей, – и, возможно, поэтому не мог за себя постоять, да и не сильно пытался, что вместе с его худощавостью позволяло сверстникам не сдерживаться в унижениях. Оттого он и старался избегать одноклассников. В школе он всегда сидел один за последней партой, а когда звенел звонок, ждал, пока все уйдут, чтобы добраться до следующего кабинета, ни с кем не пересекаясь.
Стоило Ванюше добрести до дома, избавиться от портфеля и выбраться с книгой на улицу, как его окутывало спокойствие, и он забывал все неприятности.
– Как красиво, – прошептал Ванюша, осматривая вечернее небо.
На нем сложно было что-то заметить, но это не мешало мальчику изумляться темно-синему полотну, вкрапленному маленькими, чуть мерцавшими звездными точками и сверкавшим лунным пятнышком. Он умел наслаждаться природой и крайне любил ее. Прогуливаясь по улицам, мог долго глядеть на пышные кроны деревьев, увешанные зеленеющими сережками; на мягкие, росистые ковры газонов с утыканными в них одуванчиками и, конечно же, на небо. Не имея возможности проводить детство с ровесниками, Ванюша нередко просился выезжать с мамой за город. У них было любимое место у речки, где он учился плавать и замечать всю пленительность и очарование природной стихии. Вдоволь накупавшись и понежившись на солнце, довольный, возвращался он к маме, приготовившей для него интересное занятие перед обратной дорогой. Пока он радостно плескался у берега, она срывала полевые цветы и несла их пушистым комом к нему:
– Ванюша, смотри, сколько собрала, – со счастливой улыбкой и немного устало говорила мама.
– Как красиво, – окунаясь носом в мягкую и свежую охапку, отвечал он, – и как вкусно.
– Вот, возьми это и сделай несколько пучков, – мама протягивала ему связку лент.
Ванюша садился перед ней на теплый плед, раскладывал цветы и составлял из них красивые букеты, она же наблюдала за этим и где-то внутри себя радовалась, что снова видит сосредоточенный и увлеченный взгляд сына, освобожденного на некоторое время от гнета нервных тиков. Ванюшина безмятежность заставляла ее торжествовать. Не делая ни единого движения и не издавая ни единого звука, она, как прикованная, ждала, пока сын закончит, а когда он довязывал последний бантик, скорее пододвигалась к нему поближе и, скрывая глаза и прикусывая губы, прижимала к сердцу и снова целовала его в волосы, лоб, виски.
– Какие замечательные букеты, – шептала мама, успокаивая свои чувства и оглядывая проделанную работу. – Заберем их домой.
В квартире цветы, аккуратно расставленные по вазам на подоконнике, одаривали комнаты красотой и душистым ароматом луговой травы и значительно скрашивали пейзаж из потрепанных домов за окном.
Но сейчас, когда Ванюша шел один по опустевшим переулкам, его взгляд от них могло отвлечь только темно-синее полотно, которое прекрасно проглядывалось сквозь обрубленные верхушки деревьев. Медленно ступая по асфальту и отдаваясь беспредметным мечтам, он глубоко погружался в свои мысли. Они метались в голове так интенсивно, что спроси у него кто-нибудь, о чем он раздумывает, он вряд ли бы смог достать из памяти хоть что-то. Но в этом и была их прелесть – мимолетность. Ничто не нагружало голову, а, лишь слегка касаясь и как бы поглаживая, проносилось мимо.
– О, это же Ванюша! – среди череды еле уловимых раздумий неожиданно пронесся мимо ушей и чей-то ехидный голос.
Ванюша не сразу распознал, откуда и кто его окликнул. Отгородившись от окружающей реальности настоящей стеной размышлений, он продолжал рассеянно топать дальше, однако ему не позволили просто так удалиться.
– Ванюша, а ну-ка стой! – повторный залп пронзительных воплей приближался из ниоткуда.
И в этот раз звук смог пробиться через стройный ряд мыслей. Сумев примерно определить, кто звал его поодаль, Ванюша впал в ступор, в ужасе предугадывая свою дальнейшую судьбу. Он не мог позволить себе убежать от нежданных нарушителей его благостного одиночества, ведь это только спровоцировало бы их. Да и бегал Ванюша всегда медленнее сверстников, поэтому сейчас он даже не тешил себя надеждами на возможный побег от грядущей участи. Перед ним начали всплывать дикие, исступленные лица, с которыми обычно произносили его имя. Источниками сардонических голосов и паясничавших физиономий были бывшие одноклассники, хорошо запомнившиеся Ванюше. Они преследовали мальчика даже после его ухода из школы. И, несмотря на все попытки избегать бессовестных мучителей, он все равно периодически натыкался на них, после чего его тут же окутывал безудержный страх. Нервные тики учащались и создавали вместе с ожиданиями очередных издевательств нестерпимую муку, к которой было невозможно привыкнуть. И этот случай не являлся исключением.
– Ну, привет, Ванюша. Давно не виделись, так ведь? – захлебываясь усмешками, говорили они.
Мальчиков было четверо, и они с легкостью обступили Ванюшу со всех сторон, исключая любые попытки улизнуть в сторону. Поймав свою жертву в ловушку, они тут же принялись покусывать его язвительными шуточками.
– Ты чего, не узнал что ли?
– А мы вот сразу поняли, что это ты.
– Ты своим кашлем нас серьезно напугал!
– Да ты даже шум ветра смог перебить!
Ванюша не реагировал на эти слова. Не раз находившись в таких обстоятельствах, он осознал, что ничего лучше молчания и смиренного ожидания здесь нельзя было предпринять, поэтому он лишь недвижимо смотрел себе под ноги, укрощая испытываемый им стресс и силясь отстраниться от терзающего положения. Мальчик желал вернуть утраченную цепочку размышлений, но все никак не мог сосредоточиться. Она, как бы в мгновение вырвавшись и щелчком юношеских криков, подобно кнуту, вернув его в сознание, развеялась в воздухе, не оставив на себя ни единого намека.
– Ванюша, неужели ты замерз? Что ты так весь трясешься? – подхватил один из хулиганов.
Во время сильного напряжения у Ванюши начинала чуть заметно дергаться голова. Они прекрасно знали об этом и поэтому улавливали малейшее проявление таких тиков. Ванюша старательно скрывал свои подергивания, но это никак не исправляло ситуацию, а только разжигало в его сердце беспокойство. Он зажимался в плечах и придавливал кулаки к ногам, словно полагая съежиться и исчезнуть перед обидчиками. Однако все было тщетно.
– А что это у тебя, Ванюша? Дай посмотреть, – прозвучало откуда-то сбоку.
Ванюша понял, что они заинтересовались его стареньким томиком Чехова, и почувствовал, как один из ребят стал с усилием тянуть его за руку, придерживающую книжку. Позволить ей оказаться в их руках означало бы навсегда распрощаться с сочинениями и обречь их на варварскую расправу, чего мальчик не мог допустить. Но неожиданно раздался хруст. Тот, кто некогда тянул его за руку, ухватился двумя руками за обложку книги, выглядывавшей с двух сторон из-под мышки Ванюши, и отчаянно перетаскивал ее на себя.
– Ну не жадничай, я всего лишь посмотрю и отдам, – ехидно говорил он, слыша одобрительный смех своих товарищей.
Ванюша был вынужден как можно скорее предпринять что-либо для сохранения трудов писателя и советских типографов. Вступление с хулиганами в борьбу казалось ему уже не глупой и безнадежной идеей, а единственным правильным решением. Крепко опершись одной ногой о землю, поджав локоть, стискивавший книжку, и накрыв его второй рукой, мальчик приложил всю хранившуюся в нем силу для противостояния безжалостному противнику. Сначала это помогло слегка сдержать его, однако Ванюша стал быстро сдавать позиции. Казалось, томик вот-вот окажется у неприятеля, но тут Ванюша потерял равновесие от сильного толчка со спины и обрушился на асфальт вместе с рассказами, рассыпавшимися перед ним.
– Что ты с ним возишься? – послышался недовольный голос.
Упав на бок, Ванюша ощутил острую боль в колене и плече, но он не придал этому значение, а больше заботился о листах, размокавших и впитывавших грязь. Подорвавшись с места, он на четвереньках начал судорожно хватать страницы и складывать их. Он был готов к новому толчку или удару и, более того, ждал этого, зная, что так просто его не оставят. Однако ничего не последовало. Все пораженно смотрели за паническими движениями человека, только что стоявшего в полном остолбенении. Наконец собрав всю кипу бумаг и прижав их к груди, Ванюша приподнялся и ринулся на стоящего напротив него обидчика, да так, что тот рухнул на землю под всплеск взлетевших бумаг, вырвавшихся из его рук. Он бежал со всех ног, уже не думая о возможном преследовании. Все, что он хотел, поскорее добраться до дома, донеся книгу в целости и сохранности. И ему позволили уйти. Еще не отойдя от удивления, мальчики лишь глядели вслед уносящемуся в темноту силуэту Ванюши. Вскоре он пропал совсем.
Охваченный страхом, он пробежал оставшуюся дорогу до дома, ни разу не остановившись, отчего сильно устал. Ванюше потребовалось какое-то время, чтобы отдышаться и вспомнить о плачевном облике, в котором находился томик в его руках. Набрав на домофоне номер своей квартиры, он стал кропотливо складывать страницы в корешок книги, невзирая на их нумерацию. Сейчас ему было важно как можно скорее придать ей нужный вид, а не восстановить последовательность. Раздался щелчок.
– Это я, мам, – тяжело дыша и покашливая, сказал Ванюша в домофон.
Дверь тут же открылась. Не успев войти в подъезд, Ванюша стал судорожно расстегивать на себе куртку и приподнимать теплый, вязанный мамой свитер. Пройдя первый этаж, он остановился на лестничной площадке, как мог, продул поверхность подоконника и аккуратно положил на самый его край собранную им, как пазл, книжку. Взвилось настоящее облако пыли, копившееся годами, а может, и целыми десятилетиями. Подъезд совсем не убирали, поэтому в нем царили грязь и разруха, став пристанищем для пауков и прочей подобной живности. Они замечательно уживались между дверьми смежных квартир и перил, за которые лишний раз боялись ухватиться даже престарелые жители, предпочитая терпеть боль в костях, нежели ползущих по себе насекомых. Ванюше же было некогда опасаться странствующих повсюду букашек. Он, ослабив ремень и создав достаточное пространство между спиной и поясом брюк, заправил туда книжку, пряча ее под свитером и курткой. Убедившись, что она плотно прилегает к телу, он направился к двери, за которой его уже давно ожидали.
– Извини, что так поздно, – зайдя домой и остановившись в коридоре, сказал Ванюша.
– Ничего страшного, – с улыбкой проговорила мама. – Ванюша, ты не замерз?
Заботу и нежность, с которыми она произносила его имя, Ванюша чувствовал очень тонко, и это рассеивало в нем любую суету.
– Нет, мам, на улице не так холодно.
– Ну, хорошо.
Она не отводила взгляд от сына, дожидаясь, пока он начнет раздеваться. Ванюша понимал это и слегка колебался. Он не хотел вызывать подозрений, поэтому перебирал в голове одежду, которую мог снять, не выдавая своей маленькой тайны. Медленно стянул с себя шапку, варежки и шарф под четким наблюдением мамы, а после, быстро сообразив, присел на корточки развязывать шнурки на ботинках. От резкого движения он немного пошатнулся, почувствовав, как твёрдая обложка книги, ударив по торчащим лопаткам, впилась в него и заставила выпрямиться, усложнив снятие обуви. Просидев несколько секунд в этом неудобном положении, он поднял голову на маму, улавливая ее реакцию на происходящее.
– Ты бы сначала куртку снял, – сказала она, улыбаясь его неуклюжим движениям.
– Да, мам, сейчас сниму, – серьезно ответил он, стаскивая ботинок.
– Ох, что же я здесь стою, у меня ведь там суп на плите. Ты будешь кушать? – вскочив с места и убегая на кухню, спросила мама.
– Да, конечно, – с облегчением и радостью вырвалось у Ванюши.
– Тогда скорее переодевайся и иди мыть руки, – глухо раздалось из кухни.
Воспользовавшись удобным моментом, мальчик накинулся на второй ботинок, как на дикого зверя, крепко вцепившегося в ногу, скинул его с себя и принялся наконец снимать куртку. Оставшись в свитере и брюках, он широкими шагами направился в комнату – к домашней библиотеке. Желая скорее избавиться от тяжелого груза великого писателя, Ванюша достал из-за спины книжку и небрежно поставил на первую попавшуюся полку. Почувствовав еще большее облегчение, он невозмутимо пошел в ванную.
Успешно проведя все манипуляции, Ванюша встал перед раковиной и, включив воду, обратил внимание на часы. И замер, ошеломленный их видом, стал осматривать паутинку из трещин.
– Как я мог их разбить? – прошептал и тут же смолк от испуга, что мама его услышит.
Перебрав все возможные варианты, он понял, что та самая встреча с бывшими одноклассниками могла стать причиной треснувших часов. Упав на плечо, Ванюша с размаху ударил кистью по асфальту, тем самым расколов их.
– Мама ведь так расстроится. Подарок все-таки, – с сожалением и все так же шепотом говорил Ванюша.
Очнувшись от шума включенной воды, он дрожащей рукой принялся расстегивать ремешок часов. Обычно Ванюша оставлял их в ванной на шкафчике, но теперь он искал, куда бы их подальше спрятать.
– Ванюша, я уже накладываю, – эхом пронесся голос из кухни.
Он выскочил из ванной в коридор и накинулся на свою куртку. Нащупав внутренний карман, Ванюша положил в него часы, рассчитывая заняться ими позже.
– Да, мам, уже иду, – крикнул он куда-то в неизвестность и забежал обратно.
Переодеваясь в домашние вещи, Ванюша обнаружил на колене кровавые ссадины – последствия все той же встречи. Недолго думая, он шагнул глубоко в ванну и стал обильно поливать рану водой, чтобы смыть подсохшую кровь.
«Что же делать? – думал он, смотря, как горячая струя, ударяясь об его колено, обрызгивает стенки ванны. – Где-то здесь была зеленка».
Обтерев ногу полотенцем, Ванюша неумело, на скорую руку намазал зеленку на рану. Он не хотел волновать этим маму, поэтому не стал просить ее помощи. Спрятав обработанные ссадины под штанами, Ванюша тщательно вымыл руки и лицо и направился на кухню. Не успел он выйти, как его накрыл аромат румяного, свежего хлеба и наваристого супа, стынувшего на столе. Квартира, в которой они с мамой жили, была небольшой, отчего любой запах или звук улавливался из каждого уголка. Одна общая комната, кухня, ванная – для такой маленькой семьи, как у Ванюши, этого более, чем хватало. Пусть не всегда удавалось насладиться комфортом и удобством, так как мебель нередко ломалась, обои от регулярных потопов отходили, набухали и покрывались желтыми пятнами, штукатурка на потолке осыпалась, отчего, поднимая лишний раз голову вверх, создавалось впечатление, что ты смотришь на старого далматинца, болеющего чем-то страшным и неизлечимым, но Ванюша и его мама смогли привыкнуть к такому окружению в силу невозможности что-либо изменить.
– Кушай, пока не остыло, – сказала мама, услышав, как он зашел, и не отрываясь от кухонного стола.
Ванюша уселся на табуретку вполоборота, взялся за ложку и принялся поедать суп, глубоко зачерпывая его и хватая зубами крупные куски хлеба. Вместе с теплотой, наполнявшей его желудок, он неожиданно почувствовал приятное умиротворение и, сам того не заметив, освободился от покашливаний.
– Если захочешь что-нибудь еще, ты говори, – сказала мама, дорезав салат и положив его перед сыном.
Стол был придвинут плотно к углу кухни, отчего сесть за него было возможно только с двух сторон – на одной сидел мальчик, а на другую присела мама, довольно наблюдая за тем, как он кушал.
– Ну, рассказывай, Ванюша, как погуляли? – спросила она, радостно улыбаясь.
– Хорошо, мам, – отчеканил Ванюша.
– Где гуляли?
– В парке, на площадке.
– Больше никуда не ходили? – желая получить подробности, расспрашивала она.
– Нет, мам.
– Чем занимались? – продолжала мама.
– Просто гуляли.
– Просто гуляли, – повторила мама, как бы отыскивая в его словах скрытые им детали. – Много народу, наверное, было?
– Нет, – немного задумавшись, ответил мальчик.
– Странно, обычно там не протолкнуться в такое время, – озадачилась мама. – Ну да ладно, как там дела у Леши с Петькой?
– Хорошо.
– Петька уже выздоровел? По-моему, он недавно болел.
– Да, ему намного лучше.
– А Леша все также ходит на футбол? Не забросил?
– Нет, не забросил. Все также ходит, – повторял Ванюша однозначные ответы.
– Это хорошо. Ладно, кушай, не буду отвлекать тебя. Как доешь, ложись в кровать, – так и не утолив своего любопытства, она решила оставить его, больше не беспокоя вопросами.
Не успели покашливания отступить, как Ванюша вновь ощутил их. Не придавая им значения, он спокойно доел суп и, с грохотом положив тарелку в раковину, прошел в комнату. Его взгляд случайно остановился на стоявшей перед книжными полками маме, которая оглядывала их, разыскивая необходимого автора.
– Ванюша, ты не видел Чехова? Вроде, я его где-то здесь оставляла, – задумчиво протянула она, щурясь на верхние полки.
– Вот он, – указал Ванюша, на то место, куда он в спешке положил томик.
– Странно, я его никогда не перекладывала сюда, – рассуждала она вслух. – Ты не брал его?
– Да, брал, в школу, – отчеканил Ванюша.
– Вы же еще не проходите Чехова, – с недоумением сказала мама.
– Да я так, для себя, – нашелся Ванюша.
– А, тогда ладно, это хорошо, – улыбнувшись, подытожила она. – Значит, пусть пока здесь и лежит.
Она поглубже задвинула Чехова среди других книг и пошла в ванную. Дождавшись, когда мама уйдет, Ванюша подскочил к полкам и снова вытащил оттуда полюбившегося автора, прислушался, не возвращается ли она обратно, и подбежал к своей кровати. Отбросив покрывало, он закопал в подушках несчастный томик и начал готовиться ко сну. Ванюша снял с себя одежду, повесил ее на спинку кровати, раскрыл одеяло и уже готовился залезть под него, но неожиданно его позвала мама, выходившая из ванной:
– Ванюша, сынок, ты брал зеленку? – спросила она и тотчас увидела ответ на свой вопрос.
С ужасом в глазах она смотрела на коленку Ванюши, удивленно вздыхая и подступая к ней.
– Ты как умудрился так упасть? И когда?
– С… сегодня… С качель упал… на площадке, – раздумывая, отвечал Ванюша.
– Почему сразу не сказал? Кто же так зеленкой мажет? Сиди тут, сейчас сама все обработаю, – недовольно проговорила мама, убегая из комнаты.
Ванюша огорчился. Его нервные тики учащались, а сам он стал чувствовать острую и необъяснимую вину перед мамой. Ему хотелось поскорее закончить эту процедуру, чтобы не утруждать ее волнениями, а себя – совестью.
– Дай посмотрю, – сказала она, вернувшись с зеленкой и присев рядом с ним на кровать.
Ванюша послушно положил стопу на покрывало, наблюдая, как мама скрупулезно обмакивает спичку с накрученной на нее ватой в пузырек с зеленкой.
– Говори, когда будет щипать, – серьезно сказала она, поднося к ссадинам спичечную головку, – я подую.
Однако Ванюша сидел смирно и терпел, не замечая жжения и лишь иногда нарушая покашливаниями установившееся в комнате безмолвие. Он смотрел на ее сконцентрированный взгляд и плавные движения, и ему становилось неспокойно. Мама заботливо обрабатывала колено, дуя на ранки. Он не понимал, что испытывает. Любовь наполняла его крошечное сердце, но, сталкиваясь с неведомой преградой, сразу же вытеснялась оттуда, вгоняя его в краску.
– Еще и шорты теперь в зеленке, – досадуя и не отрываясь от процедуры, говорила мама. – Ладно хоть домашние – не жалко.
Ванюша не слышал ее. Его застилала новая череда раздумий, и вместе с тем что-то норовило вырваться наружу. Что-то грузное, что так и хотелось стряхнуть с худых плеч, расправив их. Что-то жгучее, что болело в сотни раз сильнее ушибленной ноги и щипавшей раны. Что-то, освобождение от чего могло принести только большее мучение и горечь.
– Кстати, Ванюша, а где твои часы? Я их что-то не видела в шкафчике, – прервала его размышления мама, вспомнив замеченную пропажу.
Эти слова застали врасплох. Он не был готов к такому вопросу сейчас. Питая особенный трепет к этим часикам, он застыл в смятении.
– Я… Я дал их посмотреть Леше… Видимо… оставил у него. Потом… заберу, – сбиваясь от покашливаний, прошептал мальчик.
Мама, уловив дрожь в голосе Ванюши, медленно подняла на него глаза в надежде отыскать причину такого ответа. Однако, заметив дурной знак – подергивания головы, испугалась.
– С тобой все хорошо? – она озабоченно положила ладонь на его плечо.
Конечно же, Ванюша не чувствовал себя хорошо. Все, сказанное им, было ложью. Никакого Леши и Петьки не было. Формально они, конечно, существовали и даже учились с ним в одном классе очередной школы, но вряд ли подозревали, что дружат с ним. Ему приходилось врать и делать это все чаще и чаще. И это не могло не терзать его. Каждое лживое слово напоминало ему об унизительном положении, в котором он находился. Но Ванюше приходилось мириться с этим, ведь правда сказывалась намного губительней. И он давно заметил это. Всякий раз, говоря маме о притеснениях со стороны сверстников, он видел нечто, приносившее ему настоящие страдания. И видел не однажды и не единожды, а чуть ли не каждый день. Ее поникшая голова и понурое лицо крепко отпечатались в сознании Ванюши, а в памяти навсегда сохранились бессонные ночи, сопровождаемые маминым плачем на кухне. Лежа на кровати за стеной, он отчетливо слышал это и сам предавался слезам. Иногда, пытаясь совладать с собой, он брался за книгу и читал вслух, перебивая рыдания мамы. Но это не помогало, а только выработало в нем привычку лежать с книгой глубокой ночью. И как бы мама ни скрывала эмоции за красивой улыбкой или спиной сына, Ванюша все понимал. В эти минуты он корил себя за слабость, истязавшую его маму. Он был готов терпеть любые унижения, любые удары и слова и в любом количестве, только бы эти ночи не повторялись. Но так продолжалось снова и снова, и единственным выходом для Ванюши стал обман. Обман во спасение. Впредь он хранил любые неприятности втайне, справляясь с ними в одиночку. Это оказалось не так легко, как он думал, но Ванюша сумел убедить маму в том, что все наладилось, и теперь с ним обращаются как с равным себе, невзирая на нервные тики. Радостная улыбка, вернувшаяся к маме, утешала его и придавала моральные и физические силы для преодоления дальнейших трудностей. Выдать же сейчас всю правду означало снова увидеть полное мучений лицо родного человека. А этого Ванюша не смог бы вынести. Поэтому сейчас, глядя ей прямо в глаза и собравшись с духом, он тихо и насколько это было возможно, твердо сказал:
– Да, мам, все хорошо.
– Точно? – спрашивала она, побуждая Ванюшу к откровению.
Ничего не ответив, он кинулся маме на шею, испугав ее резким и неожиданным движением. Ванюша крепко обнял ее, отвернув лицо и спрятав глаза, чтобы сдержать нахлынувшие на него слезы.
– Что такое? Ванюша? – приобнимая сына, в замешательстве спрашивала мама.
Ванюша чувствовал, как любовь вновь наполняла его крошечное сердце. Уже сейчас он понимал, какая ответственность лежит на нем и как много можно сделать для дорогого тебе человека. Прикусывая губы, Ванюша старался найти подходящий ответ, способный успокоить маму.
– Я люблю тебя, – с тихой радостью прошептал он.
Пытаясь логически связать действия сына, она было хотела продолжить задавать вопросы, но потом лишь сильнее прижала мальчика к себе. Она поняла, что никакие ответы на её бесконечные вопросы ей теперь не требовались, ведь самый главный она уже получила.
– Мой хороший, я тоже тебя люблю. Очень люблю, – и тревога в ее голосе сменилась радостью.
Был уже поздний час, поэтому она скоро уложила Ванюшу в кровать, поцеловала его в лоб, пожелав спокойной ночи, разложила диван и легла на него, медленно засыпая. Преисполненный нежности, он был готов пожертвовать своим удобством и поменяться с ней спальными местами. Ванюша часто просил маму об этом, но она всегда отказывала, заботясь о нем и его здоровом сне. Но вдруг мальчик вспомнил, что под его подушками, притаившись, лежал запрятанный им томик Чехова, отчего эта идея быстро покинула его. Достав из-под кровати фонарик, хранившийся там для позднего чтения, он залил книгу ярким светом и ужаснулся от ее вида. Поперек обложки бугорком выступала огромная трещина, а страницы стали волнистыми от влаги, попавшей на них. Оглядев со скорбью следы катастрофы, Ванюша принялся искать рассказ, который не дочитал в парке. Сначала он медленно перелистывал страницы, но не обнаружив на месте недостающие главы, начал стремительно перебирать пальцем листы, пока не осознал, что потерял их по дороге.
«Неужели я так и не узнаю, что случилось с этой бедной собачкой!» – с грустью подумал Ванюша, положив книгу на живот и выключив фонарь. Но потом он увидел в бледном луче луны, проникнувшем в комнату через щель в занавесках, улыбающееся сквозь сон лицо мамы. Это заставило его позабыть о всех напастях, с которыми пришлось столкнуться сегодня.
Вернув книжку на полку, мальчик на цыпочках подкрался к спящей маме и тихонько коснулся губами ее лба, боясь разбудить ее.
– Спокойный ночи, мама, – пожелал ей Ванюша и счастливый лег спать, не думая о завтрашнем дне.

Екатерина ЗГУРСКАЯ, Ольга ГОТАЛЬСКАЯ
Екатерина Згурская (Мытищи, Россия) – писатель, переводчик, волонтер культуры. Автор трех сборников сказок – «Шесть историй про дрозда и волка», «Сказки из воронова крыла», «Суудер-эдзен – владыка теней». Публиковалась в альманахах «Новое слово» №8 и «Битва» №1 (команда фэнтези).
Ольга Готальская (Минск, Беларусь) – писатель, призер литературного конкурса фестиваля UNICON-2021 (приз зрительских симпатий) и творческого конкурса «Темные материи» – 2023 (1 место в конкурсе сказок). Предыдущая совместная работа творческого тандема, сказка «Джемма Гнилые Зубы», заняла II место на литературном конкурсе фестиваля UNICON-2021.
Екатерина Згурская (Мытищи, Россия) – писатель, переводчик, волонтер культуры. Автор трех сборников сказок – «Шесть историй про дрозда и волка», «Сказки из воронова крыла», «Суудер-эдзен – владыка теней». Публиковалась в альманахах «Новое слово» №8 и «Битва» №1 (команда фэнтези).
Ольга Готальская (Минск, Беларусь) – писатель, призер литературного конкурса фестиваля UNICON-2021 (приз зрительских симпатий) и творческого конкурса «Темные материи» – 2023 (1 место в конкурсе сказок). Предыдущая совместная работа творческого тандема, сказка «Джемма Гнилые Зубы», заняла II место на литературном конкурсе фестиваля UNICON-2021.
БАБУШКА МОРЕ
Яхта отчалила от берега точно в восемь-ноль-ноль. Пристань, еще полчаса назад многолюдная, постепенно пустела — уходили в море последние рыбацкие лодки, выходили в очередной рейд катера береговой охраны, скользили по волнам туристические яхты, развозящие по Большому Барьерному Рифу туристов-дайверов.
Группа Марка и Джин отчалила от пирса третьей — белая яхта с яркой красной полосой, развернувшись по широкой дуге, отправилась прочь из залива навстречу солнцу и ветру. На борту, не считая пятерых членов экипажа, собралось полторы дюжины дайверов из самых разных стран. Для кого-то сегодняшняя поездка была первым большим приключением, для кого-то – вторым, а для кого-то, как для Марка и Джин, — уже «очередным». Они и познакомились-то в дайверской школе, встретились раз, другой, третий и, как в дурацких любовных романах, больше не расставались. И в Австралию тоже прибыли вместе — это был их третий визит. В очередной раз — на очередную годовщину свадьбы. И они планировали прилетать сюда снова и снова – на каждую последующую, до самой старости. «Пока будет позволять радикулит», – со смехом добавляла Джин.
Когда город окончательно скрылся из виду, Марк, прищурившись, оглянулся на жену.
— Помнишь, что нам говорили в отеле?
Джин рассмеялась. Еще бы она забыла! За это утро им десять раз напомнили о том, что надо сделать — и горничные, и портье, и даже таксист, который довез их до пристани.
— Что, хочешь все-таки уважить местные традиции?
— А почему бы и нет? Только не говори мне, что тебе жалко пары монеток! — весело откликнулась Джин. Марк скроил обиженное лицо и театрально фыркнул: кем-кем, а скрягой он никогда не был. Пошарив по карманам, он вытащил несколько монет, завалявшихся там еще со дня прилета — пришлось скормить вендинговому аппарату крупную купюру, и тот долго плевался сдачей. Монеток оказалось восемь, и Марк разделил их поровну: четыре себе и четыре — Джин. Затем вышел на палубу и, щурясь от яркого солнца, посмотрел на волны.
А потом размахнулся и забросил свои монеты в воду. Следом за ним швырнула монетки и Джин.
— Бабушка море, — радостно закричала она, не обращая внимания на недоуменные взгляды других дайверов, — присмотри за нами, пока мы гуляем по дну!
— Позаботься о нас, бабушка море! — со смехом подхватил Марк. Их примеру последовал еще один дайвер — молодой парень-итальянец. Ни Марк, ни Джин его толком не знали, лишь пару разу видели перед отплытием — он остановился в той же гостинице. Бросив монетки, дайвер крикнул что-то на родном языке, а потом повернулся и что-то добавил с улыбкой. Марк итальянским не владел, Джин — тоже, но оба про себя решили, что раз он сделал то же самое, значит, осуждать их поступок не может по определению. Так что даже если он и пошутил, то обижаться не стоило. Поэтому супруги просто улыбнулись в ответ.
Больше никто подношений морю не делал — остальные лишь недоуменно оглянулись на крик и продолжили проверять снаряжение. Разве что еще двое англичан, немолодая супружеская пара, неодобрительно нахмурились — но англичане всегда относились к туземным обрядам с нескрываемым презрением, а конкретно эта парочка и вовсе отличалась угрюмостью. Возможно, причиной тому был хмурый британский климат — когда живешь под постоянным дождем, неминуемо превращаешься либо в снулую рыбу, либо в холодную жабу.
— Интересно, — негромко шепнул Марк жене, — а если две заколдованных жабы поцелуются, они во что-то превратятся или замкнутся в бесконечном цикле?
Посмеявшись, супруги принялись перепроверять снаряжение. «Проверил семь раз — проверь в восьмой. Проверил восемь — в девятый. «Разов» никогда не бывает много», — эту истину в дайверской школе вбивали накрепко.
Так что даже самое надежное оборудование проверялось и перепроверялось перед каждым погружением. Не хотелось бы повторения многочисленных жутковатых историй про то, как ребризеры отказывали на самой глубине, шланги рвались, а кислород, неверно рассчитанный, заканчивался. Марк, впрочем, любил пощекотать нервы себе и супруге и все время проверки вполголоса делился с Джин всеми байками, что только смог вспомнить и выдумать. Джин только пофыркивала: она прекрасно знала об этой особенности мужа и давно к ней привыкла. Сейчас, чтобы напугать её, нужно было что-то посерьезнее побасенок Марка.
Погружение, как и всегда, прошло без проблем: дайверы один за другим уходили под воду, чтобы насладиться красотой, скрытой от глаз обывателей. Марк и Джин старались держаться рядом и не упускать из виду остальных членов группы, однако разноцветье кораллов и причудливые танцы экзотических рыб, напоминающие о латиноамериканских карнавалах, увлекали и отвлекали настолько, что супруги едва не забыли обо всем на свете.
Едва — потому что некоторые привычки за годы дайверской практики превращались в безусловные рефлексы. Поэтому даже на причудливом подводном балу, гостями которого стала группа, Марк не забывал проверять уровень кислорода в баллонах. И в какой-то момент, коснувшись плеча жены, показал условный жест — «всплываем». Джин повторила движение, подтверждая, что поняла.
И лишь когда они поднялись на поверхность, стащили маски и выпустили изо рта трубки, стало ясно, что, увлекшись танцами рыб, они все-таки упустили одну важную деталь. Вокруг простирался только бесконечный, безбрежный океан — голубые волны под голубым небом. Ни птицы, ни облачка... ни яхты.
— А где… — Марк недоуменно оглядывался, еще ничего не понимая. — Вот же…
— Они что, уплыли без нас? — недоверчиво спросила Джин.
— Ну, яхты же нет, — отозвался Марк, еще не до конца поверивший в эту нелепость. — Значит, уплыли... А нас оставили...
— Но они же вернутся, да? — Джин недоуменно оглянулась на мужа. — Они же не могут не заметить, что нас нет!..
Марк молчал.
— Они же вернутся?.. — не отставала Джин.
— Такое уже было, — откликнулся Марк после паузы так тихо, что Джин едва расслышала его голос за плеском волн. — Давно, правда. В девяносто восьмом. Том и Айлин Лонерганы точно так же отправились на дайвинг, и их забыли на рифах.
— Их же нашли, да? — жалобно спросила Джин. — Их нашли?..
Марк ответил не сразу. Очень уж страшным был ответ.
— Нет.
Джин всхлипнула.
— Это же нелепость какая-то… двадцать первый век! Капитан выглядел таким серьезным, таким ответственным… таким внимательным… как он мог не заметить, что нас нет?
Марк привлек её к себе, прижался лбом к её лбу.
— Тише. Не плачь. Только не плачь, не трать воду. И не бойся. Помнишь, чему нас учили? Главное — не бояться и не паниковать. Так что не бойся и не паникуй, любовь моя, я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю.
Знать бы только, что тут можно придумать.
— Они наверняка спохватятся, да? — Джин явно старалась успокоиться, как могла. — Ну, конечно же, они спохватятся. Дойдут до порта, кто-нибудь поймет, что нас нет, и они за нами вернутся. Вот и все. Да? И мы вернемся…
— Конечно, — согласился Марк. — Обязательно заметят. Знаешь, тут вообще много кого забывали, и все обычно возвращались, вот даже в восьмом году было, и ничего, их нашли…
— А Лонерганов — нет, ты сам сказал.
Зря сказал, подумал Марк. Лучше бы сразу про ту парочку из восьмого года вспомнил.
— С тех пор прошла целая уйма лет, все стало гораздо лучше. За нами обязательно вернутся. В самом крайнем случае завтра сюда обязательно приплывут другие дайверы и нас подберут. Просто дождаться надо, и все.
В конце концов, что еще можно было делать посреди океана? Болтаться на месте и ждать.
Время тянулось невероятно медленно. Солнце начинало кусать мокрые щеки и гладить раскаленными руками по плечам даже через гидрокостюм. Можно было бы спрятаться от него под водой, но для этого требовался кислород, а кислорода в баллонах почти не осталось. Так что делать было нечего, деваться — некуда, так что Марк и Джин пытались придумать хоть что-нибудь. Вспоминали прошлые поездки. Играли в города. Обсуждали просмотренный вчера вечером фильм. Что угодно, лишь бы не молчать и не сходить с ума от страха.
Потому что стоило обоим замолчать, как на ум приходили Лонерганы. Как назойливая песенка, которая начинает вертеться в голове в самый неподходящий момент. Как дурацкая сцена из детского мультика, которая приходит на ум не вовремя.
Марк отчего-то вспомнил, как однажды в ресторане со своей первой девчонкой, потратив все карманные деньги, не смог съесть заказанное блюдо, вспомнив какой-то дурацкий эпизод с этим блюдом из мельком виденного сериала.
Сейчас ситуация напоминала то же самое до идиотизма. Романтический момент, девчонка рядом, потрачены все деньги и лезущие в голову идиотские мысли. Вот только там у них причины не было. А здесь — была.
«Семейная пара пропала…»
«Поиски идут третий день…»
«Вертолет, поднятый на поиски…»
Заголовки из интернета всплывали перед глазами сами. И тексты сами приходили на ум — Марк даже подивился собственной хорошей памяти.
«…был обнаружен порванный гидрокостюм, однако экспертиза показала, что…»
— Марк, у меня ноги замерзли, — жалобный голос, хриплый, испуганный, принадлежал Джин.
— Работай ими. Нельзя давать крови застаиваться.
— Я не могу, они меня не слушаются.
— Работай!
— Не могу! — Джин сорвалась на крик. — Не могу, понимаешь?! Я их не чувствую! Марк! Я не чувствую ног!
В голову пришла дурацкая мысль, что их съели рыбы. Марк мотнул головой. Какие рыбы, откуда? Как они могли съесть ласты? Да как они могли съесть хоть что-нибудь, чтобы Джин не почувствовала? Это просто истерика. Истерика и дурацкие страхи. Такие же, как у Джин. И если Марк сейчас запаникует следом, то им обоим крышка.
— Ты просто замерзла, просто замерзла, — забормотал он как можно спокойнее, — давай потанцуем? Помнишь, как тогда, мы пошли в парк, пошел дождь, мы замерзли и стали петь и танцевать, чтобы согреться, давай греться, давай петь… «Вот живет старый пёс, у него красный нос, потому что однажды на кухне он понюхал горящие угли…» — затянул Марк, отчаянно фальшивя, и, перехватив Джин за руки, попытался ее покружить.
— Ты спятил?! — воскликнула она, почти срываясь на визг. — Заткнись! Заткнись! Или я тебе врежу!..
— Чем? Я тебя за руки держу, а ног у тебя нету… Ай! — Марк охнул, схлопотав чувствительный пинок. — Что это было?
— Это я тебя пнула! — огрызнулась Джин.
— Ну вот, видишь! — улыбнулся Марк. — Значит, ноги у тебя есть, и они отлично работают!
— И правда… — Джин озадаченно умолкла, а потом рассмеялась и почти сразу же расплакалась. Однако смех и слезы помогли сбросить напряжение, и Джин быстро успокоилась.
Разговор увял. Некоторое время Марк с женой молча качались на волнах, глядя в небо.
— Пить хочется, — сообщила Джин.
Марк кивнул, облизнув сухие губы. У него и самого основательно пересохло во рту и подвело желудок. Все-таки плавание отнимало достаточное количество сил.
— Дурацкая будет смерть, да? — продолжила Джин. — Умереть от обезвоживания посреди океана.
— В самом деле, — откликнулся Марк, стараясь заткнуть мерный, монотонный голос, звучащий в его голове.
«…потеряли рассудок из-за жаркого тропического солнца и обезвоживания, в результате чего…»
Лонерганы, шли бы куда подальше, не до вас сейчас.
— Марк, а что стало с тем капитаном, который Лонерганов забыл? — спросила Джин, словно услышав его мысли. Он уже открыл было рот, чтобы рявкнуть на жену как следует, чтобы не поминала всуе этих людей, но передумал. В конце концов, Марк сам ее накрутил перед выходом из порта.
— Ничего ему не было. Выдрали из их дневников строчки, перекрутили все так, будто они сами захотели умереть, и то ли оба утопились, то ли один другого убил и утопился… Ты в соцсетях не писала ничего такого? — спохватившись, поинтересовался Марк.
— Нет… вроде бы. А ты?
— Тоже.
— Нет, погоди… — Джин ухватилась за него рукой, и Марку показалось, что на нем повис груз в центнер весом. — Постой… Постой, я написала! Помнишь селфи из аэропорта? Я написала, что мы улетаем, и что я «умираю, как хочу поскорее увидеть океан»? Как ты думаешь, Марк, это считается? Это считается?
— Нет, ты же не сказала, что хочешь умереть, его увидев…
— А вдруг они перекрутят?.. И тогда нас никто не будет искать… — голос Джин предательски дрогнул — похоже, ее истерика не прошла, а лишь ненадолго затаилась, тоже экономя силы для подходящего момента.
— Нас обязательно будут искать, — твердо сказал Марк; больше, чтобы приободрить самого себя. — Надо просто подождать.
И они ждали. Больше ничего и не оставалось.
Ждать, болтать ногами, чтобы не мерзнуть, и болтать о чем-нибудь. Болтать было не о чем, стоило поэкономить силы, но молчать было еще страшнее. Марк перебрал в памяти подходящие темы, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь смешное, чтобы отвлечься, успокоиться…
— А помнишь, как на нашей свадьбе… — начал он и осекся.
Сегодня у них годовщина. Несколько лет назад они поклялись друг другу быть вместе, «пока смерть не разлучит их».
Лонерганы тоже были супружеской парой. Эта мысль мелькнула у Марка и Джин одновременно — но никто не решился напомнить об этом вслух.
…Джин заметила косые спинные плавники первой. Испуганно вскрикнув, она дернулась в сторону, но Марк, отследив, куда смотрит супруга, сгреб ее в охапку, прижимая к себе.
— Нет, нет, нет, — бормотал он. — Не отплывай, не надо, тогда акулы могут подумать, что ты тюлень. Я здесь, я с тобой, все хорошо. Они нас сами боятся. Они же не знают, что мы такое. Мы с тобой поплавок. Просто поплавок. Они даже не поймут, что мы еда. Помнишь инструкцию? Висеть вертикально, бить по носу. Они не будут нас есть…
Джин никакой инструкции не помнила, но вырваться не пыталась. Она отчаянно старалась не паниковать — так же, как старается не смотреть вниз любой, кто идет через пропасть по хлипкому подвесному мосту.
— Господи, мне так страшно, — всхлипывала она. — Мне так страшно, Марк, я не хочу так умирать, не хочу…
— Ну так и не умирай, — пророкотали сбоку.
Марк рефлекторно обернулся на голос — и онемел.
Плавники принадлежали совсем не акулам.
Метрах в пяти от супругов обнаружилась крупная, широкоплечая женщина, вынырнувшая из воды по пояс. Круглое лицо с широким носом и пухлыми губами выглядело совсем человеческим, если бы не глаза — черные, без единого белого пятнышка. Смуглую кожу покрывали затейливые татуировки — кажется, Марк видел такие у полинезийцев. Только вот эта женщина спокойно могла бы, наверное, посадить его с Джин себе на плечо, как маленьких детей, причем сразу обоих. Потом женщина нырнула, оплыла вокруг супругов, и Марк понял, что жара и обезвоживание все-таки сделали свое дело. Потому что по воде шлепнул широкий, черно-белый хвостовой плавник — как у косатки. И принадлежал он все той же женщине. Джин, судя по её лицу, тоже все видела. И от этого стало еще страшнее. Наверное, если бы сейчас из-под воды показались Лонерганы, Марк бы уже не удивился. Пожалуй, даже обрадовался. Потому что поверить в Лонерганов было проще, чем в то, что сейчас видели его глаза.
Следом за первой женщиной показались еще две, такие же огромные — кружили вокруг, гортанно перекликались-перепевались, словно настоящие косатки, и, кажется, не хотели вредить перепуганным до полусмерти дайверам.
— Что это… — дыхание перехватило, и Марк умолк, покрепче прижимая к себе Джин.
— Глупые люди, — пророкотала одна из женщин; впрочем, супруги могли бы поклясться, что рокот этот был более чем добродушным. — Забыли, о чем просили еще с утра. Бабушка море вас услышала, глупые.
Марк услышал, как Джин сглотнула.
А может, и он сам. Он уже ни в чем не был уверен.
— Мы же… шутили, — почему-то шепотом сказал он. — Ш-шутка… понимаете? Просто шутка! Мы же не…
— Вы заплатили, — перебила его женщина. Загребла воду мощным хвостом, одним движением оказываясь рядом и протягивая руку. На её широкой ладони лежали монеты. Восемь штук. Четыре от Марка и четыре от Джин.
— И мы вам поможем.
Одна из косаток нырнула, взметнув фонтан брызг. Марк затряс головой, отфыркиваясь, а потом ног что-то коснулось, и он машинально дернулся, пытаясь ускользнуть, оттолкнуть Джин от опасности, бежать…
— Не улепетывай, глупый, — пробасила женщина. — Тока поможет. Нгару плыла за вашей лодкой. Следила, когда те дохляки поймут, что ошиблись. Такое бывало. Находят недостачу, возвращаются. Но эти не заметили. И Нгару вернулась к нам с вестями. И мы пришли. Помочь.
Ног снова что-то коснулось. Джин, всхлипнув, крепче сжала руку Марка, но уплыть не могла, а бросить ее не мог Марк.
А потом они оказались почти что лежащими на широкой, плотной черно-белой спине, и ровно перед ними маячил косой плавник.
— Держитесь крепче, глупые люди. Тока плавает быстро, — почти добродушно посоветовала женщина-косатка, прежде чем снова скрыться под водой.
Марк поспешно ухватился за основание плавника одной рукой, второй заставил взяться за него Джин, крепко удерживая её за страховочный пояс. Их уже потеряли сегодня один раз, не стоит теряться еще раз.
Загадочная Тока и правда плавала очень быстро. Под плотной кожей ощутимо шевелились мышцы, и вода била так, что удержаться получалось с большим трудом.
— Это все невозможно, — бормотала рядом Джин. — Невозможно, не бывает так, русалок вообще не существует… не должно существовать!
Марк оглянулся, удивленный тем, как у нее получается говорить — вода летела в лицо одним сплошным потоком — и обнаружил, что жена пряталась за тем же основанием плавника, за которое держалась, свободной рукой закрывая лицо. Конечно, так было удобнее, но Марк не рискнул поменять хватку: не хотелось слететь и остаться посреди океана — раз уж тут водятся вполне реальные русалки, то может встретиться и кто-нибудь еще, уже не такой дружелюбный. А потом вдали закричали чайки.
Тока плыла все медленнее, потом и вовсе остановилась и легко ушла под воду, оставив людей на поверхности. До берега было уже совсем близко: отсюда они могли бы доплыть и сами, без всякой помощи, тем более, что отсюда их уже могут заметить, а значит, кто-нибудь наверняка подберет их — или рыбаки, или спасатели. Джин плакала, глядя на берег. Ветер доносил человеческие голоса — слов было не разобрать, но это уже совершенно точно были человеческие голоса, а не крики чаек или… кого-нибудь еще.
— Отсюда доберетесь сами, — Тока, могучая косатка, вынырнула рядом, такая же смуглая, покрытая вязью татуировок. — Он еще здесь, тот дохляк, забывший вас. Передайте ему — бабушка море недовольна им. Он знает. Он поймет. Они все знают.
Джин порывисто бросилась к женщине на шею.
— Спасибо, — всхлипнула она, — спасибо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
Женщина положила ей на спину тяжелую, широкую ладонь. Акваланг скрылся за ней полностью.
— Глупые люди, — с удивительной нежностью сказала она. — Бабушка море присматривает за вами. Бабушка море всегда присматривает за теми, кто её чтит. Она всегда помнит о тех, кого спасла.
Не сразу отстранившись, Джин поймала Марка за руку под водой и крепко сжала. Тот, сглотнув, поднял свободную руку, помахав русалке рукой.
— Спасибо, — повторил он. — Мы… скажем ему.
Отвернувшись, Марк медленно погреб в сторону пристани. Джин плыла рядом, сжимая его руку.
У самого причала они оглянулись — но увидели только волны, голубые волны под голубым небом. Ни облачка, ни чаек, ни женщин, ни даже косых спинных плавников.
Яхта отчалила от берега точно в восемь-ноль-ноль. Пристань, еще полчаса назад многолюдная, постепенно пустела — уходили в море последние рыбацкие лодки, выходили в очередной рейд катера береговой охраны, скользили по волнам туристические яхты, развозящие по Большому Барьерному Рифу туристов-дайверов.
Группа Марка и Джин отчалила от пирса третьей — белая яхта с яркой красной полосой, развернувшись по широкой дуге, отправилась прочь из залива навстречу солнцу и ветру. На борту, не считая пятерых членов экипажа, собралось полторы дюжины дайверов из самых разных стран. Для кого-то сегодняшняя поездка была первым большим приключением, для кого-то – вторым, а для кого-то, как для Марка и Джин, — уже «очередным». Они и познакомились-то в дайверской школе, встретились раз, другой, третий и, как в дурацких любовных романах, больше не расставались. И в Австралию тоже прибыли вместе — это был их третий визит. В очередной раз — на очередную годовщину свадьбы. И они планировали прилетать сюда снова и снова – на каждую последующую, до самой старости. «Пока будет позволять радикулит», – со смехом добавляла Джин.
Когда город окончательно скрылся из виду, Марк, прищурившись, оглянулся на жену.
— Помнишь, что нам говорили в отеле?
Джин рассмеялась. Еще бы она забыла! За это утро им десять раз напомнили о том, что надо сделать — и горничные, и портье, и даже таксист, который довез их до пристани.
— Что, хочешь все-таки уважить местные традиции?
— А почему бы и нет? Только не говори мне, что тебе жалко пары монеток! — весело откликнулась Джин. Марк скроил обиженное лицо и театрально фыркнул: кем-кем, а скрягой он никогда не был. Пошарив по карманам, он вытащил несколько монет, завалявшихся там еще со дня прилета — пришлось скормить вендинговому аппарату крупную купюру, и тот долго плевался сдачей. Монеток оказалось восемь, и Марк разделил их поровну: четыре себе и четыре — Джин. Затем вышел на палубу и, щурясь от яркого солнца, посмотрел на волны.
А потом размахнулся и забросил свои монеты в воду. Следом за ним швырнула монетки и Джин.
— Бабушка море, — радостно закричала она, не обращая внимания на недоуменные взгляды других дайверов, — присмотри за нами, пока мы гуляем по дну!
— Позаботься о нас, бабушка море! — со смехом подхватил Марк. Их примеру последовал еще один дайвер — молодой парень-итальянец. Ни Марк, ни Джин его толком не знали, лишь пару разу видели перед отплытием — он остановился в той же гостинице. Бросив монетки, дайвер крикнул что-то на родном языке, а потом повернулся и что-то добавил с улыбкой. Марк итальянским не владел, Джин — тоже, но оба про себя решили, что раз он сделал то же самое, значит, осуждать их поступок не может по определению. Так что даже если он и пошутил, то обижаться не стоило. Поэтому супруги просто улыбнулись в ответ.
Больше никто подношений морю не делал — остальные лишь недоуменно оглянулись на крик и продолжили проверять снаряжение. Разве что еще двое англичан, немолодая супружеская пара, неодобрительно нахмурились — но англичане всегда относились к туземным обрядам с нескрываемым презрением, а конкретно эта парочка и вовсе отличалась угрюмостью. Возможно, причиной тому был хмурый британский климат — когда живешь под постоянным дождем, неминуемо превращаешься либо в снулую рыбу, либо в холодную жабу.
— Интересно, — негромко шепнул Марк жене, — а если две заколдованных жабы поцелуются, они во что-то превратятся или замкнутся в бесконечном цикле?
Посмеявшись, супруги принялись перепроверять снаряжение. «Проверил семь раз — проверь в восьмой. Проверил восемь — в девятый. «Разов» никогда не бывает много», — эту истину в дайверской школе вбивали накрепко.
Так что даже самое надежное оборудование проверялось и перепроверялось перед каждым погружением. Не хотелось бы повторения многочисленных жутковатых историй про то, как ребризеры отказывали на самой глубине, шланги рвались, а кислород, неверно рассчитанный, заканчивался. Марк, впрочем, любил пощекотать нервы себе и супруге и все время проверки вполголоса делился с Джин всеми байками, что только смог вспомнить и выдумать. Джин только пофыркивала: она прекрасно знала об этой особенности мужа и давно к ней привыкла. Сейчас, чтобы напугать её, нужно было что-то посерьезнее побасенок Марка.
Погружение, как и всегда, прошло без проблем: дайверы один за другим уходили под воду, чтобы насладиться красотой, скрытой от глаз обывателей. Марк и Джин старались держаться рядом и не упускать из виду остальных членов группы, однако разноцветье кораллов и причудливые танцы экзотических рыб, напоминающие о латиноамериканских карнавалах, увлекали и отвлекали настолько, что супруги едва не забыли обо всем на свете.
Едва — потому что некоторые привычки за годы дайверской практики превращались в безусловные рефлексы. Поэтому даже на причудливом подводном балу, гостями которого стала группа, Марк не забывал проверять уровень кислорода в баллонах. И в какой-то момент, коснувшись плеча жены, показал условный жест — «всплываем». Джин повторила движение, подтверждая, что поняла.
И лишь когда они поднялись на поверхность, стащили маски и выпустили изо рта трубки, стало ясно, что, увлекшись танцами рыб, они все-таки упустили одну важную деталь. Вокруг простирался только бесконечный, безбрежный океан — голубые волны под голубым небом. Ни птицы, ни облачка... ни яхты.
— А где… — Марк недоуменно оглядывался, еще ничего не понимая. — Вот же…
— Они что, уплыли без нас? — недоверчиво спросила Джин.
— Ну, яхты же нет, — отозвался Марк, еще не до конца поверивший в эту нелепость. — Значит, уплыли... А нас оставили...
— Но они же вернутся, да? — Джин недоуменно оглянулась на мужа. — Они же не могут не заметить, что нас нет!..
Марк молчал.
— Они же вернутся?.. — не отставала Джин.
— Такое уже было, — откликнулся Марк после паузы так тихо, что Джин едва расслышала его голос за плеском волн. — Давно, правда. В девяносто восьмом. Том и Айлин Лонерганы точно так же отправились на дайвинг, и их забыли на рифах.
— Их же нашли, да? — жалобно спросила Джин. — Их нашли?..
Марк ответил не сразу. Очень уж страшным был ответ.
— Нет.
Джин всхлипнула.
— Это же нелепость какая-то… двадцать первый век! Капитан выглядел таким серьезным, таким ответственным… таким внимательным… как он мог не заметить, что нас нет?
Марк привлек её к себе, прижался лбом к её лбу.
— Тише. Не плачь. Только не плачь, не трать воду. И не бойся. Помнишь, чему нас учили? Главное — не бояться и не паниковать. Так что не бойся и не паникуй, любовь моя, я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю.
Знать бы только, что тут можно придумать.
— Они наверняка спохватятся, да? — Джин явно старалась успокоиться, как могла. — Ну, конечно же, они спохватятся. Дойдут до порта, кто-нибудь поймет, что нас нет, и они за нами вернутся. Вот и все. Да? И мы вернемся…
— Конечно, — согласился Марк. — Обязательно заметят. Знаешь, тут вообще много кого забывали, и все обычно возвращались, вот даже в восьмом году было, и ничего, их нашли…
— А Лонерганов — нет, ты сам сказал.
Зря сказал, подумал Марк. Лучше бы сразу про ту парочку из восьмого года вспомнил.
— С тех пор прошла целая уйма лет, все стало гораздо лучше. За нами обязательно вернутся. В самом крайнем случае завтра сюда обязательно приплывут другие дайверы и нас подберут. Просто дождаться надо, и все.
В конце концов, что еще можно было делать посреди океана? Болтаться на месте и ждать.
Время тянулось невероятно медленно. Солнце начинало кусать мокрые щеки и гладить раскаленными руками по плечам даже через гидрокостюм. Можно было бы спрятаться от него под водой, но для этого требовался кислород, а кислорода в баллонах почти не осталось. Так что делать было нечего, деваться — некуда, так что Марк и Джин пытались придумать хоть что-нибудь. Вспоминали прошлые поездки. Играли в города. Обсуждали просмотренный вчера вечером фильм. Что угодно, лишь бы не молчать и не сходить с ума от страха.
Потому что стоило обоим замолчать, как на ум приходили Лонерганы. Как назойливая песенка, которая начинает вертеться в голове в самый неподходящий момент. Как дурацкая сцена из детского мультика, которая приходит на ум не вовремя.
Марк отчего-то вспомнил, как однажды в ресторане со своей первой девчонкой, потратив все карманные деньги, не смог съесть заказанное блюдо, вспомнив какой-то дурацкий эпизод с этим блюдом из мельком виденного сериала.
Сейчас ситуация напоминала то же самое до идиотизма. Романтический момент, девчонка рядом, потрачены все деньги и лезущие в голову идиотские мысли. Вот только там у них причины не было. А здесь — была.
«Семейная пара пропала…»
«Поиски идут третий день…»
«Вертолет, поднятый на поиски…»
Заголовки из интернета всплывали перед глазами сами. И тексты сами приходили на ум — Марк даже подивился собственной хорошей памяти.
«…был обнаружен порванный гидрокостюм, однако экспертиза показала, что…»
— Марк, у меня ноги замерзли, — жалобный голос, хриплый, испуганный, принадлежал Джин.
— Работай ими. Нельзя давать крови застаиваться.
— Я не могу, они меня не слушаются.
— Работай!
— Не могу! — Джин сорвалась на крик. — Не могу, понимаешь?! Я их не чувствую! Марк! Я не чувствую ног!
В голову пришла дурацкая мысль, что их съели рыбы. Марк мотнул головой. Какие рыбы, откуда? Как они могли съесть ласты? Да как они могли съесть хоть что-нибудь, чтобы Джин не почувствовала? Это просто истерика. Истерика и дурацкие страхи. Такие же, как у Джин. И если Марк сейчас запаникует следом, то им обоим крышка.
— Ты просто замерзла, просто замерзла, — забормотал он как можно спокойнее, — давай потанцуем? Помнишь, как тогда, мы пошли в парк, пошел дождь, мы замерзли и стали петь и танцевать, чтобы согреться, давай греться, давай петь… «Вот живет старый пёс, у него красный нос, потому что однажды на кухне он понюхал горящие угли…» — затянул Марк, отчаянно фальшивя, и, перехватив Джин за руки, попытался ее покружить.
— Ты спятил?! — воскликнула она, почти срываясь на визг. — Заткнись! Заткнись! Или я тебе врежу!..
— Чем? Я тебя за руки держу, а ног у тебя нету… Ай! — Марк охнул, схлопотав чувствительный пинок. — Что это было?
— Это я тебя пнула! — огрызнулась Джин.
— Ну вот, видишь! — улыбнулся Марк. — Значит, ноги у тебя есть, и они отлично работают!
— И правда… — Джин озадаченно умолкла, а потом рассмеялась и почти сразу же расплакалась. Однако смех и слезы помогли сбросить напряжение, и Джин быстро успокоилась.
Разговор увял. Некоторое время Марк с женой молча качались на волнах, глядя в небо.
— Пить хочется, — сообщила Джин.
Марк кивнул, облизнув сухие губы. У него и самого основательно пересохло во рту и подвело желудок. Все-таки плавание отнимало достаточное количество сил.
— Дурацкая будет смерть, да? — продолжила Джин. — Умереть от обезвоживания посреди океана.
— В самом деле, — откликнулся Марк, стараясь заткнуть мерный, монотонный голос, звучащий в его голове.
«…потеряли рассудок из-за жаркого тропического солнца и обезвоживания, в результате чего…»
Лонерганы, шли бы куда подальше, не до вас сейчас.
— Марк, а что стало с тем капитаном, который Лонерганов забыл? — спросила Джин, словно услышав его мысли. Он уже открыл было рот, чтобы рявкнуть на жену как следует, чтобы не поминала всуе этих людей, но передумал. В конце концов, Марк сам ее накрутил перед выходом из порта.
— Ничего ему не было. Выдрали из их дневников строчки, перекрутили все так, будто они сами захотели умереть, и то ли оба утопились, то ли один другого убил и утопился… Ты в соцсетях не писала ничего такого? — спохватившись, поинтересовался Марк.
— Нет… вроде бы. А ты?
— Тоже.
— Нет, погоди… — Джин ухватилась за него рукой, и Марку показалось, что на нем повис груз в центнер весом. — Постой… Постой, я написала! Помнишь селфи из аэропорта? Я написала, что мы улетаем, и что я «умираю, как хочу поскорее увидеть океан»? Как ты думаешь, Марк, это считается? Это считается?
— Нет, ты же не сказала, что хочешь умереть, его увидев…
— А вдруг они перекрутят?.. И тогда нас никто не будет искать… — голос Джин предательски дрогнул — похоже, ее истерика не прошла, а лишь ненадолго затаилась, тоже экономя силы для подходящего момента.
— Нас обязательно будут искать, — твердо сказал Марк; больше, чтобы приободрить самого себя. — Надо просто подождать.
И они ждали. Больше ничего и не оставалось.
Ждать, болтать ногами, чтобы не мерзнуть, и болтать о чем-нибудь. Болтать было не о чем, стоило поэкономить силы, но молчать было еще страшнее. Марк перебрал в памяти подходящие темы, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь смешное, чтобы отвлечься, успокоиться…
— А помнишь, как на нашей свадьбе… — начал он и осекся.
Сегодня у них годовщина. Несколько лет назад они поклялись друг другу быть вместе, «пока смерть не разлучит их».
Лонерганы тоже были супружеской парой. Эта мысль мелькнула у Марка и Джин одновременно — но никто не решился напомнить об этом вслух.
…Джин заметила косые спинные плавники первой. Испуганно вскрикнув, она дернулась в сторону, но Марк, отследив, куда смотрит супруга, сгреб ее в охапку, прижимая к себе.
— Нет, нет, нет, — бормотал он. — Не отплывай, не надо, тогда акулы могут подумать, что ты тюлень. Я здесь, я с тобой, все хорошо. Они нас сами боятся. Они же не знают, что мы такое. Мы с тобой поплавок. Просто поплавок. Они даже не поймут, что мы еда. Помнишь инструкцию? Висеть вертикально, бить по носу. Они не будут нас есть…
Джин никакой инструкции не помнила, но вырваться не пыталась. Она отчаянно старалась не паниковать — так же, как старается не смотреть вниз любой, кто идет через пропасть по хлипкому подвесному мосту.
— Господи, мне так страшно, — всхлипывала она. — Мне так страшно, Марк, я не хочу так умирать, не хочу…
— Ну так и не умирай, — пророкотали сбоку.
Марк рефлекторно обернулся на голос — и онемел.
Плавники принадлежали совсем не акулам.
Метрах в пяти от супругов обнаружилась крупная, широкоплечая женщина, вынырнувшая из воды по пояс. Круглое лицо с широким носом и пухлыми губами выглядело совсем человеческим, если бы не глаза — черные, без единого белого пятнышка. Смуглую кожу покрывали затейливые татуировки — кажется, Марк видел такие у полинезийцев. Только вот эта женщина спокойно могла бы, наверное, посадить его с Джин себе на плечо, как маленьких детей, причем сразу обоих. Потом женщина нырнула, оплыла вокруг супругов, и Марк понял, что жара и обезвоживание все-таки сделали свое дело. Потому что по воде шлепнул широкий, черно-белый хвостовой плавник — как у косатки. И принадлежал он все той же женщине. Джин, судя по её лицу, тоже все видела. И от этого стало еще страшнее. Наверное, если бы сейчас из-под воды показались Лонерганы, Марк бы уже не удивился. Пожалуй, даже обрадовался. Потому что поверить в Лонерганов было проще, чем в то, что сейчас видели его глаза.
Следом за первой женщиной показались еще две, такие же огромные — кружили вокруг, гортанно перекликались-перепевались, словно настоящие косатки, и, кажется, не хотели вредить перепуганным до полусмерти дайверам.
— Что это… — дыхание перехватило, и Марк умолк, покрепче прижимая к себе Джин.
— Глупые люди, — пророкотала одна из женщин; впрочем, супруги могли бы поклясться, что рокот этот был более чем добродушным. — Забыли, о чем просили еще с утра. Бабушка море вас услышала, глупые.
Марк услышал, как Джин сглотнула.
А может, и он сам. Он уже ни в чем не был уверен.
— Мы же… шутили, — почему-то шепотом сказал он. — Ш-шутка… понимаете? Просто шутка! Мы же не…
— Вы заплатили, — перебила его женщина. Загребла воду мощным хвостом, одним движением оказываясь рядом и протягивая руку. На её широкой ладони лежали монеты. Восемь штук. Четыре от Марка и четыре от Джин.
— И мы вам поможем.
Одна из косаток нырнула, взметнув фонтан брызг. Марк затряс головой, отфыркиваясь, а потом ног что-то коснулось, и он машинально дернулся, пытаясь ускользнуть, оттолкнуть Джин от опасности, бежать…
— Не улепетывай, глупый, — пробасила женщина. — Тока поможет. Нгару плыла за вашей лодкой. Следила, когда те дохляки поймут, что ошиблись. Такое бывало. Находят недостачу, возвращаются. Но эти не заметили. И Нгару вернулась к нам с вестями. И мы пришли. Помочь.
Ног снова что-то коснулось. Джин, всхлипнув, крепче сжала руку Марка, но уплыть не могла, а бросить ее не мог Марк.
А потом они оказались почти что лежащими на широкой, плотной черно-белой спине, и ровно перед ними маячил косой плавник.
— Держитесь крепче, глупые люди. Тока плавает быстро, — почти добродушно посоветовала женщина-косатка, прежде чем снова скрыться под водой.
Марк поспешно ухватился за основание плавника одной рукой, второй заставил взяться за него Джин, крепко удерживая её за страховочный пояс. Их уже потеряли сегодня один раз, не стоит теряться еще раз.
Загадочная Тока и правда плавала очень быстро. Под плотной кожей ощутимо шевелились мышцы, и вода била так, что удержаться получалось с большим трудом.
— Это все невозможно, — бормотала рядом Джин. — Невозможно, не бывает так, русалок вообще не существует… не должно существовать!
Марк оглянулся, удивленный тем, как у нее получается говорить — вода летела в лицо одним сплошным потоком — и обнаружил, что жена пряталась за тем же основанием плавника, за которое держалась, свободной рукой закрывая лицо. Конечно, так было удобнее, но Марк не рискнул поменять хватку: не хотелось слететь и остаться посреди океана — раз уж тут водятся вполне реальные русалки, то может встретиться и кто-нибудь еще, уже не такой дружелюбный. А потом вдали закричали чайки.
Тока плыла все медленнее, потом и вовсе остановилась и легко ушла под воду, оставив людей на поверхности. До берега было уже совсем близко: отсюда они могли бы доплыть и сами, без всякой помощи, тем более, что отсюда их уже могут заметить, а значит, кто-нибудь наверняка подберет их — или рыбаки, или спасатели. Джин плакала, глядя на берег. Ветер доносил человеческие голоса — слов было не разобрать, но это уже совершенно точно были человеческие голоса, а не крики чаек или… кого-нибудь еще.
— Отсюда доберетесь сами, — Тока, могучая косатка, вынырнула рядом, такая же смуглая, покрытая вязью татуировок. — Он еще здесь, тот дохляк, забывший вас. Передайте ему — бабушка море недовольна им. Он знает. Он поймет. Они все знают.
Джин порывисто бросилась к женщине на шею.
— Спасибо, — всхлипнула она, — спасибо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
Женщина положила ей на спину тяжелую, широкую ладонь. Акваланг скрылся за ней полностью.
— Глупые люди, — с удивительной нежностью сказала она. — Бабушка море присматривает за вами. Бабушка море всегда присматривает за теми, кто её чтит. Она всегда помнит о тех, кого спасла.
Не сразу отстранившись, Джин поймала Марка за руку под водой и крепко сжала. Тот, сглотнув, поднял свободную руку, помахав русалке рукой.
— Спасибо, — повторил он. — Мы… скажем ему.
Отвернувшись, Марк медленно погреб в сторону пристани. Джин плыла рядом, сжимая его руку.
У самого причала они оглянулись — но увидели только волны, голубые волны под голубым небом. Ни облачка, ни чаек, ни женщин, ни даже косых спинных плавников.

Юрий СМИРНОВ
Учитель начальных классов для детей с расстройством аутистического спектра, клинический психолог, дефектолог, олигофренопедагог. Родился 2 мая 1983 года в городе Москве. При написании рассказа меня вдохновили дети, так как мир глазами ребенка очень удивительный и разнообразный. К сожалению, взрослея, мы теряем детское восприятие окружающего мира и забываем, насколько захватывающим и чудесным было наше воображение. Мне хотелось продлить эти прекрасные мгновенья, и так родилась моя история.
Учитель начальных классов для детей с расстройством аутистического спектра, клинический психолог, дефектолог, олигофренопедагог. Родился 2 мая 1983 года в городе Москве. При написании рассказа меня вдохновили дети, так как мир глазами ребенка очень удивительный и разнообразный. К сожалению, взрослея, мы теряем детское восприятие окружающего мира и забываем, насколько захватывающим и чудесным было наше воображение. Мне хотелось продлить эти прекрасные мгновенья, и так родилась моя история.
СТРАННАЯ НЕЗНАКОМКА
На улице стояло жаркое лето. Электричка почти полностью была набита людьми, как бочка с селедкой, и двигалась в направлении пригорода. В вагоне было очень душно из-за плохой работы кондиционеров, пассажиры задыхались и громко обсуждали эту проблему, так как температура превышала 30 градусов.
В старом вагоне 70-х годов друг напротив друга на деревянных сиденьях сидели пожилая пара и молодая семья с девочкой. Пожилая пара разгадывала кроссворды.
Дедушка, которому было примерно лет 65, бормотал себе под нос:
– Эм, пузырь в межзвёздной среде, создаваемый солнечным ветром, – 10 букв, первая – «Г».
С соседнего сиденья послышался тихий, нежный голос ребенка:
– Гелиосфера.
Дедушка захлопал ресницами, сверил ответ девочки с кроссвордом и был поражён – все совпало.
– Девочка, как тебя зовут? – спросил пожилой человек.
– Мира, и мне пять лет, – ответила девочка.
– Откуда ты знаешь про это?
– Я знаю все про космос.
Папа, сидевший рядом с ней, обнял её и поцеловал.
– Мира увлекается астрономией и запоминает всё, что видит и слышит – маленький уникум, – ответил молодой человек.
– Папа, хватит.
Девочка перебила папу, так как не любила, когда говорят о ней.
– Дедушка, а вы знаете, почему используют для гелиосферы термин «пузырь звездного ветра»?
Не успев получить ответ от взрослого, она продолжила:
– Гелиосфера, она – как пузырь, – девочка надула свои щеки и развела руки, показывая жестами как это все выглядит. – В нем плазма солнечного ветра движется со сверхзвуковой скоростью. И этот пузырь ограничен бесстолкновительной ударной волной, возникшей в солнечном ветре.
Эмоции девочки были потрясающие, ее васильковые глаза горели от ее рассказа. Это было так мило и завораживающе, что дедушка и его спутница сидели с открытыми ртами.
У девочки был в руках блокнот, открыв его, она в спешке начала переворачивать страницы, подыскивая чистый листочек. При перелистывании страничек было видно, какая она творческая личность, и что каждый листок был изрисован планетами и разными созвездиями. Причем рисунки были прорисованы так подробно, как будто смотришь в ночное небо. Тут были и медведицы, и Дева, и Кассиопея, которая была похожа на букву W. Рядом нарисована осенняя листва и маленькая подпись: «Самое лучшее время увидеть осенью».
Открыв пустой листок, девочка стала быстро, схематично рисовать, тихо шепча:
— Это солнце, это границы ударной волны, всё это в виде нескольких слоев, шар в шаре.
Резкий голос девушки отдернул девочку от своего объяснения.
– Мира, дорогая, ты умничка, но нашим попутчикам не очень интересны твои познания о космосе.
Это была её мама, она выглядела очень женственно. Её лицо было все в веснушках, это смотрелось потрясающе с её карими глазами и темными волосами. На ней было летнее платье, которое было безумно красивым и напоминало цыганское кружевное с цветочными узорами. Девушке оно очень шло.
Девочка сделала гримасу, посмотрела на девушку и сказала:
– Мамочка, я тебя люблю, я просто, как всегда, ушла в свой любимый космос. Прости меня, – и улыбнулась.
Пожилой попутчик не удержался и ответил:
– Все хорошо, и она нас не беспокоит, нам очень интересно.
– Видишь, мам, я никому не докучаю.
Мама улыбнулась и поблагодарила новых знакомых.
Электричка подъехала к очередной станции, на перроне люди суетились. Молодой человек, пытавшийся пропихнуться в вагон, громко прокричал от боли, получив по пальцам ног тележкой от всех расталкивающей ворчливой бабушки, которая спешила пройти первой в вагон. Зайдя в вагон, она не удивилась, что все места заняты. Она увидела Миру и начала громко кричать:
– Чей это ребенок?! Возьмите ее на руки, она занимает место, дети должны сидеть на руках!
Отец девочки был очень интеллигентным, была видна его выправка, и по мимике лица было видно, что он впервые встречается с такими людьми. Особа продолжала истерить, но в этот прекрасный момент зашла контролерша.
– Здравствуйте, предъявите билет.
Оказалось, что у пожилой ворчуньи не оказалось ни билета, ни пенсионного удостоверения. Её вывели из вагона. Хотя её громкий возмущенный голос долго слышали, до следующей остановки.
Отец повернулся к девочке и сказал:
– Дорогая Мира, никогда не бойся людей, которые сотрясают воздух. Потому что они могут быть не правы, а самое главное – бабушка хотела привлечь к себе внимание, так как, возможно, это единственное, что она может сделать.
– Папа, но почему?
– Потому что, дорогая, каждому человеку нужна любовь и самое главное – обнимашки! – он обнял дочку и крепко поцеловал.
У бабушки, которая сидела напротив, потекла слеза по щеке. Дедушка обнял свою попутчицу и поцеловал.
Поезд продолжал свое движение дальше, от каменных джунглей вглубь пригородных лесов и болот.
На улице стояло жаркое лето. Электричка почти полностью была набита людьми, как бочка с селедкой, и двигалась в направлении пригорода. В вагоне было очень душно из-за плохой работы кондиционеров, пассажиры задыхались и громко обсуждали эту проблему, так как температура превышала 30 градусов.
В старом вагоне 70-х годов друг напротив друга на деревянных сиденьях сидели пожилая пара и молодая семья с девочкой. Пожилая пара разгадывала кроссворды.
Дедушка, которому было примерно лет 65, бормотал себе под нос:
– Эм, пузырь в межзвёздной среде, создаваемый солнечным ветром, – 10 букв, первая – «Г».
С соседнего сиденья послышался тихий, нежный голос ребенка:
– Гелиосфера.
Дедушка захлопал ресницами, сверил ответ девочки с кроссвордом и был поражён – все совпало.
– Девочка, как тебя зовут? – спросил пожилой человек.
– Мира, и мне пять лет, – ответила девочка.
– Откуда ты знаешь про это?
– Я знаю все про космос.
Папа, сидевший рядом с ней, обнял её и поцеловал.
– Мира увлекается астрономией и запоминает всё, что видит и слышит – маленький уникум, – ответил молодой человек.
– Папа, хватит.
Девочка перебила папу, так как не любила, когда говорят о ней.
– Дедушка, а вы знаете, почему используют для гелиосферы термин «пузырь звездного ветра»?
Не успев получить ответ от взрослого, она продолжила:
– Гелиосфера, она – как пузырь, – девочка надула свои щеки и развела руки, показывая жестами как это все выглядит. – В нем плазма солнечного ветра движется со сверхзвуковой скоростью. И этот пузырь ограничен бесстолкновительной ударной волной, возникшей в солнечном ветре.
Эмоции девочки были потрясающие, ее васильковые глаза горели от ее рассказа. Это было так мило и завораживающе, что дедушка и его спутница сидели с открытыми ртами.
У девочки был в руках блокнот, открыв его, она в спешке начала переворачивать страницы, подыскивая чистый листочек. При перелистывании страничек было видно, какая она творческая личность, и что каждый листок был изрисован планетами и разными созвездиями. Причем рисунки были прорисованы так подробно, как будто смотришь в ночное небо. Тут были и медведицы, и Дева, и Кассиопея, которая была похожа на букву W. Рядом нарисована осенняя листва и маленькая подпись: «Самое лучшее время увидеть осенью».
Открыв пустой листок, девочка стала быстро, схематично рисовать, тихо шепча:
— Это солнце, это границы ударной волны, всё это в виде нескольких слоев, шар в шаре.
Резкий голос девушки отдернул девочку от своего объяснения.
– Мира, дорогая, ты умничка, но нашим попутчикам не очень интересны твои познания о космосе.
Это была её мама, она выглядела очень женственно. Её лицо было все в веснушках, это смотрелось потрясающе с её карими глазами и темными волосами. На ней было летнее платье, которое было безумно красивым и напоминало цыганское кружевное с цветочными узорами. Девушке оно очень шло.
Девочка сделала гримасу, посмотрела на девушку и сказала:
– Мамочка, я тебя люблю, я просто, как всегда, ушла в свой любимый космос. Прости меня, – и улыбнулась.
Пожилой попутчик не удержался и ответил:
– Все хорошо, и она нас не беспокоит, нам очень интересно.
– Видишь, мам, я никому не докучаю.
Мама улыбнулась и поблагодарила новых знакомых.
Электричка подъехала к очередной станции, на перроне люди суетились. Молодой человек, пытавшийся пропихнуться в вагон, громко прокричал от боли, получив по пальцам ног тележкой от всех расталкивающей ворчливой бабушки, которая спешила пройти первой в вагон. Зайдя в вагон, она не удивилась, что все места заняты. Она увидела Миру и начала громко кричать:
– Чей это ребенок?! Возьмите ее на руки, она занимает место, дети должны сидеть на руках!
Отец девочки был очень интеллигентным, была видна его выправка, и по мимике лица было видно, что он впервые встречается с такими людьми. Особа продолжала истерить, но в этот прекрасный момент зашла контролерша.
– Здравствуйте, предъявите билет.
Оказалось, что у пожилой ворчуньи не оказалось ни билета, ни пенсионного удостоверения. Её вывели из вагона. Хотя её громкий возмущенный голос долго слышали, до следующей остановки.
Отец повернулся к девочке и сказал:
– Дорогая Мира, никогда не бойся людей, которые сотрясают воздух. Потому что они могут быть не правы, а самое главное – бабушка хотела привлечь к себе внимание, так как, возможно, это единственное, что она может сделать.
– Папа, но почему?
– Потому что, дорогая, каждому человеку нужна любовь и самое главное – обнимашки! – он обнял дочку и крепко поцеловал.
У бабушки, которая сидела напротив, потекла слеза по щеке. Дедушка обнял свою попутчицу и поцеловал.
Поезд продолжал свое движение дальше, от каменных джунглей вглубь пригородных лесов и болот.

Владимир САМОРЯДОВ
Родился в 1971 году. Проживает в Краснодарском крае, на правом берегу реки Кубань. Работает социальным педагогом в детском центре, одновременно с этим играет в детском театре. Автор пьес, стихов, повестей, романов, опубликованных в сети.
Родился в 1971 году. Проживает в Краснодарском крае, на правом берегу реки Кубань. Работает социальным педагогом в детском центре, одновременно с этим играет в детском театре. Автор пьес, стихов, повестей, романов, опубликованных в сети.
ВИДЕНИЯ ЛУКИ
В одном, средних размеров кубанском районном центре жил себе, поживал Лука. Жизнь Луки трудностью и напряженностью не отличалась, жил себе, звезд с неба не хватал, о жене и детях не заботился, потому как давно сбежали они от него. Дети выросли, успели внуков наплодить, сами, без помощи отца, отстроили свой семейный очаг и папу вспоминали только раз в год – в день его рожденья, да и то дистанционно, в гости не заезжая. Но жизнь у Луки была интересной, наполненной всевозможными событиями, радостями и горестями, без всяких там стенаний по поводу неудавшейся семейственности.
Лука уже давно не работал. Всем необходимым для жизни его снабжали старенькая, но бодрая и горластая мама и друзья, приносившие выпивку и съестное на ежевечерние посиделки. А что еще для жизни надо? Двухкомнатная хатка имеется, кошка с собакой, телевизор со спутниковой антенной, а иногда по вечерам в дом заскакивали побитые жизнью и водкой доступные женщины, удовлетворяющие желание любить.
День у Луки начинался после полудня, когда он с трудом открывал свои заплывшие глаза и нетвердой походкой выбирался на крыльцо. Дышал воздухом, курил, беседовал с котом и собакой, потом шел к холодильнику за пивом, пил пиво… Постепенно в голове возникали какие-то мысли, невыразительные идеи и даже какое-то стремление к рефлексии. Хотелось размышлять о жизни, о политике, о продажности властей и глупости женщин. Но вторая бутылка пива действовала сильнее огнетушителя, и стремление к рефлексии гасло.
Тогда Лука шел в огород, смотрел, как колосится перезрелая редиска, успевшая дать побеги, цветы и семена, как завязывается тучными вилками капуста, как хрустит картофельными побегами охамевший колорадский жук. Снова курил, снова о чем-то размышлял, чему-то загадочно улыбался. Стороннему наблюдателю казалось, что Лука медитирует, соприкасается с глубинными основами мирозданья, приходя к каким-то запредельным выводам или падая прямиком в нирвану. Но окончательно упасть в нирвану не позволяла пришедшая домой мама.
– Лука, – вопила она на всю округу хриплым голосом старой телефонистки, – ты почему капусту не полил?
– Сейчас полью, – бесцветно отвечал Лука и шел разматывать шланг.
– Лука, – командовала она, – теперь жука потравить не мешает.
– Потравим, – по-прежнему бесцветно отвечал маме Лука.
– Обалдуй ты, обалдуй, – корила Луку мама. – Через год пятьдесят лет стукнет, а как нежилец. Живешь себе, телик смотришь да водку пьешь.
– Пью. А что, тебе мешаю?
Иногда такие разговоры выливались в ссоры, и Лука начинал орать. И тогда соседи узнавали, что и он обладает недюжинным голосом, способным сотрясти округу.
Мама и Лука жили раздельно, в разных домах на достаточном расстоянии друг от друга. Пожилая женщина справедливо считала, что великовозрастному сыну необходима какая-то самостоятельность, поэтому на непонятные деньги приобрела маленькую хатку и кусочек земли, но контроль не ослабила и могла явиться даже среди ночи, чтобы распугать собутыльников или заскочивших на огонек шмар.
– Обалдуй, ты, обалдуй, – сетовала мама громоподобным голосом. – Остальные мужики как мужики, детей растят, внуков. Эх, дурой я была, когда позволила тебе жениться в семнадцать лет!..
– Что было, то прошло, – коротко отвечал Лука и шел в дом к холодильнику, где стояла третья бутылка пива.
Ко второй половине дня организм Луки приходил в норму. Он выбирался на улицу, осматривал окрестности, здоровался с соседями, с теми, кто по какой-то причине не вышел на работу, коротко перебрасывался ничего не значащими новостями. В его сонных глазах пробуждался интерес к жизни, походка становилась уверенней, а ноги больше не волочились. Он даже мог рассказать кому-то из знакомых незатейливую историю о том, как он недавно самоотверженно и плодотворно «бухал» в компании «пацанов и разбитных краль». Больше порассказать было нечего.
Пообщавшись с народом, Лука уходил в хату, ложился на диван, включал телевизор и погружался в мир кино, спорта и всевозможных развлечений, дарованных недавно установленной спутниковой антенной. Перед его взором распахивалась целая вселенная, лишенная границ и предрассудков, вселенная красивых женщин и богатых мужчин, вселенная шумных, но изящных скандалов, сияющее пространство образов, совсем не похожее на пространство, его окружавшее. Глядя на этот чудесный мир, Лука тихо засыпал.
Вечером приходили друзья, соседские мужики одного с Лукой возраста, но, в отличие от него, отягощенные семьей и семейными проблемами. Лука оживал, разливал по стаканам принесенную друзьями «паленую» водку, нарезал закуску. Начиналась настоящая жизнь, наполняющая быт яркими впечатлениями. Под действием живительной влаги быстрее работало натруженное сердце; разогретая кровь быстрее бежала по жилам, да и скованные ленью мозговые извилины начинали шевелиться, порождая мысли и идеи.
– Мужики, – кричал громко обычно тихоголосый Лука, – слушайте меня!
И мужики слушали, не понимая словоизлияний хозяина дома, смысла произносимого и цели выброшенной в свет тирады. Потом начинали говорить гости, тоже не понимая сказанного. Да стоило ли тратить силы на понимание, если и так хорошо, если в маленьком сарайчике, где они сидели, было тепло и уютно, если в бутылках плещется любимое магическое средство, а на столе есть огурцы, кусок сала и ломоть хлеба.
У всех гостей были дети, внуки, сварливые жены, постоянно требующие больших и малых благ, предпенсионная работа и опасность быть уволенными. У них был тяжелый труд на стройке и на ферме, были дома с холодильниками и кондиционерами, пластиковые окна и двери, пластиковая отделка прихожих, куры и кролики. Жены их считали дураками, дети – неудачниками, соседи – алкоголиками, начальники – лентяями. А умные лысые аналитические головы из телевизоров именовали их электоратом и сетовали на непреодолимую склонность к алкоголю и тоталитаризму и невозможность модернизировать таких неподдающихся модернизации представителей. Но представителям было плевать на все это, сегодня они собрались вместе, чтобы выпить, закусить, поговорить. Домишко одинокого Луки был очень удобным местом для встреч и общения, единственной отрадой этих немолодых мужчин, уставших от безрадостного быта, задавленных властью жен и детей.
Иногда в гости заходили «шмары». Эти дамы уже давно потеряли юную свежесть, привлекательность, а стыда они никогда не имели. Шли на шум небольшими группами, штуки по три, громко гогоча, пьяные, ничего не соображающие, ласку дарить не способные. Их смиренно принимали, кормили, поили, любви от них не требовали и даже домой провожали. Во всяком случае Луку несколько раз видели волочащим под руку какую-то бабу распутной наружности.
Но на шум могли прийти и жены гостей и даже мама Луки, и тогда веселый праздник превращался в шумную словесную схватку, «куликовскую битву» гендерных фронтов, матерь всех битв! Сторонним слушателям в эти минуты казалось, что вскоре вслед за воплями, нечеловеческим воем и громыханием разбиваемой посуды, несущимися из окон, из дверей понесут трупы, изуродованные и измочаленные. Что все жены, пришедшие отучать своих мужей от вредных привычек, убиты и расчленены, что их мужья тоже убиты и расчленены, а хозяина дома Луку вообще измельчили в котлетный фарш. И что дом вот-вот запылает, подожженный в ходе гендерной битвы, а следом будут гореть и прочие жилища: соседние и далекие дома и сараи, коровники, свинарники и телятники, курятники и кроличьи садки.
Но грохот стихал, крики замолкали, и гости Луки, ведомые под руки своими женами, покачиваясь, разбредались по домам. И не было никаких фаршей, расчлененок или целых трупов, трупов не было вообще. Даже синяков и побоев не было. Все расходились невредимыми, хотя и морально пострадавшими. Проходил день, другой, и привычная компания снова собиралась в доме Луки.
Но потом что-то случилось, что-то произошло, что-то странное, непонятное и страшное, что-то, изменившее заведенный ход жизни, годами сложившийся распорядок. В один из теплых летних дней Лука вдруг завязал, перестал пить, перестал по-буддистски меланхолично обозревать огород и улицу, перестал принимать гостей, отводить домой пьяных баб. Даже курить бросил (!!!), приведя в смятение друзей, подруг и соседей, до смерти напугав маму.
День, изменивший обычное течение жизни, начинался привычно, буднично – обыкновенно начинался, не предвещая никаких бурь, катаклизмов, коловращений и потрясений. Лука проснулся, пошевелился в измятой постели, согнал пристроившуюся на груди кошку, успевшую напускать на волосатую грудь кусачих блох. Почесывая искусанные блохами бока, Лука выбрался из кровати, обул стоптанные тапочки и в одних трусах отправился в огород.
В огороде все было в порядке: колосилась редиска, засыхала морковка, смачно догрызали картошку радостные колорадские жуки. Деловитый кобель, гуляющий по двору и улицам без всяких цепей и поводков, вырыл среди огурцов несколько глубоченных окопов в полный профиль, видимо, готовясь к долговременной обороне. Лука без эмоций посмотрел на жуков, морковку и справил малую нужду в собачий окоп, после чего пошел в дом за пивом. Пришел на кухню и застыл, ухватившись за край дверного косяка, чтобы не упасть.
Его блохоразводная кошка, наводнившая все простыни, одеяла и половики кусачими созданиями, его милитаристический пес, обустроивший в огороде эшелонированную линию обороны – его домашние звери, жившие до этого как положено кошке и собаке, теперь мирно сидели за его столом, на его стульях и без церемоний пили его пиво, по-человечески держа в лапах тяжелые стаканы.
– Присоединяйся, Лука, – гавкнул кобель тоже по-человечески и фривольно подмигнул правым глазом.
– Да, – поддержала собаку кошка. – Садись с нами, пиво стынет.
Лука не знал, что ему делать. Не знал, как поступить: вешаться сразу или предварительно сходить к психиатру. Весь его мир, вся выстроенная годами система ценностей, понятий и представлений в одно мгновение аннигилировалась, оставив после себя только яркую вспышку. Кто теперь он? Где он находится? Какое сегодня число? Множество вопросов пронеслось в голове Луки, но ответа он не находил.
– Мы так все пиво выпьем, – промурлыкала кошка, опуская длинные усы в пивной стакан.
– Хватит косяк подпирать! – рявкнул пес. – Садись за стол.
Но Лука на приглашение не повелся и выбежал из дома.
Луку трясло. Дрожали руки, дрожали ноги, дрожала челюсть, а еще крепкие зубы издавали отчетливый лязг. А что происходило внутри, во внутренних, так сказать, органах, трудно передать. Все естественные стремления, докучающие человеку в обычной жизни, обострились самым неприличным образом, побуждая к противоположным действиям. Хотелось и есть, и пить, бежать и лежать, справить все формы нужды одновременно, орать и молчать, хотелось одновременно залечь в глубокое подполье и выставить свою беду напоказ, захотелось вдруг стать обладателем самой красивой и недоступной женщины, но при этом принять целомудренный монашеский постриг.
– Что же делать? – вслух задавал вопрос Лука, бегая туда-сюда вдоль стены хаты. – Это «белочка»! Допился.
Взглянул в окно: может, закончился бред. Нет. Кошка с собакой все еще дуют пиво и дожирают вяленую тарань.
– «Белочка»! – простонал Лука, именуя нежным словом известную всему миру белую горячку. – Допился… Стоп! Да я же не пил вчера! Пиво не в счет. Бухали мы позавчера. Значит, просто с ума сбрендил.
Быть сумасшедшим не хотелось. Такой диагноз – верная погибель, это все равно что заболеть сифилисом, нетрадиционной половой ориентацией или податься в либералы. Соседи коситься станут, мужики в гости приходить перестанут, даже подруги такого испугаются. Полный бойкот и попрание дружбы. Одиночество! Останется коротать жизнь с кошкой и собакой, которые дуют твое пиво, жрут тарань и говорят человеческими голосами.
Лука еще несколько раз прошелся вдоль стены, посмотрел в окно – собака и кошка пьют пиво.
Походил еще. Посмотрел – сидят, пьют пиво, счастливые, захмелевшие, и травят свои звериные байки.
Тогда Лука выбежал на улицу, не столько за помощью побежал, сколько с целью проверить свою адекватность. Скажут соседи или прохожие: ты – кретин, складывай лапки и сдавайся на милость психиатрам. Не скажут – можно собаке с кошкой хвосты накрутить, уши в узлы завернуть, отправить на цепь или ловить мышей и пить пиво самостоятельно, без таких хвостатых собутыльников.
Как назло, улица оказалась безлюдной – все на работе, бабки-пенсионерки в огородах копошатся. Спросить про свою нормальность не у кого. Лука побежал по улице, пытаясь найти людей, чтобы поддержали его ласковым словом, развеяли гнетущие сомнения, и нашел... но не людей, а милиционеров! Пара сотрудников патрульно-постовой службы шлялась по улице в надежде найти какого-нибудь забулдыгу.
В последнее время эти хранители порядка и всех человеческих добродетелей в серых мундирах в изрядных количествах стали заходить в его края. От воров, грабителей и наркоторговцев они практически не спасали, но на детей и алкоголиков нападали, составляя протоколы десятками на одного человека и нотации про нравственность читали с мудрым выражением тупых физиономий. Встречаться с ними Луке не хотелось.
А когда Лука присмотрелся повнимательнее, у него пропало желание даже просто проходить мимо. Двое сотрудников, взявшись за руки, танцевали танец маленьких лебедей под музыку Чайковского, льющуюся из мобильного телефона. Лица обоих были блаженными и одухотворенными, охваченными неземным восторгом.
– Или мне это кажется, или умом тронулись и они, – решил Лука и поспешил повернуть на другую улицу.
По другой улице, грохоча и пуская клубы пара, шел паровоз, хотя в прежние времена никаких рельсов, паровозов, железнодорожников и стрелочников здесь не замечалось. Не замечалось здесь и желающих на паровозе прокатиться. А тут катит себе дымящееся чудо, давно выведенное из эксплуатации по причине шумности, неэкологичности и отсталости, гремит, молотит шатунами, давится громкими гудками. Следом за паровозом чередой тянутся вагоны с людьми, грузами, какими-то стройматериалами. Пассажиры лениво пялились на Луку, Лука пялился на пассажиров.
– Точно «белочка», – повторил Лука и побежал быстрее.
Ему давно так не приходилось бегать, он даже позабыл, что некоторые люди прибегают к такому быстрому, но утомительному способу передвижения. Это в прежние времена, в сопливом детстве, юности, молодости и ранней зрелости он периодически предавался бегу: когда – убегая, когда – догоняя, или спеша по своим важным делам, но теперь, к пятидесяти годам он эту способность растерял. А тут такая скорость, такая прыть, такое самоотверженное перебирание ногами, такой могучий конский топ, вырывающийся из-под каблуков! Не замечая, Лука развил порядочную скорость и бодрым аллюром вылетел на центральную площадь…
Остановился, огляделся. Родной городишко, районный центр, знакомые дома. Паровозы, танцующие милиционеры, говорящие собаки не наблюдаются. Не замечены поблизости и говорящие кошки. Зато колонным фасадом высилось здание библиотеки. Туда Лука и заскочил.
Где искать мудрости, как не в библиотеке? Где хранятся книги, источники всевозможных знаний на все интересующие обывателя темы? Там, в этом старом здании, ставшем библиотекой в силу стечения политических обстоятельств, только потому, что пришедшие в девяносто втором году к власти демократы не смогли найти подходящего помещения и отдали библиотеке здание райкома партии.
Лука быстро взбежал по обшарпанной лестнице на второй этаж, открыл первую попавшуюся дверь и оказался в компьютерном зале. Мерцали сиреневым светом многочисленные мониторы, жужжали кулеры, какие-то молодые люди вперили свои покрасневшие глаза в пестрые экраны, пытаясь выловить крупинки информации. Лука затравленно огляделся и плюхнулся в ближайшее пустующее кресло.
– У нас платные услуги, – из темного угла на свет выбралась неопределенного возраста и цвета женщина, библиотечная мышь, давно распрощавшаяся с мечтами о замужестве: огромные очки с толстыми линзами и средневековой оправой, небрежно зачесанные немытые волосы, платье времен Анны Карениной. – Сорок рублей – час, без разницы, интернет это или просто документ набрать.
Интернет! Лука слышал, что это достижение цивилизации может ответить на многие вопросы, но большинство людей его, уже не среднего возраста ищут здесь порнографию. «Попытать счастья что ли? Не в порнографии. Вдруг найдутся ответы на мои вопросы».
– Сорок рублей? – Лука полез в карман и отыскал в нем четыре смятые десятирублевые бумажки. – Держи, красавица.
«Красавица» невыразительно заулыбалась, показав неровные зубы, приняла деньги и стала выписывать квитанцию.
Лука повертелся во вращающемся кресле, глянул на монитор, осторожно огляделся по сторонам. Справа от него сидел длинноволосый юнец лет этак пятнадцати и бегло молотил пальцами по клавишам, ловко и умело.
– Эй, парень, – робко обратился к нему Лука.
– Чего? – спросил юнец неожиданно детским голосом.
– Да помощь нужна. Хочу узнать, что означают видения.
– В смысле?
– Ну, видения. Бывают же люди, у которых видения случаются.
– Ты что ли? – спросил юнец, используя непочтительное местоимение.
– Знакомый, – неопределенно ответил Лука.
– Хорошо, – благосклонно улыбнулся юнец, демонстрируя железные брекеты на зубах. – Видения, говоришь?
– Видения.
– Ви-де-ния, – юнец набрал слово в поисковой строке «Гугла» и получил кучу ссылок: «Видения, они же глюки – обман восприятия».
Такой вариант Луку не удовлетворил, он требовал безотлагательного посещения психиатра. «Видения как повествовательно-дидактический жанр»? Это тоже ничего хорошего не сулило. Повествуй ты дидактически о своих видениях, тоже у психиатра окажешься – люди тебя неправильно поймут.
А потом пошла информация, сразу же возвысившая Луку в его глазах. Видениями страдали многие святые: святой Евстафий, святой Антоний, пророк Иезекииль, святой Ромуальд, святой Иоанн Кронштадтский. Святой Августин тоже кое-что видел, с пользой для современников и всего прогрессивного человечества. Однако все они видели или ангелов, или Богородицу, или, на худой конец, черта. Но нигде не говорилось о говорящих собаках, паровозах и танцующих милиционерах.
– При помощи видений Господь разговаривает с людьми, – уверенно заявил юнец. – В них всегда имеется какой-либо смысл.
– Спасибо, – поблагодарил мальчика Лука и пошел прочь из библиотеки, смысл искать.
Шел по запруженным людьми центральным улицам, озирался по сторонам в поисках видений и, не находя новых, осмысливал прошлые: где логика, в чем смысл?
Нет ни логики, ни смысла! Говорящие кошки и собаки с алкоголистическими наклонностями – это говорящие кошки и собаки с алкоголистическими наклонностями, никакого посыла от высших сил в этом видении нет. Как нет никакого тайного смысла в пляшущих милиционерах, а паровоз – это просто паровоз, хотя никто не знает, за каким чертом он в наших краях объявился.
Продолжая так безрадостно размышлять, Лука дошел до своего дома.
– Лука, помоги! – услышал он истерический призыв.
Какой-то мужик – бородатый, неопрятный, одетый в странные одежды домашней выкройки: холщевые штаны, холщовую рубаху и (подумать только!) лапти, – тащил куда-то его говорящего кобеля.
– Спаси меня, Лука! – вопил кобель, вывалив от ужаса красный язык.
– Мужик, ты чего? – грозно спросил садиста Лука. – Отпусти мою животину.
– Му-му, – ответил Луке мужик и округлил глаза.
– Герасим? – спросил Лука, вспомнив прочитанную в школе историю.
– Му-му, – утвердительно ответил мужик.
– Да не Муму я! – крикнул кобель. – Шарик меня зовут, зуб даю!
– Му-му, – настаивал Герасим.
– Лука, ну чего стоишь, мямля ты такая? – крикнул кобель. – Сейчас утопят меня, и моя смерть будет на твоей совести.
– Герасим, отпусти кобеля! – потребовал Лука.
– Муму, – ответил мужик и в его голосе явно слышался отказ.
Что делать, в челюсть бить? Но мужик не из тех, кого можно было свалить одним ударом: широкий, крепколобый, кулаки – что молоты. Такой зарядит обратно – будешь до утра под забором валяться.
– Гля, мужик! – нашелся Лука и показал пальцем на прогуливавшуюся неподалеку соседскую собачонку. Собачонка породы пекинес принадлежала жене главного местного бизнесмена, сиречь бандита, которого и Лука, и все прочие терпеть не могли.
– Му-му! – обрадовался мужик. Пекинес на роль Муму-утопленницы подходил лучше и возрастом, и полом, и аристократическим происхождением.
Отпустив беспородного кривоногого Шарика, Герасим бросился ловить пекинеса. Пекинес убежал на другую улицу, Герасим убежал следом.
– Долго же ты меня спасал! – недовольно рявкнул Шарик, не выражая особой благодарности. – Пошли домой, я жрать хочу.
Пес ушел домой, Лука пошел следом.
Ночь Лука провел неспокойно: размышляя, напрягал мозги, пытаясь понять суть происходящего и пути выхода. Непутевая жизнь промелькнула, как один день: детство, юношество, юные подруги, которых он когда-то любил; комсомол, перестройка, демократия, нищета, Чубайс со своими ваучерами. Ни на одном из этих жизненных этапов Лука не совершил ничего путного. Была жена, поначалу красивая, а потом сварливая, которую он благополучно выгнал. Была работа, коллеги по этой работе, собутыльники. Они тоже остались в прекрасном далеко. Была суетливая, пугающая неожиданностями жизнь, не-уютная, непредсказуемая. Потом пришел покой. Собака, кошка... водка. Приходящие друзья, приходящие подруги и уютное одиночество… Но не было на этом жизненном пути ничего такого, что могло спровоцировать сегодняшние проблемы. Идиотов и дебилов в роду отродясь не было, не было героев-стахановцев, революционеров-ниспровергателей, горланов-бунтарей. Не было даже купцов или дворян, наличие которых стало модным и актуальным. Были простые работяги, не отягощенные излишками ума и фантазии, но с Богом, дьяволом, духами и прочими потусторонними представителями никто не разговаривал. Можно было, конечно, порадоваться своей исключительности, но радоваться что-то не хотелось.
Уже утром, перебрав в уме множество самых фантастических вариантов и не найдя безопасного выхода, Лука решил идти к психиатру – сдаваться. Собрал и аккуратно выгладил нижнее белье, сложил в сумку гигиенические принадлежности, документы, запас еды на первый день, блок «Нашей марки» и, повесив сумку на плечо, двинулся в сторону больницы.
Городок жил своей суетной жизнью: спешили по своим делам разодетые работницы всевозможных бюрократических контор, встречались друг с дружкой, обменивались сплетнями, сетовали на безденежье мужей; бежали вприпрыжку опаздывающие на занятия школьники; тащились тоже на занятия сонные студенты техникума, обеспокоенные ранним подъемом. Торговки уже обжили скромненький базарчик возле здания кинотеатра, разложили на лотках зелень и жареный арахис, состроили добродушные мины на своих недобродушных физиономиях.
В этой утренней толпе не замечалось никаких странностей и необычностей, никакие видения не донимали Луку, и ему даже стало казаться, что вчерашние события ему только приснились. Лука замедлил свой шаг, решив повернуть обратно, и перед тем, как повернуть, посмотрел направо… Зря он так посмотрел, не нужно было, просто бы прошел мимо, дошел бы до больницы, постоял бы у входа и пошел бы домой пить водку.
В той стороне, куда он так опрометчиво посмотрел, плыл посуху огромный океанский пароход с четырьмя трубами. Трубы дымили, машины громко клокотали, на палубе играл духовой оркестр, и танцевали веселые люди в нарядах времен модерна. Прохожие на плывущий корабль внимания не обращали, шли себе по своим делам, не застывая с открытыми от ужаса и изумления ртами, не пытались убежать или вызвать соответствующие правоохранительные органы. По их поведению Лука догадался, что корабль видит только он, что это бред, и к психиатру идти нужно. Застонал Лука, всхлипнул громко, стер с лица налипший пот и – бегом в больницу.
Имя врача ему сразу же не понравилось: «доктор Даун Петр Натанович», значилось на табличке. Сразу почему-то представился уродец, больной синдромом Дауна, круглолицый, с маленькими глазками и полуоткрытым ртом, пускающим слюни. Идти к такому на прием не хотелось. Как назло, и очереди нет, пусто возле кабинета. Это по соседству столпились возле приемной окулиста подслеповатые бабки, выясняли, кто за кем стоял, а кто за кем не стоял, постепенно переходя на персоналии. А здесь никто не порывался встать в очередь, поговорить о насущных болячках, посетовать на нездоровую жизнь. Почему-то никто не желал лечиться у психиатра Дауна.
Вздохнув глубоко, как перед прыжком в воду, Лука открыл дверь.
Психиатр Даун на больного синдромом Дауна совсем не походил. Это был высокий, красивый мужчина лет этак пятидесяти, с бородкой и стрижкой «а ля Николай Второй». Глаза внимательные и ласковые, губы тронуты доброй улыбкой. Напротив психиатра, закинув ногу на ногу, восседала сексапильная медсестра, внешностью больше подходящая для рекламы косметики. Сексапильная медсестра сексапильно пережевывала жевательную резинку яркими губами и даже покачивалась из стороны в сторону, поглощенная этим занятием. Покачивания тоже выглядели призывно и сексапильно.
– Доктор, я к вам, – обреченно проговорил Лука.
– Ну что ж, проходите, – добродушно улыбнулся доктор Даун.
Лука вошел и осторожно присел на краешек стула.
– Слушаю вас, – ласково сказал доктор Даун.
– Я… умом тронулся, доктор, – обреченно проговорил Лука. – Сбрендил, короче говоря.
– Да что вы говорите! – обрадовался доктор и озорно подмигнул медсестре со жвачкой. – Смотри-ка, Леночка, впервые вижу человека, самостоятельно ставящего себе такой неутешительный диагноз.
– А то, – односложно ответила медсестра.
– Ну-с, и в чем ваше сумасшествие выражается?
– Доктор, у меня видения. Я кое-что вижу, что видеть не должен, – простонал Лука.
– Например.
– Например. У меня кошка с собакой по-человечьи разговаривают и вчера мое пиво выпили.
– Все, подчистую?!
– Ага. Они меня звали, а я побоялся.
– Это зря. Друзей надо уважать.
– А еще я на нашей улице паровозы и пароходы вижу. А еще двух ментов видел, то есть милиционеров, они балет Чайковского танцевали.
– Сейчас самое время балет танцевать. У них, как у журавлей, есть периоды танцев, – усмехнулся доктор Даун. – И это все?
– А что, мало? – простонал Лука.
– Навязчивые идеи у вас имеются?
– Это как?
– Ну, мир изменить не желаете?
– Зачем, он и так хорош?
– Общенародное счастье всем и каждому причинить не порываетесь? Спасти людей от кровавой тирании не думали?
– Нет.
– Так, голоса в своей голове не слышите, ну в смысле, Бог или черт вам ничего не нашептывают? Не требуют кого-нибудь убить или ограбить?
– Нет, доктор.
– Никто вас не преследует?
– Никто. А, доктор, – вспомнил Лука. – Моего кобеля Шарика Герасим преследует. Он его за Муму принял и утопить хотел.
– А, да, читал-читал про Муму и Герасима. Но посторонних голосов вы в своей голове не слышите?
– Нет, доктор. Только вижу черт знает что.
– В негативизм, мутизм или ступор вы не впадали?
– А что это? Может, впадал. Я когда напьюсь, могу и в ступор впасть. А в мудизм?.. Слово больно некрасивое.
– Медицинский термин, – рассмеялся доктор Даун. – Наполеоном, Гитлером или Чубайсом себя не считали?
– Нет.
– Тогда почему вы решили, что вы сумасшедший?
– Но видения, доктор: корабли, паровозы.
– Подойди к окну, – приказал Луке доктор Даун, неожиданно перейдя на «ты».
Лука смиренно подошел.
– Что ты там видишь?
Лука посмотрел. С высоты третьего этажа открывался живописный вид на центральные улицы его родного городка, на здание администрации и гостиницу, а за гости-ницей по земле, аки по воде, плыл огромный океанский пароход с четырьмя дымящимися трубами.
– Так что ты там видишь? – повторил вопрос доктор Даун. – Не стесняйся.
– Пароход, – обреченно ответил Лука.
– Вернее даже – «Титаник», – уточнил доктор Даун. – Лена, а ты что видишь?
Лениво жующая медсестра лениво посмотрела в окно.
– «Титаник», – лениво ответила она. – Он всегда в это время проплывает.
– Вот видишь, – оживился доктор Даун. – Ни я, ни Леночка сумасшедшими не являемся, но мы тоже этот пароход видим. И многие его видят, только никому про это не говорят. Ты сказочку про голого короля помнишь? Ведь что король голый видели все, но только ребенок сказал это. Но то ребенок, он несмышленыш. Если бы это сказал взрослый, его бы начали лечить! Сдали бы в Бедлам и сделали полным идиотом. Если ты что-то необычное видишь – это не сумасшествие. Сумасшествие – это когда ты необычное делать начнешь. Тогда мы за тобой приедем и лечить начнем. Иди-ка домой и ни о чем не беспокойся. Живи себе, пивом с собакой и кошкой делись. Главное, не кричи на всю округу, когда они с тобой заговорят…
Не чуя ног, Лука побежал домой. Бежал веселый, свободный, не страдающий никакими психическими отклонениями. «Это ж надо, паниковал, истериковал, шизоидом себя считал, а на деле все просто: не тот дурак, кто на самом деле дурак, а тот, кто свою дурость на обозрение выставляет. Молчи, сопи в тряпочку – за умного сойдешь». По дороге он заскочил в магазин, купил двухлитровую бутылку пива для собаки с кошкой, а для себя две литровые бутылки водки и закуски купил на оставшиеся деньги. «Напою кошку, напою кобеля, мужики придут, их тоже напою. А вечером придут подруги, напоим и их и немного поиграем в любовь. Нужно будет завтра колорадских жуков потравить и капусту полить, а то мамаша начнет скрипеть: обалдуй ты, обалдуй!»...
Где-то за горизонт уплывал по земле «Титаник», дымя своими трубами. Лука теперь видел только его жирную корму и шлейф черного дыма. На корабле по-прежнему играла музыка, веселились беспечные люди, но впереди уже вставали очертания грозного айсберга.
Никто на корабль не смотрел, никто не вскрикивал, никто не порывался обратить на корабль внимание или предупредить пассажиров о грозящей опасности, и только какой-то малыш по-детски непосредственно тянул в сторону уплывающего корабля свои маленькие ручонки...
В одном, средних размеров кубанском районном центре жил себе, поживал Лука. Жизнь Луки трудностью и напряженностью не отличалась, жил себе, звезд с неба не хватал, о жене и детях не заботился, потому как давно сбежали они от него. Дети выросли, успели внуков наплодить, сами, без помощи отца, отстроили свой семейный очаг и папу вспоминали только раз в год – в день его рожденья, да и то дистанционно, в гости не заезжая. Но жизнь у Луки была интересной, наполненной всевозможными событиями, радостями и горестями, без всяких там стенаний по поводу неудавшейся семейственности.
Лука уже давно не работал. Всем необходимым для жизни его снабжали старенькая, но бодрая и горластая мама и друзья, приносившие выпивку и съестное на ежевечерние посиделки. А что еще для жизни надо? Двухкомнатная хатка имеется, кошка с собакой, телевизор со спутниковой антенной, а иногда по вечерам в дом заскакивали побитые жизнью и водкой доступные женщины, удовлетворяющие желание любить.
День у Луки начинался после полудня, когда он с трудом открывал свои заплывшие глаза и нетвердой походкой выбирался на крыльцо. Дышал воздухом, курил, беседовал с котом и собакой, потом шел к холодильнику за пивом, пил пиво… Постепенно в голове возникали какие-то мысли, невыразительные идеи и даже какое-то стремление к рефлексии. Хотелось размышлять о жизни, о политике, о продажности властей и глупости женщин. Но вторая бутылка пива действовала сильнее огнетушителя, и стремление к рефлексии гасло.
Тогда Лука шел в огород, смотрел, как колосится перезрелая редиска, успевшая дать побеги, цветы и семена, как завязывается тучными вилками капуста, как хрустит картофельными побегами охамевший колорадский жук. Снова курил, снова о чем-то размышлял, чему-то загадочно улыбался. Стороннему наблюдателю казалось, что Лука медитирует, соприкасается с глубинными основами мирозданья, приходя к каким-то запредельным выводам или падая прямиком в нирвану. Но окончательно упасть в нирвану не позволяла пришедшая домой мама.
– Лука, – вопила она на всю округу хриплым голосом старой телефонистки, – ты почему капусту не полил?
– Сейчас полью, – бесцветно отвечал Лука и шел разматывать шланг.
– Лука, – командовала она, – теперь жука потравить не мешает.
– Потравим, – по-прежнему бесцветно отвечал маме Лука.
– Обалдуй ты, обалдуй, – корила Луку мама. – Через год пятьдесят лет стукнет, а как нежилец. Живешь себе, телик смотришь да водку пьешь.
– Пью. А что, тебе мешаю?
Иногда такие разговоры выливались в ссоры, и Лука начинал орать. И тогда соседи узнавали, что и он обладает недюжинным голосом, способным сотрясти округу.
Мама и Лука жили раздельно, в разных домах на достаточном расстоянии друг от друга. Пожилая женщина справедливо считала, что великовозрастному сыну необходима какая-то самостоятельность, поэтому на непонятные деньги приобрела маленькую хатку и кусочек земли, но контроль не ослабила и могла явиться даже среди ночи, чтобы распугать собутыльников или заскочивших на огонек шмар.
– Обалдуй, ты, обалдуй, – сетовала мама громоподобным голосом. – Остальные мужики как мужики, детей растят, внуков. Эх, дурой я была, когда позволила тебе жениться в семнадцать лет!..
– Что было, то прошло, – коротко отвечал Лука и шел в дом к холодильнику, где стояла третья бутылка пива.
Ко второй половине дня организм Луки приходил в норму. Он выбирался на улицу, осматривал окрестности, здоровался с соседями, с теми, кто по какой-то причине не вышел на работу, коротко перебрасывался ничего не значащими новостями. В его сонных глазах пробуждался интерес к жизни, походка становилась уверенней, а ноги больше не волочились. Он даже мог рассказать кому-то из знакомых незатейливую историю о том, как он недавно самоотверженно и плодотворно «бухал» в компании «пацанов и разбитных краль». Больше порассказать было нечего.
Пообщавшись с народом, Лука уходил в хату, ложился на диван, включал телевизор и погружался в мир кино, спорта и всевозможных развлечений, дарованных недавно установленной спутниковой антенной. Перед его взором распахивалась целая вселенная, лишенная границ и предрассудков, вселенная красивых женщин и богатых мужчин, вселенная шумных, но изящных скандалов, сияющее пространство образов, совсем не похожее на пространство, его окружавшее. Глядя на этот чудесный мир, Лука тихо засыпал.
Вечером приходили друзья, соседские мужики одного с Лукой возраста, но, в отличие от него, отягощенные семьей и семейными проблемами. Лука оживал, разливал по стаканам принесенную друзьями «паленую» водку, нарезал закуску. Начиналась настоящая жизнь, наполняющая быт яркими впечатлениями. Под действием живительной влаги быстрее работало натруженное сердце; разогретая кровь быстрее бежала по жилам, да и скованные ленью мозговые извилины начинали шевелиться, порождая мысли и идеи.
– Мужики, – кричал громко обычно тихоголосый Лука, – слушайте меня!
И мужики слушали, не понимая словоизлияний хозяина дома, смысла произносимого и цели выброшенной в свет тирады. Потом начинали говорить гости, тоже не понимая сказанного. Да стоило ли тратить силы на понимание, если и так хорошо, если в маленьком сарайчике, где они сидели, было тепло и уютно, если в бутылках плещется любимое магическое средство, а на столе есть огурцы, кусок сала и ломоть хлеба.
У всех гостей были дети, внуки, сварливые жены, постоянно требующие больших и малых благ, предпенсионная работа и опасность быть уволенными. У них был тяжелый труд на стройке и на ферме, были дома с холодильниками и кондиционерами, пластиковые окна и двери, пластиковая отделка прихожих, куры и кролики. Жены их считали дураками, дети – неудачниками, соседи – алкоголиками, начальники – лентяями. А умные лысые аналитические головы из телевизоров именовали их электоратом и сетовали на непреодолимую склонность к алкоголю и тоталитаризму и невозможность модернизировать таких неподдающихся модернизации представителей. Но представителям было плевать на все это, сегодня они собрались вместе, чтобы выпить, закусить, поговорить. Домишко одинокого Луки был очень удобным местом для встреч и общения, единственной отрадой этих немолодых мужчин, уставших от безрадостного быта, задавленных властью жен и детей.
Иногда в гости заходили «шмары». Эти дамы уже давно потеряли юную свежесть, привлекательность, а стыда они никогда не имели. Шли на шум небольшими группами, штуки по три, громко гогоча, пьяные, ничего не соображающие, ласку дарить не способные. Их смиренно принимали, кормили, поили, любви от них не требовали и даже домой провожали. Во всяком случае Луку несколько раз видели волочащим под руку какую-то бабу распутной наружности.
Но на шум могли прийти и жены гостей и даже мама Луки, и тогда веселый праздник превращался в шумную словесную схватку, «куликовскую битву» гендерных фронтов, матерь всех битв! Сторонним слушателям в эти минуты казалось, что вскоре вслед за воплями, нечеловеческим воем и громыханием разбиваемой посуды, несущимися из окон, из дверей понесут трупы, изуродованные и измочаленные. Что все жены, пришедшие отучать своих мужей от вредных привычек, убиты и расчленены, что их мужья тоже убиты и расчленены, а хозяина дома Луку вообще измельчили в котлетный фарш. И что дом вот-вот запылает, подожженный в ходе гендерной битвы, а следом будут гореть и прочие жилища: соседние и далекие дома и сараи, коровники, свинарники и телятники, курятники и кроличьи садки.
Но грохот стихал, крики замолкали, и гости Луки, ведомые под руки своими женами, покачиваясь, разбредались по домам. И не было никаких фаршей, расчлененок или целых трупов, трупов не было вообще. Даже синяков и побоев не было. Все расходились невредимыми, хотя и морально пострадавшими. Проходил день, другой, и привычная компания снова собиралась в доме Луки.
Но потом что-то случилось, что-то произошло, что-то странное, непонятное и страшное, что-то, изменившее заведенный ход жизни, годами сложившийся распорядок. В один из теплых летних дней Лука вдруг завязал, перестал пить, перестал по-буддистски меланхолично обозревать огород и улицу, перестал принимать гостей, отводить домой пьяных баб. Даже курить бросил (!!!), приведя в смятение друзей, подруг и соседей, до смерти напугав маму.
День, изменивший обычное течение жизни, начинался привычно, буднично – обыкновенно начинался, не предвещая никаких бурь, катаклизмов, коловращений и потрясений. Лука проснулся, пошевелился в измятой постели, согнал пристроившуюся на груди кошку, успевшую напускать на волосатую грудь кусачих блох. Почесывая искусанные блохами бока, Лука выбрался из кровати, обул стоптанные тапочки и в одних трусах отправился в огород.
В огороде все было в порядке: колосилась редиска, засыхала морковка, смачно догрызали картошку радостные колорадские жуки. Деловитый кобель, гуляющий по двору и улицам без всяких цепей и поводков, вырыл среди огурцов несколько глубоченных окопов в полный профиль, видимо, готовясь к долговременной обороне. Лука без эмоций посмотрел на жуков, морковку и справил малую нужду в собачий окоп, после чего пошел в дом за пивом. Пришел на кухню и застыл, ухватившись за край дверного косяка, чтобы не упасть.
Его блохоразводная кошка, наводнившая все простыни, одеяла и половики кусачими созданиями, его милитаристический пес, обустроивший в огороде эшелонированную линию обороны – его домашние звери, жившие до этого как положено кошке и собаке, теперь мирно сидели за его столом, на его стульях и без церемоний пили его пиво, по-человечески держа в лапах тяжелые стаканы.
– Присоединяйся, Лука, – гавкнул кобель тоже по-человечески и фривольно подмигнул правым глазом.
– Да, – поддержала собаку кошка. – Садись с нами, пиво стынет.
Лука не знал, что ему делать. Не знал, как поступить: вешаться сразу или предварительно сходить к психиатру. Весь его мир, вся выстроенная годами система ценностей, понятий и представлений в одно мгновение аннигилировалась, оставив после себя только яркую вспышку. Кто теперь он? Где он находится? Какое сегодня число? Множество вопросов пронеслось в голове Луки, но ответа он не находил.
– Мы так все пиво выпьем, – промурлыкала кошка, опуская длинные усы в пивной стакан.
– Хватит косяк подпирать! – рявкнул пес. – Садись за стол.
Но Лука на приглашение не повелся и выбежал из дома.
Луку трясло. Дрожали руки, дрожали ноги, дрожала челюсть, а еще крепкие зубы издавали отчетливый лязг. А что происходило внутри, во внутренних, так сказать, органах, трудно передать. Все естественные стремления, докучающие человеку в обычной жизни, обострились самым неприличным образом, побуждая к противоположным действиям. Хотелось и есть, и пить, бежать и лежать, справить все формы нужды одновременно, орать и молчать, хотелось одновременно залечь в глубокое подполье и выставить свою беду напоказ, захотелось вдруг стать обладателем самой красивой и недоступной женщины, но при этом принять целомудренный монашеский постриг.
– Что же делать? – вслух задавал вопрос Лука, бегая туда-сюда вдоль стены хаты. – Это «белочка»! Допился.
Взглянул в окно: может, закончился бред. Нет. Кошка с собакой все еще дуют пиво и дожирают вяленую тарань.
– «Белочка»! – простонал Лука, именуя нежным словом известную всему миру белую горячку. – Допился… Стоп! Да я же не пил вчера! Пиво не в счет. Бухали мы позавчера. Значит, просто с ума сбрендил.
Быть сумасшедшим не хотелось. Такой диагноз – верная погибель, это все равно что заболеть сифилисом, нетрадиционной половой ориентацией или податься в либералы. Соседи коситься станут, мужики в гости приходить перестанут, даже подруги такого испугаются. Полный бойкот и попрание дружбы. Одиночество! Останется коротать жизнь с кошкой и собакой, которые дуют твое пиво, жрут тарань и говорят человеческими голосами.
Лука еще несколько раз прошелся вдоль стены, посмотрел в окно – собака и кошка пьют пиво.
Походил еще. Посмотрел – сидят, пьют пиво, счастливые, захмелевшие, и травят свои звериные байки.
Тогда Лука выбежал на улицу, не столько за помощью побежал, сколько с целью проверить свою адекватность. Скажут соседи или прохожие: ты – кретин, складывай лапки и сдавайся на милость психиатрам. Не скажут – можно собаке с кошкой хвосты накрутить, уши в узлы завернуть, отправить на цепь или ловить мышей и пить пиво самостоятельно, без таких хвостатых собутыльников.
Как назло, улица оказалась безлюдной – все на работе, бабки-пенсионерки в огородах копошатся. Спросить про свою нормальность не у кого. Лука побежал по улице, пытаясь найти людей, чтобы поддержали его ласковым словом, развеяли гнетущие сомнения, и нашел... но не людей, а милиционеров! Пара сотрудников патрульно-постовой службы шлялась по улице в надежде найти какого-нибудь забулдыгу.
В последнее время эти хранители порядка и всех человеческих добродетелей в серых мундирах в изрядных количествах стали заходить в его края. От воров, грабителей и наркоторговцев они практически не спасали, но на детей и алкоголиков нападали, составляя протоколы десятками на одного человека и нотации про нравственность читали с мудрым выражением тупых физиономий. Встречаться с ними Луке не хотелось.
А когда Лука присмотрелся повнимательнее, у него пропало желание даже просто проходить мимо. Двое сотрудников, взявшись за руки, танцевали танец маленьких лебедей под музыку Чайковского, льющуюся из мобильного телефона. Лица обоих были блаженными и одухотворенными, охваченными неземным восторгом.
– Или мне это кажется, или умом тронулись и они, – решил Лука и поспешил повернуть на другую улицу.
По другой улице, грохоча и пуская клубы пара, шел паровоз, хотя в прежние времена никаких рельсов, паровозов, железнодорожников и стрелочников здесь не замечалось. Не замечалось здесь и желающих на паровозе прокатиться. А тут катит себе дымящееся чудо, давно выведенное из эксплуатации по причине шумности, неэкологичности и отсталости, гремит, молотит шатунами, давится громкими гудками. Следом за паровозом чередой тянутся вагоны с людьми, грузами, какими-то стройматериалами. Пассажиры лениво пялились на Луку, Лука пялился на пассажиров.
– Точно «белочка», – повторил Лука и побежал быстрее.
Ему давно так не приходилось бегать, он даже позабыл, что некоторые люди прибегают к такому быстрому, но утомительному способу передвижения. Это в прежние времена, в сопливом детстве, юности, молодости и ранней зрелости он периодически предавался бегу: когда – убегая, когда – догоняя, или спеша по своим важным делам, но теперь, к пятидесяти годам он эту способность растерял. А тут такая скорость, такая прыть, такое самоотверженное перебирание ногами, такой могучий конский топ, вырывающийся из-под каблуков! Не замечая, Лука развил порядочную скорость и бодрым аллюром вылетел на центральную площадь…
Остановился, огляделся. Родной городишко, районный центр, знакомые дома. Паровозы, танцующие милиционеры, говорящие собаки не наблюдаются. Не замечены поблизости и говорящие кошки. Зато колонным фасадом высилось здание библиотеки. Туда Лука и заскочил.
Где искать мудрости, как не в библиотеке? Где хранятся книги, источники всевозможных знаний на все интересующие обывателя темы? Там, в этом старом здании, ставшем библиотекой в силу стечения политических обстоятельств, только потому, что пришедшие в девяносто втором году к власти демократы не смогли найти подходящего помещения и отдали библиотеке здание райкома партии.
Лука быстро взбежал по обшарпанной лестнице на второй этаж, открыл первую попавшуюся дверь и оказался в компьютерном зале. Мерцали сиреневым светом многочисленные мониторы, жужжали кулеры, какие-то молодые люди вперили свои покрасневшие глаза в пестрые экраны, пытаясь выловить крупинки информации. Лука затравленно огляделся и плюхнулся в ближайшее пустующее кресло.
– У нас платные услуги, – из темного угла на свет выбралась неопределенного возраста и цвета женщина, библиотечная мышь, давно распрощавшаяся с мечтами о замужестве: огромные очки с толстыми линзами и средневековой оправой, небрежно зачесанные немытые волосы, платье времен Анны Карениной. – Сорок рублей – час, без разницы, интернет это или просто документ набрать.
Интернет! Лука слышал, что это достижение цивилизации может ответить на многие вопросы, но большинство людей его, уже не среднего возраста ищут здесь порнографию. «Попытать счастья что ли? Не в порнографии. Вдруг найдутся ответы на мои вопросы».
– Сорок рублей? – Лука полез в карман и отыскал в нем четыре смятые десятирублевые бумажки. – Держи, красавица.
«Красавица» невыразительно заулыбалась, показав неровные зубы, приняла деньги и стала выписывать квитанцию.
Лука повертелся во вращающемся кресле, глянул на монитор, осторожно огляделся по сторонам. Справа от него сидел длинноволосый юнец лет этак пятнадцати и бегло молотил пальцами по клавишам, ловко и умело.
– Эй, парень, – робко обратился к нему Лука.
– Чего? – спросил юнец неожиданно детским голосом.
– Да помощь нужна. Хочу узнать, что означают видения.
– В смысле?
– Ну, видения. Бывают же люди, у которых видения случаются.
– Ты что ли? – спросил юнец, используя непочтительное местоимение.
– Знакомый, – неопределенно ответил Лука.
– Хорошо, – благосклонно улыбнулся юнец, демонстрируя железные брекеты на зубах. – Видения, говоришь?
– Видения.
– Ви-де-ния, – юнец набрал слово в поисковой строке «Гугла» и получил кучу ссылок: «Видения, они же глюки – обман восприятия».
Такой вариант Луку не удовлетворил, он требовал безотлагательного посещения психиатра. «Видения как повествовательно-дидактический жанр»? Это тоже ничего хорошего не сулило. Повествуй ты дидактически о своих видениях, тоже у психиатра окажешься – люди тебя неправильно поймут.
А потом пошла информация, сразу же возвысившая Луку в его глазах. Видениями страдали многие святые: святой Евстафий, святой Антоний, пророк Иезекииль, святой Ромуальд, святой Иоанн Кронштадтский. Святой Августин тоже кое-что видел, с пользой для современников и всего прогрессивного человечества. Однако все они видели или ангелов, или Богородицу, или, на худой конец, черта. Но нигде не говорилось о говорящих собаках, паровозах и танцующих милиционерах.
– При помощи видений Господь разговаривает с людьми, – уверенно заявил юнец. – В них всегда имеется какой-либо смысл.
– Спасибо, – поблагодарил мальчика Лука и пошел прочь из библиотеки, смысл искать.
Шел по запруженным людьми центральным улицам, озирался по сторонам в поисках видений и, не находя новых, осмысливал прошлые: где логика, в чем смысл?
Нет ни логики, ни смысла! Говорящие кошки и собаки с алкоголистическими наклонностями – это говорящие кошки и собаки с алкоголистическими наклонностями, никакого посыла от высших сил в этом видении нет. Как нет никакого тайного смысла в пляшущих милиционерах, а паровоз – это просто паровоз, хотя никто не знает, за каким чертом он в наших краях объявился.
Продолжая так безрадостно размышлять, Лука дошел до своего дома.
– Лука, помоги! – услышал он истерический призыв.
Какой-то мужик – бородатый, неопрятный, одетый в странные одежды домашней выкройки: холщевые штаны, холщовую рубаху и (подумать только!) лапти, – тащил куда-то его говорящего кобеля.
– Спаси меня, Лука! – вопил кобель, вывалив от ужаса красный язык.
– Мужик, ты чего? – грозно спросил садиста Лука. – Отпусти мою животину.
– Му-му, – ответил Луке мужик и округлил глаза.
– Герасим? – спросил Лука, вспомнив прочитанную в школе историю.
– Му-му, – утвердительно ответил мужик.
– Да не Муму я! – крикнул кобель. – Шарик меня зовут, зуб даю!
– Му-му, – настаивал Герасим.
– Лука, ну чего стоишь, мямля ты такая? – крикнул кобель. – Сейчас утопят меня, и моя смерть будет на твоей совести.
– Герасим, отпусти кобеля! – потребовал Лука.
– Муму, – ответил мужик и в его голосе явно слышался отказ.
Что делать, в челюсть бить? Но мужик не из тех, кого можно было свалить одним ударом: широкий, крепколобый, кулаки – что молоты. Такой зарядит обратно – будешь до утра под забором валяться.
– Гля, мужик! – нашелся Лука и показал пальцем на прогуливавшуюся неподалеку соседскую собачонку. Собачонка породы пекинес принадлежала жене главного местного бизнесмена, сиречь бандита, которого и Лука, и все прочие терпеть не могли.
– Му-му! – обрадовался мужик. Пекинес на роль Муму-утопленницы подходил лучше и возрастом, и полом, и аристократическим происхождением.
Отпустив беспородного кривоногого Шарика, Герасим бросился ловить пекинеса. Пекинес убежал на другую улицу, Герасим убежал следом.
– Долго же ты меня спасал! – недовольно рявкнул Шарик, не выражая особой благодарности. – Пошли домой, я жрать хочу.
Пес ушел домой, Лука пошел следом.
Ночь Лука провел неспокойно: размышляя, напрягал мозги, пытаясь понять суть происходящего и пути выхода. Непутевая жизнь промелькнула, как один день: детство, юношество, юные подруги, которых он когда-то любил; комсомол, перестройка, демократия, нищета, Чубайс со своими ваучерами. Ни на одном из этих жизненных этапов Лука не совершил ничего путного. Была жена, поначалу красивая, а потом сварливая, которую он благополучно выгнал. Была работа, коллеги по этой работе, собутыльники. Они тоже остались в прекрасном далеко. Была суетливая, пугающая неожиданностями жизнь, не-уютная, непредсказуемая. Потом пришел покой. Собака, кошка... водка. Приходящие друзья, приходящие подруги и уютное одиночество… Но не было на этом жизненном пути ничего такого, что могло спровоцировать сегодняшние проблемы. Идиотов и дебилов в роду отродясь не было, не было героев-стахановцев, революционеров-ниспровергателей, горланов-бунтарей. Не было даже купцов или дворян, наличие которых стало модным и актуальным. Были простые работяги, не отягощенные излишками ума и фантазии, но с Богом, дьяволом, духами и прочими потусторонними представителями никто не разговаривал. Можно было, конечно, порадоваться своей исключительности, но радоваться что-то не хотелось.
Уже утром, перебрав в уме множество самых фантастических вариантов и не найдя безопасного выхода, Лука решил идти к психиатру – сдаваться. Собрал и аккуратно выгладил нижнее белье, сложил в сумку гигиенические принадлежности, документы, запас еды на первый день, блок «Нашей марки» и, повесив сумку на плечо, двинулся в сторону больницы.
Городок жил своей суетной жизнью: спешили по своим делам разодетые работницы всевозможных бюрократических контор, встречались друг с дружкой, обменивались сплетнями, сетовали на безденежье мужей; бежали вприпрыжку опаздывающие на занятия школьники; тащились тоже на занятия сонные студенты техникума, обеспокоенные ранним подъемом. Торговки уже обжили скромненький базарчик возле здания кинотеатра, разложили на лотках зелень и жареный арахис, состроили добродушные мины на своих недобродушных физиономиях.
В этой утренней толпе не замечалось никаких странностей и необычностей, никакие видения не донимали Луку, и ему даже стало казаться, что вчерашние события ему только приснились. Лука замедлил свой шаг, решив повернуть обратно, и перед тем, как повернуть, посмотрел направо… Зря он так посмотрел, не нужно было, просто бы прошел мимо, дошел бы до больницы, постоял бы у входа и пошел бы домой пить водку.
В той стороне, куда он так опрометчиво посмотрел, плыл посуху огромный океанский пароход с четырьмя трубами. Трубы дымили, машины громко клокотали, на палубе играл духовой оркестр, и танцевали веселые люди в нарядах времен модерна. Прохожие на плывущий корабль внимания не обращали, шли себе по своим делам, не застывая с открытыми от ужаса и изумления ртами, не пытались убежать или вызвать соответствующие правоохранительные органы. По их поведению Лука догадался, что корабль видит только он, что это бред, и к психиатру идти нужно. Застонал Лука, всхлипнул громко, стер с лица налипший пот и – бегом в больницу.
Имя врача ему сразу же не понравилось: «доктор Даун Петр Натанович», значилось на табличке. Сразу почему-то представился уродец, больной синдромом Дауна, круглолицый, с маленькими глазками и полуоткрытым ртом, пускающим слюни. Идти к такому на прием не хотелось. Как назло, и очереди нет, пусто возле кабинета. Это по соседству столпились возле приемной окулиста подслеповатые бабки, выясняли, кто за кем стоял, а кто за кем не стоял, постепенно переходя на персоналии. А здесь никто не порывался встать в очередь, поговорить о насущных болячках, посетовать на нездоровую жизнь. Почему-то никто не желал лечиться у психиатра Дауна.
Вздохнув глубоко, как перед прыжком в воду, Лука открыл дверь.
Психиатр Даун на больного синдромом Дауна совсем не походил. Это был высокий, красивый мужчина лет этак пятидесяти, с бородкой и стрижкой «а ля Николай Второй». Глаза внимательные и ласковые, губы тронуты доброй улыбкой. Напротив психиатра, закинув ногу на ногу, восседала сексапильная медсестра, внешностью больше подходящая для рекламы косметики. Сексапильная медсестра сексапильно пережевывала жевательную резинку яркими губами и даже покачивалась из стороны в сторону, поглощенная этим занятием. Покачивания тоже выглядели призывно и сексапильно.
– Доктор, я к вам, – обреченно проговорил Лука.
– Ну что ж, проходите, – добродушно улыбнулся доктор Даун.
Лука вошел и осторожно присел на краешек стула.
– Слушаю вас, – ласково сказал доктор Даун.
– Я… умом тронулся, доктор, – обреченно проговорил Лука. – Сбрендил, короче говоря.
– Да что вы говорите! – обрадовался доктор и озорно подмигнул медсестре со жвачкой. – Смотри-ка, Леночка, впервые вижу человека, самостоятельно ставящего себе такой неутешительный диагноз.
– А то, – односложно ответила медсестра.
– Ну-с, и в чем ваше сумасшествие выражается?
– Доктор, у меня видения. Я кое-что вижу, что видеть не должен, – простонал Лука.
– Например.
– Например. У меня кошка с собакой по-человечьи разговаривают и вчера мое пиво выпили.
– Все, подчистую?!
– Ага. Они меня звали, а я побоялся.
– Это зря. Друзей надо уважать.
– А еще я на нашей улице паровозы и пароходы вижу. А еще двух ментов видел, то есть милиционеров, они балет Чайковского танцевали.
– Сейчас самое время балет танцевать. У них, как у журавлей, есть периоды танцев, – усмехнулся доктор Даун. – И это все?
– А что, мало? – простонал Лука.
– Навязчивые идеи у вас имеются?
– Это как?
– Ну, мир изменить не желаете?
– Зачем, он и так хорош?
– Общенародное счастье всем и каждому причинить не порываетесь? Спасти людей от кровавой тирании не думали?
– Нет.
– Так, голоса в своей голове не слышите, ну в смысле, Бог или черт вам ничего не нашептывают? Не требуют кого-нибудь убить или ограбить?
– Нет, доктор.
– Никто вас не преследует?
– Никто. А, доктор, – вспомнил Лука. – Моего кобеля Шарика Герасим преследует. Он его за Муму принял и утопить хотел.
– А, да, читал-читал про Муму и Герасима. Но посторонних голосов вы в своей голове не слышите?
– Нет, доктор. Только вижу черт знает что.
– В негативизм, мутизм или ступор вы не впадали?
– А что это? Может, впадал. Я когда напьюсь, могу и в ступор впасть. А в мудизм?.. Слово больно некрасивое.
– Медицинский термин, – рассмеялся доктор Даун. – Наполеоном, Гитлером или Чубайсом себя не считали?
– Нет.
– Тогда почему вы решили, что вы сумасшедший?
– Но видения, доктор: корабли, паровозы.
– Подойди к окну, – приказал Луке доктор Даун, неожиданно перейдя на «ты».
Лука смиренно подошел.
– Что ты там видишь?
Лука посмотрел. С высоты третьего этажа открывался живописный вид на центральные улицы его родного городка, на здание администрации и гостиницу, а за гости-ницей по земле, аки по воде, плыл огромный океанский пароход с четырьмя дымящимися трубами.
– Так что ты там видишь? – повторил вопрос доктор Даун. – Не стесняйся.
– Пароход, – обреченно ответил Лука.
– Вернее даже – «Титаник», – уточнил доктор Даун. – Лена, а ты что видишь?
Лениво жующая медсестра лениво посмотрела в окно.
– «Титаник», – лениво ответила она. – Он всегда в это время проплывает.
– Вот видишь, – оживился доктор Даун. – Ни я, ни Леночка сумасшедшими не являемся, но мы тоже этот пароход видим. И многие его видят, только никому про это не говорят. Ты сказочку про голого короля помнишь? Ведь что король голый видели все, но только ребенок сказал это. Но то ребенок, он несмышленыш. Если бы это сказал взрослый, его бы начали лечить! Сдали бы в Бедлам и сделали полным идиотом. Если ты что-то необычное видишь – это не сумасшествие. Сумасшествие – это когда ты необычное делать начнешь. Тогда мы за тобой приедем и лечить начнем. Иди-ка домой и ни о чем не беспокойся. Живи себе, пивом с собакой и кошкой делись. Главное, не кричи на всю округу, когда они с тобой заговорят…
Не чуя ног, Лука побежал домой. Бежал веселый, свободный, не страдающий никакими психическими отклонениями. «Это ж надо, паниковал, истериковал, шизоидом себя считал, а на деле все просто: не тот дурак, кто на самом деле дурак, а тот, кто свою дурость на обозрение выставляет. Молчи, сопи в тряпочку – за умного сойдешь». По дороге он заскочил в магазин, купил двухлитровую бутылку пива для собаки с кошкой, а для себя две литровые бутылки водки и закуски купил на оставшиеся деньги. «Напою кошку, напою кобеля, мужики придут, их тоже напою. А вечером придут подруги, напоим и их и немного поиграем в любовь. Нужно будет завтра колорадских жуков потравить и капусту полить, а то мамаша начнет скрипеть: обалдуй ты, обалдуй!»...
Где-то за горизонт уплывал по земле «Титаник», дымя своими трубами. Лука теперь видел только его жирную корму и шлейф черного дыма. На корабле по-прежнему играла музыка, веселились беспечные люди, но впереди уже вставали очертания грозного айсберга.
Никто на корабль не смотрел, никто не вскрикивал, никто не порывался обратить на корабль внимание или предупредить пассажиров о грозящей опасности, и только какой-то малыш по-детски непосредственно тянул в сторону уплывающего корабля свои маленькие ручонки...
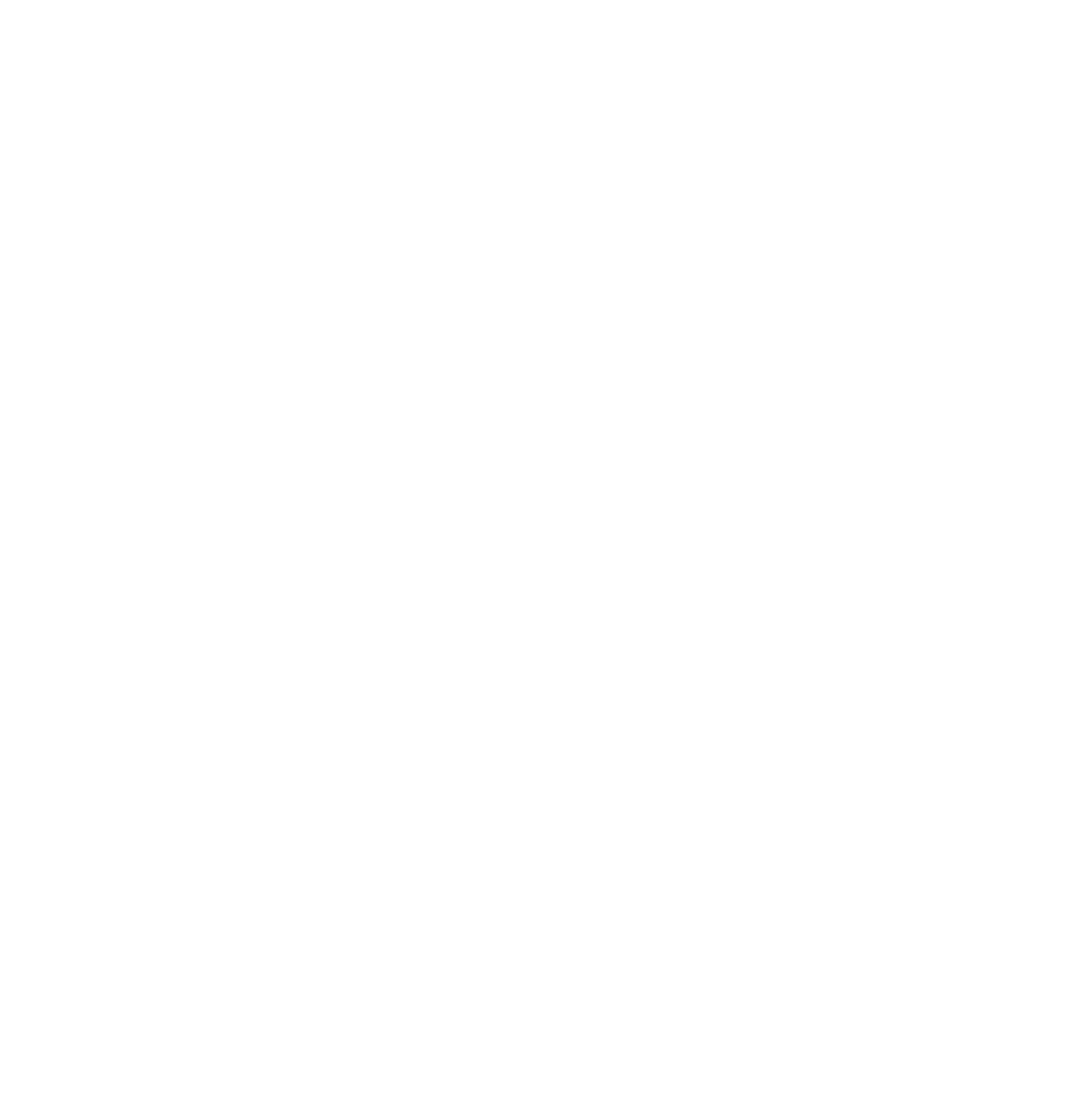
Олег ЮРЧЕНКО
Родился в 1975 году в селе Рагозино Омской области, детство и юность провел на Северном Кавказе. Продолжая семейную традицию, связал свою жизнь с педагогикой. Окончил Карачаевский государственный педагогический университет имени У. Д. Алиева. Много лет работает учителем технологии в общеобразовательной школе. Профессиональная и литературная деятельность Олега Владимировича Юрченко тесно связаны. Работа учителем во многом сформировала мировоззрение автора, определила круг его интересов и задач. Публиковался в альманахах Российского союза писателей. Номинант национальной литературной премии «Писатель года».
Родился в 1975 году в селе Рагозино Омской области, детство и юность провел на Северном Кавказе. Продолжая семейную традицию, связал свою жизнь с педагогикой. Окончил Карачаевский государственный педагогический университет имени У. Д. Алиева. Много лет работает учителем технологии в общеобразовательной школе. Профессиональная и литературная деятельность Олега Владимировича Юрченко тесно связаны. Работа учителем во многом сформировала мировоззрение автора, определила круг его интересов и задач. Публиковался в альманахах Российского союза писателей. Номинант национальной литературной премии «Писатель года».
ЖИВЕМ! МЫ - ЖИВЫЕ!
Ясный, холодный осенний день двадцатого года. Поздняя осень еще позволяла себе радовать людей солнечными деньками. Сидели мы на трамвайной остановке. Яркое солнце на фоне пронизывающего осеннего ветра отражалось в противоречии чувств и вносило некий разлад в мысли.
– Знаешь, Андрюха, а кино-то я перестал любить давно. Вот сижу и пытаюсь вспомнить из последнего, что рождало внутри те мысли и чувства, как двадцать лет назад. На ум ничего не приходит.
– А что так грустно?! Для того, чтобы вспомнить, надо это увидеть! Вот сиди и смотри кино! – по-простому ответил Андрей.
– Возможно, прошло то время, оставившее в воспоминаниях о нашей молодости море чувств и эмоций. Согласись! А если нет, то почему?
– Не соглашусь! На все должна быть причина, – парировал он.
– Помнишь, когда в 1997 году вышел фильм «Брат» Алексея Балабанова, и воплощенный образ Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова-младшего создал новый культ героя! В кругу моих друзей и знакомых не было ни одного человека, который не знал бы его и не выразил бы своего мнения. Вот это было кино!
Недавно спросил у молодых парней про Данилу из «Брата», а они не знают такого! А детвора вообще — грузят какими-то юродивыми названиями компьютерных игр, названиями, а не именами игровых героев, абсолютно безличных, виртуальных, с которыми они себя соотносят. То время было другое – кнопка перезагрузки не помогла бы! Я думал – вот оно, настоящее современное кино! Кто тогда мог бы представить, что спустя пять лет в Кармадонском ущелье Северной Осетии прервется жизнь человека, который в моем сознании остался Данилой. Не будет больше такого Данилы! Память всё это держит крепко!
– Говорил, что память подводить стала, а тут такие подробности, все даты собираешься помнить?! – усмехнулся мне товарищ.
– Какие подробности?! Трудно забыть дату 20 сентября, день моего рождения. А год со всех сторон одинаковый – 2002. С тех пор и стал пропадать интерес к современным фильмам. Правда, почти через год, в августе 2003 года увидел свет «Бумер» молодого режиссера Петра Буслова. Фильм разошелся цитатами в народе вместе с треком и… всё! Вышел второй «Бумер». Посвятили картину памяти погибших коллег-товарищей, перешедших в группу к Бодрову. Собрался было посмотреть фильм – до сих пор собираюсь…. Пропал интерес, пропал вместе с «Данилой»!
– Так бывает. Время идёт, всё меняется и люди тоже. Смотри и думай. Кино делают люди, а люди думают по-разному. Приобщайся к сотворению, – очень спокойно ответил Андрей.
– Возможно. У меня сложилось впечатление, что у вас, Андреев, акция – посмотри «кино»! Один предложил задуматься над темой, другой уговорил. Да, так фильмы я ещё никогда в жизни не смотрел!
– Как?
– Так, изнутри! Но всё же где эти эмоции, где те режиссеры? Всё осталось в прошлом?! Досадно как-то!
– А ты сам чего ждешь? Каких работ тебе ещё надо? Индустрия работает, смотри, что нравится!
– Возможно, все уже в прошлом. Где Балабанов? Где Буслов?
– Мысли твои в прошлом! За всех сказать не могу, а Буслов – вот, суетится на площадке, творит! Здесь он, а не там! Так что возвращайся! «Может, действительно надо жить настоящим», – думалось, но ход нашего разговора и рассуждений прервала громкая команда Влада:
– Живём!
Действительно – солнцем залитую улицу наполнило движение, которое ещё раз попытается изменить мир, увидеть его по-новому! «Живем!» – другую жизнь, момент. В образах и чувствах других людей. В этих образах продолжается жизнь актеров. Кто мог тогда знать, что Андрея Беликова, который мне попытался открыть мир кино по-другому, в этом мире больше не будет?! Возвращаясь с реконструкции 13.02.2023, утром прислал картинку «13 февраля – День рождения кинокамеры», а потом – автоавария и сухое сообщение: «В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте». Опять цифры, которые я не забуду!
…Опять из моего мира кино ушел человек, который делал его другим…
Осталась только жизнь в образах киношных героев, благодаря «той самой кинокамере». И эти герои с экрана утверждают: «Живем! Мы – живые!»
Ясный, холодный осенний день двадцатого года. Поздняя осень еще позволяла себе радовать людей солнечными деньками. Сидели мы на трамвайной остановке. Яркое солнце на фоне пронизывающего осеннего ветра отражалось в противоречии чувств и вносило некий разлад в мысли.
– Знаешь, Андрюха, а кино-то я перестал любить давно. Вот сижу и пытаюсь вспомнить из последнего, что рождало внутри те мысли и чувства, как двадцать лет назад. На ум ничего не приходит.
– А что так грустно?! Для того, чтобы вспомнить, надо это увидеть! Вот сиди и смотри кино! – по-простому ответил Андрей.
– Возможно, прошло то время, оставившее в воспоминаниях о нашей молодости море чувств и эмоций. Согласись! А если нет, то почему?
– Не соглашусь! На все должна быть причина, – парировал он.
– Помнишь, когда в 1997 году вышел фильм «Брат» Алексея Балабанова, и воплощенный образ Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова-младшего создал новый культ героя! В кругу моих друзей и знакомых не было ни одного человека, который не знал бы его и не выразил бы своего мнения. Вот это было кино!
Недавно спросил у молодых парней про Данилу из «Брата», а они не знают такого! А детвора вообще — грузят какими-то юродивыми названиями компьютерных игр, названиями, а не именами игровых героев, абсолютно безличных, виртуальных, с которыми они себя соотносят. То время было другое – кнопка перезагрузки не помогла бы! Я думал – вот оно, настоящее современное кино! Кто тогда мог бы представить, что спустя пять лет в Кармадонском ущелье Северной Осетии прервется жизнь человека, который в моем сознании остался Данилой. Не будет больше такого Данилы! Память всё это держит крепко!
– Говорил, что память подводить стала, а тут такие подробности, все даты собираешься помнить?! – усмехнулся мне товарищ.
– Какие подробности?! Трудно забыть дату 20 сентября, день моего рождения. А год со всех сторон одинаковый – 2002. С тех пор и стал пропадать интерес к современным фильмам. Правда, почти через год, в августе 2003 года увидел свет «Бумер» молодого режиссера Петра Буслова. Фильм разошелся цитатами в народе вместе с треком и… всё! Вышел второй «Бумер». Посвятили картину памяти погибших коллег-товарищей, перешедших в группу к Бодрову. Собрался было посмотреть фильм – до сих пор собираюсь…. Пропал интерес, пропал вместе с «Данилой»!
– Так бывает. Время идёт, всё меняется и люди тоже. Смотри и думай. Кино делают люди, а люди думают по-разному. Приобщайся к сотворению, – очень спокойно ответил Андрей.
– Возможно. У меня сложилось впечатление, что у вас, Андреев, акция – посмотри «кино»! Один предложил задуматься над темой, другой уговорил. Да, так фильмы я ещё никогда в жизни не смотрел!
– Как?
– Так, изнутри! Но всё же где эти эмоции, где те режиссеры? Всё осталось в прошлом?! Досадно как-то!
– А ты сам чего ждешь? Каких работ тебе ещё надо? Индустрия работает, смотри, что нравится!
– Возможно, все уже в прошлом. Где Балабанов? Где Буслов?
– Мысли твои в прошлом! За всех сказать не могу, а Буслов – вот, суетится на площадке, творит! Здесь он, а не там! Так что возвращайся! «Может, действительно надо жить настоящим», – думалось, но ход нашего разговора и рассуждений прервала громкая команда Влада:
– Живём!
Действительно – солнцем залитую улицу наполнило движение, которое ещё раз попытается изменить мир, увидеть его по-новому! «Живем!» – другую жизнь, момент. В образах и чувствах других людей. В этих образах продолжается жизнь актеров. Кто мог тогда знать, что Андрея Беликова, который мне попытался открыть мир кино по-другому, в этом мире больше не будет?! Возвращаясь с реконструкции 13.02.2023, утром прислал картинку «13 февраля – День рождения кинокамеры», а потом – автоавария и сухое сообщение: «В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли на месте». Опять цифры, которые я не забуду!
…Опять из моего мира кино ушел человек, который делал его другим…
Осталась только жизнь в образах киношных героев, благодаря «той самой кинокамере». И эти герои с экрана утверждают: «Живем! Мы – живые!»

Лариса ФАРАФОНОВА
Родилась на Алтае в семье военнослужащего. В Горно-Алтайске закончила 10 классов, в городе Томске – медицинский институт (лечебный факультет), откуда по окончании была направлена в город Северск Томской области врачом-хирургом. Наряду с врачебной работой вела программу «Здоровье начинается дома» на городском радио и телевизионную программу «Дневник врача» в городской телекомпании. Первые публикации вышли в сборнике «Дети войны» томского издательства, последующие – «Когда приходит почта полевая», «Помоги себе сам», «Небесная пехота», «Может, поможет», «Советские дедушки и бабушки» – вышли отдельными изданиями. Ветеран труда, ветеран атомной промышленности, отличник гражданской обороны, лектор общества «Знание» РФ, журналист.
Родилась на Алтае в семье военнослужащего. В Горно-Алтайске закончила 10 классов, в городе Томске – медицинский институт (лечебный факультет), откуда по окончании была направлена в город Северск Томской области врачом-хирургом. Наряду с врачебной работой вела программу «Здоровье начинается дома» на городском радио и телевизионную программу «Дневник врача» в городской телекомпании. Первые публикации вышли в сборнике «Дети войны» томского издательства, последующие – «Когда приходит почта полевая», «Помоги себе сам», «Небесная пехота», «Может, поможет», «Советские дедушки и бабушки» – вышли отдельными изданиями. Ветеран труда, ветеран атомной промышленности, отличник гражданской обороны, лектор общества «Знание» РФ, журналист.
В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО
Виталий Никитович Фарафонов родился в 1935 году в бедной крестьянской семье в Курской области, где недавно начался процесс коллективизации сельского хозяйства, и все сезонные работы, в связи с этим трудности и неурядицы разделялись со взрослыми. Не успел подрасти, как началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт и отдал свою жизнь за Родину под Харьковом. Большая семья осталась без кормильца.
Большое прилежание, упорство и целеустремленность во время учебы в школе позволили ему успешно подготовиться и поступить в Харьковский политехнический институт, после успешного окончания которого он приехал в город Томск-7. Молодой теплотехник-инженер приступил к работе на строящемся тогда объекте №15, с которым и связана была вся его трудовая жизнь. Большое трудолюбие, настойчивость, упорство и целеустремленность, столь присущие этому человеку, позволили ему освоить и изучить в полном совершенстве все внешние энергетические сети и оборудование зданий, подведомственных отделу Главного энергетика, в котором он трудился.
К сожалению, при пусковых работах не обошлось без несчастья. Виталий Никитович пострадал на производстве, получив термический ожог. Попал в больницу, где и познакомился с молодым хирургом и красивой женщиной Ларисой Николаевной, которая и стала его судьбой. Образовалась семья, которая была самым дорогим для Виталия Никитовича на все последующие 44 года.
Молодой, грамотный и трудолюбивый специалист был замечен руководством объекта, и после отъезда в другой город заместителя главного энергетика Матюхина Н.М. назначается Виталий Никитович на эту должность. А тёплые, дружеские отношения и переписка с Матюхиным Н.М. сохранились на всю жизнь.
Спустя несколько лет после перевода в УКС первого главного энергетика объекта 15 Карпова Б.В. Виталия Никитовича, к тому времени в совершенстве изучившего схемы электроснабжения и электрическое оборудование, назначают главным энергетиком. На этой должности Виталий Никитович проработал много лет, до самого ухода на заслуженный отдых. В период деятельности Виталия Никитовича на должности главного энергетика происходит дальнейшее становление и совершенствование энергетической службы объекта, а потом и её централизация с образованием энергетического цеха. Это был достаточно непростой этап работы.
Виталия Никитовича в его работе и общении с коллегами всегда отличали скромность, порядочность, интеллигентность. Будучи требовательным и настойчивым руководителем, всегда имевшим своё мнение и с упорством его отстаивающим, Виталий Никитович вместе с тем был прост в общении. Только лёгкая дрожь пальцев выдавала в нём волнение после жарких споров, которые неизбежно возникали иногда в процессе работы на производстве.
Наша повесть была бы неполной, если бы мы не рассказали о Виталии Никитовиче как о семейном человеке.
В советское время высоко ценилась семейная жизнь, т.к. считалось, что семья – ячейка нашего социалистического общества. Разные дебоширы, так называемые «кухонные боксёры», резко осуждались в рабочих коллективах, среди соседей, на собраниях и т.д.
Когда Виталию Никитовичу приносили жалобы жены подчиненных ему сотрудников, он самым тщательным образом разбирался с такими случаями. Старался проводить индивидуальную беседу, не обижая и не унижая человека, миря супругов. В его архиве до сих пор сохранились некоторые жалобы жен на своих, уже умерших, мужей.
Как-то в одном произведении А.П. Чехова встретилась замечательная фраза: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти слова полностью можно отнести к Виталию Никитовичу. Так и напрашивается вопрос: «Откуда всё это у него?» Ведь вырос в бедной крестьянской семье, без отца, которого убили немцы в 1942 году под Харьковом. На оккупированной немцами территории проходили детские впечатления, в голоде, в холоде и бесконечных переживаниях за мать, кормилицу и защитницу семьи. Трое маленьких детей, старшему Виталию – 6 лет, сестренке – 3 годика, а младшему только 1 годик и питается тем, что сосет из марлевой повязки размоченный ржаной с картошкой кусочек хлеба. Молоко, кур и гусей отбирают фашисты. В результате младший в детстве не видел молока, такого необходимого продукта для ребенка, он и взрослый его просто не ел и умер от острого инфаркта в 50 лет прямо на работе, на тракторе. Это был самый лучший тракторист Курской области.
Мама Виталия Никитовича, Марфа Николаевна, была женщиной необыкновенной красоты, мудрости, душевности и великой труженицей. Сколько тонн и километров её ручки пропололи сахарной свеклы (основная культура Курской области), известно только одному Господу Богу. За самоотверженный труд советское правительство начислило пенсию в 12 рублей 50 копеек.
Из рассказов Виталия Никитовича известно, что его дедушка – отец его отца Никиты Романовича, был помещиком, из разорившего рода, об этом напоминают многолетние заросли сирени, которые представляют собой живой забор когда-то бывшего дома с большим двором. В семье было четыре сына и дочь. Один из них, полковник, жил после Великой Отечественной войны в Ярославе, Иван Романович, другой, Василий Романович, в Москве работал машинистом на заводе им. Лихачева, и дочь Анастасия Романовна тоже в Москве работала на фабрике. Младший, Никита Романович, сложил свою голову под Харьковым, защищая украинскую землю от фашистов в Великую Отечественную войну.
Кроме троих детей с Марфой Николаевной жила свекровь Наталья – мать отца Виталия Никитовича. Очень образованная женщина из дворянской семьи, в свое время получившая широкое образование, оказала огромное влияние на внука Виталика. Он был похож на ее погибшего сына Никиту, который вопреки ее воле женился на бедной крестьянке девушке Марфе с красивыми голубыми, как небо в июле, глазами и необыкновенным сопрано.
Шли годы, война 1914 года, революция 1917 года, все изменилось, и началась уже Великая Отечественная вой-на 1941-1945 гг. Бабушка Наташа оставалась уже много лет одна и жила в семье сына Никиты. Все тяготы военного времени, оккупацию бабушка была с семьей своей Марфы. В 1943 году умерла, и похоронили ее в огороде, на могилу посадили две яблони. Так как немцы занимали село, умерших все хоронили в огородах, немцы не пускали на погост села.
Бабушка Наташа маленького Витю учила читать по букварю, писать, много ему рассказывала интересных сказок, стихов, незабываемые интересные истории из жизни родных и близких людей, о житейской мудрости. Маленький мальчик очень любил свою бабушку и все свои детские неудачи доверял ей. Бывало, если его обидит кто-то, бежит к бабушке. Уткнется ей в колени и плачет. Она умела его успокоить и уговорить. Будучи уже взрослым человеком, он часто вспоминал бабушку Наталью и рассказывал о ней, как о живом человеке, живущем сейчас. Её влияние на Виталия Никитовича было сформулировано на всю жизнь. Именно от неё он был высокоинтеллигентным, честным, принципиальным и благородным человеком. Умел выслушать любого и заступиться по-отечески, жалел обиженных.
Хорошо помнится, когда у нас жил и учился внук Денис. Виталий Никитович делал такие замечания: «Ларисок, не жалей денег, дай парню, пусть порадуется мальчишка. Когда я учился в институте, и не было у меня денег, я очень это тяжело переживал».
Был у Виталия такой тяжелый период, когда при поступлении он не набрал баллов для получения стипендии, и он решил попросить помощи у дяди, полковника Ивана Романовича в Ярославле. Но он ему отказал в помощи. Это был страшный удар. Тогда Марфа Николаевна продала единственную недвижимость – сарай из досок над погребом, и на вырученные деньги первый семестр Виталий смог обеспечить себя скудной едой. После окончания института, работая на СХК-15, Виталий Никитович построил дом и сарай своей маме в первую очередь, помогал деньгами и посылками, лекарствами и подарками.
Ежегодно мы с Виталием ездили в его деревню к маме. Сколько было радостных дней проведено с земляками, походов в дубовый лес за дикими грушами и яблоками.
Постепенно жизнь в деревне налаживалась. Люди стали лучше жить, приглашали и угощали в своих новых домах, и поэтому до конца своих дней Виталий Никитович трепетно вспоминал о своей родине. Он никогда не стремился съездить за границу. У него была своя твердая точка зрения: «Нет более лучшей страны, чем Россия». Его любимая песня: «…И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава…»
Перед своей кончиной он рассказывал сны, в которых находился в своем родном селе, в бору, купался в копанках. Он очень хотел быть похороненным в своей деревне. И в связи с этим включал кассету с вальсом «Амурские волны»: «…Спите бойцы, спите спокойным сном, пусть вам приснятся нивы родные, далекий отчий дом».
Виталий Никитович был принципиальным человеком, умел, что называется, держать удар. Он всегда заступался за свою семью, за детей, за жену. Был защитником, опорой семьи. Исключительно честный человек, он за свою жизнь никогда никого не обманул, не подвел, не обидел. Тактичный, спокойный, в семье ласковый, трудолюбивый, чистоплотный в прямом смысле, он и детей приучал к этому.
Когда наш сын Владимир в лихие 90-е годы проживал в Москве, стал индивидуальным предпринимателем, ему пригодились навыки Виталия Никитовича. В мастерской сына была ослепительная чистота, порядок и уют.
Виталий Никитович и Володя в субботу устраивали в квартире «субботник». Мыли все полы, окна, выбивали ковры. Огромная четырехкомнатная квартира блестела, как новая. Потом выезжали на «Волге» на дачу, где тоже наводили порядок в домике, на грядках. Наш верный пес, московская сторожевая псина Чибижан, придавала особое настроение всем членам семьи. Виталий Никитович очень любил детей. Они к нему просто «прилипали». Обе дочери, Инна и Наташа, были всегда для него забавными и любимыми, а сыном он всегда гордился. И всегда горюнился и говорил: «До чего Володя скромный, ему нужно было девочкой родиться». И не смотря на свои душевные, теплые черты характера, отслужил в ВДВ десантником в горно-пустынной дивизии. Совершил огромное число вылетов и прыжков с парашютом. И тем самым заслужил уважение и Виталия Никитовича, и командования ВДВ.
ВДВ – не шутка, дорогая! ВДВ – не просто строй солдат, парни жизни в ВДВ теряют и на дембель с сединой летят!
Виталий Никитович трепетно относился к благополучию своей семьи. Помню, как он до двух часов ночи просиживал за изучением расположения зданий, их нумерологией, назначением. К ежегодной аттестации подходил настолько серьезно, что это вызывало искреннее уважение к его трудолюбию. За 44 года Виталий Никитович ни разу не обидел свою жену, гордился ею, заботился о ней. Искренне переживал, если она болела, никогда не жалел тратить не неё деньги, всегда на любой праздник одаривал подарками.
В отличие от многих мужчин советского времени, он не курил и не увлекался алкоголем. Семья за ним была как за каменной стеной. Постоянно заботился о материальном благополучии своей семьи, получая премии, гонорары за рацпредложения, откладывал на сберкнижку, говоря при этом, что это тебе, Ларисок, на старость. Учил, как рационально расходовать накопленные средства и умел выбрать так вещи, что они в любое лихолетье и красивы, и прочны, и практичны. До сих пор не потеряли своей привлекательности вещи, купленные Виталием Никитовичем.
Ко всем его многочисленным достоинствам следует сказать о его музыкальных способностях. Он обладал прекрасным музыкальным слухом, памятью. Ах, если бы в детстве была возможность учиться в музыкальной школе, он был бы не менее талантлив и здесь, как на заводе в качестве инженера. Виталий Никитович никогда не жалел денег на организацию летнего отдыха семьи. Дети ежегодно отдыхали не только в местных оздоровительных лагерях, но и в детских здравницах Советского Союза: в Артеке, в Феодосии, на Иссык-Куле, в Красноярском и Краснодарском краях. В зимние каникулы ездили на экскурсии в Москву, Ленинград, Новосибирск и другие города.
С Виталием Никитовичем мы были премированы за отличные показатели в труде и общественной жизни путевками в международный лагерь «Спутник». Там мы впервые увидели представителей капиталистических стран – Франции и Америки, молодежь социалистического лагеря – ГДР, Чехии. Незабываемые походы по партизанским тропам Крыма с заходом в долину Орлиный залёт, где выращивали розы для парфюмерной продукции, а какими интересными были экскурсии по Прибалтике, Белоруссии, Ленинграду и Москве. Конечно, никогда не забыть тех счастливых дней, проведенных в Сочи, Хосте, Феодосии, Новом Афоне, Белокурихе и других здравницах СССР.
Мы с Виталием Никитовичем очень любили обсуждать различные события, прочитанные книги. Он любил читать мне свои стихи про старый клен возле нового дома: «Этот клён не спилили, когда строили дом». Этот клен до сих пор хранит память о детстве, юности и, я думаю, и сейчас охраняет покой ушедших, всех живших в согласии и любви.
Виталий Никитович Фарафонов родился в 1935 году в бедной крестьянской семье в Курской области, где недавно начался процесс коллективизации сельского хозяйства, и все сезонные работы, в связи с этим трудности и неурядицы разделялись со взрослыми. Не успел подрасти, как началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт и отдал свою жизнь за Родину под Харьковом. Большая семья осталась без кормильца.
Большое прилежание, упорство и целеустремленность во время учебы в школе позволили ему успешно подготовиться и поступить в Харьковский политехнический институт, после успешного окончания которого он приехал в город Томск-7. Молодой теплотехник-инженер приступил к работе на строящемся тогда объекте №15, с которым и связана была вся его трудовая жизнь. Большое трудолюбие, настойчивость, упорство и целеустремленность, столь присущие этому человеку, позволили ему освоить и изучить в полном совершенстве все внешние энергетические сети и оборудование зданий, подведомственных отделу Главного энергетика, в котором он трудился.
К сожалению, при пусковых работах не обошлось без несчастья. Виталий Никитович пострадал на производстве, получив термический ожог. Попал в больницу, где и познакомился с молодым хирургом и красивой женщиной Ларисой Николаевной, которая и стала его судьбой. Образовалась семья, которая была самым дорогим для Виталия Никитовича на все последующие 44 года.
Молодой, грамотный и трудолюбивый специалист был замечен руководством объекта, и после отъезда в другой город заместителя главного энергетика Матюхина Н.М. назначается Виталий Никитович на эту должность. А тёплые, дружеские отношения и переписка с Матюхиным Н.М. сохранились на всю жизнь.
Спустя несколько лет после перевода в УКС первого главного энергетика объекта 15 Карпова Б.В. Виталия Никитовича, к тому времени в совершенстве изучившего схемы электроснабжения и электрическое оборудование, назначают главным энергетиком. На этой должности Виталий Никитович проработал много лет, до самого ухода на заслуженный отдых. В период деятельности Виталия Никитовича на должности главного энергетика происходит дальнейшее становление и совершенствование энергетической службы объекта, а потом и её централизация с образованием энергетического цеха. Это был достаточно непростой этап работы.
Виталия Никитовича в его работе и общении с коллегами всегда отличали скромность, порядочность, интеллигентность. Будучи требовательным и настойчивым руководителем, всегда имевшим своё мнение и с упорством его отстаивающим, Виталий Никитович вместе с тем был прост в общении. Только лёгкая дрожь пальцев выдавала в нём волнение после жарких споров, которые неизбежно возникали иногда в процессе работы на производстве.
Наша повесть была бы неполной, если бы мы не рассказали о Виталии Никитовиче как о семейном человеке.
В советское время высоко ценилась семейная жизнь, т.к. считалось, что семья – ячейка нашего социалистического общества. Разные дебоширы, так называемые «кухонные боксёры», резко осуждались в рабочих коллективах, среди соседей, на собраниях и т.д.
Когда Виталию Никитовичу приносили жалобы жены подчиненных ему сотрудников, он самым тщательным образом разбирался с такими случаями. Старался проводить индивидуальную беседу, не обижая и не унижая человека, миря супругов. В его архиве до сих пор сохранились некоторые жалобы жен на своих, уже умерших, мужей.
Как-то в одном произведении А.П. Чехова встретилась замечательная фраза: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти слова полностью можно отнести к Виталию Никитовичу. Так и напрашивается вопрос: «Откуда всё это у него?» Ведь вырос в бедной крестьянской семье, без отца, которого убили немцы в 1942 году под Харьковом. На оккупированной немцами территории проходили детские впечатления, в голоде, в холоде и бесконечных переживаниях за мать, кормилицу и защитницу семьи. Трое маленьких детей, старшему Виталию – 6 лет, сестренке – 3 годика, а младшему только 1 годик и питается тем, что сосет из марлевой повязки размоченный ржаной с картошкой кусочек хлеба. Молоко, кур и гусей отбирают фашисты. В результате младший в детстве не видел молока, такого необходимого продукта для ребенка, он и взрослый его просто не ел и умер от острого инфаркта в 50 лет прямо на работе, на тракторе. Это был самый лучший тракторист Курской области.
Мама Виталия Никитовича, Марфа Николаевна, была женщиной необыкновенной красоты, мудрости, душевности и великой труженицей. Сколько тонн и километров её ручки пропололи сахарной свеклы (основная культура Курской области), известно только одному Господу Богу. За самоотверженный труд советское правительство начислило пенсию в 12 рублей 50 копеек.
Из рассказов Виталия Никитовича известно, что его дедушка – отец его отца Никиты Романовича, был помещиком, из разорившего рода, об этом напоминают многолетние заросли сирени, которые представляют собой живой забор когда-то бывшего дома с большим двором. В семье было четыре сына и дочь. Один из них, полковник, жил после Великой Отечественной войны в Ярославе, Иван Романович, другой, Василий Романович, в Москве работал машинистом на заводе им. Лихачева, и дочь Анастасия Романовна тоже в Москве работала на фабрике. Младший, Никита Романович, сложил свою голову под Харьковым, защищая украинскую землю от фашистов в Великую Отечественную войну.
Кроме троих детей с Марфой Николаевной жила свекровь Наталья – мать отца Виталия Никитовича. Очень образованная женщина из дворянской семьи, в свое время получившая широкое образование, оказала огромное влияние на внука Виталика. Он был похож на ее погибшего сына Никиту, который вопреки ее воле женился на бедной крестьянке девушке Марфе с красивыми голубыми, как небо в июле, глазами и необыкновенным сопрано.
Шли годы, война 1914 года, революция 1917 года, все изменилось, и началась уже Великая Отечественная вой-на 1941-1945 гг. Бабушка Наташа оставалась уже много лет одна и жила в семье сына Никиты. Все тяготы военного времени, оккупацию бабушка была с семьей своей Марфы. В 1943 году умерла, и похоронили ее в огороде, на могилу посадили две яблони. Так как немцы занимали село, умерших все хоронили в огородах, немцы не пускали на погост села.
Бабушка Наташа маленького Витю учила читать по букварю, писать, много ему рассказывала интересных сказок, стихов, незабываемые интересные истории из жизни родных и близких людей, о житейской мудрости. Маленький мальчик очень любил свою бабушку и все свои детские неудачи доверял ей. Бывало, если его обидит кто-то, бежит к бабушке. Уткнется ей в колени и плачет. Она умела его успокоить и уговорить. Будучи уже взрослым человеком, он часто вспоминал бабушку Наталью и рассказывал о ней, как о живом человеке, живущем сейчас. Её влияние на Виталия Никитовича было сформулировано на всю жизнь. Именно от неё он был высокоинтеллигентным, честным, принципиальным и благородным человеком. Умел выслушать любого и заступиться по-отечески, жалел обиженных.
Хорошо помнится, когда у нас жил и учился внук Денис. Виталий Никитович делал такие замечания: «Ларисок, не жалей денег, дай парню, пусть порадуется мальчишка. Когда я учился в институте, и не было у меня денег, я очень это тяжело переживал».
Был у Виталия такой тяжелый период, когда при поступлении он не набрал баллов для получения стипендии, и он решил попросить помощи у дяди, полковника Ивана Романовича в Ярославле. Но он ему отказал в помощи. Это был страшный удар. Тогда Марфа Николаевна продала единственную недвижимость – сарай из досок над погребом, и на вырученные деньги первый семестр Виталий смог обеспечить себя скудной едой. После окончания института, работая на СХК-15, Виталий Никитович построил дом и сарай своей маме в первую очередь, помогал деньгами и посылками, лекарствами и подарками.
Ежегодно мы с Виталием ездили в его деревню к маме. Сколько было радостных дней проведено с земляками, походов в дубовый лес за дикими грушами и яблоками.
Постепенно жизнь в деревне налаживалась. Люди стали лучше жить, приглашали и угощали в своих новых домах, и поэтому до конца своих дней Виталий Никитович трепетно вспоминал о своей родине. Он никогда не стремился съездить за границу. У него была своя твердая точка зрения: «Нет более лучшей страны, чем Россия». Его любимая песня: «…И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава…»
Перед своей кончиной он рассказывал сны, в которых находился в своем родном селе, в бору, купался в копанках. Он очень хотел быть похороненным в своей деревне. И в связи с этим включал кассету с вальсом «Амурские волны»: «…Спите бойцы, спите спокойным сном, пусть вам приснятся нивы родные, далекий отчий дом».
Виталий Никитович был принципиальным человеком, умел, что называется, держать удар. Он всегда заступался за свою семью, за детей, за жену. Был защитником, опорой семьи. Исключительно честный человек, он за свою жизнь никогда никого не обманул, не подвел, не обидел. Тактичный, спокойный, в семье ласковый, трудолюбивый, чистоплотный в прямом смысле, он и детей приучал к этому.
Когда наш сын Владимир в лихие 90-е годы проживал в Москве, стал индивидуальным предпринимателем, ему пригодились навыки Виталия Никитовича. В мастерской сына была ослепительная чистота, порядок и уют.
Виталий Никитович и Володя в субботу устраивали в квартире «субботник». Мыли все полы, окна, выбивали ковры. Огромная четырехкомнатная квартира блестела, как новая. Потом выезжали на «Волге» на дачу, где тоже наводили порядок в домике, на грядках. Наш верный пес, московская сторожевая псина Чибижан, придавала особое настроение всем членам семьи. Виталий Никитович очень любил детей. Они к нему просто «прилипали». Обе дочери, Инна и Наташа, были всегда для него забавными и любимыми, а сыном он всегда гордился. И всегда горюнился и говорил: «До чего Володя скромный, ему нужно было девочкой родиться». И не смотря на свои душевные, теплые черты характера, отслужил в ВДВ десантником в горно-пустынной дивизии. Совершил огромное число вылетов и прыжков с парашютом. И тем самым заслужил уважение и Виталия Никитовича, и командования ВДВ.
ВДВ – не шутка, дорогая! ВДВ – не просто строй солдат, парни жизни в ВДВ теряют и на дембель с сединой летят!
Виталий Никитович трепетно относился к благополучию своей семьи. Помню, как он до двух часов ночи просиживал за изучением расположения зданий, их нумерологией, назначением. К ежегодной аттестации подходил настолько серьезно, что это вызывало искреннее уважение к его трудолюбию. За 44 года Виталий Никитович ни разу не обидел свою жену, гордился ею, заботился о ней. Искренне переживал, если она болела, никогда не жалел тратить не неё деньги, всегда на любой праздник одаривал подарками.
В отличие от многих мужчин советского времени, он не курил и не увлекался алкоголем. Семья за ним была как за каменной стеной. Постоянно заботился о материальном благополучии своей семьи, получая премии, гонорары за рацпредложения, откладывал на сберкнижку, говоря при этом, что это тебе, Ларисок, на старость. Учил, как рационально расходовать накопленные средства и умел выбрать так вещи, что они в любое лихолетье и красивы, и прочны, и практичны. До сих пор не потеряли своей привлекательности вещи, купленные Виталием Никитовичем.
Ко всем его многочисленным достоинствам следует сказать о его музыкальных способностях. Он обладал прекрасным музыкальным слухом, памятью. Ах, если бы в детстве была возможность учиться в музыкальной школе, он был бы не менее талантлив и здесь, как на заводе в качестве инженера. Виталий Никитович никогда не жалел денег на организацию летнего отдыха семьи. Дети ежегодно отдыхали не только в местных оздоровительных лагерях, но и в детских здравницах Советского Союза: в Артеке, в Феодосии, на Иссык-Куле, в Красноярском и Краснодарском краях. В зимние каникулы ездили на экскурсии в Москву, Ленинград, Новосибирск и другие города.
С Виталием Никитовичем мы были премированы за отличные показатели в труде и общественной жизни путевками в международный лагерь «Спутник». Там мы впервые увидели представителей капиталистических стран – Франции и Америки, молодежь социалистического лагеря – ГДР, Чехии. Незабываемые походы по партизанским тропам Крыма с заходом в долину Орлиный залёт, где выращивали розы для парфюмерной продукции, а какими интересными были экскурсии по Прибалтике, Белоруссии, Ленинграду и Москве. Конечно, никогда не забыть тех счастливых дней, проведенных в Сочи, Хосте, Феодосии, Новом Афоне, Белокурихе и других здравницах СССР.
Мы с Виталием Никитовичем очень любили обсуждать различные события, прочитанные книги. Он любил читать мне свои стихи про старый клен возле нового дома: «Этот клён не спилили, когда строили дом». Этот клен до сих пор хранит память о детстве, юности и, я думаю, и сейчас охраняет покой ушедших, всех живших в согласии и любви.
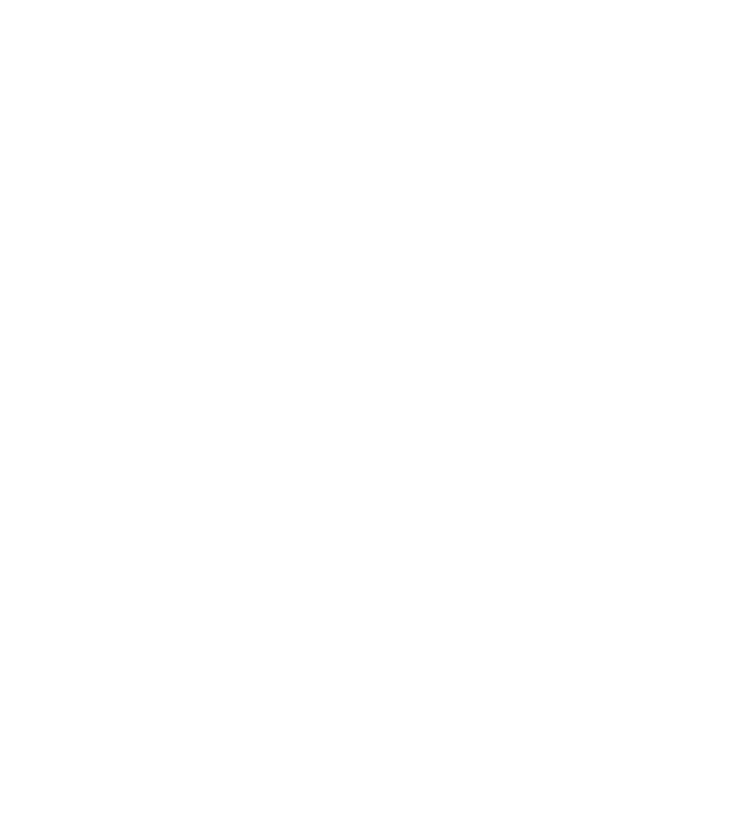
Василий МОРСКОЙ
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела.
Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела.
Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
АЛЕШКИНЫ ИСТОРИИ
Глава 1. Пожарный вагон
В детстве Алёша Марков собирал почтовые марки, как, наверное, многие дети того времени. Часть его коллекции состояла из разношёрстных марок прошлого, когда-то оставленных на хранение его мамой и бабушкой. Это были марки и марочки разных размеров и содержания, некоторые из них действительно снятые с почтовых конвертов, некоторые, невесть откуда взявшиеся из прошлого семьи, давно лежали в маминой коробке со всякими документами и старыми письмами. Наивно Алексей полагал, что это не очень ценная часть его коллекции, поэтому слишком с ними не церемонился и держал их в альбоме за обложкой. А вот самая ценная, по его мнению, часть коллекции состояла из современных марок того времени, которые ему покупали родители время от времени. Это были марки про спорт, про города, про флору и фауну разных стран. Они были цветные и очень красивые.
Семья Марковых жила во Владивостоке, и первокласснику Алёше Маркову родители разрешали иногда покупать самому марки в киоске «Союзпечать», что стоял на перекрёстке улиц Спортивной и Фадеева. Этот киоск стоял прямо на пути к Алёшиной начальной школе № 41, где он учился в первом классе. Дважды в день Алёша ходил мимо этого киоска, мимоходом поглядывая на марки, которые были выставлены на кляссерах лицом наружу киоска. Было очень удобно, иногда даже не останавливаясь, просто посмотреть на стекло киоска и понять, что ничего новенького не появилось.
Однажды, проходя мимо, Алёша увидел, что произошли изменения в витрине киоска, какое-то цветное пятно появилось на кляссерах! Он приблизился и увидел новые марки! Это была фееричная серия марок о птицах из африканской страны Бурунди (Burundi)! Они были каких-то удивительных цветов, больших размеров и представлены огромным блоком (специалисты знают, что блок марок значительно дороже отдельных марок). Крупные, не известные ему ранее, цветные птицы были изображены на фоне ярких джунглей и каких-то экзотических растений. У Алексея задрожали ноги, так он захотел их в свою коллекцию! Но стоимость! Это была какая-то «сумасшедшая» сумма – 6 рублей 45 копеек. Ему давали каждый день по 50 копеек на перекус в школе, это означало, что копить надо было… примерно... нет, никак не считалось в уме, он вспотел, но не мог сразу сосчитать, сколько дней надо было не есть, не пить, а только складывать в железную коробку из-под конфет «Монпансье»!
Он побрёл в школу на чугунных ногах, с чувством какой-то огромной потери, какой-то почти катастрофы, понимая, что он не сможет никогда их купить, а ведь за стеклом в киоске их видят все. Конечно, такие марки не простоят долго, их просто мгновенно раскупят!
В школе Варвара Сергеевна, его первая учительница, заметила «смурное» настроение Алёши Маркова и даже спросила – не случилось ли чего дома? Он промолчал, потому что складывал в столбик по 50 копеек, считал, сколько времени надо на накопление требуемой суммы, получалось уже больше двух недель, ему стало ещё хуже, и он совсем сник.
Возвращаясь домой из школы, мысль работала только в одном направлении: как попросить у мамы 6 рублей, а 45 копеек у него оставались, и он мог бы добавить сам.
Есть ничего не хотелось, хотя ему оставлен был обед, как обычно, в холодильнике, надо было только разогреть! Но еда сегодня ему была не в милость, и ничто было ему не в милость! Сестра Людмила была в садике, он был, как всегда, предоставлен сам себе до прихода родителей с работы.
Алёша быстро справился с уроками, ему всё давалось легко, и слонялся по квартире с одной навязчивой мыслью. Мама может не дать такую сумму, а может, и даст, нет, не даст, больно много! В гостиной комнате, под столом на полу стоял красный пластмассовый вагон от пожарного поезда, который ему подарили на день рождения пару лет назад. Он пнул его от досады, и вагон переехал с места на место с металлическим звуком. От озарившей его мысли бросило в жар, потом в холод.
Он вспомнил, что папа приспособил этот игрушечный вагончик под семейную копилку. Он прорезал небольшое отверстие в пластиковой торцевой стенке вагона и просовывал туда большие металлические рубли. Алексей поднял вагон и посмотрел на свет: монет там было много, сколько, даже боязно представить, но побольше трёх десятков, точно! Он переворачивал вагон из стороны в сторону, рубли перекатывались внутри со звоном, который будоражил маленького Алёшу. Он поставил его «на попа» и потряс; нет, конечно, выпасть не могла ни одна монетка, слишком узкое было отверстие, папа всё рассчитал.
Тогда Алексей взял столовый нож и попробовал лезвием «пошурудить» внутри вагончика, это ему удалось, однако ничего не происходило, рубли не вытаскивались. Он понимал, что попадёт ему «по первое число», если, правда, заметят! Но что-то было сильнее его, это что-то подсказывало ему: надо чуть-чуть раздвинуть стеночки прорези, только чуть-чуть, чтобы пролезла одна монетка, и она пролезла, и вторая, и третья, и… шестая…
Прибежав к киоску, зажав в потном кулаке монеты, он увидел, что марки стояли на месте. С души свалился камень, и ему стало необычайно легко, а дальше, дальше, как в тумане, марки перекочевали ему в руки, а деньги – в руки продавщицы киоска.
Вечером он был шёлковый до такой степени, что даже сестра Людмила заметила и спросила, что с ним происходит?
Так пролетело несколько дней, ровно до того момента, как папа решил засунуть в свою копилку очередной железный рубль. Он погремел немножко вагончиком, переворачивая его чуть дольше чем обычно, потом позвал маму на кухню. Через минуту они вышли оттуда вместе и, держа на весу вагончик, мама спросила:
– Алёшенька, ты брал деньги из вагончика? Что-то тут все изрезано ножом? Это ты сделал? – Алексей перехватил Людмилин тревожный взгляд, она сейчас тоже была не на его стороне…
Решил сдаться сразу – заревел «белугой», подошёл к альбому с марками и открыл, показывая всем марки никому не известной страны Бурунди. Отец, заведясь с пол-оборота, видимо, он думал, что причина будет более веской, тихо взял в прихожей длинную сапожную ложку, сделанную из китового уса, и, взяв его за шею железной рукой, трижды врезал Алексею по заднице. Алексей завыл, глотая слезу, ушёл в ванную комнату. Там он обычно смотрел на красно-синее место удара в зеркале, оголив задницу, и ещё больше ревел.
Отец щёлкнул дверной задвижкой на двери ванной комнаты, это означало – наказан и закрыт до особых указаний! Сидеть было очень больно, поэтому Алексей лег на коврик на полу и, свернувшись в калачик, заплакал, жалея себя.
Прошли годы, и Алексей Кириллович Марков, уже офицер флота, перебирая дома старые бумаги и семейные документы, наткнулся на пачку кляссеров. Он тронул их пальцами, вот те самые птицы из Бурунди. Это были последние марки в его жизни, что были помещены тогда, в тот злополучный день в его коллекцию. Собиратель марок закончился в нём очень давно там, в ванной комнате.
Глава 2. Баночка
В те времена, когда Алёша был маленьким, бухта Патрокл была необжитым и относительно далеким объектом загородного отдыха жителей Владивостока. Алёшкин папа Кирилл Константинович и мама Рита любили это место и частенько летом в выходной день выбирались туда всей семьей покупаться и позагорать. Надо было достаточно долго ехать автобусом до конечной остановки, которая тоже называлась «Патрокл». А потом топать пешком до скалистых берегов полуострова Басаргин, где они и отдыхали.
В этих названиях была магия неизвестных ещё Алёше значений этих названий – Басаргин, Патрокл. Эти слова будоражили воображение, притягивали самим своим звучанием, поэтому на Патрокл вся семья ездила с большим удовольствием.
Семейство Марковых, Алеша и его сестра Людмила с родителями, давно облюбовали скалистый грот, где разбивалась основная стоянка, раскладывалась нехитрая снедь, и при случае можно было даже укрыться от неожиданного дождя. Буквально в трёх шагах от грота располагалась небольшая бухточка с трехметровым песчаным пляжем и несколькими плоскими, обточенными морской водой глыбами, где можно было загорать. К гроту вела узенькая тропинка, сплошь заросшая колючими кустами шиповника. Сам проход к гроту с тропинки был не виден, поэтому папа Марков поставил прямо на скале аккуратную метку белой краской, специально взятой в поход для этих целей.
Бухта Патрокл получила свое название в 1862 году в честь брига «Патрокл» в ходе экспедиции подполковника корпуса флотских штурманов Василия Матвеевича Бабкина. По итогам той экспедиции, которая проходила на корвете «Новик» в 1860-1863 годах, было открыто, обследовано и названо множество объектов на карте Приморского края. А тот самый бриг «Патрокл», в честь которого была названа эта бухта, оперировал на Балтийском флоте и прославился тем, что в 1836 году в составе отряда контр-адмирала Ф.П. Литке ходил по портам Балтийского моря для морской практики генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича.
Занятия своим детям папа, тоже флотский офицер, придумывал очень разные, но всегда с каким-нибудь практическим смыслом. Например, чтобы получить мороженое, надо было десять раз попасть камнем в небольшую ржавую консервную банку из-под сгущенки, которая ставилась на стенку грота, шагов с десяти. Попасть в неё было трудно, подряд десять раз практически невозможно. Однако папа Марков прятал жестянку в щель на скалах, и с завидным постоянством в следующий приезд баночка доставалась, и Алексей с Людмилой бросали камешками в неё до «посинения».
Часто они не попадали и пяти раз подряд и оставались без мороженого, но на следующий год, когда удача была на стороне детей, ведь Алеше было уже 12 лет, а Людмиле – 6, они два раза подряд были с мороженым в вафельном стаканчике. Тогда папа Марков неожиданно усложнил задачу, забрался по скале и поставил банку очень высоко. Кидать вверх было труднее, и точность сразу упала. Ребята загрустили, но папа был непреклонен. Он показательно, мастерски со второго броска сбил сверху банку и спрятал её в небольшой щели в камнях. Уходя, когда отец уже пошёл вперед на выход из грота, Алексей схватил ненавистную баночку из щели, быстро наполнил песком и с размаху выбросил ее далеко, метров на семь, в бухту.
Следующий приезд в Патрокл состоялся практически через три недели, и папа традиционно предложил нам (как будто у нас был выбор) покидать камешки на мороженое. Он поискал баночку и, не найдя её на своём месте, о чём-то пошептался с мамой и строго сказал:
– Ну, раз банка пропала, заменим её отжиманием от земли! Алексей – двадцать раз, Людмила – 10 раз! Пока не отожмётесь, купаться не пойдёте!
Вот же попали, десять Алёша легко отжимался, а вот двадцать – не мог, совершенно точно! И отец это знал. И что Люда десять не отожмётся, тоже знал!
– Кирилл, но это слишком сурово! – мама пыталась заступиться, но нет, ничего у нее не получилось.
Промучившись около получаса, в поту и с вымазанными в песке и глине животами и коленками, ребята получили «Добро» на заход в воду. Настроение было испорчено, руки дрожали, плечи ныли, но всё-таки свою двадцатку Алексей вымучил.
Погода в тот день рано испортилась, пришлось сворачивать бивуак и двигаться на автобусе домой. Днём автобус ходил намного реже, и пришлось долго ждать его под дождём на остановке с дырявой крышей. Людмиле тогда шёл уже седьмой год, она многое понимала, и они с Алёшей долго обсуждали, что же лучше было сделать:
– Может, лучше было баночку не выкидывать? А то ведь и мороженого не дали, и не покупались толком?!
Глава 3. Зарплата
Однажды прекрасным майским днём пятиклассник Алёша Марков возвращался после тренировки в спортивной секции плавания. Залетел домой голодный и усталый, все уже были дома. В воздухе повисла тягучая атмосфера беды. Он почувствовал это сразу, как только вошёл. Сестра Людмила показала ему жестом, мол, не знаю, что случилось, но родители какие-то сердитые и вроде сильнее обычного.
Оказалось, у отца из кармана рабочего форменного кителя исчезла вся месячная зарплата. Это была пачка трёхрублёвок – сто штук, целых триста рублей. Отец с мамой перерыли все карманы и портфели, но ничего обнаружить не удалось. Алексея вызвали на кухню, где было обычное место для наказаний. У него словно подкосились ноги, когда отец бросил ему зло:
– Верни деньги, я знаю, это ты взял! – причём мама молчала, потом сказала тихим голосом:
– Алёшенька, верни, так будет лучше! – так, значит, и она ему не верит.
Алексей пустился в пространные заверения, что не брал, не знал и не имеет к этому случаю никакого отношения. Он подумал, что сейчас опять получит китовым усом по заднему месту, и мысленно уже приготовился к этому, расслабил мышцы ягодиц – это уже был испытанный приём. Обычно в таких ситуациях, не точно в таких, а в подобных, отец с полуоборота заводился и резко давал три-четыре удара по заднице длинной чёрной ложкой для обуви, которая была сделана умельцами с Китобойной базы «Советская Россия» из китового уса.
Нам это изделие народного ремесла подарил бывший сосед по коммунальной квартире – старший механик этой «Советской России», дядя Саша. С тех пор её использовали по двум назначениям: надевали туфли – было очень удобно, и лупили Алексея с Людмилой – было очень больно!
Но в день обнаружения пропажи папиной зарплаты всё пошло по-другому! Отец неожиданно схватил Алёшу за руку повыше локтя и потащил буквально волоком в коридор и дальше! Алексей со страху подумал, что его выгоняют из квартиры! Куда же ему деваться?! Что происходит?!
Они спустились в подвальный этаж. В их пятиэтажке были подвалы, где каждый желающий жилец дома мог обустроить там своё место хранения старых вещей или хранение овощных заготовок и прочего. В нашем подвале отец устроил всё очень по-хозяйски, там в большом ящике хранилась картошка, стояли лыжи, строительные материалы, всякий хлам и несколько банок с капустой и огурцами. Алексей там бывал часто, помогал расставлять вещи, убирать мусор и всё такое.
Отец открыл свой подвал и коротко скомандовал:
– Давай, вперёд, подумай над тем, что сотворил! – и выключил свет. Замок снаружи проскрежетал, и наступила тишина.
Алёше стало не по себе! Зачем же свет-то выключать?! Он стоял в домашних тапочках и рубашке, которая вылезла из штанов, и в эту щель устремлялся холодок. Глаза постепенно привыкли к темноте, и из щелей струился небольшой свет от общего подвального коридора. Зарплату он не брал, и это обстоятельство, а, собственно, то, что он не мог никак доказать, что не брал, его сейчас беспокоило больше всего! Почему сразу на меня?! Хотя, понятно, Людмиле всего шестой год, с неё спроса нет! А после случая с пожарным вагончиком ему доверия, видимо, уже не было! Эта безвыходная ситуация! Он просто заревел в голос, слёзы текли сами собой, он всхлипывал, ему было жалко себя!
Неожиданно он услышал из дальнего угла шебуршание и явное шевеление каких-то существ! Кожа покрылась пупырышками, страх полез в душу, плач прервался, воздуху не хватало! Он понял, что это крысы! Или мыши! Он схватил прямо из-под себя, из ящика картошку и сильно бросил её в угол, где шебуршались! Потом бросил ещё и ещё! Вроде затихло! Дальше он замер и не шевелился несколько секунд, прислушиваясь к темноте! Шебуршание прекратилось, по-видимому, крысы или мыши ушли, но он продолжал не шевелиться, пока не устал стоять в одной позе и не привалился к ящику с картофелем. Через какое-то время, а Алексею казалось, что прошёл целый час, он на ощупь закрыл картофельный ящик крышкой и забрался на него сверху с ногами. Ему казалось, что так его никто из мелких существ не достанет! Потом он прилёг поудобнее и просто задремал.
Проснулся он от скрежета открываемой железной двери их подвала. Включившийся свет резал глаза с непривычки. Отец показал жестом: мол, выходи! Они поднялись в их квартиру на третьем этаже. Мама, как обычно, работала над рукописью и что-то печатала на пишущей машинке, Людмила, видимо, уже спала. На дворе темень, значит, уже ночь, подумал Алёша. Отец сказал идти спать, и он по-тихому удалился в свою небольшую комнатёнку и лёг, не раздеваясь, на свой диван. Ему было уже всё равно, что думают о нём родители! Он не знал, что делать в таких случаях! Через минуту он уже спал тяжелым сном.
А в понедельник, через три дня, Алексей слышал, как отец с матерью что-то громко обсуждали на кухне за закрытыми дверями, и тон был совсем нестрогим и не сердитым, а скорей радостным. Он ходил на тренировки три раза в неделю, приходил поздно и сразу ложился спать. Людмила его жалела, но по-детски очень мало и всё время тянула его играть. Но настроения не было, Алексей был в опале, и это чувствовалось во всём!
Ещё через неделю у отца была рабочая суббота, Алексея и Людмилу мама кормила пельменями после школы и садика. Мама неожиданно сказала Алексею:
– Ты знаешь, а деньги нашлись! Оказывается, отец положил их в карман другого форменного кителя на работе, и они там провисели всю прошлую пятницу и выходные, а в понедельник он их там и нашёл! – Алексей хлопал глазами, из которых брызнули коварные слезы, и не мог понять, как в понедельник нашёл, а сегодня уже суббота, почему же ему не сказали, что деньги нашлись?! В горле запершило, опять накатила горечь, и он заревел в голос.
Вечером приехал со службы отец и как ни в чём не бывало весело спросил:
– Ну что, может, завтра в Патрокл? – на что Людмила весело заскакала по квартире:
– Патрокл! Патрокл! Поехали купаться!
– Что-то мне не хочется! Буду готовиться к контрольной по математике! – глухо выдавил из себя Алексей.
Через много лет, когда Алексей Кириллович, будучи уже взрослым, смотрел в невинные глаза своего первого сына, который частенько ему врал по пустякам, шкодил, и … видел в них самого себя, стоящего перед отцом с расслабленными мышцами причинного места, и начинал смеяться, пока сын тоже не начинал смеяться, и так они хохотали, пока сын не говорил ему, что ну, конечно, это он, но правда он не хотел, но так получилось…
Алексей думал – это же мой сын! Я его пальцем никогда не трону! И так было!
Глава 1. Пожарный вагон
В детстве Алёша Марков собирал почтовые марки, как, наверное, многие дети того времени. Часть его коллекции состояла из разношёрстных марок прошлого, когда-то оставленных на хранение его мамой и бабушкой. Это были марки и марочки разных размеров и содержания, некоторые из них действительно снятые с почтовых конвертов, некоторые, невесть откуда взявшиеся из прошлого семьи, давно лежали в маминой коробке со всякими документами и старыми письмами. Наивно Алексей полагал, что это не очень ценная часть его коллекции, поэтому слишком с ними не церемонился и держал их в альбоме за обложкой. А вот самая ценная, по его мнению, часть коллекции состояла из современных марок того времени, которые ему покупали родители время от времени. Это были марки про спорт, про города, про флору и фауну разных стран. Они были цветные и очень красивые.
Семья Марковых жила во Владивостоке, и первокласснику Алёше Маркову родители разрешали иногда покупать самому марки в киоске «Союзпечать», что стоял на перекрёстке улиц Спортивной и Фадеева. Этот киоск стоял прямо на пути к Алёшиной начальной школе № 41, где он учился в первом классе. Дважды в день Алёша ходил мимо этого киоска, мимоходом поглядывая на марки, которые были выставлены на кляссерах лицом наружу киоска. Было очень удобно, иногда даже не останавливаясь, просто посмотреть на стекло киоска и понять, что ничего новенького не появилось.
Однажды, проходя мимо, Алёша увидел, что произошли изменения в витрине киоска, какое-то цветное пятно появилось на кляссерах! Он приблизился и увидел новые марки! Это была фееричная серия марок о птицах из африканской страны Бурунди (Burundi)! Они были каких-то удивительных цветов, больших размеров и представлены огромным блоком (специалисты знают, что блок марок значительно дороже отдельных марок). Крупные, не известные ему ранее, цветные птицы были изображены на фоне ярких джунглей и каких-то экзотических растений. У Алексея задрожали ноги, так он захотел их в свою коллекцию! Но стоимость! Это была какая-то «сумасшедшая» сумма – 6 рублей 45 копеек. Ему давали каждый день по 50 копеек на перекус в школе, это означало, что копить надо было… примерно... нет, никак не считалось в уме, он вспотел, но не мог сразу сосчитать, сколько дней надо было не есть, не пить, а только складывать в железную коробку из-под конфет «Монпансье»!
Он побрёл в школу на чугунных ногах, с чувством какой-то огромной потери, какой-то почти катастрофы, понимая, что он не сможет никогда их купить, а ведь за стеклом в киоске их видят все. Конечно, такие марки не простоят долго, их просто мгновенно раскупят!
В школе Варвара Сергеевна, его первая учительница, заметила «смурное» настроение Алёши Маркова и даже спросила – не случилось ли чего дома? Он промолчал, потому что складывал в столбик по 50 копеек, считал, сколько времени надо на накопление требуемой суммы, получалось уже больше двух недель, ему стало ещё хуже, и он совсем сник.
Возвращаясь домой из школы, мысль работала только в одном направлении: как попросить у мамы 6 рублей, а 45 копеек у него оставались, и он мог бы добавить сам.
Есть ничего не хотелось, хотя ему оставлен был обед, как обычно, в холодильнике, надо было только разогреть! Но еда сегодня ему была не в милость, и ничто было ему не в милость! Сестра Людмила была в садике, он был, как всегда, предоставлен сам себе до прихода родителей с работы.
Алёша быстро справился с уроками, ему всё давалось легко, и слонялся по квартире с одной навязчивой мыслью. Мама может не дать такую сумму, а может, и даст, нет, не даст, больно много! В гостиной комнате, под столом на полу стоял красный пластмассовый вагон от пожарного поезда, который ему подарили на день рождения пару лет назад. Он пнул его от досады, и вагон переехал с места на место с металлическим звуком. От озарившей его мысли бросило в жар, потом в холод.
Он вспомнил, что папа приспособил этот игрушечный вагончик под семейную копилку. Он прорезал небольшое отверстие в пластиковой торцевой стенке вагона и просовывал туда большие металлические рубли. Алексей поднял вагон и посмотрел на свет: монет там было много, сколько, даже боязно представить, но побольше трёх десятков, точно! Он переворачивал вагон из стороны в сторону, рубли перекатывались внутри со звоном, который будоражил маленького Алёшу. Он поставил его «на попа» и потряс; нет, конечно, выпасть не могла ни одна монетка, слишком узкое было отверстие, папа всё рассчитал.
Тогда Алексей взял столовый нож и попробовал лезвием «пошурудить» внутри вагончика, это ему удалось, однако ничего не происходило, рубли не вытаскивались. Он понимал, что попадёт ему «по первое число», если, правда, заметят! Но что-то было сильнее его, это что-то подсказывало ему: надо чуть-чуть раздвинуть стеночки прорези, только чуть-чуть, чтобы пролезла одна монетка, и она пролезла, и вторая, и третья, и… шестая…
Прибежав к киоску, зажав в потном кулаке монеты, он увидел, что марки стояли на месте. С души свалился камень, и ему стало необычайно легко, а дальше, дальше, как в тумане, марки перекочевали ему в руки, а деньги – в руки продавщицы киоска.
Вечером он был шёлковый до такой степени, что даже сестра Людмила заметила и спросила, что с ним происходит?
Так пролетело несколько дней, ровно до того момента, как папа решил засунуть в свою копилку очередной железный рубль. Он погремел немножко вагончиком, переворачивая его чуть дольше чем обычно, потом позвал маму на кухню. Через минуту они вышли оттуда вместе и, держа на весу вагончик, мама спросила:
– Алёшенька, ты брал деньги из вагончика? Что-то тут все изрезано ножом? Это ты сделал? – Алексей перехватил Людмилин тревожный взгляд, она сейчас тоже была не на его стороне…
Решил сдаться сразу – заревел «белугой», подошёл к альбому с марками и открыл, показывая всем марки никому не известной страны Бурунди. Отец, заведясь с пол-оборота, видимо, он думал, что причина будет более веской, тихо взял в прихожей длинную сапожную ложку, сделанную из китового уса, и, взяв его за шею железной рукой, трижды врезал Алексею по заднице. Алексей завыл, глотая слезу, ушёл в ванную комнату. Там он обычно смотрел на красно-синее место удара в зеркале, оголив задницу, и ещё больше ревел.
Отец щёлкнул дверной задвижкой на двери ванной комнаты, это означало – наказан и закрыт до особых указаний! Сидеть было очень больно, поэтому Алексей лег на коврик на полу и, свернувшись в калачик, заплакал, жалея себя.
Прошли годы, и Алексей Кириллович Марков, уже офицер флота, перебирая дома старые бумаги и семейные документы, наткнулся на пачку кляссеров. Он тронул их пальцами, вот те самые птицы из Бурунди. Это были последние марки в его жизни, что были помещены тогда, в тот злополучный день в его коллекцию. Собиратель марок закончился в нём очень давно там, в ванной комнате.
Глава 2. Баночка
В те времена, когда Алёша был маленьким, бухта Патрокл была необжитым и относительно далеким объектом загородного отдыха жителей Владивостока. Алёшкин папа Кирилл Константинович и мама Рита любили это место и частенько летом в выходной день выбирались туда всей семьей покупаться и позагорать. Надо было достаточно долго ехать автобусом до конечной остановки, которая тоже называлась «Патрокл». А потом топать пешком до скалистых берегов полуострова Басаргин, где они и отдыхали.
В этих названиях была магия неизвестных ещё Алёше значений этих названий – Басаргин, Патрокл. Эти слова будоражили воображение, притягивали самим своим звучанием, поэтому на Патрокл вся семья ездила с большим удовольствием.
Семейство Марковых, Алеша и его сестра Людмила с родителями, давно облюбовали скалистый грот, где разбивалась основная стоянка, раскладывалась нехитрая снедь, и при случае можно было даже укрыться от неожиданного дождя. Буквально в трёх шагах от грота располагалась небольшая бухточка с трехметровым песчаным пляжем и несколькими плоскими, обточенными морской водой глыбами, где можно было загорать. К гроту вела узенькая тропинка, сплошь заросшая колючими кустами шиповника. Сам проход к гроту с тропинки был не виден, поэтому папа Марков поставил прямо на скале аккуратную метку белой краской, специально взятой в поход для этих целей.
Бухта Патрокл получила свое название в 1862 году в честь брига «Патрокл» в ходе экспедиции подполковника корпуса флотских штурманов Василия Матвеевича Бабкина. По итогам той экспедиции, которая проходила на корвете «Новик» в 1860-1863 годах, было открыто, обследовано и названо множество объектов на карте Приморского края. А тот самый бриг «Патрокл», в честь которого была названа эта бухта, оперировал на Балтийском флоте и прославился тем, что в 1836 году в составе отряда контр-адмирала Ф.П. Литке ходил по портам Балтийского моря для морской практики генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича.
Занятия своим детям папа, тоже флотский офицер, придумывал очень разные, но всегда с каким-нибудь практическим смыслом. Например, чтобы получить мороженое, надо было десять раз попасть камнем в небольшую ржавую консервную банку из-под сгущенки, которая ставилась на стенку грота, шагов с десяти. Попасть в неё было трудно, подряд десять раз практически невозможно. Однако папа Марков прятал жестянку в щель на скалах, и с завидным постоянством в следующий приезд баночка доставалась, и Алексей с Людмилой бросали камешками в неё до «посинения».
Часто они не попадали и пяти раз подряд и оставались без мороженого, но на следующий год, когда удача была на стороне детей, ведь Алеше было уже 12 лет, а Людмиле – 6, они два раза подряд были с мороженым в вафельном стаканчике. Тогда папа Марков неожиданно усложнил задачу, забрался по скале и поставил банку очень высоко. Кидать вверх было труднее, и точность сразу упала. Ребята загрустили, но папа был непреклонен. Он показательно, мастерски со второго броска сбил сверху банку и спрятал её в небольшой щели в камнях. Уходя, когда отец уже пошёл вперед на выход из грота, Алексей схватил ненавистную баночку из щели, быстро наполнил песком и с размаху выбросил ее далеко, метров на семь, в бухту.
Следующий приезд в Патрокл состоялся практически через три недели, и папа традиционно предложил нам (как будто у нас был выбор) покидать камешки на мороженое. Он поискал баночку и, не найдя её на своём месте, о чём-то пошептался с мамой и строго сказал:
– Ну, раз банка пропала, заменим её отжиманием от земли! Алексей – двадцать раз, Людмила – 10 раз! Пока не отожмётесь, купаться не пойдёте!
Вот же попали, десять Алёша легко отжимался, а вот двадцать – не мог, совершенно точно! И отец это знал. И что Люда десять не отожмётся, тоже знал!
– Кирилл, но это слишком сурово! – мама пыталась заступиться, но нет, ничего у нее не получилось.
Промучившись около получаса, в поту и с вымазанными в песке и глине животами и коленками, ребята получили «Добро» на заход в воду. Настроение было испорчено, руки дрожали, плечи ныли, но всё-таки свою двадцатку Алексей вымучил.
Погода в тот день рано испортилась, пришлось сворачивать бивуак и двигаться на автобусе домой. Днём автобус ходил намного реже, и пришлось долго ждать его под дождём на остановке с дырявой крышей. Людмиле тогда шёл уже седьмой год, она многое понимала, и они с Алёшей долго обсуждали, что же лучше было сделать:
– Может, лучше было баночку не выкидывать? А то ведь и мороженого не дали, и не покупались толком?!
Глава 3. Зарплата
Однажды прекрасным майским днём пятиклассник Алёша Марков возвращался после тренировки в спортивной секции плавания. Залетел домой голодный и усталый, все уже были дома. В воздухе повисла тягучая атмосфера беды. Он почувствовал это сразу, как только вошёл. Сестра Людмила показала ему жестом, мол, не знаю, что случилось, но родители какие-то сердитые и вроде сильнее обычного.
Оказалось, у отца из кармана рабочего форменного кителя исчезла вся месячная зарплата. Это была пачка трёхрублёвок – сто штук, целых триста рублей. Отец с мамой перерыли все карманы и портфели, но ничего обнаружить не удалось. Алексея вызвали на кухню, где было обычное место для наказаний. У него словно подкосились ноги, когда отец бросил ему зло:
– Верни деньги, я знаю, это ты взял! – причём мама молчала, потом сказала тихим голосом:
– Алёшенька, верни, так будет лучше! – так, значит, и она ему не верит.
Алексей пустился в пространные заверения, что не брал, не знал и не имеет к этому случаю никакого отношения. Он подумал, что сейчас опять получит китовым усом по заднему месту, и мысленно уже приготовился к этому, расслабил мышцы ягодиц – это уже был испытанный приём. Обычно в таких ситуациях, не точно в таких, а в подобных, отец с полуоборота заводился и резко давал три-четыре удара по заднице длинной чёрной ложкой для обуви, которая была сделана умельцами с Китобойной базы «Советская Россия» из китового уса.
Нам это изделие народного ремесла подарил бывший сосед по коммунальной квартире – старший механик этой «Советской России», дядя Саша. С тех пор её использовали по двум назначениям: надевали туфли – было очень удобно, и лупили Алексея с Людмилой – было очень больно!
Но в день обнаружения пропажи папиной зарплаты всё пошло по-другому! Отец неожиданно схватил Алёшу за руку повыше локтя и потащил буквально волоком в коридор и дальше! Алексей со страху подумал, что его выгоняют из квартиры! Куда же ему деваться?! Что происходит?!
Они спустились в подвальный этаж. В их пятиэтажке были подвалы, где каждый желающий жилец дома мог обустроить там своё место хранения старых вещей или хранение овощных заготовок и прочего. В нашем подвале отец устроил всё очень по-хозяйски, там в большом ящике хранилась картошка, стояли лыжи, строительные материалы, всякий хлам и несколько банок с капустой и огурцами. Алексей там бывал часто, помогал расставлять вещи, убирать мусор и всё такое.
Отец открыл свой подвал и коротко скомандовал:
– Давай, вперёд, подумай над тем, что сотворил! – и выключил свет. Замок снаружи проскрежетал, и наступила тишина.
Алёше стало не по себе! Зачем же свет-то выключать?! Он стоял в домашних тапочках и рубашке, которая вылезла из штанов, и в эту щель устремлялся холодок. Глаза постепенно привыкли к темноте, и из щелей струился небольшой свет от общего подвального коридора. Зарплату он не брал, и это обстоятельство, а, собственно, то, что он не мог никак доказать, что не брал, его сейчас беспокоило больше всего! Почему сразу на меня?! Хотя, понятно, Людмиле всего шестой год, с неё спроса нет! А после случая с пожарным вагончиком ему доверия, видимо, уже не было! Эта безвыходная ситуация! Он просто заревел в голос, слёзы текли сами собой, он всхлипывал, ему было жалко себя!
Неожиданно он услышал из дальнего угла шебуршание и явное шевеление каких-то существ! Кожа покрылась пупырышками, страх полез в душу, плач прервался, воздуху не хватало! Он понял, что это крысы! Или мыши! Он схватил прямо из-под себя, из ящика картошку и сильно бросил её в угол, где шебуршались! Потом бросил ещё и ещё! Вроде затихло! Дальше он замер и не шевелился несколько секунд, прислушиваясь к темноте! Шебуршание прекратилось, по-видимому, крысы или мыши ушли, но он продолжал не шевелиться, пока не устал стоять в одной позе и не привалился к ящику с картофелем. Через какое-то время, а Алексею казалось, что прошёл целый час, он на ощупь закрыл картофельный ящик крышкой и забрался на него сверху с ногами. Ему казалось, что так его никто из мелких существ не достанет! Потом он прилёг поудобнее и просто задремал.
Проснулся он от скрежета открываемой железной двери их подвала. Включившийся свет резал глаза с непривычки. Отец показал жестом: мол, выходи! Они поднялись в их квартиру на третьем этаже. Мама, как обычно, работала над рукописью и что-то печатала на пишущей машинке, Людмила, видимо, уже спала. На дворе темень, значит, уже ночь, подумал Алёша. Отец сказал идти спать, и он по-тихому удалился в свою небольшую комнатёнку и лёг, не раздеваясь, на свой диван. Ему было уже всё равно, что думают о нём родители! Он не знал, что делать в таких случаях! Через минуту он уже спал тяжелым сном.
А в понедельник, через три дня, Алексей слышал, как отец с матерью что-то громко обсуждали на кухне за закрытыми дверями, и тон был совсем нестрогим и не сердитым, а скорей радостным. Он ходил на тренировки три раза в неделю, приходил поздно и сразу ложился спать. Людмила его жалела, но по-детски очень мало и всё время тянула его играть. Но настроения не было, Алексей был в опале, и это чувствовалось во всём!
Ещё через неделю у отца была рабочая суббота, Алексея и Людмилу мама кормила пельменями после школы и садика. Мама неожиданно сказала Алексею:
– Ты знаешь, а деньги нашлись! Оказывается, отец положил их в карман другого форменного кителя на работе, и они там провисели всю прошлую пятницу и выходные, а в понедельник он их там и нашёл! – Алексей хлопал глазами, из которых брызнули коварные слезы, и не мог понять, как в понедельник нашёл, а сегодня уже суббота, почему же ему не сказали, что деньги нашлись?! В горле запершило, опять накатила горечь, и он заревел в голос.
Вечером приехал со службы отец и как ни в чём не бывало весело спросил:
– Ну что, может, завтра в Патрокл? – на что Людмила весело заскакала по квартире:
– Патрокл! Патрокл! Поехали купаться!
– Что-то мне не хочется! Буду готовиться к контрольной по математике! – глухо выдавил из себя Алексей.
Через много лет, когда Алексей Кириллович, будучи уже взрослым, смотрел в невинные глаза своего первого сына, который частенько ему врал по пустякам, шкодил, и … видел в них самого себя, стоящего перед отцом с расслабленными мышцами причинного места, и начинал смеяться, пока сын тоже не начинал смеяться, и так они хохотали, пока сын не говорил ему, что ну, конечно, это он, но правда он не хотел, но так получилось…
Алексей думал – это же мой сын! Я его пальцем никогда не трону! И так было!

