Текст альманаха «Новое слово» №14 2024 год

125-летию писателя Андрей Платоновича ПЛАТОНОВА
посвящается
Содержание:
Елена ЖИЛЯЕВА (РОЖЕНЦЕВА) - «В нем в жизни не было писателя»
Дмитрий СЕНЧАКОВ - «Раньше...»
Валерий ФЕДОСОВ - «Аккуратнее!..»
Марина РЮМИНА - «Котлопункт»
Николай ШОЛАСТЕР - «Гость в его голове»
Валерия СИЯНОВА - «Покойная пристань»
Диана ДАВЫДОВА - «Отражение»
Алексей ПРЕСНАКОВ - «Школа на окраине вселенной»
Ольга БОГОМАЗОВА - «Мама, я Ленина убила!»
Антон ТЁМА - «Отражение»
Ольга РУЧИНА - «Четверка по астрономии»
Элина КУЛИКОВА - «Мишель», «Старая таможня»
Владимир ЛОКТЕВ - «Бабушкин дом»
Любовь ФЕДОСЕЕВА - «Двадцать один день после тебя»
Людмила МЕЛЬНИКОВА - «Признание»
Егор ИВАНОВ - «Трудно быть»
Наталья КАЛИНИНА - «Забор»
Дмитрий ЖДАНОВ - «Новоселье»
Николай НИБУР - «Роковой четырехугольник»
Татьяна КОВАЛЕВА - «Куклы и заботы»
Ольга БУРУКИНА - «Мир грибов»
Елена НЕВЕСЕНКО - «Яма»
Анна ДАНИЛОВА - «Имя камня»
посвящается
Содержание:
Елена ЖИЛЯЕВА (РОЖЕНЦЕВА) - «В нем в жизни не было писателя»
Дмитрий СЕНЧАКОВ - «Раньше...»
Валерий ФЕДОСОВ - «Аккуратнее!..»
Марина РЮМИНА - «Котлопункт»
Николай ШОЛАСТЕР - «Гость в его голове»
Валерия СИЯНОВА - «Покойная пристань»
Диана ДАВЫДОВА - «Отражение»
Алексей ПРЕСНАКОВ - «Школа на окраине вселенной»
Ольга БОГОМАЗОВА - «Мама, я Ленина убила!»
Антон ТЁМА - «Отражение»
Ольга РУЧИНА - «Четверка по астрономии»
Элина КУЛИКОВА - «Мишель», «Старая таможня»
Владимир ЛОКТЕВ - «Бабушкин дом»
Любовь ФЕДОСЕЕВА - «Двадцать один день после тебя»
Людмила МЕЛЬНИКОВА - «Признание»
Егор ИВАНОВ - «Трудно быть»
Наталья КАЛИНИНА - «Забор»
Дмитрий ЖДАНОВ - «Новоселье»
Николай НИБУР - «Роковой четырехугольник»
Татьяна КОВАЛЕВА - «Куклы и заботы»
Ольга БУРУКИНА - «Мир грибов»
Елена НЕВЕСЕНКО - «Яма»
Анна ДАНИЛОВА - «Имя камня»
Очередной номер литературно-художественного альманаха посвящен 125-летнему юбилею Андрея Платонова, и я хотел бы выразить огромную благодарность всем авторам, которые откликнулись на наше предложение издать сборник к этой дате. Масштаб этого писателя настолько необъятен и сложен, но с другой стороны – его творчество настолько оказалось пророческим уже в XXI веке, что невольно хочется вновь и вновь вчитываться в его произведения, пытаясь уловить нечто, что мы пропустили раньше. Мы не ставили задачу авторам как-то отразить свое мнение о творчестве Платонова или создать «шедевры» достойные его мастерства (вряд ли кому-то это бы удалось), мы всего лишь просили вновь и вновь открыть его книги, и в который раз прочитать, пытаясь понять его творчество, ощутить его сложный, характерный «платоновский язык», и конечно, выразить признательность Мастеру за создание уникальных произведений русской литературы.
«ЭТО УЖЕ НЕ ПИСАТЕЛЬ. ЭТО – ПЛАТОНОВ», –
так говорил про платоновские тексты знаток и ценитель литературы, писатель и литературовед Андрей Битов. Язык Платонова настолько многогранен, что у каждого читателя свой Платонов – неповторимый, сложный и одновременно простой. В то же время местами непонятный в своей простоте, в том смысле слов, которые он порой ставил не так, не там, ломая предложение, словно выворачивал язык наизнанку, показывая всю глубину народного языка, в котором мы ощущаем не один и не два слоя (текст, подтекст). Он был мастером особого пра-языка, который на наших глазах, вот так – на ощупь, на звук, на прикосновение к коже – становится Словом Жизни.
«Его невероятный язык распределен по репликам персонажей так, что вдумчивый исследователь мог бы проследить и обратный ход: как из речи народной сгущался невероятный язык платоновской прозы. Тут есть некоторая возможность попытки разгадать, как, упростив словарь своей прозы до пещерной (в платоновском смысле слова) простоты, Платонов повергает нас в столь глубокие философские смыслы. Без советской власти тут никак. Искренняя попытка понять порождает бессвязность речи – эта бессвязность порождает стиль – стиль порождает авторскую речь – она прививается к языку как к дичку… И язык – жив! Так что и без автора тут никак. Круговорот слова в океане речи. Многие традиционно ошибаются, принимая достижения литературы как искусство, как результат так называемого мастерства, между тем только его отсутствие освобождает подход к реальности.
Платонов не столько писал, сколько пытался написать правду, как он ее видел, и эта попытка, прорывая текст, шла все дальше, все менее выражаясь, зато все более отражая реальность более непостижимую, чем замысел, порождая то чудо, которое уже можно называть искусством. Платонов рискнул не уметь писать (Лев Толстой это пробовал). Произведения такого рода неповторимы. Как неповторима жизнь»*.
(* А.Битов. Предисловие к собранию сочинений А.Платонова. М. «Время». 2011 г.)
«Я не важный, я – ответственный».
«Ты оттого и начальник, что никому не видим».
«Здесь что такое – капитализм или второе что-нибудь?»
«Давай возьмем курс на безлюдие!»
Мое первое знакомство с творчеством Андрея Платонова началось с покупки первой его книги на заре 90-х годов практически «из-под полы». Тогда «правильные книги» покупались исключительно через знакомых в книжных магазинах, как самый дефицитный товар. «Ювенильным морем» я зачитывался в возрасте 18 лет (первая официальная книга после запрета Платонова в СССР вышла в 1986 году). Разгадывать тайный смысл платоновских произведений тогда еще не было принято (мы, молодое поколение, попросту не умели этого делать), пытались читать «умом», отыскивая подтекст, но тогда это было сложно: некоторые выученные лозунги начала 80-х годов никак не давали «пробиться» к чему-то острому, яркому и непонятному. Сложность образов, склеенная другими словами, слова, стоящие не в том порядке, который нам был удобен – все это усложняло чтение, и делало Платонова «запредельным», ни с кем не сравнимым в русской и советской литературе. Как писала В.А.Чаликова, «книги Платонова – уникальный художественный аргумент к мысли Бердяева о «запредельности русского коммунизма», которому не хорошая жизнь нужна, не конкретная политическая свобода, а нечто большее самой жизни».
Платонов – как Набоков: совершенно уникальное явление даже не русской литературы, а всего русского языка, не зря оба писателя родились в один год (в 1899 г.), на заре нового «страшно исторического» века. Лишь теперь, спустя 30-35 лет, я начинаю читать Платонова заново, открывать его потаенные дверцы к смыслам и понимать, что именно такие писатели открывают в литературу другие двери, немыслимые, неведомые раньше.
«И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чтения, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и страданием. Ибо, может быть, в силу торжественности момента, а может быть, и вправду я не знаю никакого другого писателя, во все времена и эпохи, которому удавалось бы с такой силой и непереносимостью передавать сочувствие, жалость и любовь к живому. Жалость и любовь такой силы, что почти равны убийству. Любовь – вещь невыразимая, в этом большая часть ее содержания»**.
(** А.Битов. Предисловие к собранию сочинений А.Платонова. М. «Время». 2011 г.)
«... как велика жизнь, – подумала она, – и в каких маленьких местах она приютилась и надеется...»
«В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся».
Наш очередной номер литературно-художественного альманаха посвящен 125-летнему юбилею Андрея Платонова, и я хотел бы выразить огромную благодарность всем авторам, которые откликнулись на наше предложение издать сборник к этой дате. Масштаб этого писателя настолько необъятен и сложен, но с другой стороны – его творчество настолько оказалось пророческим уже в XXI веке, что невольно хочется вновь и вновь вчитываться в его произведения, пытаясь уловить нечто, что мы пропустили раньше. Мы не ставили задачу авторам как-то отразить свое мнение о творчестве Платонова или создать «шедевры», достойные его мастерства (вряд ли кому-то это бы удалось), мы всего лишь просили вновь и вновь открыть его книги и в который раз прочитать, пытаясь понять его творчество, ощутить его сложный, характерный «платоновский язык» и, конечно, выразить признательность Мастеру за создание уникальных произведений русской литературы. Особую благодарность я хочу выразить Елене Жиляевой (Роженцевой) за столь подробную и интересную статью о жизни и творчестве Андрея Платонова.
«ЭТО УЖЕ НЕ ПИСАТЕЛЬ. ЭТО – ПЛАТОНОВ», –
так говорил про платоновские тексты знаток и ценитель литературы, писатель и литературовед Андрей Битов. Язык Платонова настолько многогранен, что у каждого читателя свой Платонов – неповторимый, сложный и одновременно простой. В то же время местами непонятный в своей простоте, в том смысле слов, которые он порой ставил не так, не там, ломая предложение, словно выворачивал язык наизнанку, показывая всю глубину народного языка, в котором мы ощущаем не один и не два слоя (текст, подтекст). Он был мастером особого пра-языка, который на наших глазах, вот так – на ощупь, на звук, на прикосновение к коже – становится Словом Жизни.
«Его невероятный язык распределен по репликам персонажей так, что вдумчивый исследователь мог бы проследить и обратный ход: как из речи народной сгущался невероятный язык платоновской прозы. Тут есть некоторая возможность попытки разгадать, как, упростив словарь своей прозы до пещерной (в платоновском смысле слова) простоты, Платонов повергает нас в столь глубокие философские смыслы. Без советской власти тут никак. Искренняя попытка понять порождает бессвязность речи – эта бессвязность порождает стиль – стиль порождает авторскую речь – она прививается к языку как к дичку… И язык – жив! Так что и без автора тут никак. Круговорот слова в океане речи. Многие традиционно ошибаются, принимая достижения литературы как искусство, как результат так называемого мастерства, между тем только его отсутствие освобождает подход к реальности.
Платонов не столько писал, сколько пытался написать правду, как он ее видел, и эта попытка, прорывая текст, шла все дальше, все менее выражаясь, зато все более отражая реальность более непостижимую, чем замысел, порождая то чудо, которое уже можно называть искусством. Платонов рискнул не уметь писать (Лев Толстой это пробовал). Произведения такого рода неповторимы. Как неповторима жизнь»*.
(* А.Битов. Предисловие к собранию сочинений А.Платонова. М. «Время». 2011 г.)
«Я не важный, я – ответственный».
«Ты оттого и начальник, что никому не видим».
«Здесь что такое – капитализм или второе что-нибудь?»
«Давай возьмем курс на безлюдие!»
Мое первое знакомство с творчеством Андрея Платонова началось с покупки первой его книги на заре 90-х годов практически «из-под полы». Тогда «правильные книги» покупались исключительно через знакомых в книжных магазинах, как самый дефицитный товар. «Ювенильным морем» я зачитывался в возрасте 18 лет (первая официальная книга после запрета Платонова в СССР вышла в 1986 году). Разгадывать тайный смысл платоновских произведений тогда еще не было принято (мы, молодое поколение, попросту не умели этого делать), пытались читать «умом», отыскивая подтекст, но тогда это было сложно: некоторые выученные лозунги начала 80-х годов никак не давали «пробиться» к чему-то острому, яркому и непонятному. Сложность образов, склеенная другими словами, слова, стоящие не в том порядке, который нам был удобен – все это усложняло чтение, и делало Платонова «запредельным», ни с кем не сравнимым в русской и советской литературе. Как писала В.А.Чаликова, «книги Платонова – уникальный художественный аргумент к мысли Бердяева о «запредельности русского коммунизма», которому не хорошая жизнь нужна, не конкретная политическая свобода, а нечто большее самой жизни».
Платонов – как Набоков: совершенно уникальное явление даже не русской литературы, а всего русского языка, не зря оба писателя родились в один год (в 1899 г.), на заре нового «страшно исторического» века. Лишь теперь, спустя 30-35 лет, я начинаю читать Платонова заново, открывать его потаенные дверцы к смыслам и понимать, что именно такие писатели открывают в литературу другие двери, немыслимые, неведомые раньше.
«И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и возникает эта неизъяснимая трудность чтения, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и страданием. Ибо, может быть, в силу торжественности момента, а может быть, и вправду я не знаю никакого другого писателя, во все времена и эпохи, которому удавалось бы с такой силой и непереносимостью передавать сочувствие, жалость и любовь к живому. Жалость и любовь такой силы, что почти равны убийству. Любовь – вещь невыразимая, в этом большая часть ее содержания»**.
(** А.Битов. Предисловие к собранию сочинений А.Платонова. М. «Время». 2011 г.)
«... как велика жизнь, – подумала она, – и в каких маленьких местах она приютилась и надеется...»
«В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся».
Наш очередной номер литературно-художественного альманаха посвящен 125-летнему юбилею Андрея Платонова, и я хотел бы выразить огромную благодарность всем авторам, которые откликнулись на наше предложение издать сборник к этой дате. Масштаб этого писателя настолько необъятен и сложен, но с другой стороны – его творчество настолько оказалось пророческим уже в XXI веке, что невольно хочется вновь и вновь вчитываться в его произведения, пытаясь уловить нечто, что мы пропустили раньше. Мы не ставили задачу авторам как-то отразить свое мнение о творчестве Платонова или создать «шедевры», достойные его мастерства (вряд ли кому-то это бы удалось), мы всего лишь просили вновь и вновь открыть его книги и в который раз прочитать, пытаясь понять его творчество, ощутить его сложный, характерный «платоновский язык» и, конечно, выразить признательность Мастеру за создание уникальных произведений русской литературы. Особую благодарность я хочу выразить Елене Жиляевой (Роженцевой) за столь подробную и интересную статью о жизни и творчестве Андрея Платонова.
Главный редактор альманаха «Новое Слово»,
член Союза писателей России,
Максим Федосов
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Елена ЖИЛЯЕВА (РОЖЕНЦЕВА)
Родилась, живу и работаю в Москве. Окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина (нынешний МПГУ). Кандидат филологических наук. Область научных интересов – творчество Андрея Платонова и русская литература первой половины ХХ века. Автор книги «А.П. Платонов в жизни и творчестве» (изд. «Русское слово»). В 2021 году открыла страничку на портале Проза.ру.
Родилась, живу и работаю в Москве. Окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина (нынешний МПГУ). Кандидат филологических наук. Область научных интересов – творчество Андрея Платонова и русская литература первой половины ХХ века. Автор книги «А.П. Платонов в жизни и творчестве» (изд. «Русское слово»). В 2021 году открыла страничку на портале Проза.ру.
«В НЕМ В ЖИЗНИ НЕ БЫЛО ПИСАТЕЛЯ…»
А.П. Платонов
1899–1951 гг.
28 августа 2024 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова, одного из крупнейших русских писателей ХХ в.
Платонов при жизни не был широко известен современникам. Но их сердца и души, страдания и радости, мечты и надежды были открыты ему – духовному писателю советских времен. Когда в ноябре 1929 г. критика начала кампанию против Платонова и его «Усомнившегося Макара», то стало очевидно, что виной тому – душевная составляющая повествования. В рассказе действуют «нормальный мужик» Макар Ганнушкин и «наиболее умнейший на селе» товарищ Лев Чумовой. Бессмысленны изобретения Макара, имеющего «умные руки» и «порожнюю голову», как бессмысленно руководство Чумового, наделенного «умной головой», но «пустыми руками». Что важнее: «целостные масштабы» или интересы отдельного человека? «Научное» устройство общества, в котором игнорируются интересы «частного Макара», в рассказе отрицается: «Нам сила не дорога – мы и по мелочи дома поставим, – нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце». Утверждение Платонова по тем временам оказалось крамольным: душевным переживаниям не было места в трудовом пролетарском обществе.
А в произведениях писателя душа – повсюду: «душевноболящий», «душевный бедняк», «равнодушный», «задушевный», «пустодушие»… Платонов высоко ценил человеческий разум, но понимал, что он становится несчастьем при бессердечии, когда ум человека «на жадность тянет… Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут...» («Ямская слобода»).
Платонов знал и ценил свой народ, наделенный душой и большим сердцем. Он так объяснял истоки трудового энтузиазма современников: «Для истинно воодушевленной, для целесообразной жизни народа нужна еще особая организующая сила в виде идеи всемирного значения, способной отвечать сокровенному желанию большинства народа, чтобы вести народ в действие – на труд и на подвиг, чтобы наполнить его сердце удовлетворением собственного развития и победы» (статья «Электрик Павел Корчагин (Памяти Н.А. Островского)»). «Трудовой порыв», которым многие годы жила Советская Россия и который творил чудеса, великий подвиг созидания по принуждению совершить было нельзя: поколение наших дедов и прадедов претворяло в жизнь свою веру в наше счастливое будущее.
Одной из главных проблем платоновского повествования является рождение мысли, сам процесс ее появления, выражения в слове человеком из народа. Отсюда такие неровные мысли, такое трудное их воплощение, заставляющее читателя задумываться в тексте над каждым словосочетанием. Сиюминутное возникновение мысли, незавершенность и постоянный диалог с людьми и миром –
эти «качества» мысли создают ее «форму». Трудность выражения мысли в слове определяет язык платоновских героев, который исследователи называют «юродивым», «чудны́м», «трудным» и т.п. «Странность» языка художественной прозы Платонова объясняется сочетанием целого ряда явлений, охватывающих все уровни текста – семантику, грамматику и синтаксис. Писатель нарушает привычные литературные нормы в сочетаемости слов (грамматической и семантической), в синтаксическом строении предложений, а мы озадачиваемся всякий раз, когда встречаем такие непростые выражения, как, например, «заросшая жизнью душа», «вещество всего мира», «душевная чужбина». Соединение в словосочетании «обобщающего, умозрительного и простого, конкретного» слов-понятий, когда «идеальное, лишь духовно зримое содержание» (смысл жизни) передается через «прямое чувственное изображение» (С.Г. Бочаров), – одна из основных особенностей строения платоновского высказывания.
Писатель подчеркивал мысль о том, что значение человека в мире зависит не от его физической силы, социального статуса или иных внешних условий, а от душевной и сердечной состоятельности. Уже в ранних произведениях он утверждает изначальную ценность каждого человека: «...сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, жены – и один дороже другому. И так цепко кровями все ухвачены, что расцепить – хуже, чем убить... А сверху глядеть – один ровный народ, и никто никому не дорог!» («Ямская слобода»). Платонов возражает против слова-символа эпохи «массы», против того, чтобы считать народ – «массу» – безликим и безропотным. «Эх ты, масса, масса! Трудно организовать из тебя кулеш коммунизма! И что тебе надо, стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!» – со скорбью думает герой «Котлована», рассматривая спящих землекопов. Ирония здесь работает против «авангарда», который никак не организует из народа «кулеш». Платонов всегда будет утверждать значительность человека-труженика, силами которого творится жизнь.
* * *
Особенностями нелитературной работы Платонова был обусловлен круг людей, с которыми он общался. Об этих людях мы узнаем по записным книжкам писателя. Это изобретатели московских и ленинградских заводов, инженеры-конструкторы «Росметровеса», колхозники и инженеры машинно-тракторных станций, зоотехники и ветеринары, гидротехники и мелиораторы, железнодорожники, солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. Эти «подлинные собеседники Платонова» (Н.В. Корниенко) часто и не подозревали, что общаются с писателем. Они говорили с Андреем Платоновичем, как с равным по труду, и, конечно же, воспоминаний о встречах не оставили.
Писатели, с которыми Платонов встречался в Москве и Ленинграде, в большинстве своем беседы с ним не записывали, хотя искренне уважали его. Умел он быть «несвоевременным» для политических будней: его постоянно критиковали, порицали, и поэтому записывать разговоры и встречи с ним, наверное, многие не решались, а «толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе» он, разумеется, не любил, как и предсказывал в 1922 г. друживший с ним с юности Владимир Келлер.
* * *
Если книга писателя вам понравилась, заинтересовала или даже вызвала несогласие, в общем, любые чувства кроме равнодушия, тогда обязательно возникнет интерес и к личности автора. Захочется понять, правду он написал или сам не верил в свое дело, серьезно говорил или шутя…
Жизнь писателя – это оправдание или опровержение написанного им. И лицо его, образ, «особые приметы», если можно так сказать, сохранившиеся в немногочисленных воспоминаниях современников, – все теперь для нас ценно. Но так ли нужно воссоздавать образ ушедшего человека? Писатель Виктор Некрасов ответил на этот вопрос: «Имеет ли это какое-нибудь значение? Внешность, характер, книги? Не знаю, как для кого, – для меня имеет. И это вовсе не значит, что “совпадение” или “несовпадение” автора с его творчеством хорошо или плохо. <…> Андрей Платонович у меня “не совпал”. Ни тогда, когда я к нему пришел в первый раз, ни в следующий, ни потом, когда навещал его в больнице». Некрасов познакомился с Платоновым в 1947 г., и Андрей Платонович произвел на молодого писателя очень сильное впечатление.
* * *
Так каким же был писатель Андрей Платонов?
«Андрей был среднего роста и крепкого сложения, с широким русским лицом и пытливыми глазами, в которых словно затаилась какая-то глубокая печаль. Он ходил в серых полусуконных брюках навыпуск и такой же рубашке с поясом, а в жаркие дни – в рубашке холстинковой или ситцевой», – так вспоминал товарища писатель Николай Задонский, знавший Платонова еще в 1918–1919 гг.
Писатель Владимир Кораблинов рассказывал, как впервые увидел Платонова в 1922 г. в редакции газеты «Воронежская коммуна»: «…кто-то, похожий на рабочего, коренастый, крепкий, в сильно, до белизны потертой кожаной куртке» встретил Кораблинова в редакции. «Похожий на рабочего» – характерная «портретная» черта навсегда сохранится в облике писателя и будет отмечена новыми знакомыми и в тридцатые, и в сороковые: «Совсем был не похож на писателя, а скорее, на мастерового человека, слесаря или водопроводчика…» (Ф. Левин); «Он казался слесарем, пришедшим починить водопровод: простая кепка, москвошвеевский синий плащ, стоптанные ботинки, седоватые неприглаженные волосы, неприметное на первый взгляд лицо мастерового» (Е. Таратута).
Но это лишь «на первый взгляд», главное в нем открывалось не сразу и не всем.
Особой чертой Платонова были его улыбка и смех. «Как сейчас, вижу ласковую кротость его внимательных глаз, добрую улыбку; и вдруг враз – взрывом – смех, но не громкий, не раскатистый, как бы приглушенный, зато такой веселый, от всей души, словно приглашающий разделить с ним веселье», – вспоминал из юности Кораблинов. Пройдут годы, и улыбка писателя по-прежнему будет привлекать людей. «Я любила его улыбку. Улыбался он не часто и чуть-чуть. На лице был только намек на улыбку, только след ее, набросок, а сама улыбка уходила вглубь…» – тепло отметит писательница Евгения Таратута, познакомившаяся с Платоновым в 1940 г.
Сотрудник одной из воронежских редакций Август Явич вспоминал, что на литературном вечере в воронежском Коммунистическом союзе журналистов Платонов читал свое философское сочинение. Во время чтения «он удивительно как похож был лицом на молодого Достоевского с редким и длинным волосом на небритых щеках и подбородке и с живым блеском в глазах… У него был большой лоб, и верхняя, более выпуклая часть его нависала над нижней, поражая своей объемной выразительностью». Мастеровой и мыслитель – внутренние духовные искания получили свое отражение в портрете и в характере.
Знакомые люди отмечали скромность, «тишину» и застенчивость, даже кротость писателя. Но был и другой Платонов – руководитель мелиоративных работ в Воронеже и Тамбове. Он был молод, но должен был управлять многими людьми. Его любили и уважали трудолюбивые, ответственные сотрудники, и боялись бездельники, которых он не щадил. В 1925 г. Платонов получил приветственный адрес с самыми теплыми словами от коллег – сотрудников Воронежского губернского земельного отдела: «Около года мы с Вами, и за весь этот кипящий период, сопровождавшийся трепкой нервов и сил, не было ни одного момента, могущего породить укоры по Вашему адресу».
В конце 1926 г. Платонов, оказавшийся на работе в Тамбове, начал перестраивать местное губернское земельное управление. О своих планах он так писал жене: «Попробую поставить работу на здоровые ясные основания, поведу все каменной рукой и без всякой пощады». О «тишине» и кротости здесь как-то не вспоминается.
И еще есть у писателя довольно жесткая сатира – повести «Город Градов» и «Впрок», например. И снова мнимое противоречие, которое могли объяснить люди, долгие годы дружившие с Платоновым, как, например, писатель Лев Гумилевский: «Сатирическое начало в этом тихом, по-чеховски деликатном и снисходительном человеке было очень сильно».
Писатель Эмилий Миндлин познакомился с Платоновым примерно в 1932 г. Недавно закончилась кампания против «бедняцкой хроники» «Впрок», и Миндлин представлял себе автора «человеком с остро-ироническим взглядом, режуще-остроумным скептиком». Оказалось, писатель вовсе не похож на «автора блистательно сотворенной сатиры»: «…Платонов был молчаливее всех. Я помню, как он смеялся рассказам Буданцева и Большакова, но не помню, чтобы за весь вечер сам хоть что-нибудь рассказал… <…> Крупная голова с необыкновенно высоким, незатененным лбом держалась на тонкой шее – такой тонкой, что воротничок рубашки никогда не касался ее. И вся фигура его была узкой и тонкой… <…> Он всегда говорил ровным голосом, приглушенно… и с удивительной точностью формулировал свои мысли».
* * *
Посмотрим немногие сохранившиеся фотографии. В лице молодого Платонова есть твердость, разумное упрямство, уверенность в себе, и, конечно же, заметны усталость и задумчивость.
В тридцатые годы на фотографиях – лицо человека, много пережившего. Инженерная работа, занимавшая все дни, и страстная необходимость писать; постоянное стремление обеспечить семье достойное существование и жестокая политическая критика, невозможность публиковаться – все это оставляет свой отпечаток. Платонов изменился, но в характере сохранилась искренность, которая была заметна в умении смеяться: «А смеялся он как-то легко, с удовольствием. Глаза у него оставались печальны, – они у него всегда были добрыми и печальными, – но было похоже, что он от души радуется тому, что есть от чего смеяться…» (Э. Миндлин).
Для воссоздания облика Платонова особую ценность представляет профессиональный взгляд скульптурного портрета писателя. Федот Сучков, начинавший свой творческий путь как поэт, познакомился с Платоновым в редакции журнала «Литературный критик» в 1938 г. Вот как он вспоминал об этой встрече: «…я остался доволен его “сельской” внешностью и, наблюдая за ним во время чтения моей рукописи, сразу решил, что он не присудит меня к смертной казни. <…> Я ясно вижу спокойное лицо Андрея Платоновича, склоненное слегка долу и вроде бы не читающее, а задумавшееся над текстом. Таким оно и вышло из-под моих пальцев в скульптурном портрете через двадцать четыре года».
* * *
В 1938 г. над Платоновыми разразилась гроза: был арестован пятнадцатилетний сын писателя Платон. Поводом для ареста стала глупая юношеская выходка. Платон вместе с приятелем написал письмо немецкому корреспонденту, жившему в том же доме, где и семья Платоновых, с предложением купить какую-то несуществующую «информацию». Этим нелепым поступком воспользовались органы НКВД, чтобы оказать давление на писателя.
Долгое время родители ничего не знали о судьбе Платона и подозревали, что он умер в тюрьме. Измученный Платонов писал в разные инстанции. Он пытался оправдать сына, взять на себя его вину, в которую не верил: «Мне кажется, что плохо, если отказывается отец от сына или сын от отца, поэтому я от сына никогда не могу отказаться, я не в состоянии преодолеть своего естественного чувства к нему. Я считаю, что если сын мой виновен, то я, его отец, виновен вдвое, потому что не сумел его воспитать, и меня надо посадить в тюрьму и наказать, а сына освободить» (из письма И.В. Сталину).
В сентябре 1938 г. Платон Платонов был осужден военной коллегией Верховного суда СССР по политической статье как один из «руководителей антисоветской молодежной террористической и шпионско-вредительской организации, действовавшей в г. Москве» и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Для отбывания наказания его отправили в лагерь в Норильске – Норильлаг.
Благодаря помощи Михаила Александровича Шолохова Платон был оправдан. Он вернулся в начале 1941 г. тяжелобольным – в лагере у него открылся туберкулез. Но семья снова воссоединилась, появились надежды.
* * *
Немногие проявляли чуткость или утруждали себя «пониманием» Платонова. Его скромность часто виделась как «необычайная застенчивость», и не каждый способен был оценить его деликатность и уважение к собеседнику. Зачастую эти качества воспринимались в писательской и журналистской среде как неуверенность в себе, даже «неказистость».
Но это не о Платонове. Знавшие его люди понимали:
«…по-настоящему мудрый Андрей Платонов был в общении скромен и прост, скромен, но не застенчив, прост, ясен, но не простоват» (Э. Миндлин); «Андрей Платонович всегда и везде, дома и в гостях, говорил немного, ел мало… никогда не пьянел, ничего не ронял на столе, и во всем этом чувствовалась человеческая породистость, которая дается не школой, не воспитанием, а чем-то совсем другим» (Л. Гумилевский).
Такой разный и все же один человек, Платонов сам выбирал себе друзей по сердцу, не руководствуясь никакими иными причинами, не многих допускал в свой мир и никому не навязывал разговоры «по душам». Е. Таратута, понимая платоновскую закрытость, все же чутко заметила в нем важное: «Меня удивляло в нем видное не с первого взгляда и даже не со второго: скромность, содержащая в самой себе противоречие, – какая-то значительная скромность: ощущение личности и одновременно повышенное содержание совести, явно ощутимое. Говорил он просто, уверенно, твердо».
Важным, конечно, являются для нас свидетельства людей, друживших с писателем долгие годы. Виктор Боков, тогда молодой писатель, был среди тех немногих, кто имел возможность наблюдать Андрея Платоновича вблизи. Платонов приезжал к Бокову в Переделкино «обычно на рассвете», они гуляли по окрестностям, ходили на железную дорогу – к паровозам. Боков вспоминал: «При встречах с Андреем Платоновым у меня всегда было желание что-нибудь “выкинуть”, “отчубучить”. Он поддерживал это, его душа была юной и озорной.
Переделкино. Идем с Платоновым к Самаринскому пруду. Навстречу – ватага измалковских ребятишек. Поравнялись. Я спрашиваю:
– Ребята! Кто из вас подхалим?
– Я! – выступил вперед бойкий, смышленый паренек.
– Получи рубль за откровенность.
Мальчишка выхватил из моих рук потрепанную купюру. Платонов прослезился от восторга».
Боков отмечал, что сложность платоновского характера видна была даже на фотографии: «На подаренной мне фотографии лицо Платонова и доброе, и язвительное, и мудрое и печальное – целый спектр душевных состояний. Лицо тончайшего интеллигента, великолепно знавшего и русскую литературу, и западную, знавшего всех наших русских философов».
Свидетельство Бокова – единственное в своем роде: писатели были дружны, много общались, ему довелось наблюдать Платонова в моменты творчества. Случалось, вечером он не успевал на электричку в Переделкино и тогда оставался у Платоновых на ночь. Проснувшись однажды рано утром, он увидел: «За конторкой в белом исподнем стоял Андрей и писал. Надо было видеть его очи! Именно очи, а не глаза. Они были волшебны, таинственны, вдохновенны. Я не писателя видел, а ночного ангела, который стоял в своем писательском окопе и воевал за человечество!»
Люди небезразличные видели крайнюю утомленность писателя. В 1941 г., накануне войны, когда бывший в заключении сын Платонова уже вернулся, Лев Гумилевский писал Андрею Платоновичу: «За все почти время нашего знакомства Вы находились в каких-то ненормальных условиях душевного состояния, условиях, созданных как бы роком, странным, нисколько не зависящим от Вас, стечением обстоятельств и законно, хотя и бессознательно (тем более справедливо) относились к себе, как почти к человеку, пораженному случайным заболеванием, что ли, или потерей конечностей при трамвайной катастрофе».
Через год, в 1942-м, Платонов записал: «Если бы мой брат Митя или Надя – через 21 год после своей смерти… посмотрели бы на меня: что со мной сталось? – Я стал уродом, изувеченным и внешне, и внутренне.
– Андрюша, разве это ты?
– Это я: я прожил жизнь».
Но и тогда, оказывается, судьба еще не завершила испытание Андрея Платоновича на прочность. В 1943 г. Платонов похоронил единственного сына. За годы ареста, а потом продолжительной болезни и медленного угасания Платона, бесконечно любимого Тошки, Тотика, Платонов постарел сразу на двадцать лет.
Иных испытания ломают, других – духовно закаляют. Платонов относился к последним. После пережитого он не утратил сострадания и уважения к людям. В годы войны Платонов служил фронтовым корреспондентом. Вспоминают фронтовые товарищи Платонова: «В Славуте, на Украине, корреспонденты заняли небольшую хату, откуда только что ушли немцы; не были еще убраны нары, солома, Зотов решил, что молодежь как-нибудь и здесь проживет, а Платонова надо лучше устроить. Он попросил редактора фронтовой газеты полковника Жукова, успевшего занять более благоустроенные дома, приютить у себя писателя. <…> Но когда Зотов попытался увести Платонова на эту квартиру, тот отказался и даже обиделся. Так и остался со всеми, устроившись на полу, где вповалку спали человек двенадцать. <…> Зотов мне рассказывал:
– Хата, где мы жили, выглядела столь неприглядной, что Платонов повесил на дверях бумажку с надписью: «Вход в “Дно”», имея ввиду пьесу Горького. Себя он назвал Лукой и другим присвоил имена остальных персонажей драмы. Имена эти не прижились, только Платонов сходил за Луку» (Д.Ортенберг).
* * *
О духовном пути Платонова говорят его размышления о человеческой жизни, написанные «на расстоянии» семнадцати лет: «Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы могло в нее вместиться какое-нибудь великое деяние. Даже самым сильным из нас людям смерть сворачивает шею, когда великий труд только начат» (статья «Вечная жизнь», 1920).
Это суждение двадцатилетнего юноши. Но в 1937 г. Платонов писал о том же совсем иначе: «Пушкин никогда не боялся смерти… он считал, что краткая обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех дел и для полного наслаждения страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным» (статья «Пушкин – наш товарищ»).
Так писал человек, более всего ценивший «дар жизни» (так называлось неоконченное произведение писателя). Это качество он замечал и уважал в людях: «Сестра твоя – необыкновенная женщина… потому, что бесконечно добра и преданна жизни», – сказал однажды Платонов Виктору Бокову.
* * *
Последним штрихом в нашем портрете Платонова станет суждение писателя Виктора Некрасова, чьи воспоминания мы уже цитировали. Писатели не долго были знакомы, не часто встречались. Некрасов очень сожалел об этом и признавался, что горд знакомством с писателем, «который “в жизни” не был писателем, но в писательском своем труде всегда оставался человеком». И пояснял: «Дело в том, что писатель и человек соединились в Платонове воедино – его герои, взрослые и дети, мужчины и женщины, начальники станций и красноармейцы, в основном думают и поступают, как думал и поступал бы сам автор. Но в этом-то, вероятно, и есть таинство искусства: “ТО”, что избрало себе форму рассказа или повести, должно оставаться именно рассказом или повестью. “ОНО” не для размена, не для разговора, не для спора, не для “я хотел этим рассказом показать…” Вы, читатели, можете и, вероятно, должны даже (для этого и пишется) и обсуждать, и спорить, а мое, писателя, дело сделано – я скромно отхожу в сторону и со стороны смотрю на вас. И слушаю. И иногда пропускаю мимо ушей. Таким и оказался Платонов. <…> В нем в жизни не было писателя, т.е. человека с большей или меньшей степенью таланта, чему-то поучающего – словами ли, образами, поступками ли героев, – но все же поучающего, толкающего тебя в нужную ему, писателю, сторону. В жизни он был просто человеком – умным, серьезным, немного ироничным, – человеком, ничем не отличающимся от умного, серьезного и т.д. инженера, врача, капитана дальнего плавания, с которыми просто приятно и интересно общаться, приятно быть вместе».
* * *
Больше всего на свете Андрей Платонович любил свою семью, бесконечно уважал и ценил свой народ, сердцем болел за свою Родину. Чтобы узнать все это, надо лишь непредвзято прочитать его произведения, письма, записные книжки. И, конечно, надо самому верить в жизнь и не быть равнодушным.
Платонов был не только писателем, прежде всего, он был «человеком техническим», как сам называл себя, и на первое место ставил работу мелиоратора, инженера, изобретателя; он верил в счастье людей на земле и делал все, что было в его личных силах: «Народ весь мой бедный и родной. Почему, чем беднее, тем добрее? Ведь это же надо кончать – приводить наоборот. Какая радость от доброго, если он бедный?» («Записные книжки», 1937).
Никто, конечно, не считал, скольких людей спасли построенные им плотины и колодцы, скольких поддержали написанные им слова. Книги Платонова помогают нам и сегодня, избавляя от душевной лени и духовного застоя.
А.П. Платонов
1899–1951 гг.
28 августа 2024 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова, одного из крупнейших русских писателей ХХ в.
Платонов при жизни не был широко известен современникам. Но их сердца и души, страдания и радости, мечты и надежды были открыты ему – духовному писателю советских времен. Когда в ноябре 1929 г. критика начала кампанию против Платонова и его «Усомнившегося Макара», то стало очевидно, что виной тому – душевная составляющая повествования. В рассказе действуют «нормальный мужик» Макар Ганнушкин и «наиболее умнейший на селе» товарищ Лев Чумовой. Бессмысленны изобретения Макара, имеющего «умные руки» и «порожнюю голову», как бессмысленно руководство Чумового, наделенного «умной головой», но «пустыми руками». Что важнее: «целостные масштабы» или интересы отдельного человека? «Научное» устройство общества, в котором игнорируются интересы «частного Макара», в рассказе отрицается: «Нам сила не дорога – мы и по мелочи дома поставим, – нам душа дорога. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце». Утверждение Платонова по тем временам оказалось крамольным: душевным переживаниям не было места в трудовом пролетарском обществе.
А в произведениях писателя душа – повсюду: «душевноболящий», «душевный бедняк», «равнодушный», «задушевный», «пустодушие»… Платонов высоко ценил человеческий разум, но понимал, что он становится несчастьем при бессердечии, когда ум человека «на жадность тянет… Человек бросится, а поперек дороги сердечное чувство лежит, его и потопчут! А после вернутся и плачут...» («Ямская слобода»).
Платонов знал и ценил свой народ, наделенный душой и большим сердцем. Он так объяснял истоки трудового энтузиазма современников: «Для истинно воодушевленной, для целесообразной жизни народа нужна еще особая организующая сила в виде идеи всемирного значения, способной отвечать сокровенному желанию большинства народа, чтобы вести народ в действие – на труд и на подвиг, чтобы наполнить его сердце удовлетворением собственного развития и победы» (статья «Электрик Павел Корчагин (Памяти Н.А. Островского)»). «Трудовой порыв», которым многие годы жила Советская Россия и который творил чудеса, великий подвиг созидания по принуждению совершить было нельзя: поколение наших дедов и прадедов претворяло в жизнь свою веру в наше счастливое будущее.
Одной из главных проблем платоновского повествования является рождение мысли, сам процесс ее появления, выражения в слове человеком из народа. Отсюда такие неровные мысли, такое трудное их воплощение, заставляющее читателя задумываться в тексте над каждым словосочетанием. Сиюминутное возникновение мысли, незавершенность и постоянный диалог с людьми и миром –
эти «качества» мысли создают ее «форму». Трудность выражения мысли в слове определяет язык платоновских героев, который исследователи называют «юродивым», «чудны́м», «трудным» и т.п. «Странность» языка художественной прозы Платонова объясняется сочетанием целого ряда явлений, охватывающих все уровни текста – семантику, грамматику и синтаксис. Писатель нарушает привычные литературные нормы в сочетаемости слов (грамматической и семантической), в синтаксическом строении предложений, а мы озадачиваемся всякий раз, когда встречаем такие непростые выражения, как, например, «заросшая жизнью душа», «вещество всего мира», «душевная чужбина». Соединение в словосочетании «обобщающего, умозрительного и простого, конкретного» слов-понятий, когда «идеальное, лишь духовно зримое содержание» (смысл жизни) передается через «прямое чувственное изображение» (С.Г. Бочаров), – одна из основных особенностей строения платоновского высказывания.
Писатель подчеркивал мысль о том, что значение человека в мире зависит не от его физической силы, социального статуса или иных внешних условий, а от душевной и сердечной состоятельности. Уже в ранних произведениях он утверждает изначальную ценность каждого человека: «...сплошного народу на свете нету, а живут кучками сыновья, матери, жены – и один дороже другому. И так цепко кровями все ухвачены, что расцепить – хуже, чем убить... А сверху глядеть – один ровный народ, и никто никому не дорог!» («Ямская слобода»). Платонов возражает против слова-символа эпохи «массы», против того, чтобы считать народ – «массу» – безликим и безропотным. «Эх ты, масса, масса! Трудно организовать из тебя кулеш коммунизма! И что тебе надо, стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!» – со скорбью думает герой «Котлована», рассматривая спящих землекопов. Ирония здесь работает против «авангарда», который никак не организует из народа «кулеш». Платонов всегда будет утверждать значительность человека-труженика, силами которого творится жизнь.
* * *
Особенностями нелитературной работы Платонова был обусловлен круг людей, с которыми он общался. Об этих людях мы узнаем по записным книжкам писателя. Это изобретатели московских и ленинградских заводов, инженеры-конструкторы «Росметровеса», колхозники и инженеры машинно-тракторных станций, зоотехники и ветеринары, гидротехники и мелиораторы, железнодорожники, солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. Эти «подлинные собеседники Платонова» (Н.В. Корниенко) часто и не подозревали, что общаются с писателем. Они говорили с Андреем Платоновичем, как с равным по труду, и, конечно же, воспоминаний о встречах не оставили.
Писатели, с которыми Платонов встречался в Москве и Ленинграде, в большинстве своем беседы с ним не записывали, хотя искренне уважали его. Умел он быть «несвоевременным» для политических будней: его постоянно критиковали, порицали, и поэтому записывать разговоры и встречи с ним, наверное, многие не решались, а «толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе» он, разумеется, не любил, как и предсказывал в 1922 г. друживший с ним с юности Владимир Келлер.
* * *
Если книга писателя вам понравилась, заинтересовала или даже вызвала несогласие, в общем, любые чувства кроме равнодушия, тогда обязательно возникнет интерес и к личности автора. Захочется понять, правду он написал или сам не верил в свое дело, серьезно говорил или шутя…
Жизнь писателя – это оправдание или опровержение написанного им. И лицо его, образ, «особые приметы», если можно так сказать, сохранившиеся в немногочисленных воспоминаниях современников, – все теперь для нас ценно. Но так ли нужно воссоздавать образ ушедшего человека? Писатель Виктор Некрасов ответил на этот вопрос: «Имеет ли это какое-нибудь значение? Внешность, характер, книги? Не знаю, как для кого, – для меня имеет. И это вовсе не значит, что “совпадение” или “несовпадение” автора с его творчеством хорошо или плохо. <…> Андрей Платонович у меня “не совпал”. Ни тогда, когда я к нему пришел в первый раз, ни в следующий, ни потом, когда навещал его в больнице». Некрасов познакомился с Платоновым в 1947 г., и Андрей Платонович произвел на молодого писателя очень сильное впечатление.
* * *
Так каким же был писатель Андрей Платонов?
«Андрей был среднего роста и крепкого сложения, с широким русским лицом и пытливыми глазами, в которых словно затаилась какая-то глубокая печаль. Он ходил в серых полусуконных брюках навыпуск и такой же рубашке с поясом, а в жаркие дни – в рубашке холстинковой или ситцевой», – так вспоминал товарища писатель Николай Задонский, знавший Платонова еще в 1918–1919 гг.
Писатель Владимир Кораблинов рассказывал, как впервые увидел Платонова в 1922 г. в редакции газеты «Воронежская коммуна»: «…кто-то, похожий на рабочего, коренастый, крепкий, в сильно, до белизны потертой кожаной куртке» встретил Кораблинова в редакции. «Похожий на рабочего» – характерная «портретная» черта навсегда сохранится в облике писателя и будет отмечена новыми знакомыми и в тридцатые, и в сороковые: «Совсем был не похож на писателя, а скорее, на мастерового человека, слесаря или водопроводчика…» (Ф. Левин); «Он казался слесарем, пришедшим починить водопровод: простая кепка, москвошвеевский синий плащ, стоптанные ботинки, седоватые неприглаженные волосы, неприметное на первый взгляд лицо мастерового» (Е. Таратута).
Но это лишь «на первый взгляд», главное в нем открывалось не сразу и не всем.
Особой чертой Платонова были его улыбка и смех. «Как сейчас, вижу ласковую кротость его внимательных глаз, добрую улыбку; и вдруг враз – взрывом – смех, но не громкий, не раскатистый, как бы приглушенный, зато такой веселый, от всей души, словно приглашающий разделить с ним веселье», – вспоминал из юности Кораблинов. Пройдут годы, и улыбка писателя по-прежнему будет привлекать людей. «Я любила его улыбку. Улыбался он не часто и чуть-чуть. На лице был только намек на улыбку, только след ее, набросок, а сама улыбка уходила вглубь…» – тепло отметит писательница Евгения Таратута, познакомившаяся с Платоновым в 1940 г.
Сотрудник одной из воронежских редакций Август Явич вспоминал, что на литературном вечере в воронежском Коммунистическом союзе журналистов Платонов читал свое философское сочинение. Во время чтения «он удивительно как похож был лицом на молодого Достоевского с редким и длинным волосом на небритых щеках и подбородке и с живым блеском в глазах… У него был большой лоб, и верхняя, более выпуклая часть его нависала над нижней, поражая своей объемной выразительностью». Мастеровой и мыслитель – внутренние духовные искания получили свое отражение в портрете и в характере.
Знакомые люди отмечали скромность, «тишину» и застенчивость, даже кротость писателя. Но был и другой Платонов – руководитель мелиоративных работ в Воронеже и Тамбове. Он был молод, но должен был управлять многими людьми. Его любили и уважали трудолюбивые, ответственные сотрудники, и боялись бездельники, которых он не щадил. В 1925 г. Платонов получил приветственный адрес с самыми теплыми словами от коллег – сотрудников Воронежского губернского земельного отдела: «Около года мы с Вами, и за весь этот кипящий период, сопровождавшийся трепкой нервов и сил, не было ни одного момента, могущего породить укоры по Вашему адресу».
В конце 1926 г. Платонов, оказавшийся на работе в Тамбове, начал перестраивать местное губернское земельное управление. О своих планах он так писал жене: «Попробую поставить работу на здоровые ясные основания, поведу все каменной рукой и без всякой пощады». О «тишине» и кротости здесь как-то не вспоминается.
И еще есть у писателя довольно жесткая сатира – повести «Город Градов» и «Впрок», например. И снова мнимое противоречие, которое могли объяснить люди, долгие годы дружившие с Платоновым, как, например, писатель Лев Гумилевский: «Сатирическое начало в этом тихом, по-чеховски деликатном и снисходительном человеке было очень сильно».
Писатель Эмилий Миндлин познакомился с Платоновым примерно в 1932 г. Недавно закончилась кампания против «бедняцкой хроники» «Впрок», и Миндлин представлял себе автора «человеком с остро-ироническим взглядом, режуще-остроумным скептиком». Оказалось, писатель вовсе не похож на «автора блистательно сотворенной сатиры»: «…Платонов был молчаливее всех. Я помню, как он смеялся рассказам Буданцева и Большакова, но не помню, чтобы за весь вечер сам хоть что-нибудь рассказал… <…> Крупная голова с необыкновенно высоким, незатененным лбом держалась на тонкой шее – такой тонкой, что воротничок рубашки никогда не касался ее. И вся фигура его была узкой и тонкой… <…> Он всегда говорил ровным голосом, приглушенно… и с удивительной точностью формулировал свои мысли».
* * *
Посмотрим немногие сохранившиеся фотографии. В лице молодого Платонова есть твердость, разумное упрямство, уверенность в себе, и, конечно же, заметны усталость и задумчивость.
В тридцатые годы на фотографиях – лицо человека, много пережившего. Инженерная работа, занимавшая все дни, и страстная необходимость писать; постоянное стремление обеспечить семье достойное существование и жестокая политическая критика, невозможность публиковаться – все это оставляет свой отпечаток. Платонов изменился, но в характере сохранилась искренность, которая была заметна в умении смеяться: «А смеялся он как-то легко, с удовольствием. Глаза у него оставались печальны, – они у него всегда были добрыми и печальными, – но было похоже, что он от души радуется тому, что есть от чего смеяться…» (Э. Миндлин).
Для воссоздания облика Платонова особую ценность представляет профессиональный взгляд скульптурного портрета писателя. Федот Сучков, начинавший свой творческий путь как поэт, познакомился с Платоновым в редакции журнала «Литературный критик» в 1938 г. Вот как он вспоминал об этой встрече: «…я остался доволен его “сельской” внешностью и, наблюдая за ним во время чтения моей рукописи, сразу решил, что он не присудит меня к смертной казни. <…> Я ясно вижу спокойное лицо Андрея Платоновича, склоненное слегка долу и вроде бы не читающее, а задумавшееся над текстом. Таким оно и вышло из-под моих пальцев в скульптурном портрете через двадцать четыре года».
* * *
В 1938 г. над Платоновыми разразилась гроза: был арестован пятнадцатилетний сын писателя Платон. Поводом для ареста стала глупая юношеская выходка. Платон вместе с приятелем написал письмо немецкому корреспонденту, жившему в том же доме, где и семья Платоновых, с предложением купить какую-то несуществующую «информацию». Этим нелепым поступком воспользовались органы НКВД, чтобы оказать давление на писателя.
Долгое время родители ничего не знали о судьбе Платона и подозревали, что он умер в тюрьме. Измученный Платонов писал в разные инстанции. Он пытался оправдать сына, взять на себя его вину, в которую не верил: «Мне кажется, что плохо, если отказывается отец от сына или сын от отца, поэтому я от сына никогда не могу отказаться, я не в состоянии преодолеть своего естественного чувства к нему. Я считаю, что если сын мой виновен, то я, его отец, виновен вдвое, потому что не сумел его воспитать, и меня надо посадить в тюрьму и наказать, а сына освободить» (из письма И.В. Сталину).
В сентябре 1938 г. Платон Платонов был осужден военной коллегией Верховного суда СССР по политической статье как один из «руководителей антисоветской молодежной террористической и шпионско-вредительской организации, действовавшей в г. Москве» и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Для отбывания наказания его отправили в лагерь в Норильске – Норильлаг.
Благодаря помощи Михаила Александровича Шолохова Платон был оправдан. Он вернулся в начале 1941 г. тяжелобольным – в лагере у него открылся туберкулез. Но семья снова воссоединилась, появились надежды.
* * *
Немногие проявляли чуткость или утруждали себя «пониманием» Платонова. Его скромность часто виделась как «необычайная застенчивость», и не каждый способен был оценить его деликатность и уважение к собеседнику. Зачастую эти качества воспринимались в писательской и журналистской среде как неуверенность в себе, даже «неказистость».
Но это не о Платонове. Знавшие его люди понимали:
«…по-настоящему мудрый Андрей Платонов был в общении скромен и прост, скромен, но не застенчив, прост, ясен, но не простоват» (Э. Миндлин); «Андрей Платонович всегда и везде, дома и в гостях, говорил немного, ел мало… никогда не пьянел, ничего не ронял на столе, и во всем этом чувствовалась человеческая породистость, которая дается не школой, не воспитанием, а чем-то совсем другим» (Л. Гумилевский).
Такой разный и все же один человек, Платонов сам выбирал себе друзей по сердцу, не руководствуясь никакими иными причинами, не многих допускал в свой мир и никому не навязывал разговоры «по душам». Е. Таратута, понимая платоновскую закрытость, все же чутко заметила в нем важное: «Меня удивляло в нем видное не с первого взгляда и даже не со второго: скромность, содержащая в самой себе противоречие, – какая-то значительная скромность: ощущение личности и одновременно повышенное содержание совести, явно ощутимое. Говорил он просто, уверенно, твердо».
Важным, конечно, являются для нас свидетельства людей, друживших с писателем долгие годы. Виктор Боков, тогда молодой писатель, был среди тех немногих, кто имел возможность наблюдать Андрея Платоновича вблизи. Платонов приезжал к Бокову в Переделкино «обычно на рассвете», они гуляли по окрестностям, ходили на железную дорогу – к паровозам. Боков вспоминал: «При встречах с Андреем Платоновым у меня всегда было желание что-нибудь “выкинуть”, “отчубучить”. Он поддерживал это, его душа была юной и озорной.
Переделкино. Идем с Платоновым к Самаринскому пруду. Навстречу – ватага измалковских ребятишек. Поравнялись. Я спрашиваю:
– Ребята! Кто из вас подхалим?
– Я! – выступил вперед бойкий, смышленый паренек.
– Получи рубль за откровенность.
Мальчишка выхватил из моих рук потрепанную купюру. Платонов прослезился от восторга».
Боков отмечал, что сложность платоновского характера видна была даже на фотографии: «На подаренной мне фотографии лицо Платонова и доброе, и язвительное, и мудрое и печальное – целый спектр душевных состояний. Лицо тончайшего интеллигента, великолепно знавшего и русскую литературу, и западную, знавшего всех наших русских философов».
Свидетельство Бокова – единственное в своем роде: писатели были дружны, много общались, ему довелось наблюдать Платонова в моменты творчества. Случалось, вечером он не успевал на электричку в Переделкино и тогда оставался у Платоновых на ночь. Проснувшись однажды рано утром, он увидел: «За конторкой в белом исподнем стоял Андрей и писал. Надо было видеть его очи! Именно очи, а не глаза. Они были волшебны, таинственны, вдохновенны. Я не писателя видел, а ночного ангела, который стоял в своем писательском окопе и воевал за человечество!»
Люди небезразличные видели крайнюю утомленность писателя. В 1941 г., накануне войны, когда бывший в заключении сын Платонова уже вернулся, Лев Гумилевский писал Андрею Платоновичу: «За все почти время нашего знакомства Вы находились в каких-то ненормальных условиях душевного состояния, условиях, созданных как бы роком, странным, нисколько не зависящим от Вас, стечением обстоятельств и законно, хотя и бессознательно (тем более справедливо) относились к себе, как почти к человеку, пораженному случайным заболеванием, что ли, или потерей конечностей при трамвайной катастрофе».
Через год, в 1942-м, Платонов записал: «Если бы мой брат Митя или Надя – через 21 год после своей смерти… посмотрели бы на меня: что со мной сталось? – Я стал уродом, изувеченным и внешне, и внутренне.
– Андрюша, разве это ты?
– Это я: я прожил жизнь».
Но и тогда, оказывается, судьба еще не завершила испытание Андрея Платоновича на прочность. В 1943 г. Платонов похоронил единственного сына. За годы ареста, а потом продолжительной болезни и медленного угасания Платона, бесконечно любимого Тошки, Тотика, Платонов постарел сразу на двадцать лет.
Иных испытания ломают, других – духовно закаляют. Платонов относился к последним. После пережитого он не утратил сострадания и уважения к людям. В годы войны Платонов служил фронтовым корреспондентом. Вспоминают фронтовые товарищи Платонова: «В Славуте, на Украине, корреспонденты заняли небольшую хату, откуда только что ушли немцы; не были еще убраны нары, солома, Зотов решил, что молодежь как-нибудь и здесь проживет, а Платонова надо лучше устроить. Он попросил редактора фронтовой газеты полковника Жукова, успевшего занять более благоустроенные дома, приютить у себя писателя. <…> Но когда Зотов попытался увести Платонова на эту квартиру, тот отказался и даже обиделся. Так и остался со всеми, устроившись на полу, где вповалку спали человек двенадцать. <…> Зотов мне рассказывал:
– Хата, где мы жили, выглядела столь неприглядной, что Платонов повесил на дверях бумажку с надписью: «Вход в “Дно”», имея ввиду пьесу Горького. Себя он назвал Лукой и другим присвоил имена остальных персонажей драмы. Имена эти не прижились, только Платонов сходил за Луку» (Д.Ортенберг).
* * *
О духовном пути Платонова говорят его размышления о человеческой жизни, написанные «на расстоянии» семнадцати лет: «Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы могло в нее вместиться какое-нибудь великое деяние. Даже самым сильным из нас людям смерть сворачивает шею, когда великий труд только начат» (статья «Вечная жизнь», 1920).
Это суждение двадцатилетнего юноши. Но в 1937 г. Платонов писал о том же совсем иначе: «Пушкин никогда не боялся смерти… он считал, что краткая обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех дел и для полного наслаждения страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным» (статья «Пушкин – наш товарищ»).
Так писал человек, более всего ценивший «дар жизни» (так называлось неоконченное произведение писателя). Это качество он замечал и уважал в людях: «Сестра твоя – необыкновенная женщина… потому, что бесконечно добра и преданна жизни», – сказал однажды Платонов Виктору Бокову.
* * *
Последним штрихом в нашем портрете Платонова станет суждение писателя Виктора Некрасова, чьи воспоминания мы уже цитировали. Писатели не долго были знакомы, не часто встречались. Некрасов очень сожалел об этом и признавался, что горд знакомством с писателем, «который “в жизни” не был писателем, но в писательском своем труде всегда оставался человеком». И пояснял: «Дело в том, что писатель и человек соединились в Платонове воедино – его герои, взрослые и дети, мужчины и женщины, начальники станций и красноармейцы, в основном думают и поступают, как думал и поступал бы сам автор. Но в этом-то, вероятно, и есть таинство искусства: “ТО”, что избрало себе форму рассказа или повести, должно оставаться именно рассказом или повестью. “ОНО” не для размена, не для разговора, не для спора, не для “я хотел этим рассказом показать…” Вы, читатели, можете и, вероятно, должны даже (для этого и пишется) и обсуждать, и спорить, а мое, писателя, дело сделано – я скромно отхожу в сторону и со стороны смотрю на вас. И слушаю. И иногда пропускаю мимо ушей. Таким и оказался Платонов. <…> В нем в жизни не было писателя, т.е. человека с большей или меньшей степенью таланта, чему-то поучающего – словами ли, образами, поступками ли героев, – но все же поучающего, толкающего тебя в нужную ему, писателю, сторону. В жизни он был просто человеком – умным, серьезным, немного ироничным, – человеком, ничем не отличающимся от умного, серьезного и т.д. инженера, врача, капитана дальнего плавания, с которыми просто приятно и интересно общаться, приятно быть вместе».
* * *
Больше всего на свете Андрей Платонович любил свою семью, бесконечно уважал и ценил свой народ, сердцем болел за свою Родину. Чтобы узнать все это, надо лишь непредвзято прочитать его произведения, письма, записные книжки. И, конечно, надо самому верить в жизнь и не быть равнодушным.
Платонов был не только писателем, прежде всего, он был «человеком техническим», как сам называл себя, и на первое место ставил работу мелиоратора, инженера, изобретателя; он верил в счастье людей на земле и делал все, что было в его личных силах: «Народ весь мой бедный и родной. Почему, чем беднее, тем добрее? Ведь это же надо кончать – приводить наоборот. Какая радость от доброго, если он бедный?» («Записные книжки», 1937).
Никто, конечно, не считал, скольких людей спасли построенные им плотины и колодцы, скольких поддержали написанные им слова. Книги Платонова помогают нам и сегодня, избавляя от душевной лени и духовного застоя.

Дмитрий СЕНЧАКОВ
Родился в Москве в 1970 г. Опубликовал три книги: романы «Внимание… Марш!» (2020), «Стоп-кран» (2024) и детскую повесть-сказку «Приключение Горохового Гномика» (2021). Кроме того, автор ещё одного романа, опубликованного электронно: «Светлые дни и ночи» (1998), а также ряда рассказов, один из которых напечатан в альманахе «Новое слово» (№ 13, 2024), другой – в альманахе «Рассказ 24».
Родился в Москве в 1970 г. Опубликовал три книги: романы «Внимание… Марш!» (2020), «Стоп-кран» (2024) и детскую повесть-сказку «Приключение Горохового Гномика» (2021). Кроме того, автор ещё одного романа, опубликованного электронно: «Светлые дни и ночи» (1998), а также ряда рассказов, один из которых напечатан в альманахе «Новое слово» (№ 13, 2024), другой – в альманахе «Рассказ 24».
РАНЬШЕ…
Посвящается Алексею Янкину
(1970-2024 гг.).
Рыжий вихрастый мальчуган в серых школьных брючках с чужого плеча ступил сбитой сандалией на скрипучую ступеньку и толкнул непритёртую дверь. С любопытством заглянул на веранду. Разглядел старую бочку с приютившимся на ней примусом и массивный буфет с мутным стеклом, где темнел силуэт графина с отбитым горлышком. На вершине шкафа замерли опутанные паутиной отставная керосинка и два кривых подсвечника. К буфету прислонилось косовище сломанной косы. Стопка истлевших журналов без обложек оседлала хромой венский стул. А на отрывном календаре под чёрным электрическим счётчиком застрял нарядный листок с давно минувшим Днём шахтёра.
По немытому треугольнику стекла елозила и билась в него башкой неугомонная муха. Недосуг ей догадаться, что соседнего стекла в ажурном окошке нет. Под узкий подоконник задвинут маститый верстак, окутанный запахами воска и старого дерева, со следами давно выполненных работ: где-то – почерневшее масло, где-то – потемневшая краска. А местами – растопивший и то и другое, давно проветрившийся керосин, оставивший лишь глубокие борозды в старом дереве. Древесина вроде и сжалась, подобралась, насупилась, столкнувшись лицом к лицу с горючим растворителем, а всё ж сохранилась для беспечных потомков под неряшливым защитным слоем из многолетней пыли, опилок, табачной трухи, паутины и иссохших комаров.
Паренёк повыше и посветлее, причёсанный и ухоженный, в новенькой серой школьной тужурке замер поодаль под раскидистой липой у груды старых кирпичей, что за утёкшие годы расползлись и нынче безнадёжно зарастали кружевной крапивой. Взор мальчишки сосредоточился на спине выдвинувшегося в авангард приятеля. И если б тот закричал «шухер», он бы, не раздумывая, дал стрекоча.
– Дед Колыван, ты тута али не здеся? – зычно выкрикнул вихрастый мальчуган вглубь старого дома.
Детское восприятие времени причудливо: минула вечность, прежде чем заскрипела половица, распахнулась на веранду дощатая дверь с выцветшим тулупом на крючке. Из проёма высунулась косматая голова и первым делом сощурилась.
– Толик, опять, что ли, ты? – заворчал дед.
– Как обещал, – гордо заблестели глаза у мальчугана, – махорку тебе принёс. Васёк!
Белокурый паренёк опасливо приблизился. В его ладони действительно обнаружился смятый кулёк. Протянул деду табачок и опасливо отступил.
Развернул Колыван пальцами с чёрными ногтями обрывок «Красной звезды». Носом втянул с вожделением запашку душистого. Погладил настырного хлопчика по голове да не забыл и улыбнуться ему из глубин седой бороды. А тот и расплылся. Стои`т, млеет, лыбится горделиво, то и дело вполоборота позыркивает на Васю: смотри, мол, как с дедом Колываном надо, совсем не опасный он, хоть и сторож по профессии.
– Откуда табачок-с? – поинтересовался Колыван. – У бати стащил?
Зарделся Васёк. Сглотнул судорожно. Молчит.
– А у того ещё есть! – принялся отмазывать дружка одноклассник. – Батяня у Васи майором госбезопасности служит. На довольствии.
– На довольствии, значит? – нахмурился Колыван. – Выходит, ты моею персоною Васютку соблазняешь, чтобы с тобой покрепче задружился, да? Прицепом прицепил?
– А больше никто из мальчишек мне не верит. Только и отбривают: «Хорош брехать!». А ведь ты, дед Колыван – рассказчик занятный, заглавнее училок наших будешь.
Закивал обрадованно Василий. Просёк, что намекает Толик на математичку Лилию Моисеевну Шмеерзон, наводившую на их 4-й «А» животный страх.
Смутился Колыван: куда ему с учителями соревноваться… Опустил глаза, но Толик тут же затеребил деда за рукав.
– Ты ж прошлый раз прогнал меня да сам велел без махорки не возвращаться. Помнишь?
– Так то ж в шутку было… – сконфузился дед.
– А по мне, так всерьёз, – вскинулся пострел. – Пришлось Ваську подговорить.
Уставился сторож на пионеров, причмокнул. Да делать нечего. Придётся рисануться красным словцом. Задача серьёзная.
Собрался с мыслями Колыван. Для проформы затеял мастерить самокрутку из краешка той самой «Красной звезды»: насыпал щепотку махорочки, заклеил трубочку скупой слюной. Нашарил в кармане штанов завалящий коробок спичек из тонкой фанерки с кукурузником Ан-2 на этикетке и, смачно затянувшись, закурил.
Поплыл дурман клубами. Сгрудились мальчишки. Дышат с придыханием. Ждут не дождутся, когда дед сказ свой заведёт про то, как раньше сытно жилось на Руси, а жидкоусый Колыван Иваныч, месье Меднобров тем временем трудился приказчиком в торговом доме «Самуил Замануйло и сыновья», коротал будни в пыльной московской конторе на Мясницкой улице, а вечера – на званых ужинах. И было то давным-давно, ещё до Великой Отечественной да и до Гражданской войны; подумать только, ещё и до само́й Великой Октябрьской революции!
В хрущёвские же голодные времена пустых продуктовых лавок потребкооперации, где окромя мух можно было разыскать только дохлую мышь, семейный рацион граждан опирался на важную должность главы семьи, ежели таковая имелась. А иначе дневную пайку сорванцов составляли пустые щи да корка хлеба. И набивались голодные и озорные мальчишки в ватаги, налетали тёплыми сентябрьскими денёчками на совхозные яблони сторожа Колывана. Не допущал старик непорядок, гонял по долгу службы назойливую малышню. А когда один незадачливый шкет сорвался с ветки, рухнул под самые очи старика да ушибся так, что не сразу смог вскочить на ноги, добрый сердцем Колыван Иваныч сам одарил того сочными ярко-зелёными яблочками. Пошептался с мальцом о том, как жилось раньше, а заодно всучил куль жареных маслянистых семечек, что приравнивались в описываемые времена прямо-таки к царским яствам.
С тех-то самых пор и повадился Толик как бы невзначай навещать Колывана. Да только строгий дед радость личную наглядно никогда не проявлял. Заводил беседу нехотя, с раскачкой, а потом увлекался баснями так, что к вечеру из сада оба выбирались насквозь озябшими. В этих нехитрых историях затейливо переплетались подлинные воспоминания старика из жизни, заметки из газет о техническом прогрессе, а также сны и собственные причудливые фантазии рассказчика. И едва ли дед Колыван был способен всерьёз отличить одно от другого.
Боится Васька, а самому страсть как хочется деда послушать. Дума в белобрысой башке думкается нехитрая: «А интересно, сколько ж Колывану лет-то? Ведь столько люди, поди, и не живут вовсе! Только старики с косматыми рожами…»
Славится небольшой тульский городок Белёв антоновкой. Сады яблоневые сохранились тут ещё со времён купца и предпринимателя Амвросия Прохорова, производившего пастилу. Присел сторож совхозный на ступеньку крыльца бывшего садовничьего дома, подтянул штанины на коленях, чтоб потом не пузырились, от души затянулся забористой махорочкой и проникновенно погнал:
– Вот давеча на именинах подали торт. Огромадный! Его четыре недели пекли лучшие кондитеры. Именинница специальным аршинным ножом ему верхушку-то срезала, в рот запихала, а оттеда, из торта (такой он был большой), вылезают четырнадцать красноармейцев, два зубных врача, семьдесят театральных карликов и… сантехник с ключом на шесть дюймов. Ну, так он им розочки изнутри прикручивал. В последний момент… Вот такие торты делали раньше!
Притихли было шкодники. Рожицы скроили хитрющие, заговорщицкие, словно им мармеладу сейчас отвесят. Да только ж дед их зенками сверлит. Реакцию ему подавай. Овации.
– Вот удивительная вещь была, – проронил Толик.
– Сейчас таких не делают, – со знанием дела добавил Васятка.
– Сейчас таких и за четыре года не сделают! – подправил его рыжий шкет.
– Что ты! – подобрел Колыван. – Раньше всё было лучше. Раньше ж если подали, скажем, гостям на свадьбу воблу. Так это ж была вобла! Это же ви-идно! Рыбищу в гостиную вдвоём заносили. В четыре руки. Взгромоздят на стол... и давай всеми гостями чистить!
– А теперь?
– Вот таку-усенькую курочку подают, – рассмеялся дед. – Ну что это такое?.. За морды этих замордышей… Цыплята тока шо из яйца, года не прошло, а их уже выпетрушенными – на стол. С уксусом, с перцем, с петрушкою.
Горят юные физиономии. Впечатлительный Толик эту воблу сушёную с жареной курочкой живо себе представил. С ноги на ногу переступает, облизывается. А цирковой клоун Петрушка со сцены мальчишеского воображения ему рожицы ехидные строит. Сам-то сытый, поди!
– О, раньше всё было! – заверил дед Колыван. – Раньше, бывало, от нечего делать в лабаз завалишься, стёртый медный пятак на ладони протянешь, так тебе – огурцов солёных… Четыре бочки! И без разговоров к ним горчицы… бесплатно. Жбан!
– Бесплатно? – изумился Вася.
– Да!.. И мельхиоровую вилочку.
– А щас зайди!.. – негодует Толик.
– Ещё и поклонятся. Ещё и спасибо скажут. Ещё и за дверь выпроводют. Заходи завтра. Да. Сегодня не заходи, скажут. Нет… Раньше, понимаешь, оно ж… – прищурился Колыван и замолк, чтобы раскурить уснувшую самокрутку.
– Вот ведь слово-то какое волшебное: «раньше»! – застенчиво прошептал впечатлённый Васятка.
– Это поперёд, значит! – разъяснил его рыжий дружок.
– Да, – кивнул Колыван. – Поперёд… Вот раньше оно было да… Раньше, скажем, у кого… Ну, к примеру, кто помрёт… Известное дело: поминки! Так там подадут… ну, ясен перец, грузди солёные и расстегаи, жареного поросёнка и холодец, леща в сметане и гуся в яблоках – это само собой. Таким никого не удивишь! Но помимо того… Предложат тебе, понимаешь, и кильки, и тебе, понимаешь, эту… – как её, бишь? – хамсу! Бланшированную в масле. Сыр голландский из Пошехонья. Но главное, скажу я вам, не таясь, внучата мои, это – колбаса! Ой, докторская, ой! А особливо, помню, привозили к нам раньше купцы из Италии такую... Останкинскую. Так это ж по ней ви-идно! И запах-то какой! Из самых благородных останков, из самых нежнейших.
Замерли сорванцы в восхищении. Не смеют прервать старика. Урчит лишь раздразнённый желудок Толика. Активно вырабатываются в нём соки желудочные, а для полного комплекта – ещё и слюнки во рту. Впору уже сплюнуть в траву, да неловко пред рассказчиком внимательным, дюже образным.
– Ведь раньше как? Раньше, к примеру, в Ковенской губернии…
Разглядел Колыван оторопь отроков, что внимали ему, покачал косматой башкой и разъяснил:
– Ну в этой… В Литве! Ежели бычка готовят на колбасу, так его откармливают специально на особенных лугах. Особенной травой. Их туда привозят. Траву привозят. Они это едят, естественно, получается колбаса. Ну, это ж колбаса! Вот сейчас зайди в магазин, зайди. Ты даже не заметишь это. Что-то лежит такое… А раньше! В магазин нельзя было зайтить. О! Дверь откроется утром, и колбаса торчит.
Обвёл дед Колыван торжествующим взглядом благодарных слушателей своих и добавил:
– Ломилось всё, ломилось! Понимаешь?.. Выламывалось. Куды стёклы, куды рамы! Чего уж там?.. Теперь-то… Не за грош утратили жизнь народную, беззаботную…
Увлёкся разгорячённый Колыван. Хоть и упокоилась самокрутка его давным-давно, отсель не остановить старика:
– Раньше как? Раньше в автомат с газированной водой при царе грош бросишь… Восемь ведёр! Чистого сиропу! Вот! А щас што? Алтын туда запихал. Он тебе полстакана бурды налил с каким-то газом. Это не то что пить, даже и выливать-то неприлично. Булыжник на мостовой оскорбится.
– Раньше, да... – мечтается Васе.
– Раньше люди толк знали… – вторит товарищу Толик, у которого уже во рту наоборот пересохло от баек Колыванских, ибо перехватило дух.
– А вот скажи, дед Колыван, – робко начал Васятка, – и что, раньше голодных и обездоленных и вовсе не было?
– Как не было? – огрызнулся сторож. – О чём я тут битый час талдычу? Запоминай: «рань-ше-всё-бы́-ло»! Да. Встречались и обездоленные. Но то был их выбор сознательный. Кто не хотел работать, ходил голодный. Толковых людей от работы отрывал, с толку сбивал вычурной пропагандой своей.
Потёр старик Колыван подбородок заросший. Призадумался. Мелькнул огонёк в глазах. Ухватил мыслю за хвост:
– Раньше всё больше, как для себе́, делали. Вот, скажем, зайдёшь по делам конторы куда-нибудь к мастеровым. Пошлындаешь туда-сюда по чистым цехам. Присмотришься… Спросишь: «Чё, мужики, делаем?» Они пальцем укажут: «Во! Делаем паровоз». А ты рассмеёшься в голос и опять спросишь настырно, дабы потешиться: «Мужики! А ведь для чего ж это вы так хорошо делаете-то? Ха-ха! Он же у вас это… аж блестит!» Потрут руки довольные мужики, ответят с достоинством: «Так, хе-хе… Мил человек, это ж для себе́!» Так то ж, понимаешь… Это ж делали на века! У них паровоз тот до сих пор на даче грядки вспахивает.
Ржут сорванцы. Вот это да! Эка небылица: паровоз огород вспахивает! Такого и Жюль Верн не додумался сочинить.
– А что? Мужики проложили старые рельсы по грядкам… Утром вылезут из избы… Мороз! По сенчаку иней искрится. Разомнутся, угольку покидают и… чух-чух – пахать, пахать, пахать! А сзади – бабы… Из подолу туды картопели запихивают. А позади, известно, грачи…
– Врачи, – неудачно сострил рыжий Толик.
Скосился на него дед Колыван. Но обижать не стал.
– Да. Калачи с кумачами и кочеты с квочками. Вот! Понимаешь, для себе́ делали. Для се-бе́! Вот спроси: бомбу атомную в сорок пятом американцы для кого делали? Ведь не для себе́! А ежели б кто себе делал? Установил бы на чердак, провёл лампочку. Запустил реакцию ядрёную… Это ж ведь сделано было б так, что даже если б оно взорвалось, ничего б кругом не развалилось, и никто бы не погиб. А эти? Тьфу!
– Раньше да… – повторил Вася.
– Вот, мил человек, – потёр переносицу старик. – Раньше ж оно как было?
– Как? – разгорелся новый огонёк в детских глазёнках.
– Как-как? Раньше, бывало, идёшь по улице, и оно просто ви-идно, что сейчас лучше, чем потом будет, – авторитетно выдал Колыван и потянулся мастерить вторую самокрутку.
Солнышко доброе пригревает. Чирикают воробьи на душе у благодарных детишек. В стариковских глазах то безуминка окаянная замрёт стоп-кадром, то искорки плещутся озорные. Так что и не поймёшь: то ли пред тобой живой блаженный глаголит, то ли дед Колыван осознанно шутит истинами.
– Раньше троллейбусы двухэтажные были, – вспомнил Толик, когда сторож наконец закурил.
– Конечно, – охотно отозвался старик, – у них и по два водителя было: каждый своим этажом управлял… Вот, молодой человек, что я тебе скажу. Раньше ежели делали трамвай, так его ж делали… Трамвай! Понимаешь? Главное, что он был трамваем! Отделывали полированным деревом. Стёклы зеркальные вставляли. Шпалы шеллаком покрытые, рельсы из благородной бронзы, провода червонной меди. Так представь себе! Подходит к остановке, которая тоже вся такая резная… красного дерева, литьё там такое касли`нское, гжель всяческая. И вот подходит трамвай. Так там видно: трамвай! Открывается дверь. Зеркала, швейцар с бородой, билетёр, горничная… Сразу чемоданы берут, на второй этаж тащут, тапочки подают. Да. Кондуктор тоже вежливо постучит в нумер. Спросит: «Билетик не изволите-с прокусить?» Вот! Опять же предложит газетку свеженькую, ежели что… Поинтересуется: докуды едемте? К примеру, едешь ты в трамвае. Там известно! Раньше ж, трамвай – это ж трамвай! Это бильярд, это парнáя. Попаришься и сразу – в бассейн. Тебе шампанское вино поднесут. А оттуда идёшь прямо в библиотеку, коридорный «Московские ведомости» бесплатно разносит. Естественно, зайдёшь и в парикмахерскую, новостишкой с интеллигентными попутчиками перебросишься. Вот! Потом пойдёшь к водителю, дашь ему пятак на водку, посидишь с ним, побалакаешь об его трамвайной работе. А работа у них была ох, интересная. Трамваи ж раньше не так, как у нас. Они ж ходили из Петрограда в Турцию, из Нью-Йорка в Париж. Он же деревянный. Он же не тонет. А иные трамваи и вовсе по воздуху плавали. Такая штука называлась дирижапля. Так там персонал и вовсе вышколенный… Все в белых перчатках и в передниках с позументом. Что раньше!.. Эти… щас вот… Проект между Ла Маншем и ещё чем-то… Подземный туннель сделать и там вагонетки пустить. Это что! Вот раньше просто: трамвай не тонет. Его так пустят легонечко с причала, подтолкнут, и сам в Америку по Гольфстриму идёт. Во-от. Ну, конечно, у гребцов работа была, я вам скажу… Так и платили! Платили-то натурой, балычком баловали, самогончиком. Всё ж было натуральное! Менделеев тока-тока химию изобрёл, и ту пока ещё не придумали! Никто не знал, что такое полистирол, полифигистирол… Филистимлянин, кстати – тоже никто не знал, что это такое, да я и сейчас, если честно, не знаю… А нынче… Зайдёшь вон в Туле в «Круглый» гастроном на Первомайской, отстоишь очередь, взвесишь полкило колбасы. А тебе завернут с кислой рожей двести граммов любительской-полиамидной. На неё впору этикетку вешать: «Don’t eat!» И ещё одну: «Don’t drop! Взорвётся».
Примолк Колыван.
Досасывает самокрутку свою, а смышлёные детишки размякли от угара, плюхнулись, растеклись по ступенькам по обе стороны от старика. Влюблёнными глазами пожирают рассказчика. Деда себе такого хотят. Родного. А где ж их, дедов, взять-то? Полегли деды в сражениях Великой Отечественной. И прах их уж ветрами развеян. Лишь в памяти бабушек родненьких образы дедов теплятся. Задушевной печалью согретые.
– Вот раньше, говорят, люди добрее были, – задумчиво произнёс Колыван. – Конечно. Так и жили как? Сейчас, конечно! Ни на трамвае тебе поездить, вообще ничего… Я вот давеча поехал на трамвае. Да что это за трамвай? Захожу: мрамора нет, зеркалов нет. В сауне воды нет. И вообще ничего никуда не едет. И швейцар пьяный на ступеньках валяется. Я к нему обращаюсь: «Мужик! Мне бы ведомости московские, да посвежей». А он мне в ответ: «Подайте, добрый человек». И так прям норовит…
– Так прям привык, что в трамваях одни добрые ездят, – подметил сметливый рыжий школьник.
– Я из этого трамвая по лесенке поднялся. Кругом сыро. Никого нет. Ничего нет. Денег нет. Ассигнаций нет. Погода смурная. Пиво тёплое. Газеты пожелтевшие. Грязные листовки за советскую власть ветром разносятся. И надо всем этим окровавленный солнечный шар сквозь хмурятину злорадно возгорается. Так и плюнул бы в него. Да хрен доплюнешь.
Пожевал губами Колыван, призадумался и говорит:
– Да что! Вот говорят, почему люди плохо работают? Так вы посмотрите, как раньше! Вот ежели взять… Бухгалтер простой. Так по нему ж видно, что он – бухгалтер! Усы, понимаешь, это, бакенбарды там вот это… На лацканах – шитьё. Понимаешь? Сюртук на нём, так это ж сюртук! Что ты! У него аж две подкладки: летняя и зимняя. А ты думал? Конечно! Летняя – на меху, зимняя – на двух мехах. И третьим простёгана. А когда революция случилась, ох, господи, горе-то, меха на гармошки пустили. Песни революционные распевать.
– Ах, горе-то, – проникся Толик.
– Горе горькое, – посочувствовал Васёк.
– Не вернёшь! – мотнул косматой башкой Колыван.
Донеслась ветром с ближайшего многоквартирного дома песенка модная. Шлягер, скрупулёзно воспроизводимый патефонной иголкой. Прислушался старик на минутку.
«Ландыши… Ландыши», – пела Гелена Великанова.
Цокнул языком Колыван, пожал плечами…
– Вот музыка была не такая, как сейчас звучит, нет. Душевней была. Бывало, войдёшь в зал, кругом дамы. Колонны всяческие… Чистота! Дух такой, понимаешь, приветственный. Вот. А тут свет гаснет, приступает оркестер. Сначала там такое… Арфы начинают: калабрысь-калабри`ца. Скрипки подхватывают: тенде-денде. Следом – виолончели: умбу-думбу. Ну и фагот такой: пфум-пфум. А за ним – дагестанцы на кумузах: бям-бям-бям. Чесслово, душевно приподнимаешься над креслом аккурат из партера на самый бельэтаж... А потом военные оркестры любил я очень. Да. Там одни барабаны чего стоют!
– А я тоже люблю барабаны, – скромно признался Василий, – мечтаю в отряде барабанщиком стать.
– Да куда тебе, – осадил приятеля Толик. Заревновал, ибо сам ничего не хотел и никуда не стремился. Вот разве пожрать да поуссываться над Колыванскими байками.
Кивнул сторож Васятке.
– Вот раньше барабаны были… Не то что теперь! В него, к примеру… ну, шесть мешков гороха помещалось. Щас что! Разве такие делают? Где сейчас столько гороха найти? Вот. А раньше, понимаешь, барабан – так по нему видно, что он БАРАБАН! Кожа тиснёная, обод полированный. Вот! Это ж тебе не фунт урюка! А колотушка, колотушка-то... Красного дерева. Резная. Набалдашник там из этого… ну, из тибетского пингвина. Перья торчат для красоты, приятствия ради. Вот! И корнет такой, молодой. Красивый такой. В цилиндре, с бабочкой. С эполетом. Этой колотушкой ка-ак… Вот какая раньше музыка душевная была: это ж как он один раз в барабан хряснет, до вечера все сидят слу-у-ушают.
Уж мо́чи нет никакой смеяться. Озорники лишь слюной брызжут, хлопают глазами, да пальцем тычут в деда. Умора, как она есть. Счастье поймано за хвост.
Но пришлось отпустить…
Зашуршали кусты под старой липой. Притих дед Колыван, следом затаились и мальчишки. Пред взором коллективным предстал майор госбезопасности собственной казённой персоной. Мигом схлынула кровушка из детской рожицы. Окаменел Васятка. Да и Толиковы пятки от ужаса приклеились к доскам крыльца.
– Мы, пожалуй, до вечера байки антисоветские слушать не будем, довольно с нас, – авторитетно заметил офицер, поправляя фуражку. – Мы поважнее дела найдём, правда, сынок?
Съёжился Василий, приготовился принять на свою голову гром и молнии, острые стрелы и горячие смолы.
– Ловкий ты ход придумал, сынок, щепоткой табака старого шпиёна на чистую воду выманить, – заулыбался майор, злоупотребляя властью своей отцовской, неограниченной над Васиной личностью. Ремня ведь пацанёнку можно и потом задать. Дома. А перед посторонними нужно, напротив, с гордостью выделить. Словесно поощрить, так сказать… Ради грядущего авторитета, который сопляку тоже в жизни не повредит.
Подобрался внутренне четвероклассник Василий. Сжался, как пружина в заведённом будильнике. Восстала внутренность его пионерская, мальчишеская-кибальчишеская. Не хочется пареньку в дерьме замазываться. Не доносчик он! Недоумевает: и как только батя мог так плохо подумать про кровинушку свою родненькую?
– Ты вот что, Колыван, – посуровел глас майора госбезопасности, – пропаганду свою сворачивай, пионеров мне останкинскими колбасами не развращай! Им ещё страну отстраивать! В землянках на великих стройках коммунизма жить! Простую воду пить и коркой хлеба закусывать. Да мало ли, что уготовано мальцам впереди? Партия, бесспорно, всё сделает, чтобы умаслить их бытие, но империалисты за океаном не дремлют. Козни строят и происки затевают. Усёк?
– Усёк, – угрюмо кивнул Колыван и поник головушкой своей косматой.
Оценил майор безлепетную покорность старика, хрустнул пальцами, смягчил интонацию:
– Сегодня уже башка раскалывается. Потом решу, что с тобой делать. Но чтобы о полированных трамваях я больше от агентуры не слышал! – и строго посмотрел на Васю. – Айда, сынок. Нам есть о чём с тобой потолковать по душам.
Двинулся Вася к отцу словно под гипнозом. На старого деда даже не оглянулся. Скрылись оба за поворотом тропинки.
Толик поджал губу; неловко ему в двусмысленной ситуации вдвоём с Колываном оставаться. Покрутил рыжей башкой для проформы, вскочил да и растворился в кустах. А старик добрые полчаса сиднем просидел на ступеньке. Очнулся, да так и не сообразил, о чём всё это время думал. Кряхтя, поднялся, зашёл в светлицу, нашарил коробку из-под папирос в дубовом комоде. Потёр пальцем георгиевский крест за Первую мировую и медаль «За отвагу» за мировую же, только Вторую. Положил обе в старый кисет, в котором табака с войны не водилось. И направился в сад закапывать свои солдатские награды под старой липой.
– Оно, конечно… – бормотал гвардии сержант Меднобров Колыван Иванович, ветеран четырёх минувших войн. – Куда мне, старику, от госбезопасности бегать? Сотрёт в порошок госбез этот… опасность эта… ядрить её, раз так, не поперхнётся. Да только всё одно… Душа моя здесь останется. Вот прямо тут, под этой липой. В земле, которую лично отстоял. И в небе, которое мы всем Отечеством защитили.
Себя ему не было жалко. Волновали Колывана грядущие судьбы мальчишек. И этих двух вихрастых сорванцов, и всех остальных. Эпоха их орденов и медалей. И времена эти представлялись Колывану неизбежными. Отзвук исторической драмы девятьсот семнадцатого ещё высосет море крови, прежде чем страна одумается и вернётся к лекалам своего могущества и основам безопасности.
Надулась и медленно поползла по пыльной небритой щеке густая, ядрёная стариковская слеза.
Посвящается Алексею Янкину
(1970-2024 гг.).
Рыжий вихрастый мальчуган в серых школьных брючках с чужого плеча ступил сбитой сандалией на скрипучую ступеньку и толкнул непритёртую дверь. С любопытством заглянул на веранду. Разглядел старую бочку с приютившимся на ней примусом и массивный буфет с мутным стеклом, где темнел силуэт графина с отбитым горлышком. На вершине шкафа замерли опутанные паутиной отставная керосинка и два кривых подсвечника. К буфету прислонилось косовище сломанной косы. Стопка истлевших журналов без обложек оседлала хромой венский стул. А на отрывном календаре под чёрным электрическим счётчиком застрял нарядный листок с давно минувшим Днём шахтёра.
По немытому треугольнику стекла елозила и билась в него башкой неугомонная муха. Недосуг ей догадаться, что соседнего стекла в ажурном окошке нет. Под узкий подоконник задвинут маститый верстак, окутанный запахами воска и старого дерева, со следами давно выполненных работ: где-то – почерневшее масло, где-то – потемневшая краска. А местами – растопивший и то и другое, давно проветрившийся керосин, оставивший лишь глубокие борозды в старом дереве. Древесина вроде и сжалась, подобралась, насупилась, столкнувшись лицом к лицу с горючим растворителем, а всё ж сохранилась для беспечных потомков под неряшливым защитным слоем из многолетней пыли, опилок, табачной трухи, паутины и иссохших комаров.
Паренёк повыше и посветлее, причёсанный и ухоженный, в новенькой серой школьной тужурке замер поодаль под раскидистой липой у груды старых кирпичей, что за утёкшие годы расползлись и нынче безнадёжно зарастали кружевной крапивой. Взор мальчишки сосредоточился на спине выдвинувшегося в авангард приятеля. И если б тот закричал «шухер», он бы, не раздумывая, дал стрекоча.
– Дед Колыван, ты тута али не здеся? – зычно выкрикнул вихрастый мальчуган вглубь старого дома.
Детское восприятие времени причудливо: минула вечность, прежде чем заскрипела половица, распахнулась на веранду дощатая дверь с выцветшим тулупом на крючке. Из проёма высунулась косматая голова и первым делом сощурилась.
– Толик, опять, что ли, ты? – заворчал дед.
– Как обещал, – гордо заблестели глаза у мальчугана, – махорку тебе принёс. Васёк!
Белокурый паренёк опасливо приблизился. В его ладони действительно обнаружился смятый кулёк. Протянул деду табачок и опасливо отступил.
Развернул Колыван пальцами с чёрными ногтями обрывок «Красной звезды». Носом втянул с вожделением запашку душистого. Погладил настырного хлопчика по голове да не забыл и улыбнуться ему из глубин седой бороды. А тот и расплылся. Стои`т, млеет, лыбится горделиво, то и дело вполоборота позыркивает на Васю: смотри, мол, как с дедом Колываном надо, совсем не опасный он, хоть и сторож по профессии.
– Откуда табачок-с? – поинтересовался Колыван. – У бати стащил?
Зарделся Васёк. Сглотнул судорожно. Молчит.
– А у того ещё есть! – принялся отмазывать дружка одноклассник. – Батяня у Васи майором госбезопасности служит. На довольствии.
– На довольствии, значит? – нахмурился Колыван. – Выходит, ты моею персоною Васютку соблазняешь, чтобы с тобой покрепче задружился, да? Прицепом прицепил?
– А больше никто из мальчишек мне не верит. Только и отбривают: «Хорош брехать!». А ведь ты, дед Колыван – рассказчик занятный, заглавнее училок наших будешь.
Закивал обрадованно Василий. Просёк, что намекает Толик на математичку Лилию Моисеевну Шмеерзон, наводившую на их 4-й «А» животный страх.
Смутился Колыван: куда ему с учителями соревноваться… Опустил глаза, но Толик тут же затеребил деда за рукав.
– Ты ж прошлый раз прогнал меня да сам велел без махорки не возвращаться. Помнишь?
– Так то ж в шутку было… – сконфузился дед.
– А по мне, так всерьёз, – вскинулся пострел. – Пришлось Ваську подговорить.
Уставился сторож на пионеров, причмокнул. Да делать нечего. Придётся рисануться красным словцом. Задача серьёзная.
Собрался с мыслями Колыван. Для проформы затеял мастерить самокрутку из краешка той самой «Красной звезды»: насыпал щепотку махорочки, заклеил трубочку скупой слюной. Нашарил в кармане штанов завалящий коробок спичек из тонкой фанерки с кукурузником Ан-2 на этикетке и, смачно затянувшись, закурил.
Поплыл дурман клубами. Сгрудились мальчишки. Дышат с придыханием. Ждут не дождутся, когда дед сказ свой заведёт про то, как раньше сытно жилось на Руси, а жидкоусый Колыван Иваныч, месье Меднобров тем временем трудился приказчиком в торговом доме «Самуил Замануйло и сыновья», коротал будни в пыльной московской конторе на Мясницкой улице, а вечера – на званых ужинах. И было то давным-давно, ещё до Великой Отечественной да и до Гражданской войны; подумать только, ещё и до само́й Великой Октябрьской революции!
В хрущёвские же голодные времена пустых продуктовых лавок потребкооперации, где окромя мух можно было разыскать только дохлую мышь, семейный рацион граждан опирался на важную должность главы семьи, ежели таковая имелась. А иначе дневную пайку сорванцов составляли пустые щи да корка хлеба. И набивались голодные и озорные мальчишки в ватаги, налетали тёплыми сентябрьскими денёчками на совхозные яблони сторожа Колывана. Не допущал старик непорядок, гонял по долгу службы назойливую малышню. А когда один незадачливый шкет сорвался с ветки, рухнул под самые очи старика да ушибся так, что не сразу смог вскочить на ноги, добрый сердцем Колыван Иваныч сам одарил того сочными ярко-зелёными яблочками. Пошептался с мальцом о том, как жилось раньше, а заодно всучил куль жареных маслянистых семечек, что приравнивались в описываемые времена прямо-таки к царским яствам.
С тех-то самых пор и повадился Толик как бы невзначай навещать Колывана. Да только строгий дед радость личную наглядно никогда не проявлял. Заводил беседу нехотя, с раскачкой, а потом увлекался баснями так, что к вечеру из сада оба выбирались насквозь озябшими. В этих нехитрых историях затейливо переплетались подлинные воспоминания старика из жизни, заметки из газет о техническом прогрессе, а также сны и собственные причудливые фантазии рассказчика. И едва ли дед Колыван был способен всерьёз отличить одно от другого.
Боится Васька, а самому страсть как хочется деда послушать. Дума в белобрысой башке думкается нехитрая: «А интересно, сколько ж Колывану лет-то? Ведь столько люди, поди, и не живут вовсе! Только старики с косматыми рожами…»
Славится небольшой тульский городок Белёв антоновкой. Сады яблоневые сохранились тут ещё со времён купца и предпринимателя Амвросия Прохорова, производившего пастилу. Присел сторож совхозный на ступеньку крыльца бывшего садовничьего дома, подтянул штанины на коленях, чтоб потом не пузырились, от души затянулся забористой махорочкой и проникновенно погнал:
– Вот давеча на именинах подали торт. Огромадный! Его четыре недели пекли лучшие кондитеры. Именинница специальным аршинным ножом ему верхушку-то срезала, в рот запихала, а оттеда, из торта (такой он был большой), вылезают четырнадцать красноармейцев, два зубных врача, семьдесят театральных карликов и… сантехник с ключом на шесть дюймов. Ну, так он им розочки изнутри прикручивал. В последний момент… Вот такие торты делали раньше!
Притихли было шкодники. Рожицы скроили хитрющие, заговорщицкие, словно им мармеладу сейчас отвесят. Да только ж дед их зенками сверлит. Реакцию ему подавай. Овации.
– Вот удивительная вещь была, – проронил Толик.
– Сейчас таких не делают, – со знанием дела добавил Васятка.
– Сейчас таких и за четыре года не сделают! – подправил его рыжий шкет.
– Что ты! – подобрел Колыван. – Раньше всё было лучше. Раньше ж если подали, скажем, гостям на свадьбу воблу. Так это ж была вобла! Это же ви-идно! Рыбищу в гостиную вдвоём заносили. В четыре руки. Взгромоздят на стол... и давай всеми гостями чистить!
– А теперь?
– Вот таку-усенькую курочку подают, – рассмеялся дед. – Ну что это такое?.. За морды этих замордышей… Цыплята тока шо из яйца, года не прошло, а их уже выпетрушенными – на стол. С уксусом, с перцем, с петрушкою.
Горят юные физиономии. Впечатлительный Толик эту воблу сушёную с жареной курочкой живо себе представил. С ноги на ногу переступает, облизывается. А цирковой клоун Петрушка со сцены мальчишеского воображения ему рожицы ехидные строит. Сам-то сытый, поди!
– О, раньше всё было! – заверил дед Колыван. – Раньше, бывало, от нечего делать в лабаз завалишься, стёртый медный пятак на ладони протянешь, так тебе – огурцов солёных… Четыре бочки! И без разговоров к ним горчицы… бесплатно. Жбан!
– Бесплатно? – изумился Вася.
– Да!.. И мельхиоровую вилочку.
– А щас зайди!.. – негодует Толик.
– Ещё и поклонятся. Ещё и спасибо скажут. Ещё и за дверь выпроводют. Заходи завтра. Да. Сегодня не заходи, скажут. Нет… Раньше, понимаешь, оно ж… – прищурился Колыван и замолк, чтобы раскурить уснувшую самокрутку.
– Вот ведь слово-то какое волшебное: «раньше»! – застенчиво прошептал впечатлённый Васятка.
– Это поперёд, значит! – разъяснил его рыжий дружок.
– Да, – кивнул Колыван. – Поперёд… Вот раньше оно было да… Раньше, скажем, у кого… Ну, к примеру, кто помрёт… Известное дело: поминки! Так там подадут… ну, ясен перец, грузди солёные и расстегаи, жареного поросёнка и холодец, леща в сметане и гуся в яблоках – это само собой. Таким никого не удивишь! Но помимо того… Предложат тебе, понимаешь, и кильки, и тебе, понимаешь, эту… – как её, бишь? – хамсу! Бланшированную в масле. Сыр голландский из Пошехонья. Но главное, скажу я вам, не таясь, внучата мои, это – колбаса! Ой, докторская, ой! А особливо, помню, привозили к нам раньше купцы из Италии такую... Останкинскую. Так это ж по ней ви-идно! И запах-то какой! Из самых благородных останков, из самых нежнейших.
Замерли сорванцы в восхищении. Не смеют прервать старика. Урчит лишь раздразнённый желудок Толика. Активно вырабатываются в нём соки желудочные, а для полного комплекта – ещё и слюнки во рту. Впору уже сплюнуть в траву, да неловко пред рассказчиком внимательным, дюже образным.
– Ведь раньше как? Раньше, к примеру, в Ковенской губернии…
Разглядел Колыван оторопь отроков, что внимали ему, покачал косматой башкой и разъяснил:
– Ну в этой… В Литве! Ежели бычка готовят на колбасу, так его откармливают специально на особенных лугах. Особенной травой. Их туда привозят. Траву привозят. Они это едят, естественно, получается колбаса. Ну, это ж колбаса! Вот сейчас зайди в магазин, зайди. Ты даже не заметишь это. Что-то лежит такое… А раньше! В магазин нельзя было зайтить. О! Дверь откроется утром, и колбаса торчит.
Обвёл дед Колыван торжествующим взглядом благодарных слушателей своих и добавил:
– Ломилось всё, ломилось! Понимаешь?.. Выламывалось. Куды стёклы, куды рамы! Чего уж там?.. Теперь-то… Не за грош утратили жизнь народную, беззаботную…
Увлёкся разгорячённый Колыван. Хоть и упокоилась самокрутка его давным-давно, отсель не остановить старика:
– Раньше как? Раньше в автомат с газированной водой при царе грош бросишь… Восемь ведёр! Чистого сиропу! Вот! А щас што? Алтын туда запихал. Он тебе полстакана бурды налил с каким-то газом. Это не то что пить, даже и выливать-то неприлично. Булыжник на мостовой оскорбится.
– Раньше, да... – мечтается Васе.
– Раньше люди толк знали… – вторит товарищу Толик, у которого уже во рту наоборот пересохло от баек Колыванских, ибо перехватило дух.
– А вот скажи, дед Колыван, – робко начал Васятка, – и что, раньше голодных и обездоленных и вовсе не было?
– Как не было? – огрызнулся сторож. – О чём я тут битый час талдычу? Запоминай: «рань-ше-всё-бы́-ло»! Да. Встречались и обездоленные. Но то был их выбор сознательный. Кто не хотел работать, ходил голодный. Толковых людей от работы отрывал, с толку сбивал вычурной пропагандой своей.
Потёр старик Колыван подбородок заросший. Призадумался. Мелькнул огонёк в глазах. Ухватил мыслю за хвост:
– Раньше всё больше, как для себе́, делали. Вот, скажем, зайдёшь по делам конторы куда-нибудь к мастеровым. Пошлындаешь туда-сюда по чистым цехам. Присмотришься… Спросишь: «Чё, мужики, делаем?» Они пальцем укажут: «Во! Делаем паровоз». А ты рассмеёшься в голос и опять спросишь настырно, дабы потешиться: «Мужики! А ведь для чего ж это вы так хорошо делаете-то? Ха-ха! Он же у вас это… аж блестит!» Потрут руки довольные мужики, ответят с достоинством: «Так, хе-хе… Мил человек, это ж для себе́!» Так то ж, понимаешь… Это ж делали на века! У них паровоз тот до сих пор на даче грядки вспахивает.
Ржут сорванцы. Вот это да! Эка небылица: паровоз огород вспахивает! Такого и Жюль Верн не додумался сочинить.
– А что? Мужики проложили старые рельсы по грядкам… Утром вылезут из избы… Мороз! По сенчаку иней искрится. Разомнутся, угольку покидают и… чух-чух – пахать, пахать, пахать! А сзади – бабы… Из подолу туды картопели запихивают. А позади, известно, грачи…
– Врачи, – неудачно сострил рыжий Толик.
Скосился на него дед Колыван. Но обижать не стал.
– Да. Калачи с кумачами и кочеты с квочками. Вот! Понимаешь, для себе́ делали. Для се-бе́! Вот спроси: бомбу атомную в сорок пятом американцы для кого делали? Ведь не для себе́! А ежели б кто себе делал? Установил бы на чердак, провёл лампочку. Запустил реакцию ядрёную… Это ж ведь сделано было б так, что даже если б оно взорвалось, ничего б кругом не развалилось, и никто бы не погиб. А эти? Тьфу!
– Раньше да… – повторил Вася.
– Вот, мил человек, – потёр переносицу старик. – Раньше ж оно как было?
– Как? – разгорелся новый огонёк в детских глазёнках.
– Как-как? Раньше, бывало, идёшь по улице, и оно просто ви-идно, что сейчас лучше, чем потом будет, – авторитетно выдал Колыван и потянулся мастерить вторую самокрутку.
Солнышко доброе пригревает. Чирикают воробьи на душе у благодарных детишек. В стариковских глазах то безуминка окаянная замрёт стоп-кадром, то искорки плещутся озорные. Так что и не поймёшь: то ли пред тобой живой блаженный глаголит, то ли дед Колыван осознанно шутит истинами.
– Раньше троллейбусы двухэтажные были, – вспомнил Толик, когда сторож наконец закурил.
– Конечно, – охотно отозвался старик, – у них и по два водителя было: каждый своим этажом управлял… Вот, молодой человек, что я тебе скажу. Раньше ежели делали трамвай, так его ж делали… Трамвай! Понимаешь? Главное, что он был трамваем! Отделывали полированным деревом. Стёклы зеркальные вставляли. Шпалы шеллаком покрытые, рельсы из благородной бронзы, провода червонной меди. Так представь себе! Подходит к остановке, которая тоже вся такая резная… красного дерева, литьё там такое касли`нское, гжель всяческая. И вот подходит трамвай. Так там видно: трамвай! Открывается дверь. Зеркала, швейцар с бородой, билетёр, горничная… Сразу чемоданы берут, на второй этаж тащут, тапочки подают. Да. Кондуктор тоже вежливо постучит в нумер. Спросит: «Билетик не изволите-с прокусить?» Вот! Опять же предложит газетку свеженькую, ежели что… Поинтересуется: докуды едемте? К примеру, едешь ты в трамвае. Там известно! Раньше ж, трамвай – это ж трамвай! Это бильярд, это парнáя. Попаришься и сразу – в бассейн. Тебе шампанское вино поднесут. А оттуда идёшь прямо в библиотеку, коридорный «Московские ведомости» бесплатно разносит. Естественно, зайдёшь и в парикмахерскую, новостишкой с интеллигентными попутчиками перебросишься. Вот! Потом пойдёшь к водителю, дашь ему пятак на водку, посидишь с ним, побалакаешь об его трамвайной работе. А работа у них была ох, интересная. Трамваи ж раньше не так, как у нас. Они ж ходили из Петрограда в Турцию, из Нью-Йорка в Париж. Он же деревянный. Он же не тонет. А иные трамваи и вовсе по воздуху плавали. Такая штука называлась дирижапля. Так там персонал и вовсе вышколенный… Все в белых перчатках и в передниках с позументом. Что раньше!.. Эти… щас вот… Проект между Ла Маншем и ещё чем-то… Подземный туннель сделать и там вагонетки пустить. Это что! Вот раньше просто: трамвай не тонет. Его так пустят легонечко с причала, подтолкнут, и сам в Америку по Гольфстриму идёт. Во-от. Ну, конечно, у гребцов работа была, я вам скажу… Так и платили! Платили-то натурой, балычком баловали, самогончиком. Всё ж было натуральное! Менделеев тока-тока химию изобрёл, и ту пока ещё не придумали! Никто не знал, что такое полистирол, полифигистирол… Филистимлянин, кстати – тоже никто не знал, что это такое, да я и сейчас, если честно, не знаю… А нынче… Зайдёшь вон в Туле в «Круглый» гастроном на Первомайской, отстоишь очередь, взвесишь полкило колбасы. А тебе завернут с кислой рожей двести граммов любительской-полиамидной. На неё впору этикетку вешать: «Don’t eat!» И ещё одну: «Don’t drop! Взорвётся».
Примолк Колыван.
Досасывает самокрутку свою, а смышлёные детишки размякли от угара, плюхнулись, растеклись по ступенькам по обе стороны от старика. Влюблёнными глазами пожирают рассказчика. Деда себе такого хотят. Родного. А где ж их, дедов, взять-то? Полегли деды в сражениях Великой Отечественной. И прах их уж ветрами развеян. Лишь в памяти бабушек родненьких образы дедов теплятся. Задушевной печалью согретые.
– Вот раньше, говорят, люди добрее были, – задумчиво произнёс Колыван. – Конечно. Так и жили как? Сейчас, конечно! Ни на трамвае тебе поездить, вообще ничего… Я вот давеча поехал на трамвае. Да что это за трамвай? Захожу: мрамора нет, зеркалов нет. В сауне воды нет. И вообще ничего никуда не едет. И швейцар пьяный на ступеньках валяется. Я к нему обращаюсь: «Мужик! Мне бы ведомости московские, да посвежей». А он мне в ответ: «Подайте, добрый человек». И так прям норовит…
– Так прям привык, что в трамваях одни добрые ездят, – подметил сметливый рыжий школьник.
– Я из этого трамвая по лесенке поднялся. Кругом сыро. Никого нет. Ничего нет. Денег нет. Ассигнаций нет. Погода смурная. Пиво тёплое. Газеты пожелтевшие. Грязные листовки за советскую власть ветром разносятся. И надо всем этим окровавленный солнечный шар сквозь хмурятину злорадно возгорается. Так и плюнул бы в него. Да хрен доплюнешь.
Пожевал губами Колыван, призадумался и говорит:
– Да что! Вот говорят, почему люди плохо работают? Так вы посмотрите, как раньше! Вот ежели взять… Бухгалтер простой. Так по нему ж видно, что он – бухгалтер! Усы, понимаешь, это, бакенбарды там вот это… На лацканах – шитьё. Понимаешь? Сюртук на нём, так это ж сюртук! Что ты! У него аж две подкладки: летняя и зимняя. А ты думал? Конечно! Летняя – на меху, зимняя – на двух мехах. И третьим простёгана. А когда революция случилась, ох, господи, горе-то, меха на гармошки пустили. Песни революционные распевать.
– Ах, горе-то, – проникся Толик.
– Горе горькое, – посочувствовал Васёк.
– Не вернёшь! – мотнул косматой башкой Колыван.
Донеслась ветром с ближайшего многоквартирного дома песенка модная. Шлягер, скрупулёзно воспроизводимый патефонной иголкой. Прислушался старик на минутку.
«Ландыши… Ландыши», – пела Гелена Великанова.
Цокнул языком Колыван, пожал плечами…
– Вот музыка была не такая, как сейчас звучит, нет. Душевней была. Бывало, войдёшь в зал, кругом дамы. Колонны всяческие… Чистота! Дух такой, понимаешь, приветственный. Вот. А тут свет гаснет, приступает оркестер. Сначала там такое… Арфы начинают: калабрысь-калабри`ца. Скрипки подхватывают: тенде-денде. Следом – виолончели: умбу-думбу. Ну и фагот такой: пфум-пфум. А за ним – дагестанцы на кумузах: бям-бям-бям. Чесслово, душевно приподнимаешься над креслом аккурат из партера на самый бельэтаж... А потом военные оркестры любил я очень. Да. Там одни барабаны чего стоют!
– А я тоже люблю барабаны, – скромно признался Василий, – мечтаю в отряде барабанщиком стать.
– Да куда тебе, – осадил приятеля Толик. Заревновал, ибо сам ничего не хотел и никуда не стремился. Вот разве пожрать да поуссываться над Колыванскими байками.
Кивнул сторож Васятке.
– Вот раньше барабаны были… Не то что теперь! В него, к примеру… ну, шесть мешков гороха помещалось. Щас что! Разве такие делают? Где сейчас столько гороха найти? Вот. А раньше, понимаешь, барабан – так по нему видно, что он БАРАБАН! Кожа тиснёная, обод полированный. Вот! Это ж тебе не фунт урюка! А колотушка, колотушка-то... Красного дерева. Резная. Набалдашник там из этого… ну, из тибетского пингвина. Перья торчат для красоты, приятствия ради. Вот! И корнет такой, молодой. Красивый такой. В цилиндре, с бабочкой. С эполетом. Этой колотушкой ка-ак… Вот какая раньше музыка душевная была: это ж как он один раз в барабан хряснет, до вечера все сидят слу-у-ушают.
Уж мо́чи нет никакой смеяться. Озорники лишь слюной брызжут, хлопают глазами, да пальцем тычут в деда. Умора, как она есть. Счастье поймано за хвост.
Но пришлось отпустить…
Зашуршали кусты под старой липой. Притих дед Колыван, следом затаились и мальчишки. Пред взором коллективным предстал майор госбезопасности собственной казённой персоной. Мигом схлынула кровушка из детской рожицы. Окаменел Васятка. Да и Толиковы пятки от ужаса приклеились к доскам крыльца.
– Мы, пожалуй, до вечера байки антисоветские слушать не будем, довольно с нас, – авторитетно заметил офицер, поправляя фуражку. – Мы поважнее дела найдём, правда, сынок?
Съёжился Василий, приготовился принять на свою голову гром и молнии, острые стрелы и горячие смолы.
– Ловкий ты ход придумал, сынок, щепоткой табака старого шпиёна на чистую воду выманить, – заулыбался майор, злоупотребляя властью своей отцовской, неограниченной над Васиной личностью. Ремня ведь пацанёнку можно и потом задать. Дома. А перед посторонними нужно, напротив, с гордостью выделить. Словесно поощрить, так сказать… Ради грядущего авторитета, который сопляку тоже в жизни не повредит.
Подобрался внутренне четвероклассник Василий. Сжался, как пружина в заведённом будильнике. Восстала внутренность его пионерская, мальчишеская-кибальчишеская. Не хочется пареньку в дерьме замазываться. Не доносчик он! Недоумевает: и как только батя мог так плохо подумать про кровинушку свою родненькую?
– Ты вот что, Колыван, – посуровел глас майора госбезопасности, – пропаганду свою сворачивай, пионеров мне останкинскими колбасами не развращай! Им ещё страну отстраивать! В землянках на великих стройках коммунизма жить! Простую воду пить и коркой хлеба закусывать. Да мало ли, что уготовано мальцам впереди? Партия, бесспорно, всё сделает, чтобы умаслить их бытие, но империалисты за океаном не дремлют. Козни строят и происки затевают. Усёк?
– Усёк, – угрюмо кивнул Колыван и поник головушкой своей косматой.
Оценил майор безлепетную покорность старика, хрустнул пальцами, смягчил интонацию:
– Сегодня уже башка раскалывается. Потом решу, что с тобой делать. Но чтобы о полированных трамваях я больше от агентуры не слышал! – и строго посмотрел на Васю. – Айда, сынок. Нам есть о чём с тобой потолковать по душам.
Двинулся Вася к отцу словно под гипнозом. На старого деда даже не оглянулся. Скрылись оба за поворотом тропинки.
Толик поджал губу; неловко ему в двусмысленной ситуации вдвоём с Колываном оставаться. Покрутил рыжей башкой для проформы, вскочил да и растворился в кустах. А старик добрые полчаса сиднем просидел на ступеньке. Очнулся, да так и не сообразил, о чём всё это время думал. Кряхтя, поднялся, зашёл в светлицу, нашарил коробку из-под папирос в дубовом комоде. Потёр пальцем георгиевский крест за Первую мировую и медаль «За отвагу» за мировую же, только Вторую. Положил обе в старый кисет, в котором табака с войны не водилось. И направился в сад закапывать свои солдатские награды под старой липой.
– Оно, конечно… – бормотал гвардии сержант Меднобров Колыван Иванович, ветеран четырёх минувших войн. – Куда мне, старику, от госбезопасности бегать? Сотрёт в порошок госбез этот… опасность эта… ядрить её, раз так, не поперхнётся. Да только всё одно… Душа моя здесь останется. Вот прямо тут, под этой липой. В земле, которую лично отстоял. И в небе, которое мы всем Отечеством защитили.
Себя ему не было жалко. Волновали Колывана грядущие судьбы мальчишек. И этих двух вихрастых сорванцов, и всех остальных. Эпоха их орденов и медалей. И времена эти представлялись Колывану неизбежными. Отзвук исторической драмы девятьсот семнадцатого ещё высосет море крови, прежде чем страна одумается и вернётся к лекалам своего могущества и основам безопасности.
Надулась и медленно поползла по пыльной небритой щеке густая, ядрёная стариковская слеза.

Валерий ФЕДОСОВ
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живет в Подмосковье. По основной специальности – инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Сибири на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 – в институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке, кандидат технических наук. Стихами и прозой занимается с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в литературных альманахах и других изданиях. Издал четыре книги стихов и две книги прозы. Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2008).
Адрес сайта: valeryfedosov.ru
E-mail: valeryfedosov2015@mail.ru
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живет в Подмосковье. По основной специальности – инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Сибири на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 – в институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке, кандидат технических наук. Стихами и прозой занимается с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в литературных альманахах и других изданиях. Издал четыре книги стихов и две книги прозы. Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2008).
Адрес сайта: valeryfedosov.ru
E-mail: valeryfedosov2015@mail.ru
АККУРАТНЕЕ!..
(экспериментальная проза)
Наученный многолетиями пробираться по московской подземной области метро, в сгущённые пиковые часы лавируя среди ритмически расставленных утренних нищих, а по вечерам среди следующих на автопилоте глотнувших запрокинутых господ, в толчее однородно окрашенных людей и разнообразных женщин, спешащих с утра доказывать очередное право на честно вывозимое в сумках и в сознании вечером, я понял одно: в метро уместна только старательная аккуратность.
Ибо центральным содержанием этой области установлена повышенная опасность, вроде игры на мостовой… с огнём. О необходимости в такой аккуратности достаточно наберётся у каждого, кто пользуется этим транспортом, я же приведу пару случаев, мне запомнившихся.
1.
Поезд подходил к перрону пересадочной станции, и в сутолоке вагона кучками слипшиеся между собой пассажиры, энергично огрызаясь, пере-лепливались по возникшим перед остановкой интересам: кому выходить – кому ехать дальше. Я уже относился к первой группе и, отлипнув от пассажирки средних лет из второй, к сожалению, группы, вынужденно переклеился к изрядно загруженному господину, который передо мной опознавательными движениями локтей протискивался к необходимому выходу. В обеих его руках были объёмистые сумки, приличествующие такому часу. Одна из них, что в левой руке, моим коленкам как-то сразу не понравилась костлявостью своего содержания, а в правой – было хотя и заметно более весомое, но – мягкое. Это было цилиндрическое сооружение в габаритах ствола царь-пушки из московского Кремля на довольно длинных ручках-помочах, что придавало указанному снаряду сходство с древним стенобитным тараном главного калибра. Обойти господина мне было «не с руки», как и «не с ноги», так что требования объёмного маневрирования в набитом снаряжёнными телами пространстве продиктовали мне терпеливо выходить из вагона прилипшим коленками к этому мягкому тарану.
Белый свет станционного вестибюля пришел на смену потустороннему туннельному пейзажу, криво разлинованному пыльными кабелями, по которым параллельным курсом несётся лихая электродвижущая сила; она игриво ныряет на станции под перрон, дабы невзначай не обезобразить утверждённой архитектуры. В окнах мелькают со всё замедляющейся резвостью весёлые мраморные пилоны, и вот уже у того пилона, против которого сейчас откроется наша с навьюченным господином дверь, отчётливо проступила хлопочущая над редкостной в метро мусорной урной объёмная подсобная дама. По могучим движениям её плечевого пояса угадывалась широта чувственного жеста, оценить которую со стороны придётся в самом ближайшем будущем некоторым ничего не подозревающим и случайным соглядатаям. На даме, заметной во всех отношениях, была флуоресцирующего цвета оранжевая безрукавка, надетая поверх телогрейки широкого покроя, фирменная юбка “meschkovina”, инвентарные сапоги и диэлектрические перчатки резинового цвета. Многоцветная дама деловито и намётанно управлялась с мокрой тряпкой. Последняя деталь, весьма весомая в нашем эпизоде демократической жизни, сначала совершенно не проявилась из-за сложенной в букву “Г” с закруглённым углом позы убиравшей дамы. Что касается головного убора, то он как-то в моей памяти не зацепился, возможно, как долго находившийся в приёмном устье, которое при взгляде изнутри урны мужественно обрамляло такого же широкого покроя овал лица рабочей дамы.
Двери поездов московских подземных трасс продуманно мудры и хитроумны. Они никогда не откроются, прежде чем пассажиры, как покидающие вагон, так и остающиеся в ожидании своих остановок, не будут коллективно оглоушены бодрящим объявлением о месте, куда приехали, о возможной пересадке, иногда и пожеланием уступать места в пользу мелких детей и старых многолетников. Эталонная громкость объявляемых оплеух в децибеллах настолько замечательна, что, находясь за пределом болевого порога нормального живого, совершенно и изумительно способна поднять на ноги любого окончательно закончившего быть живым.
И вот выключены реактивные дюзы объявительных динамиков, опавшие на мгновение и слегка скукоженные уши пассажиров вновь расправляются, обретают упругость и способность слушать металлическое змеиное шипение раздвигающихся дверей, сожалеющих о послаблении своей железной власти к очередной слипшейся порции выпускаемых на свободу. Появившиеся свободные кубические дециметры у дверей по мере напряжённого утреннего опорожнения вагона позволили моей коленке, прилипшей к мягкому древнему снаряду, полностью убедиться в достоинствах независимой подвески: мягкий толчок коленки по сумке вызывает её приличное поступательное движение, при этом из-за значительной длины ручек-помочей рука несущего снаряд господина не ощущает никакой обратной связи в виде информации об источнике неподозреваемых возмущений.
Очутившись на перроне, я естественно отлип коленкой и заложил левый вираж, обходя господина со стороны костлявой сумки, которая и потоньше, и ещё потому, что справа его обойти мешала надвигающаяся позиция дамы, склоненной над ранней урной. В уменьшающийся просвет я уже не вписывался, тем более, на вираже.
Потом я неоднократно хотел себе сказать: «И как тебе не стыдно, ВитальСпиридоныч! Из-за тебя вон последнюю урну из метро вынесли», – и мне уже начинало становиться существенно стыдно. Тогда я сворачивал в трубочку свой восклицательный вопрос, не смея его озвучить до конца. Затем для справедливого раскаяния напрягался нижней челюстью и, вздрогнув, запрокидывал голову и закатывал утомившиеся глаза. Чего-то бормотал про пострадавшего господина и о достойном трудоустройстве практически невинной дамы.
Вы уже правильно вычислили, что эта шаловливая коленка, прежде чем войти в составе полного объёма моего тела в левый вираж, самовольно и без предупреждения нанесла боевой горизонтальный удар по казённой части снаряда, который своей боеголовкой точно пришелся в закруглённую часть такого же массивного угла буквы “Г” ожидаемой дамы. Естественно, после этого трудящейся даме внезапно и без отрыва от производства пришлось внедриться внутрь урны несравненно глубже уровня, требуемого инструкциями и здравым смыслом.
Гружёный господин, чистосердечно не подозревавший о причине, был весьма удивлён следствием в виде результата на собственном лице, – результата, оформленного с молниеносной быстротой и широким жестом расчувствованной дамы, вооружённой пахучей мокрой тряпкой в диэлектрических перчатках упомянутого резинового цвета. Хлёсткий громовой шлепок по децибеллам явно превзошёл объявления метрополитена для почивших лиц. С таким треском вероятнее всего схлопываются далекие для нас бедные галактики; в нём потонули грохочущие оплеухи о закрывании дверей, о следующей станции, а также лязг железных членов состава, который тут же скоропалительно смотался в тёмный зев оглохшего туннеля.
– Аккуратнее! – только и выкрикнула дама в увлажнённое лицо зарвавшегося господина и по причине моментального удовлетворения сразу же потеряла к нему интерес, снисходительно занявшись продолжением санитарной работы; я это наблюдал уже с верхней лестницы перехода, задержавшись на мгновение из-за какого-то внезапного феномена в распоясавшейся коленке, которая решила, не отходя особенно далеко от места преступления, якобы прихромнуть, чтобы безнаказанно поглазеть верхними глазами и незлобиво осклабиться.
Дальнейшая судьба действующих лиц мне неизвестна: когда, где и чем после утирался внезапно продезинфицированный господин, сдержал ли он своё нецензурное слово, данное смазавшей даме, не знаю. Коленку я себе подлечил, на всех своих сумках ручки довольно укоротил, а насчёт аккуратности в метро зарубил на своем собственном носу и придерживался, пока почти совсем не забыл.
2
А вот намедни о том, чего забывать не следует, мне напомнил уже второй случай, хотя в неожиданной для меня плоскости, но опять же в метро.
– Аккуратнее! – раздалось женским голосом с левой у меня руки.
Я моментально сгруппировался, инстинктивно закрыл глаза, но влажного на лице не почувствовал. Это я услышал, когда спрессованным часом утреннего пика мирно перемещался по переходу на посадку в состав, уходящий в центральную зону туннельного Подмосковья. Среди сумчатых москвичей и гостей столицы я отличался разве что длиной ручек у моей ежедневной сумки на работу. Стал скорее вспоминать и тут же припомнил, что задумчиво задел только что обойдённого мною пассажира женского пола, скрытого под шубой из шкур незаслуженно убитых носителей обыденного меха. Слегка сбросив обороты, я постепенно развернул на собственной шее голову влево и на параллельном курсе под туманным налётом традиционно суровых русских вопросов – когда же это кончится? и кончится ли это вообще? – опознал серьёзное миловидное молодое лицо славянской национальности. Оно было обрамлено зимней шапочкой с бантиком тесьмы под подбородком. Живые глаза и губы светили серьёзно и спокойно, без обыденной колкости взгляда и домашних заготовок преднамеренного сарказма. В порядке обмена я располагал только представить на обозрение изрядно побывшее в употреблении произведение моих незабвенных родителей в виде портрета долгие годы претендующего на регулярную зарплату живого заполнителя и регулярного пользователя подземных траекторий. Заметным достоянием была без отца-матери нажитая и камуфлирующая настроение лица поседевшая бородка, которая – и не козлиным клинышком, на манер заморочивших мировые мозги оппортунистов столетней давности, и – не купцовской лопатой тех же и более древних времён и народов.
Сколько раз до этого предупреждал себя, говоря себе: ”Аккуратнее, ВитальСпиридоныч!”... А тут ни с того ни с сего вступило в голову, что не буркнул и не брякнул по обыкновению, а с не свойственным месту и времени выражением: «Простите, пожалуйста...» – пропел, не отрываясь от задевшего лица и ступая в некотором развороте своих плеч, справедливо ожидая исчерпания перезревшего инцидента. Её лицо пришло в неожиданное для меня движение. Уголки губ поползли в стороны и вверх, раскрывшись презентацией двух ровных жемчужных рядов. На взошедшем сопровождаемом лице обозначились необыденные параметры улыбки, а искрящиеся глаза треугольничками двух сверкающих солнц переслали по свободной части пространства свидетельство об отпущении греха от имени и по поручению засветившегося лица, – индульгенция, по-научному. Происшествие вроде как обещало быть законченным благополучно, и я свою голову уже начал было ступенчато возвращать в обратный разворот к намеченному курсу. Но не успел ещё оторваться от двух сверкающих треугольничков, как из них в оба мои глаза вылетели тонкие, но проворные голубые змейки, которые электрически пробежали под моим пальто по всему позвоночнику сверху вниз, наделали чего-то беспокойного в середине организма и выпали горячим уголёчком в департаменте поддержания вида. И тут ещё дополнительно – ясно увидел, как с её лица, оставаясь одновременно на нем, отделяется и сходит с него, – как снимается тонкая кожица, – прозрачный, но достаточно плотный двойник – точная цветная копия случившейся улыбки. Отдельно от первоисточника она тут же устраивается наподобие рыбы-лоцмана перед моим лицом, сопровождая меня как бы на добычу и одновременно уводя от жертвы. Лицо ушло своим курсом, я – своим, однако с лоцманом снаружи и чем-то тёплым внутри.
И – не пропадает, и греет, и не пропадает...
– Аккуратнее, ВитальСпиридоныч, – настойчиво и любезно уговариваю себя, – аккуратнее! В твои-то многочисленные годы...
(экспериментальная проза)
Наученный многолетиями пробираться по московской подземной области метро, в сгущённые пиковые часы лавируя среди ритмически расставленных утренних нищих, а по вечерам среди следующих на автопилоте глотнувших запрокинутых господ, в толчее однородно окрашенных людей и разнообразных женщин, спешащих с утра доказывать очередное право на честно вывозимое в сумках и в сознании вечером, я понял одно: в метро уместна только старательная аккуратность.
Ибо центральным содержанием этой области установлена повышенная опасность, вроде игры на мостовой… с огнём. О необходимости в такой аккуратности достаточно наберётся у каждого, кто пользуется этим транспортом, я же приведу пару случаев, мне запомнившихся.
1.
Поезд подходил к перрону пересадочной станции, и в сутолоке вагона кучками слипшиеся между собой пассажиры, энергично огрызаясь, пере-лепливались по возникшим перед остановкой интересам: кому выходить – кому ехать дальше. Я уже относился к первой группе и, отлипнув от пассажирки средних лет из второй, к сожалению, группы, вынужденно переклеился к изрядно загруженному господину, который передо мной опознавательными движениями локтей протискивался к необходимому выходу. В обеих его руках были объёмистые сумки, приличествующие такому часу. Одна из них, что в левой руке, моим коленкам как-то сразу не понравилась костлявостью своего содержания, а в правой – было хотя и заметно более весомое, но – мягкое. Это было цилиндрическое сооружение в габаритах ствола царь-пушки из московского Кремля на довольно длинных ручках-помочах, что придавало указанному снаряду сходство с древним стенобитным тараном главного калибра. Обойти господина мне было «не с руки», как и «не с ноги», так что требования объёмного маневрирования в набитом снаряжёнными телами пространстве продиктовали мне терпеливо выходить из вагона прилипшим коленками к этому мягкому тарану.
Белый свет станционного вестибюля пришел на смену потустороннему туннельному пейзажу, криво разлинованному пыльными кабелями, по которым параллельным курсом несётся лихая электродвижущая сила; она игриво ныряет на станции под перрон, дабы невзначай не обезобразить утверждённой архитектуры. В окнах мелькают со всё замедляющейся резвостью весёлые мраморные пилоны, и вот уже у того пилона, против которого сейчас откроется наша с навьюченным господином дверь, отчётливо проступила хлопочущая над редкостной в метро мусорной урной объёмная подсобная дама. По могучим движениям её плечевого пояса угадывалась широта чувственного жеста, оценить которую со стороны придётся в самом ближайшем будущем некоторым ничего не подозревающим и случайным соглядатаям. На даме, заметной во всех отношениях, была флуоресцирующего цвета оранжевая безрукавка, надетая поверх телогрейки широкого покроя, фирменная юбка “meschkovina”, инвентарные сапоги и диэлектрические перчатки резинового цвета. Многоцветная дама деловито и намётанно управлялась с мокрой тряпкой. Последняя деталь, весьма весомая в нашем эпизоде демократической жизни, сначала совершенно не проявилась из-за сложенной в букву “Г” с закруглённым углом позы убиравшей дамы. Что касается головного убора, то он как-то в моей памяти не зацепился, возможно, как долго находившийся в приёмном устье, которое при взгляде изнутри урны мужественно обрамляло такого же широкого покроя овал лица рабочей дамы.
Двери поездов московских подземных трасс продуманно мудры и хитроумны. Они никогда не откроются, прежде чем пассажиры, как покидающие вагон, так и остающиеся в ожидании своих остановок, не будут коллективно оглоушены бодрящим объявлением о месте, куда приехали, о возможной пересадке, иногда и пожеланием уступать места в пользу мелких детей и старых многолетников. Эталонная громкость объявляемых оплеух в децибеллах настолько замечательна, что, находясь за пределом болевого порога нормального живого, совершенно и изумительно способна поднять на ноги любого окончательно закончившего быть живым.
И вот выключены реактивные дюзы объявительных динамиков, опавшие на мгновение и слегка скукоженные уши пассажиров вновь расправляются, обретают упругость и способность слушать металлическое змеиное шипение раздвигающихся дверей, сожалеющих о послаблении своей железной власти к очередной слипшейся порции выпускаемых на свободу. Появившиеся свободные кубические дециметры у дверей по мере напряжённого утреннего опорожнения вагона позволили моей коленке, прилипшей к мягкому древнему снаряду, полностью убедиться в достоинствах независимой подвески: мягкий толчок коленки по сумке вызывает её приличное поступательное движение, при этом из-за значительной длины ручек-помочей рука несущего снаряд господина не ощущает никакой обратной связи в виде информации об источнике неподозреваемых возмущений.
Очутившись на перроне, я естественно отлип коленкой и заложил левый вираж, обходя господина со стороны костлявой сумки, которая и потоньше, и ещё потому, что справа его обойти мешала надвигающаяся позиция дамы, склоненной над ранней урной. В уменьшающийся просвет я уже не вписывался, тем более, на вираже.
Потом я неоднократно хотел себе сказать: «И как тебе не стыдно, ВитальСпиридоныч! Из-за тебя вон последнюю урну из метро вынесли», – и мне уже начинало становиться существенно стыдно. Тогда я сворачивал в трубочку свой восклицательный вопрос, не смея его озвучить до конца. Затем для справедливого раскаяния напрягался нижней челюстью и, вздрогнув, запрокидывал голову и закатывал утомившиеся глаза. Чего-то бормотал про пострадавшего господина и о достойном трудоустройстве практически невинной дамы.
Вы уже правильно вычислили, что эта шаловливая коленка, прежде чем войти в составе полного объёма моего тела в левый вираж, самовольно и без предупреждения нанесла боевой горизонтальный удар по казённой части снаряда, который своей боеголовкой точно пришелся в закруглённую часть такого же массивного угла буквы “Г” ожидаемой дамы. Естественно, после этого трудящейся даме внезапно и без отрыва от производства пришлось внедриться внутрь урны несравненно глубже уровня, требуемого инструкциями и здравым смыслом.
Гружёный господин, чистосердечно не подозревавший о причине, был весьма удивлён следствием в виде результата на собственном лице, – результата, оформленного с молниеносной быстротой и широким жестом расчувствованной дамы, вооружённой пахучей мокрой тряпкой в диэлектрических перчатках упомянутого резинового цвета. Хлёсткий громовой шлепок по децибеллам явно превзошёл объявления метрополитена для почивших лиц. С таким треском вероятнее всего схлопываются далекие для нас бедные галактики; в нём потонули грохочущие оплеухи о закрывании дверей, о следующей станции, а также лязг железных членов состава, который тут же скоропалительно смотался в тёмный зев оглохшего туннеля.
– Аккуратнее! – только и выкрикнула дама в увлажнённое лицо зарвавшегося господина и по причине моментального удовлетворения сразу же потеряла к нему интерес, снисходительно занявшись продолжением санитарной работы; я это наблюдал уже с верхней лестницы перехода, задержавшись на мгновение из-за какого-то внезапного феномена в распоясавшейся коленке, которая решила, не отходя особенно далеко от места преступления, якобы прихромнуть, чтобы безнаказанно поглазеть верхними глазами и незлобиво осклабиться.
Дальнейшая судьба действующих лиц мне неизвестна: когда, где и чем после утирался внезапно продезинфицированный господин, сдержал ли он своё нецензурное слово, данное смазавшей даме, не знаю. Коленку я себе подлечил, на всех своих сумках ручки довольно укоротил, а насчёт аккуратности в метро зарубил на своем собственном носу и придерживался, пока почти совсем не забыл.
2
А вот намедни о том, чего забывать не следует, мне напомнил уже второй случай, хотя в неожиданной для меня плоскости, но опять же в метро.
– Аккуратнее! – раздалось женским голосом с левой у меня руки.
Я моментально сгруппировался, инстинктивно закрыл глаза, но влажного на лице не почувствовал. Это я услышал, когда спрессованным часом утреннего пика мирно перемещался по переходу на посадку в состав, уходящий в центральную зону туннельного Подмосковья. Среди сумчатых москвичей и гостей столицы я отличался разве что длиной ручек у моей ежедневной сумки на работу. Стал скорее вспоминать и тут же припомнил, что задумчиво задел только что обойдённого мною пассажира женского пола, скрытого под шубой из шкур незаслуженно убитых носителей обыденного меха. Слегка сбросив обороты, я постепенно развернул на собственной шее голову влево и на параллельном курсе под туманным налётом традиционно суровых русских вопросов – когда же это кончится? и кончится ли это вообще? – опознал серьёзное миловидное молодое лицо славянской национальности. Оно было обрамлено зимней шапочкой с бантиком тесьмы под подбородком. Живые глаза и губы светили серьёзно и спокойно, без обыденной колкости взгляда и домашних заготовок преднамеренного сарказма. В порядке обмена я располагал только представить на обозрение изрядно побывшее в употреблении произведение моих незабвенных родителей в виде портрета долгие годы претендующего на регулярную зарплату живого заполнителя и регулярного пользователя подземных траекторий. Заметным достоянием была без отца-матери нажитая и камуфлирующая настроение лица поседевшая бородка, которая – и не козлиным клинышком, на манер заморочивших мировые мозги оппортунистов столетней давности, и – не купцовской лопатой тех же и более древних времён и народов.
Сколько раз до этого предупреждал себя, говоря себе: ”Аккуратнее, ВитальСпиридоныч!”... А тут ни с того ни с сего вступило в голову, что не буркнул и не брякнул по обыкновению, а с не свойственным месту и времени выражением: «Простите, пожалуйста...» – пропел, не отрываясь от задевшего лица и ступая в некотором развороте своих плеч, справедливо ожидая исчерпания перезревшего инцидента. Её лицо пришло в неожиданное для меня движение. Уголки губ поползли в стороны и вверх, раскрывшись презентацией двух ровных жемчужных рядов. На взошедшем сопровождаемом лице обозначились необыденные параметры улыбки, а искрящиеся глаза треугольничками двух сверкающих солнц переслали по свободной части пространства свидетельство об отпущении греха от имени и по поручению засветившегося лица, – индульгенция, по-научному. Происшествие вроде как обещало быть законченным благополучно, и я свою голову уже начал было ступенчато возвращать в обратный разворот к намеченному курсу. Но не успел ещё оторваться от двух сверкающих треугольничков, как из них в оба мои глаза вылетели тонкие, но проворные голубые змейки, которые электрически пробежали под моим пальто по всему позвоночнику сверху вниз, наделали чего-то беспокойного в середине организма и выпали горячим уголёчком в департаменте поддержания вида. И тут ещё дополнительно – ясно увидел, как с её лица, оставаясь одновременно на нем, отделяется и сходит с него, – как снимается тонкая кожица, – прозрачный, но достаточно плотный двойник – точная цветная копия случившейся улыбки. Отдельно от первоисточника она тут же устраивается наподобие рыбы-лоцмана перед моим лицом, сопровождая меня как бы на добычу и одновременно уводя от жертвы. Лицо ушло своим курсом, я – своим, однако с лоцманом снаружи и чем-то тёплым внутри.
И – не пропадает, и греет, и не пропадает...
– Аккуратнее, ВитальСпиридоныч, – настойчиво и любезно уговариваю себя, – аккуратнее! В твои-то многочисленные годы...

Марина РЮМИНА
Имеются авторские странички на порталах Литрес и Ridero. В печатных изданиях опубликована подборка стихов в сборнике «Современный дух поэзии», выпуск 39, несколько рассказов в сборнике «Сокровенные мысли», выпуск 38 и сказка «Как Ира в саду заблудилась» в «Сборнике сказок славянских народов».
Имеются авторские странички на порталах Литрес и Ridero. В печатных изданиях опубликована подборка стихов в сборнике «Современный дух поэзии», выпуск 39, несколько рассказов в сборнике «Сокровенные мысли», выпуск 38 и сказка «Как Ира в саду заблудилась» в «Сборнике сказок славянских народов».
КОТЛОПУНКТ
День выдался хлопотным, но радостным. И, хоть рабочих с леспромхоза на заготовку леса сегодня прислали раза в три больше, чем обычно, и девчатам пришлось готовить суп в двух чанах, настроение у них было светлое и задорное. Последние повозки с лесом и рабочими ушли еще засветло. Уже всё прибрали на столах, вымели мусор из-под навесов, осталось вымыть плошки да испечь хлеб.
– Вот так денек у нас случился! – вздохнула Антонина. – Полмешка картошки – как не бывало!
– А хлеба на ужин вовсе не хватило, – добавила Капа, – надо будет сегодня больше испечь.
– Я уже теста на треть больше вчерашнего замесила, – сказала Лизавета.
– Молодец! – похвалила Капитолина. – А слышали, как нонче прораб ругался, говорил, что лес сейчас неправильно рубят.
– Я слыхала краем уха, – откликнулась Лиза, – он говорил, что при царе его по звездам и всяким приметам заготавливали. А сейчас рубят по разнарядке. Вот он негодный и получается. А Петруша так его слушал, прямо прилип.
– Предрассудки, – отрезала Капа.
– Не скажи, – вмешалась в разговор Тоня, – во всякой народной примете мудрость прячется. Вот, скажем, тот же мёд хороший получить, так сколько всего помнить нужно! К примеру, колодки из омшаников только на Зосиму выносят – 30 апреля. А на пасеке рядом с обжитыми ульями обязательно пустые ставятся.
– А ты, я вижу, Антонина, и взаправду за пасечника замуж собралась! – подцепила сестру Капка. – А ну, как он тебя не дождется или голодной смертью сгинет?
– Не сгинет, пчелы не дадут. И выйду, коли дождется. Любовь, она проверки требует. А то вот некоторые повыскакивают замуж, а потом мужа за семью не считают, – не осталась в долгу Тонька.
Капитолина залилась краской. Да, не каждая селянка, как Капка, скажет мужу: «А я со своей настоящей семьей и остаюсь!», хлопнет дверью и уйдет с матерью и сестрами в другую губернию, даже если он и сходит на сторону.
– Я не Настя! Тебе её мало?
– Ну, хватит браниться! – вмешалась младшая. – Вот тесто уже подошло, печь пора.
Тут отворилась дверь, и в избу, опираясь на трость, вошел невысокий темноволосый юноша, чем-то похожий на цыгана:
– Вот, сучков насобирал, – поставил мешок к печи и стал набивать сучьями горнило.
– Петь, а расскажи, что это давеча прораб про заготовку леса толковал, – даже не из любопытства, а чтобы отвлечь сестер от перебранки, попросила Лиза.
– А тебе это тоже интересно?! О, это целое искусство! Вот, к примеру, если ты хочешь сделать из дерева ухват для горшков, надо, чтобы он от огня не загорался. Так дерево для такого ухвата рубить надо 1 марта и лучше после захода солнца. А чтобы построить фундамент дома в сырой местности, нужно, чтобы дерево не гнило. Так его заготавливали 1 января или с 31 января по 2 февраля. В таком дереве и черви не заводятся, и со временем оно становится твердым, как камень. А для лодок можно рубить еще 7 и 25 января. А вот для поделки мебели деревья валят в течение первых восьми дней после декабрьского новолуния.
– Ой, Лизка, да что тебе за нужда, из какого дерева у тебя скалка, твое дело – тесто катать да пироги печь! – засмеялась Антонина. – Тебя вон, Санька то пальцем в бок ткнет, то цветы на подоконник кинет, а сегодня даже конфет купил. Никак, дело идет к свадьбе. Тебе-то самой он как, нравится?
– Не знаю, – опустила глаза младшенькая. Санька действительно оказывал ей знаки внимания, и это было приятно.
Капитолина набила формы тестом, поставила их в печь, села за стол и затянула:
– По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
Петр отложил листок с карандашом, которым старательно записывал все, что успел вытащить из прораба о свойствах и заготовке леса, и глубоким баритоном подтянул:
– На нем рубашонка худая
Со множеством разных заплат,
Шапчонка на нем арестанта
И серый тюремный халат.
Дальше пели хорошо слаженным многоголосьем:
– Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал;
Идти дальше нет больше мочи,
Пред ним расстилался Байкал.
– Слышь, Крученый, про нашу долю поют. Может, не будем им вреда чинить? – сказал шустрый рыжеватый паренек, заглядывая через щелку между штор в окно избы.
Такие дома на котлопунктах лесозаготовок служили одновременно кухней, магазином и жильем обслуживающего их персонала. Обслуживающим персоналом на этой точке была молодежь семьи Кузьминых – полнородных брата и сестер лесника Ивана Николаевича, пришедших по весне по его вызову из Саратовской губернии. Иван, давний друг председателя колхоза, был в курсе проводимой партией политики. И не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что Поволжье ждет голод. Маманю лесник поселил в своем доме, а молодежь пристроил работать на котлопункт.
– Мне их жизни не сдались, мне товар нужен. Сам знаешь, сколько здесь продуктов, и сколько денег за них выручить можно. Да и выручка нынешняя от продаж – тут же. Сами отдадут, порешим только того, кто наши рожи срисует. Ну, а нет…
– Да как же, Крученый, они физиономии наши разглядят? Темно ведь. И потом, мокруха – это не мой конек, – продолжал занудствовать желторотик.
– А что, Санек, «твой конек»? – невысокий лоб их верткого предводителя покрылся множеством морщинок. – Я вот задумываться начал, не зря ли я взял в дело молокососа? Есть ли мне от тебя польза? Для того ли ты к артели прибился, чтобы разнюхать чё, али чтобы перья перед мелкой стряпчей распускать?
– Да ты что, Крученый! Я же тут все тропки изучил: и двор, и постройки!
– А скажи мне тогда, можно ли отсюда утечь незаметно? – пальцы пахана все время мельтешили, играя трефовым гвоздем. Этого гвоздя боялись все, кто знал Крученого. Смерть от него можно было принять за одно мгновение, как говорится, не в бровь, а в глаз.
– Есть одно место, – вымолвил Санек, – маленькое оконце в чулане. Выходит в самый угол дома, как раз в кусты.
– Вот ты в этих кустах и встанешь с обрезом. И ежели среди них окажется кто-то прыткий, смотри, не промахнись!
Гвоздь в руке Крученого мгновенно вылетел между указательным и средним пальцем, задержавшись на шляпке в руке. Санек вздрогнул, перехватил обрез и пошел к назначенному посту.
А главарь постучал кулаком в окно и громко, чтобы было слышно в доме через открытую форточку, гнусавым голосом подтянул:
– «Жена там по мужу скучает, и плачут детишки гурьбой…» Ой, как плачут, животы от голода опухли. Вы ж не дадите бедным деткам сгинуть ни за что!
Лизка кинулась к окну, а Петр схватил ружье и шагнул к двери.
– Куда! – цыкнула на них Капка. – А ну, сядьте! А ты, дядя, кто такой будешь? И есть ли у тебя на продукты бумага от председателя?
– Ишь, бумага! – усмехнулся Крученый. – А ты кто – бригадирша что ли, бумаги требовать?
– Капитолина я. Ну, считай, бригадирша. А ты так и не отрекомендовался.
– Бумаги, девонька, нет, зато есть добры молодцы с ножами да ружьями. И никого из них ты обедом не кормила. А голодный и зверь жалости не знает. Так что примите мой совет: не противьтесь, отдайте все по-хорошему.
– Я сейчас по ним палить начну, – сказал Петр тихо, – а вы бегите через окно в чулане.
– Не получится, дом, скорее всего, окружен, – так же тихо возразила Тоня.
– Никто ни стрелять, ни бежать не будет. Все – быстро в погреб! – шепотом скомандовала Капа, а вслух ответила гостю:
– Без бумаги продуктов выдать не могу. А молодцы твои, как только придут работать на лесоповал, так я их не только обедом, а еще завтраком и ужином накормлю!
Пахан осклабился – не часто он встречал отпор да еще от девки:
– Ну, а не выдашь, так я сам все возьму! А с тобой, строптивая, еще и поиграюсь!
– Все тут? – спросила Капка, заглядывая в погреб.
– Лизки нет! – выпалила Тоня.
– Так бы сразу и сказал, что в отношении меня интерес имеешь! Тут подумать надобно, по-любому полюбовно-то лучше, – игриво пропела Капка и кинулась в чулан.
Крученый от ее слов опешил – вот так девка!
– Я рассудительных люблю. Ну, ты думай, да только недолго.
«Ничего, – бубнила себе под нос Лизка, – напрямки до Ивановой хаты минут двадцать бегу, пока дверь ломать будут, пока продукты выгребать, тут их Ванюша с мужиками и возьмет, да так, что не отвертятся! А мои в погребе запрутся, схоронятся!»
Санька сидел в кустах, вертясь от гнуса, и прислушивался к голосам. Правда, он слышал только Крученого и не мог понять: чего же тот медлит?
Вдруг послышался негромкий стук. Оконце чулана отворилось. Он вскинул обрез и прицелился. Сначала показалась голова, потом розовое платье. Нет! Только не это! Она была в том же платье, когда они случайно встретились в лесу, собирая грибы. Ему очень хотелось хоть чем-то удивить ее. Он тогда изловчился и поймал большую красивую бабочку. А она почему-то вместо восторга вся сжалась и прочитала ему стихи какого-то Льва Мадза… Модзо… В общем, не важно, кого. Да и из стихов-то этих он запомнил только последние строчки: «Но короток мой век, он не долее дня; будь же добр, человек, и не трогай меня!» Эх, мотылек ты мой-мотылек, куда же ты летишь! Окно странным образом затуманилось. Санек даже не понял, что глаза его застилают слезы. Он зажмурился и нажал на курок.
– Ну, что, Капитолина, надумала? – сквозь зубы процедил Крученый, ударив кулаком в окно так, что разлетелось стекло. – Али зубы мне заговариваешь, а сама к брательнику гонца послала. Вернее, гончую. Гонец-то у вас не ходок. Да не тут-то было! Ее смерть – на твоей совести. Так отдашь продукты, али всех положишь за колхозное добро?!
– Подумала. Продуктов тебе не выдам. Сумеешь сам взять, так бери. Каждый за свое дело ответ держать будет!
– Ломай, братцы, дверь! – скомандовал главарь.
Бандюганы давно ждали этой команды; думали, выбьют махом, да не тут-то было!
– Чего там мешкаете? – прикрикнул Крученый.
– Да, похоже, забаррикадировались, гаденыши! – проворчал здоровый рябой детина. – Не дрейфь, сейчас вышибем.
– Цыган, Наперсток, быстро в окно, – скомандовал пахан, – остынь, Рябой, сейчас тебе ребятишки изнутри все запоры сымут. Ну, берегись, Капитолина!
– Нет, ну подумайте, – ворчала Капка, просовывая скалку в ручку творила, – самая умная! Я эту птаху прямо из-под пули из окна выхватила! Велела же всем лезть в погреб. Все тут, а ее понесло!
Тоня отдала свечу брату, чтобы тот освещал Капе лестницу, а сама обняла эту мелкую непоседу:
– Дева Мария, спасибо тебе за дурочку мою любимую! А если бы Капка не поспела, убили б ведь!
Лиза уткнулась в грудь сестры и прошептала: «Я хотела напрямки до Ивановой хаты». И они обе разрыдались.
– А ты, Петь, когда успел шкаф да сундук к двери подвинуть? – спросила Капа, спускаясь с последней ступеньки.
– Когда ты с их главарем кто есть кто выясняла. Кто языком, а кто руками дело делал, – улыбнулся брат.
Капка обняла сестер обеих сразу и завыла вместе с ними.
– Ну, хватит вам, – одернул их Петр. – Еще ничего не кончилось. Тушите свечу и садитесь по углам. А я лаз на мушке держать буду.
А наверху бандиты таскали мешки с продуктами в стоявшую возле дома телегу, а Крученый искал способ открыть погреб.
– Ах ты, бригадирша! – бурчал он, уж больно ему хотелось, чтобы эта своевольная поубавила свой норов. – Погоди, вот только тебя из этой ямы достану, так и поучу людей уважать!
Он пытался открыть творило, применив лом, как рычаг, да только выдернул ручку. Пытался поддеть кочергой, но что-то крепко держало его изнутри. А пахан не привык признавать себя побежденным. Он взял топор и начал вырубать по краям доски. Щель становилась все больше, скоро можно будет просунуть в нее руку и выдернуть то, что держит эту проклятую дверь в подпол. Тут он почувствовал прикосновение к плечу.
– Крученый, на кой ляд они тебе сдались? – рядом стоял Рябой. – Рожи наши никто из них не видел. А, значит, ни узнать, ни описать не смогут. Крови в чулане Санек не нашел. А, значит, мокрухи не случилось. А выстрел в лесу был. А, значит, Кузьмич уже мужиков собирает. Надо поспешать.
– Еще трохи, и я их вскрою. Мне бы только достать эту гордячку!
– Не дури, голова! У ихнего мальца только нога негодная, а руки и глаз верные. Ты, как только творило подымешь, у него на свету мишень как есть и нарисуется. Не промахнется.
Крученый смачно плюнул в образовавшуюся щель:
– Ну что ж, живи, Капитолина! Пока… А это мой тебе поцелуй на прощанье.
Банду поймали недели две спустя. Дело было ясное и до суда дошло быстро. Улик у прокурора хватало, убийства не случилось. Приговорили почти всех к пяти годам. Перед закрытием слушания прокурор, глядя на Санька, задал лишь один вопрос:
– Александр, я для себя хотел бы уточнить один вопрос. Свидетели утверждают, что Вы испытывали к Елизавете Кузьминой симпатию. Так ли это? Как Вы к ней относитесь?
– Люблю, – упершись взглядом в стол, ответил Санек.
– И все же был выстрел. Вы не узнали в темноте предмет своих чувств?
– Узнал, – глухо ответил подсудимый.
– А если бы сестра не подоспела, и не выхватила ее из окна, что бы Вы сделали?
Санек поднял на прокурора измученный взгляд опухших глаз и грустно, но твердо ответил:
– Убил.
День выдался хлопотным, но радостным. И, хоть рабочих с леспромхоза на заготовку леса сегодня прислали раза в три больше, чем обычно, и девчатам пришлось готовить суп в двух чанах, настроение у них было светлое и задорное. Последние повозки с лесом и рабочими ушли еще засветло. Уже всё прибрали на столах, вымели мусор из-под навесов, осталось вымыть плошки да испечь хлеб.
– Вот так денек у нас случился! – вздохнула Антонина. – Полмешка картошки – как не бывало!
– А хлеба на ужин вовсе не хватило, – добавила Капа, – надо будет сегодня больше испечь.
– Я уже теста на треть больше вчерашнего замесила, – сказала Лизавета.
– Молодец! – похвалила Капитолина. – А слышали, как нонче прораб ругался, говорил, что лес сейчас неправильно рубят.
– Я слыхала краем уха, – откликнулась Лиза, – он говорил, что при царе его по звездам и всяким приметам заготавливали. А сейчас рубят по разнарядке. Вот он негодный и получается. А Петруша так его слушал, прямо прилип.
– Предрассудки, – отрезала Капа.
– Не скажи, – вмешалась в разговор Тоня, – во всякой народной примете мудрость прячется. Вот, скажем, тот же мёд хороший получить, так сколько всего помнить нужно! К примеру, колодки из омшаников только на Зосиму выносят – 30 апреля. А на пасеке рядом с обжитыми ульями обязательно пустые ставятся.
– А ты, я вижу, Антонина, и взаправду за пасечника замуж собралась! – подцепила сестру Капка. – А ну, как он тебя не дождется или голодной смертью сгинет?
– Не сгинет, пчелы не дадут. И выйду, коли дождется. Любовь, она проверки требует. А то вот некоторые повыскакивают замуж, а потом мужа за семью не считают, – не осталась в долгу Тонька.
Капитолина залилась краской. Да, не каждая селянка, как Капка, скажет мужу: «А я со своей настоящей семьей и остаюсь!», хлопнет дверью и уйдет с матерью и сестрами в другую губернию, даже если он и сходит на сторону.
– Я не Настя! Тебе её мало?
– Ну, хватит браниться! – вмешалась младшая. – Вот тесто уже подошло, печь пора.
Тут отворилась дверь, и в избу, опираясь на трость, вошел невысокий темноволосый юноша, чем-то похожий на цыгана:
– Вот, сучков насобирал, – поставил мешок к печи и стал набивать сучьями горнило.
– Петь, а расскажи, что это давеча прораб про заготовку леса толковал, – даже не из любопытства, а чтобы отвлечь сестер от перебранки, попросила Лиза.
– А тебе это тоже интересно?! О, это целое искусство! Вот, к примеру, если ты хочешь сделать из дерева ухват для горшков, надо, чтобы он от огня не загорался. Так дерево для такого ухвата рубить надо 1 марта и лучше после захода солнца. А чтобы построить фундамент дома в сырой местности, нужно, чтобы дерево не гнило. Так его заготавливали 1 января или с 31 января по 2 февраля. В таком дереве и черви не заводятся, и со временем оно становится твердым, как камень. А для лодок можно рубить еще 7 и 25 января. А вот для поделки мебели деревья валят в течение первых восьми дней после декабрьского новолуния.
– Ой, Лизка, да что тебе за нужда, из какого дерева у тебя скалка, твое дело – тесто катать да пироги печь! – засмеялась Антонина. – Тебя вон, Санька то пальцем в бок ткнет, то цветы на подоконник кинет, а сегодня даже конфет купил. Никак, дело идет к свадьбе. Тебе-то самой он как, нравится?
– Не знаю, – опустила глаза младшенькая. Санька действительно оказывал ей знаки внимания, и это было приятно.
Капитолина набила формы тестом, поставила их в печь, села за стол и затянула:
– По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
Петр отложил листок с карандашом, которым старательно записывал все, что успел вытащить из прораба о свойствах и заготовке леса, и глубоким баритоном подтянул:
– На нем рубашонка худая
Со множеством разных заплат,
Шапчонка на нем арестанта
И серый тюремный халат.
Дальше пели хорошо слаженным многоголосьем:
– Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал;
Идти дальше нет больше мочи,
Пред ним расстилался Байкал.
– Слышь, Крученый, про нашу долю поют. Может, не будем им вреда чинить? – сказал шустрый рыжеватый паренек, заглядывая через щелку между штор в окно избы.
Такие дома на котлопунктах лесозаготовок служили одновременно кухней, магазином и жильем обслуживающего их персонала. Обслуживающим персоналом на этой точке была молодежь семьи Кузьминых – полнородных брата и сестер лесника Ивана Николаевича, пришедших по весне по его вызову из Саратовской губернии. Иван, давний друг председателя колхоза, был в курсе проводимой партией политики. И не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что Поволжье ждет голод. Маманю лесник поселил в своем доме, а молодежь пристроил работать на котлопункт.
– Мне их жизни не сдались, мне товар нужен. Сам знаешь, сколько здесь продуктов, и сколько денег за них выручить можно. Да и выручка нынешняя от продаж – тут же. Сами отдадут, порешим только того, кто наши рожи срисует. Ну, а нет…
– Да как же, Крученый, они физиономии наши разглядят? Темно ведь. И потом, мокруха – это не мой конек, – продолжал занудствовать желторотик.
– А что, Санек, «твой конек»? – невысокий лоб их верткого предводителя покрылся множеством морщинок. – Я вот задумываться начал, не зря ли я взял в дело молокососа? Есть ли мне от тебя польза? Для того ли ты к артели прибился, чтобы разнюхать чё, али чтобы перья перед мелкой стряпчей распускать?
– Да ты что, Крученый! Я же тут все тропки изучил: и двор, и постройки!
– А скажи мне тогда, можно ли отсюда утечь незаметно? – пальцы пахана все время мельтешили, играя трефовым гвоздем. Этого гвоздя боялись все, кто знал Крученого. Смерть от него можно было принять за одно мгновение, как говорится, не в бровь, а в глаз.
– Есть одно место, – вымолвил Санек, – маленькое оконце в чулане. Выходит в самый угол дома, как раз в кусты.
– Вот ты в этих кустах и встанешь с обрезом. И ежели среди них окажется кто-то прыткий, смотри, не промахнись!
Гвоздь в руке Крученого мгновенно вылетел между указательным и средним пальцем, задержавшись на шляпке в руке. Санек вздрогнул, перехватил обрез и пошел к назначенному посту.
А главарь постучал кулаком в окно и громко, чтобы было слышно в доме через открытую форточку, гнусавым голосом подтянул:
– «Жена там по мужу скучает, и плачут детишки гурьбой…» Ой, как плачут, животы от голода опухли. Вы ж не дадите бедным деткам сгинуть ни за что!
Лизка кинулась к окну, а Петр схватил ружье и шагнул к двери.
– Куда! – цыкнула на них Капка. – А ну, сядьте! А ты, дядя, кто такой будешь? И есть ли у тебя на продукты бумага от председателя?
– Ишь, бумага! – усмехнулся Крученый. – А ты кто – бригадирша что ли, бумаги требовать?
– Капитолина я. Ну, считай, бригадирша. А ты так и не отрекомендовался.
– Бумаги, девонька, нет, зато есть добры молодцы с ножами да ружьями. И никого из них ты обедом не кормила. А голодный и зверь жалости не знает. Так что примите мой совет: не противьтесь, отдайте все по-хорошему.
– Я сейчас по ним палить начну, – сказал Петр тихо, – а вы бегите через окно в чулане.
– Не получится, дом, скорее всего, окружен, – так же тихо возразила Тоня.
– Никто ни стрелять, ни бежать не будет. Все – быстро в погреб! – шепотом скомандовала Капа, а вслух ответила гостю:
– Без бумаги продуктов выдать не могу. А молодцы твои, как только придут работать на лесоповал, так я их не только обедом, а еще завтраком и ужином накормлю!
Пахан осклабился – не часто он встречал отпор да еще от девки:
– Ну, а не выдашь, так я сам все возьму! А с тобой, строптивая, еще и поиграюсь!
– Все тут? – спросила Капка, заглядывая в погреб.
– Лизки нет! – выпалила Тоня.
– Так бы сразу и сказал, что в отношении меня интерес имеешь! Тут подумать надобно, по-любому полюбовно-то лучше, – игриво пропела Капка и кинулась в чулан.
Крученый от ее слов опешил – вот так девка!
– Я рассудительных люблю. Ну, ты думай, да только недолго.
«Ничего, – бубнила себе под нос Лизка, – напрямки до Ивановой хаты минут двадцать бегу, пока дверь ломать будут, пока продукты выгребать, тут их Ванюша с мужиками и возьмет, да так, что не отвертятся! А мои в погребе запрутся, схоронятся!»
Санька сидел в кустах, вертясь от гнуса, и прислушивался к голосам. Правда, он слышал только Крученого и не мог понять: чего же тот медлит?
Вдруг послышался негромкий стук. Оконце чулана отворилось. Он вскинул обрез и прицелился. Сначала показалась голова, потом розовое платье. Нет! Только не это! Она была в том же платье, когда они случайно встретились в лесу, собирая грибы. Ему очень хотелось хоть чем-то удивить ее. Он тогда изловчился и поймал большую красивую бабочку. А она почему-то вместо восторга вся сжалась и прочитала ему стихи какого-то Льва Мадза… Модзо… В общем, не важно, кого. Да и из стихов-то этих он запомнил только последние строчки: «Но короток мой век, он не долее дня; будь же добр, человек, и не трогай меня!» Эх, мотылек ты мой-мотылек, куда же ты летишь! Окно странным образом затуманилось. Санек даже не понял, что глаза его застилают слезы. Он зажмурился и нажал на курок.
– Ну, что, Капитолина, надумала? – сквозь зубы процедил Крученый, ударив кулаком в окно так, что разлетелось стекло. – Али зубы мне заговариваешь, а сама к брательнику гонца послала. Вернее, гончую. Гонец-то у вас не ходок. Да не тут-то было! Ее смерть – на твоей совести. Так отдашь продукты, али всех положишь за колхозное добро?!
– Подумала. Продуктов тебе не выдам. Сумеешь сам взять, так бери. Каждый за свое дело ответ держать будет!
– Ломай, братцы, дверь! – скомандовал главарь.
Бандюганы давно ждали этой команды; думали, выбьют махом, да не тут-то было!
– Чего там мешкаете? – прикрикнул Крученый.
– Да, похоже, забаррикадировались, гаденыши! – проворчал здоровый рябой детина. – Не дрейфь, сейчас вышибем.
– Цыган, Наперсток, быстро в окно, – скомандовал пахан, – остынь, Рябой, сейчас тебе ребятишки изнутри все запоры сымут. Ну, берегись, Капитолина!
– Нет, ну подумайте, – ворчала Капка, просовывая скалку в ручку творила, – самая умная! Я эту птаху прямо из-под пули из окна выхватила! Велела же всем лезть в погреб. Все тут, а ее понесло!
Тоня отдала свечу брату, чтобы тот освещал Капе лестницу, а сама обняла эту мелкую непоседу:
– Дева Мария, спасибо тебе за дурочку мою любимую! А если бы Капка не поспела, убили б ведь!
Лиза уткнулась в грудь сестры и прошептала: «Я хотела напрямки до Ивановой хаты». И они обе разрыдались.
– А ты, Петь, когда успел шкаф да сундук к двери подвинуть? – спросила Капа, спускаясь с последней ступеньки.
– Когда ты с их главарем кто есть кто выясняла. Кто языком, а кто руками дело делал, – улыбнулся брат.
Капка обняла сестер обеих сразу и завыла вместе с ними.
– Ну, хватит вам, – одернул их Петр. – Еще ничего не кончилось. Тушите свечу и садитесь по углам. А я лаз на мушке держать буду.
А наверху бандиты таскали мешки с продуктами в стоявшую возле дома телегу, а Крученый искал способ открыть погреб.
– Ах ты, бригадирша! – бурчал он, уж больно ему хотелось, чтобы эта своевольная поубавила свой норов. – Погоди, вот только тебя из этой ямы достану, так и поучу людей уважать!
Он пытался открыть творило, применив лом, как рычаг, да только выдернул ручку. Пытался поддеть кочергой, но что-то крепко держало его изнутри. А пахан не привык признавать себя побежденным. Он взял топор и начал вырубать по краям доски. Щель становилась все больше, скоро можно будет просунуть в нее руку и выдернуть то, что держит эту проклятую дверь в подпол. Тут он почувствовал прикосновение к плечу.
– Крученый, на кой ляд они тебе сдались? – рядом стоял Рябой. – Рожи наши никто из них не видел. А, значит, ни узнать, ни описать не смогут. Крови в чулане Санек не нашел. А, значит, мокрухи не случилось. А выстрел в лесу был. А, значит, Кузьмич уже мужиков собирает. Надо поспешать.
– Еще трохи, и я их вскрою. Мне бы только достать эту гордячку!
– Не дури, голова! У ихнего мальца только нога негодная, а руки и глаз верные. Ты, как только творило подымешь, у него на свету мишень как есть и нарисуется. Не промахнется.
Крученый смачно плюнул в образовавшуюся щель:
– Ну что ж, живи, Капитолина! Пока… А это мой тебе поцелуй на прощанье.
Банду поймали недели две спустя. Дело было ясное и до суда дошло быстро. Улик у прокурора хватало, убийства не случилось. Приговорили почти всех к пяти годам. Перед закрытием слушания прокурор, глядя на Санька, задал лишь один вопрос:
– Александр, я для себя хотел бы уточнить один вопрос. Свидетели утверждают, что Вы испытывали к Елизавете Кузьминой симпатию. Так ли это? Как Вы к ней относитесь?
– Люблю, – упершись взглядом в стол, ответил Санек.
– И все же был выстрел. Вы не узнали в темноте предмет своих чувств?
– Узнал, – глухо ответил подсудимый.
– А если бы сестра не подоспела, и не выхватила ее из окна, что бы Вы сделали?
Санек поднял на прокурора измученный взгляд опухших глаз и грустно, но твердо ответил:
– Убил.

Николай ШОЛАСТЕР
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Учителем работал недолго, вскоре начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году привело к профессии монтера пути на железной дороге. На протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством. В 2014 году, освободившись от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить давно терзавший душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Учителем работал недолго, вскоре начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году привело к профессии монтера пути на железной дороге. На протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством. В 2014 году, освободившись от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить давно терзавший душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
ГОСТЬ В ЕГО ГОЛОВЕ. ПРОШЛОЕ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ, НО...
Турбаза пряталась где-то в сказочных дебрях нетронутых цивилизацией лесов. Там, где густые косматые шевелюры ветвистых деревьев, ниспадая до самой земли, украшали собой сказочные деревянные домики и аккуратные желтые дорожки. И достаточно было одного мимолетного взгляда на всю эту красоту, чтобы в голове возникло словосочетание «лесная сказка». А именно так и называлась турбаза.
Вечер плавно погружался в ночь, и лес постепенно приобретал колдовское обличие. Деревья, растущие вдоль извилистых тропинок, превращались в жутких монстров, поджидающих свою жертву. Словно далекие звезды, горели огни светлячков под аккомпанемент умиротворяющего стрекота лесных насекомых. А воздух был настолько теплым и густым, что казалось, ты не дышишь им, а пьешь его, как нектар.
Но ближе к танцплощадке воздух наполнялся сладким ароматом женских духов, что говорило о скором приближении праздника. И вот защелкали переключатели на сверкающих гитарах и усилителях, и верхний ярус этого сказочного лайнера наполнился волшебным звучанием и электрическим светом.
«Ах, как нежно плачет гитара, как сладко голос поет о любви», — думали девушки, бросая на музыкантов одобрительные взгляды. Все слухи о якобы распавшейся команде улетучились после первой же песни. А с каждой последующей девичьи сердца просто разрывались от счастья. Мощная волна кинетической энергии от танцующих тел передавалась обратно на сцену и вдохновляла музыкантов на новые подвиги.
— «Шизгару» давай, — закричали из публики. Это означало, что настала пора переходить от отечественной лирики к более жестким заморским формам эмоционального самовыражения.
— Даем «Шизгару», — объявил Толик, и Серега просто-таки взорвал толпу вступительными аккордами модной заморской песни.
Затем, чтобы не дать погаснуть разбушевавшейся энергии танцующих, Толик, повернувшись к музыкантам, предложил:
— Ну, давайте теперь наш фирменный номер — «Гет ноу сэтисфэкшн»!
От жесткого звучания заморского рока публика окончательно взбесилась. Одобрительный девичий визг чуть не заглушил звуки мощных усилителей.
Таким образом, к окончанию танцевального вечера наскоро сколоченная группа приобрела статус суперзвезд. И по такому случаю, когда в нужное время за музыкантами с их классной аппаратурой не приехал автобус, они были приглашены на уютный ночной банкет, устроенный компанией очаровательных девушек.
Дело шло к тому, что музыкантов могли и вовсе оставить ночевать в этом раю. Тут у Сереги от восторга разом заклокотали все чувствительные органы. Однако его «гостю» это почему-то совершенно не понравилось, и он вдруг взялся за нравственное воспитание законного владельца физического тела.
«Не пойму, ты мне папа что ли, морали тут читать будешь!» — мысленно возмутился Серега столь вероломному вмешательству в свою личную жизнь.
«Но ведь этого же не было! — причитал голос. — Неужели я успел где-то накосячить… что же делать, где этот чертов автобус?»
Как бы там ни было, девчонки уже затащили музыкантов в маленький домик с овальными окошками. Тут уже все было готово к приему дорогих гостей. И стол накрыт, и тихо играла ненавязчивая музыка в свете тускло мерцающих светильников.
Распоряжалась здесь всем девушка Таня. Ее папа был главным инженером предприятия, поэтому и домик у нее был самым сказочным из всей «Лесной сказки», а маленький раскладной столик просто-таки ломился от изобилия всевозможных недоступных простым смертным яств.
Совершенно неожиданно в этой сугубо девичьей компании нарисовался субъект сильной половины человечества. Он был то ли Таниным ухажером, то ли ее женихом. Это казалось странным, поскольку он выглядел намного старше. Но, возможно, с точки зрения ее папеньки, он и составлял подходящую партию для дочурки.
Важный, как писатель, с бородкой и в темных очках. Попыхивая курительной трубкой «а-ля Хемингуэй», он представился как Владлен Маркович. Причем сказано это было с таким акцентом, что осталось непонятным: Маркович — это фамилия или отчество. Впрочем, Таня его звала почему-то Вольдемаром.
После первого же тоста он завел умную беседу об искусстве и, в частности, о музыке. Низким внушительным голосом сквозь клубы табачного дыма он с напускной важностью произносил всякие умные слова типа: ритм энд блюз, джаз-бэнд, арт-рок и сэкс. Причем последнее слово он произносил чаще других и делал сильный акцент на букву «э». Слушалось это очень красиво, но иногда смущало, что он путает имена известных музыкантов и групп.
Девчонки с упоением слушали его умную лекцию, все крепче прижимаясь к парням. А парни, все больше от этого шалея, отвечали им взаимностью. У Сережи руки тоже были заняты: одна обнимала девушку Лену, другая крепко сжимала стаканчик, в который то и дело подливали горячительные напитки. Еще бы: его всем представили как Профессора Грея, и каждый считал своим долгом пополнить едва опустевший стакан виртуоза.
В это время Сережин «гость» отчаянно ругался в его голове: «Ой, дурак, ой, дурак! Ну, что ты творишь! Сейчас наворочаешь дел. Но ведь этого же не было!»
«Отвянь! — отрезал Сергей. — Оставь меня в покое!»
После очередного тоста Серега, изрядно захмелев, окончательно запутался, когда он говорит вслух для всех, а когда ругается про себя с уже надоевшим ему хриплоголосым «гостем».
Вольдемар, вальяжно развалившись на стуле, с видом искушенного ценителя гитарного искусства завел речь о гитаристах зарубежных групп:
— Да, Харрисон хорош, безусловно, хорош. Хотя сильно уступает Блэкмору в технике. А вот Кит Ричардс перед ними — просто дворовая мелкота…
В это же время старший Сергей нудным хриплым голосом и, что уже крайне возмутительно, с родительской интонацией стал высказывать младшему:
— Ты ведешь себя, как ребенок. Ну, куда ты одну за другой пьешь, сейчас тебя развезет… да уже развезло. Эх, мелкота ты дворовая!
Это его окончательно взбесило, и он дико заорал:
— Да сам ты мелкота дворовая! Достал меня уже своими лекциями! Голова от тебя скоро лопнет, больно умный! А сам-то кто? Забыл?
Вольдемар поперхнулся на полуслове, выронил трубку изо рта и удивленно уставился на него. Стеклышки в дорогой оправе моментально запотели и, казалось, сейчас лопнут от возмущения. А Лена испуганно вскрикнула, будто ее ужалила оса, и отпрянула от Сергея.
От такого неожиданного поворота в воздухе запахло электричеством, словно произошло короткое замыкание. Но в этот момент в дверь постучали:
— Эй, музыканты, за вами автобус приехал!
Но это уже ни в чьи планы не входило. Никому из музыкантов не хотелось бросать своих красавиц и грузить тяжелые колонки с усилителями в автобус. Тем более, покидать «Лесную сказку» в самый ответственный момент. Как всегда, всех выручил Славка:
— Девчонки, Вольдемар, простите. Профессор у нас замечательный малый, просто чуток перепил, вырвался первый раз на свободу. Короче, я с ним везу инструменты, а вы оставайтесь.
Никто возражать не стал, только облегченно вздохнули: такой вариант всех устраивал. А Серега все никак не мог успокоиться. И когда они со Славкой грузили инструменты в автобус, он возмущенно бубнил:
— Это все из-за тебя, гад! Сорвал мне такой вечер! Принесли тебя черти на мою голову! — он, конечно, обращался к своему незваному «гостю», просто слова сами собой вырывались от возмущения.
— Да ты что, Серый! Я-то в чем виноват? Мне что, за рукав тебя хватать надо было? Ты, видно, боялся, что не достанется. Так вот: не можешь пить, не пей.
— Да это я не тебе, Слав…
— А, понимаю, это все глюки. Белочки еще не скачут перед глазами?
Погрузка и последующая разгрузка инструментов окончательно привели в чувство Сергея. Они со Славкой распрощались и пошли по домам.
«Ну что, добился своего, престарелый блюститель нравственности? Теперь твоя душенька спокойна?» — после долгой паузы подумал Серега.
«Да ты так и не понял! Не в этом дело, главное, чтобы не натворить каких-то изменений в прошлом. Я так хотел, так мечтал вернуться в это время, ты не представляешь! Сыграть с тобой вместе убийственное соло, чтоб башню всем сорвало. Понимаешь, я это могу… то есть мог. А вот тогда, когда я был тобой, когда молодость… эх... А так хочется вернуть время, переиграть некоторые моменты своей жизни».
«Так чего тебе еще надо, все классно вышло. Причем тут девочки?»
«Да как ты не поймешь, нельзя так сильно менять прошлое. Я-то думал, поиграю и все, а тут вон как все повернулось. Ночь, банкет, девочки… не было этого. Я испугался, что произойдут… хм, значительные изменения».
«Ну, все же исправилось, автобус приехал, я с банкета слинял, и моя нравственность не пострадала».
«Еще неизвестно! Это я не про нравственность, — он хрипло хохотнул, — но кто знает, чем это все обернется…»
Оба очень устали от приключений и буквально провалились в глубокий сон.
* * *
Через пару дней Серега приехал к Славику на «разбор полетов».
— Ну, как там? Чем дело-то закончилось? Инструменты не отобрали? Можно дальше репетировать? — с надеждой спросил Серега, полагая, что Соловей уже в курсе событий.
— Да, я еще хочу извиниться перед ребятами, не знаю, что там вдруг на меня нашло, — решил заодно оправдаться Сергей.
— Да ладно тебе, не переживай! Твое «пламенное выступление» на банкете ничто по сравнению с тем, что случилось дальше.
— А что там еще могло произойти? Неужели еще кто-нибудь назюзюкался?
— Нет, хуже, намного хуже! После того, как мы с тобой уехали, нарисовался ухажер одной из девчонок. С ней наш клавишник мутил. Там такое началось! Короче, у бедного пианиста фингал во всю его музыкальную рожу! Вызвали милицию и всех, кто там был, забрали под белые рученьки.
— Вот это влипли, называется. А так все хорошо начиналось…
— Само собой, и протокол на всю компанию составили, — продолжил Славка. — В общем, нам с тобой крупно повезло, что мы уже уехали. И хотя всех наших потом отпустили (ну, когда разобрались), но директор завода ополчился почему-то именно на нас. Вызвал к себе Толика и давай песочить: мол, хулиганье мы, а не музыканты. И вообще, завод более не нуждается в наших услугах.
—И как же теперь репетиции?
— Да какие теперь репетиции… все, забудь! Инструменты отобрали. Толик пытался права качать: мол, к дебошу мы никакого отношения не имеем, а вечер провели на «отлично». Зачем же инструменты отбирать? А директор ему на это сказал, что еще неизвестно, какие песни мы там пели. В общем, один крендель, комсорг местный, напел ему, будто песня «Гет ноу сэтисфэкшен» — про секс.
— Ну, дурдом! — закачал головой Серега.
— Но реально, главный дебошир оказался сынком парторга завода. «Что там у тебя за ВИА такой, — орал парторг, — сплошной секс и антисоветчина!» Само собой, директору легче с нами распрощаться, чем портить отношение с нужными людьми. В общем, нас, музыкантов, посчитали источником зла и изгнали, как бесов.
— Значит, все было зря! Все старания… — Серега грустно вздохнул.
— Да не гони ты, Профессор! Толик уже в ресторан устроился играть. Там и бабки, и жратва. Не боись, мы с тобой тоже что-нибудь найдем.
* * *
Однажды утром в дверь позвонили. Серега еще спал — ведь каникулы, лето.
— Сережа, вставай, это к тебе пришли. Из Дворца культуры руководитель художественной самодеятельности, — сказала Сережина мама, заглянув в его комнату.
За ней вошел высокий здоровяк лет сорока. Он выглядел очень странно — несмотря на жару, на нем был костюм из плотного материала, галстук и еще шляпа. Взгляд у него был какой-то необычный, цепкий и пронизывающий. Он смотрел холодно и внимательно, прищурив один глаз, будто целился.
Серега уселся на кровати, растерянно мотая головой и сладко зевая. Рукой убрал волосы со лба. Вошедший хмыкнул и улыбнулся:
— Доброе утро, Сергей Сергеевич! Я очень тороплюсь, срочно уезжаю. Не могли бы вы меня проводить, и мы бы по пути с вами все обсудили.
Сережина мама хотела пригласить гостя позавтракать с ними или хотя бы попить чаю, но тот вежливо отказался:
— От души благодарю вас, Светлана Степановна, но никак не могу, надо срочно ехать, опаздываю уже. Хотел еще вчера зайти, да дела помешали. Так что все — бегом-бегом!
— Ой, а откуда вы меня знаете?
— Ну, должность обязывает, я в нашем Дворце… хм… культуры отдел кадров возглавляю… по совместительству.
Серега быстро умылся, и они вышли на улицу. В небольшом сквере по пути незнакомец предложил присесть на лавочку. Было раннее утро, и прохожих практически не было. Пристально глядя на Сергея, незнакомец произнес:
— Ну, что же вы, Сергей Сергеевич все молчите да молчите? Прямо, как нашкодивший школьник?
— Так я говорю, если вы по поводу «Лесной сказки»… — стал оправдываться Серега.
— Нет. Я, собственно, и не к тебе обращаюсь, а к твоему «гостю». К тому, кто в мозгах у тебя притаился и тихо сопит. Итак, Сергей Сергеевич, что скажете? А ведь мы вас предупреждали!
— Ну, виноват я, виноват, — проскрипел голос старшего Сереги, — но я же старался аккуратно… просто погостить денек-другой и все.
— Аккуратно? Да тут теперь зачищать за вами придется Бог знает сколько.
Серега отчетливо почувствовал ужас, охвативший старика. Стало понятно, что происходит что-то серьезное.
— А вы кто? — испуганно спросил он.
— Я… чистильщик! — ответил бугай и пристально посмотрел на Сергея, да так, что у того мурашки по коже побежали, а в животе стало жарко и тяжело.
— Вы нас теперь… убьете? — голос у Сереги задрожал.
— Ну, старшего-то чего убивать, он и так неживой. Там свои методы есть; а вот с тобой предстоит еще разобраться.
— Ну, не надо, парень-то не виноват, это я… — жалобно проскрипел Голос.
— Вот и надо было думать, вам же говорили! А вы, честное слово, повели себя, как ребенок. Поиграть захотелось! А сколько усилий пришлось сделать, чтобы этот чертов автобус наконец-то приехал, — незнакомец сделал паузу и кивнул головой, как будто прочитал где-то правильный ответ. — Так что, дорогие родственнички, давайте, прощайтесь, свиданье закончено.
— Пожалейте только парня, — запричитал Серега «старший».
— Летите, Сергей Сергеевич, с миром, что вы так волнуетесь. Сейчас, только в конторе «вилку» рассчитают, пришлют рекомендации, тогда и посмотрим, как вашу молодость скорректировать. А она тут рядышком сидит, от страха зубами постукивает и правильно, между прочим, делает. Вам-то что? Вы же теперь душа, поболите немного и забудете. Так душа и должна болеть, а вот у вашей молодости проблемы будут... только пока не знаю, какие.
— Серега, прости меня, дурака! Но все же славно время провели…
— Прощай, старый… Спасибо тебе за все! — сказал Серега своему «гостю», а затем обратился к незнакомцу:
— А его там не накажут? Он ведь добра мне хотел…
— Нет, там не наказывают, там воздают по делам. И не тебе он добра хотел, а себе. Вот тебе точно отвечать придется за «отклонение» …
Когда Сергей остался наедине с незнакомцем, то не на шутку испугался: ему стало вдруг холодно, и тело задрожало.
— Вы меня сейчас… за-за-чищать бу- будете?
— Ты чего заикаешься и зубами стучишь? Я не киллер какой-нибудь, я всего лишь обычный корректор.
— Я не сту-т-чу зуб-бами, — сказал Серега и еще сильнее застучал зубами. — А что ттте-теперь… со мной… будет?
— Да ничего страшного, автобус-то вовремя появился, хотя мне повозиться пришлось. Не переживай, можно сказать, все обошлось. Но кое-что придется поправить. Догадываешься, о чем я?
— Нет, только не это!
— Именно это, юноша! Все бесплатно приобретенные навыки заберу, впрок они не пойдут! Все в вашей жизни имеет цену. Я сейчас не про деньги, за них можно купить разве что документы, но никак не умение.
— Значит, я теперь опять… во дворе на лавочке?
— А ты учиться не пробовал? При определенном усердии это поможет достичь нужного результата, — с этими словами незнакомец встал и протянул Сергею руку. — Прощай, юноша! Не грусти. Ладно, некоторые навыки, полученные тобой незаконно от Сергея Сергеевича, у тебя пока останутся… но на очень короткое время. Так что ты поспеши!
— Спасибо! Я никому не скажу…
— Я знаю! — он смерил его своим пронзительным немигающим взглядом. — Да кому ты скажешь? В общем, живи … успехов тебе!
Корректор встал и неспешно пошел вдоль аллеи, постепенно уменьшаясь в размерах и растворяясь в воздухе.
* * *
День у Сергея прошел в глубоких раздумьях. Корректор же намекнул, что на короткое время способность играть останется. Правда, не сказал, на какое.
«Но если старикан умеет так играть, значит, и я этому научусь», — сделал вывод Сергей.
Ближе к вечеру возникло желание куда-то ехать. Душа металась, не находя покоя в его осиротевшей голове: «Поеду к Славику... Зачем? Пивка попить? Ерунда какая-то. Нет, не поеду, не хочу ни пива, ни разговоров бестолковых ни о чем!»
Но его неумолимо тянуло куда-то. Не отдавая себе отчета, он запрыгнул в переполненный автобус…
Был снова конец рабочего дня, люди устало толкались в раскаленном от жаркого дня транспорте. Втиснувшись в толпу пассажиров, Сергей подумал, что вот у них есть определенная цель терпеть эту духоту, в отличие от него. Но тут он снова увидел девушку в передней части салона. Да, именно ту самую, с которой он так стремился оказаться рядом.
«Ну уж нет, сегодня-то я буду более решительным»,— подумал он и устремился вперед.
Да куда там! Равнодушная пассажирская орда стояла насмерть, не внемля ни его мольбам, ни напористым действиям.
«Лучше через заднюю дверь выйду на ее остановке и догоню», — решил Сергей.
— Девушка…— крикнул он, выскочив из автобуса. Он понятия не имел, что ей сказать, вся надежда была на импровизацию.
— Знаю-знаю, вы хотите спросить, сколько сейчас времени. Очевидно, у вас часов нет, и во всем автобусе ни у кого не нашлось! Я заметила: вы всякий раз, как меня видите, всех расталкиваете и кидаетесь ко мне. Так вот, скажу я вам: ваше время выш…
— Да, что вы, девушка! Я счастливый человек и потому часов не наблюдаю. Так, кажется, Грибоедов сказал? Я просто хочу с вами познакомиться, — сказав это, Серега сам вдруг опешил: где это он так научился знакомиться и откуда так хорошо знает «Горе от ума»? В школе-то он не выявлял особенной склонности к литературе.
Для девушки это тоже оказалось весьма неожиданным. Этакий хиппи, еще и гитарист, наверно, и, надо же, школьный курс литературы помнит! А, может, не только школьный? Но она продолжала гнуть «свою линию»:
— А я на улице не знакомлюсь!
— И правильно делаете, это же верх легкомыслия! Давайте зайдем куда-нибудь, там и познакомимся. Я провожу вас.
— А ты на гитаре играешь? — с опаской спросила она.
— Да так, немного… как пацаны во дворе на лавочке. Вообще-то я в политехе учусь. А вы… ты чем занимаешься?
— А я в музыкальном училище по классу скрипки учусь. Ну, еще и вокалом занимаюсь. Да, кстати, меня Ирина зовут! — сказала она с улыбкой. Ее сразу покорило такое сочетание наглости и интеллекта. Она подумала, что у него в голове, наверно, есть нечто, что делает ее не только оранжереей для выращивания волос.
— А я — Сергей!
Он проводил ее до дома, и она, сама того не ожидая, пригласила его в гости. Дома у нее стояло пианино и еще, как ни странно, была гитара.
— О! Так ты и на гитаре играешь? Неожиданно! А мне показалось, что ты гитаристов недолюбливаешь, считаешь их тупыми лохматыми хулиганами.
— Ну, я так… для интереса пробовала. Сыграй что-нибудь, только не блатное и не громкое.
Серега взял гитару и начал играть. Он не знал даже, что играет, пальцы сами скользили по грифу гитары, помимо его воли.
Ира удивленно посмотрела на него:
— А я думала, ты мне сейчас три блатных аккорда будешь бренчать!
— А ты, значит, и на скрипке играешь, и на фортепьяно, еще и на гитаре? Это же здорово!
— Ну, это мама на фортепьяно играет. Я только немного, у нас ведь каждый студент должен еще и на втором инструменте играть. Такое правило. Давай что-нибудь вместе сыграем? Ты — на гитаре, я — на скрипке.
Они заиграли какую-то старинную английскую пьеску, кажется, «Зеленые рукава». Сергей подумал: «Откуда я все это знаю? Нет, надо срочно в музыкалку поступить, пока могу, пока разрешают пользоваться таким неожиданным подарком».
В этот момент Сергей почувствовал на себе внимательный взгляд, идущий откуда-то из самой глубины сознания. Он закрыл глаза и увидел, как на него уставились его недавний «гость» и корректор. Старик радостно махал ему рукой, а корректор сдержанно улыбался лишь уголком рта. Потом погрозил пальцем и подмигнул.
Турбаза пряталась где-то в сказочных дебрях нетронутых цивилизацией лесов. Там, где густые косматые шевелюры ветвистых деревьев, ниспадая до самой земли, украшали собой сказочные деревянные домики и аккуратные желтые дорожки. И достаточно было одного мимолетного взгляда на всю эту красоту, чтобы в голове возникло словосочетание «лесная сказка». А именно так и называлась турбаза.
Вечер плавно погружался в ночь, и лес постепенно приобретал колдовское обличие. Деревья, растущие вдоль извилистых тропинок, превращались в жутких монстров, поджидающих свою жертву. Словно далекие звезды, горели огни светлячков под аккомпанемент умиротворяющего стрекота лесных насекомых. А воздух был настолько теплым и густым, что казалось, ты не дышишь им, а пьешь его, как нектар.
Но ближе к танцплощадке воздух наполнялся сладким ароматом женских духов, что говорило о скором приближении праздника. И вот защелкали переключатели на сверкающих гитарах и усилителях, и верхний ярус этого сказочного лайнера наполнился волшебным звучанием и электрическим светом.
«Ах, как нежно плачет гитара, как сладко голос поет о любви», — думали девушки, бросая на музыкантов одобрительные взгляды. Все слухи о якобы распавшейся команде улетучились после первой же песни. А с каждой последующей девичьи сердца просто разрывались от счастья. Мощная волна кинетической энергии от танцующих тел передавалась обратно на сцену и вдохновляла музыкантов на новые подвиги.
— «Шизгару» давай, — закричали из публики. Это означало, что настала пора переходить от отечественной лирики к более жестким заморским формам эмоционального самовыражения.
— Даем «Шизгару», — объявил Толик, и Серега просто-таки взорвал толпу вступительными аккордами модной заморской песни.
Затем, чтобы не дать погаснуть разбушевавшейся энергии танцующих, Толик, повернувшись к музыкантам, предложил:
— Ну, давайте теперь наш фирменный номер — «Гет ноу сэтисфэкшн»!
От жесткого звучания заморского рока публика окончательно взбесилась. Одобрительный девичий визг чуть не заглушил звуки мощных усилителей.
Таким образом, к окончанию танцевального вечера наскоро сколоченная группа приобрела статус суперзвезд. И по такому случаю, когда в нужное время за музыкантами с их классной аппаратурой не приехал автобус, они были приглашены на уютный ночной банкет, устроенный компанией очаровательных девушек.
Дело шло к тому, что музыкантов могли и вовсе оставить ночевать в этом раю. Тут у Сереги от восторга разом заклокотали все чувствительные органы. Однако его «гостю» это почему-то совершенно не понравилось, и он вдруг взялся за нравственное воспитание законного владельца физического тела.
«Не пойму, ты мне папа что ли, морали тут читать будешь!» — мысленно возмутился Серега столь вероломному вмешательству в свою личную жизнь.
«Но ведь этого же не было! — причитал голос. — Неужели я успел где-то накосячить… что же делать, где этот чертов автобус?»
Как бы там ни было, девчонки уже затащили музыкантов в маленький домик с овальными окошками. Тут уже все было готово к приему дорогих гостей. И стол накрыт, и тихо играла ненавязчивая музыка в свете тускло мерцающих светильников.
Распоряжалась здесь всем девушка Таня. Ее папа был главным инженером предприятия, поэтому и домик у нее был самым сказочным из всей «Лесной сказки», а маленький раскладной столик просто-таки ломился от изобилия всевозможных недоступных простым смертным яств.
Совершенно неожиданно в этой сугубо девичьей компании нарисовался субъект сильной половины человечества. Он был то ли Таниным ухажером, то ли ее женихом. Это казалось странным, поскольку он выглядел намного старше. Но, возможно, с точки зрения ее папеньки, он и составлял подходящую партию для дочурки.
Важный, как писатель, с бородкой и в темных очках. Попыхивая курительной трубкой «а-ля Хемингуэй», он представился как Владлен Маркович. Причем сказано это было с таким акцентом, что осталось непонятным: Маркович — это фамилия или отчество. Впрочем, Таня его звала почему-то Вольдемаром.
После первого же тоста он завел умную беседу об искусстве и, в частности, о музыке. Низким внушительным голосом сквозь клубы табачного дыма он с напускной важностью произносил всякие умные слова типа: ритм энд блюз, джаз-бэнд, арт-рок и сэкс. Причем последнее слово он произносил чаще других и делал сильный акцент на букву «э». Слушалось это очень красиво, но иногда смущало, что он путает имена известных музыкантов и групп.
Девчонки с упоением слушали его умную лекцию, все крепче прижимаясь к парням. А парни, все больше от этого шалея, отвечали им взаимностью. У Сережи руки тоже были заняты: одна обнимала девушку Лену, другая крепко сжимала стаканчик, в который то и дело подливали горячительные напитки. Еще бы: его всем представили как Профессора Грея, и каждый считал своим долгом пополнить едва опустевший стакан виртуоза.
В это время Сережин «гость» отчаянно ругался в его голове: «Ой, дурак, ой, дурак! Ну, что ты творишь! Сейчас наворочаешь дел. Но ведь этого же не было!»
«Отвянь! — отрезал Сергей. — Оставь меня в покое!»
После очередного тоста Серега, изрядно захмелев, окончательно запутался, когда он говорит вслух для всех, а когда ругается про себя с уже надоевшим ему хриплоголосым «гостем».
Вольдемар, вальяжно развалившись на стуле, с видом искушенного ценителя гитарного искусства завел речь о гитаристах зарубежных групп:
— Да, Харрисон хорош, безусловно, хорош. Хотя сильно уступает Блэкмору в технике. А вот Кит Ричардс перед ними — просто дворовая мелкота…
В это же время старший Сергей нудным хриплым голосом и, что уже крайне возмутительно, с родительской интонацией стал высказывать младшему:
— Ты ведешь себя, как ребенок. Ну, куда ты одну за другой пьешь, сейчас тебя развезет… да уже развезло. Эх, мелкота ты дворовая!
Это его окончательно взбесило, и он дико заорал:
— Да сам ты мелкота дворовая! Достал меня уже своими лекциями! Голова от тебя скоро лопнет, больно умный! А сам-то кто? Забыл?
Вольдемар поперхнулся на полуслове, выронил трубку изо рта и удивленно уставился на него. Стеклышки в дорогой оправе моментально запотели и, казалось, сейчас лопнут от возмущения. А Лена испуганно вскрикнула, будто ее ужалила оса, и отпрянула от Сергея.
От такого неожиданного поворота в воздухе запахло электричеством, словно произошло короткое замыкание. Но в этот момент в дверь постучали:
— Эй, музыканты, за вами автобус приехал!
Но это уже ни в чьи планы не входило. Никому из музыкантов не хотелось бросать своих красавиц и грузить тяжелые колонки с усилителями в автобус. Тем более, покидать «Лесную сказку» в самый ответственный момент. Как всегда, всех выручил Славка:
— Девчонки, Вольдемар, простите. Профессор у нас замечательный малый, просто чуток перепил, вырвался первый раз на свободу. Короче, я с ним везу инструменты, а вы оставайтесь.
Никто возражать не стал, только облегченно вздохнули: такой вариант всех устраивал. А Серега все никак не мог успокоиться. И когда они со Славкой грузили инструменты в автобус, он возмущенно бубнил:
— Это все из-за тебя, гад! Сорвал мне такой вечер! Принесли тебя черти на мою голову! — он, конечно, обращался к своему незваному «гостю», просто слова сами собой вырывались от возмущения.
— Да ты что, Серый! Я-то в чем виноват? Мне что, за рукав тебя хватать надо было? Ты, видно, боялся, что не достанется. Так вот: не можешь пить, не пей.
— Да это я не тебе, Слав…
— А, понимаю, это все глюки. Белочки еще не скачут перед глазами?
Погрузка и последующая разгрузка инструментов окончательно привели в чувство Сергея. Они со Славкой распрощались и пошли по домам.
«Ну что, добился своего, престарелый блюститель нравственности? Теперь твоя душенька спокойна?» — после долгой паузы подумал Серега.
«Да ты так и не понял! Не в этом дело, главное, чтобы не натворить каких-то изменений в прошлом. Я так хотел, так мечтал вернуться в это время, ты не представляешь! Сыграть с тобой вместе убийственное соло, чтоб башню всем сорвало. Понимаешь, я это могу… то есть мог. А вот тогда, когда я был тобой, когда молодость… эх... А так хочется вернуть время, переиграть некоторые моменты своей жизни».
«Так чего тебе еще надо, все классно вышло. Причем тут девочки?»
«Да как ты не поймешь, нельзя так сильно менять прошлое. Я-то думал, поиграю и все, а тут вон как все повернулось. Ночь, банкет, девочки… не было этого. Я испугался, что произойдут… хм, значительные изменения».
«Ну, все же исправилось, автобус приехал, я с банкета слинял, и моя нравственность не пострадала».
«Еще неизвестно! Это я не про нравственность, — он хрипло хохотнул, — но кто знает, чем это все обернется…»
Оба очень устали от приключений и буквально провалились в глубокий сон.
* * *
Через пару дней Серега приехал к Славику на «разбор полетов».
— Ну, как там? Чем дело-то закончилось? Инструменты не отобрали? Можно дальше репетировать? — с надеждой спросил Серега, полагая, что Соловей уже в курсе событий.
— Да, я еще хочу извиниться перед ребятами, не знаю, что там вдруг на меня нашло, — решил заодно оправдаться Сергей.
— Да ладно тебе, не переживай! Твое «пламенное выступление» на банкете ничто по сравнению с тем, что случилось дальше.
— А что там еще могло произойти? Неужели еще кто-нибудь назюзюкался?
— Нет, хуже, намного хуже! После того, как мы с тобой уехали, нарисовался ухажер одной из девчонок. С ней наш клавишник мутил. Там такое началось! Короче, у бедного пианиста фингал во всю его музыкальную рожу! Вызвали милицию и всех, кто там был, забрали под белые рученьки.
— Вот это влипли, называется. А так все хорошо начиналось…
— Само собой, и протокол на всю компанию составили, — продолжил Славка. — В общем, нам с тобой крупно повезло, что мы уже уехали. И хотя всех наших потом отпустили (ну, когда разобрались), но директор завода ополчился почему-то именно на нас. Вызвал к себе Толика и давай песочить: мол, хулиганье мы, а не музыканты. И вообще, завод более не нуждается в наших услугах.
—И как же теперь репетиции?
— Да какие теперь репетиции… все, забудь! Инструменты отобрали. Толик пытался права качать: мол, к дебошу мы никакого отношения не имеем, а вечер провели на «отлично». Зачем же инструменты отбирать? А директор ему на это сказал, что еще неизвестно, какие песни мы там пели. В общем, один крендель, комсорг местный, напел ему, будто песня «Гет ноу сэтисфэкшен» — про секс.
— Ну, дурдом! — закачал головой Серега.
— Но реально, главный дебошир оказался сынком парторга завода. «Что там у тебя за ВИА такой, — орал парторг, — сплошной секс и антисоветчина!» Само собой, директору легче с нами распрощаться, чем портить отношение с нужными людьми. В общем, нас, музыкантов, посчитали источником зла и изгнали, как бесов.
— Значит, все было зря! Все старания… — Серега грустно вздохнул.
— Да не гони ты, Профессор! Толик уже в ресторан устроился играть. Там и бабки, и жратва. Не боись, мы с тобой тоже что-нибудь найдем.
* * *
Однажды утром в дверь позвонили. Серега еще спал — ведь каникулы, лето.
— Сережа, вставай, это к тебе пришли. Из Дворца культуры руководитель художественной самодеятельности, — сказала Сережина мама, заглянув в его комнату.
За ней вошел высокий здоровяк лет сорока. Он выглядел очень странно — несмотря на жару, на нем был костюм из плотного материала, галстук и еще шляпа. Взгляд у него был какой-то необычный, цепкий и пронизывающий. Он смотрел холодно и внимательно, прищурив один глаз, будто целился.
Серега уселся на кровати, растерянно мотая головой и сладко зевая. Рукой убрал волосы со лба. Вошедший хмыкнул и улыбнулся:
— Доброе утро, Сергей Сергеевич! Я очень тороплюсь, срочно уезжаю. Не могли бы вы меня проводить, и мы бы по пути с вами все обсудили.
Сережина мама хотела пригласить гостя позавтракать с ними или хотя бы попить чаю, но тот вежливо отказался:
— От души благодарю вас, Светлана Степановна, но никак не могу, надо срочно ехать, опаздываю уже. Хотел еще вчера зайти, да дела помешали. Так что все — бегом-бегом!
— Ой, а откуда вы меня знаете?
— Ну, должность обязывает, я в нашем Дворце… хм… культуры отдел кадров возглавляю… по совместительству.
Серега быстро умылся, и они вышли на улицу. В небольшом сквере по пути незнакомец предложил присесть на лавочку. Было раннее утро, и прохожих практически не было. Пристально глядя на Сергея, незнакомец произнес:
— Ну, что же вы, Сергей Сергеевич все молчите да молчите? Прямо, как нашкодивший школьник?
— Так я говорю, если вы по поводу «Лесной сказки»… — стал оправдываться Серега.
— Нет. Я, собственно, и не к тебе обращаюсь, а к твоему «гостю». К тому, кто в мозгах у тебя притаился и тихо сопит. Итак, Сергей Сергеевич, что скажете? А ведь мы вас предупреждали!
— Ну, виноват я, виноват, — проскрипел голос старшего Сереги, — но я же старался аккуратно… просто погостить денек-другой и все.
— Аккуратно? Да тут теперь зачищать за вами придется Бог знает сколько.
Серега отчетливо почувствовал ужас, охвативший старика. Стало понятно, что происходит что-то серьезное.
— А вы кто? — испуганно спросил он.
— Я… чистильщик! — ответил бугай и пристально посмотрел на Сергея, да так, что у того мурашки по коже побежали, а в животе стало жарко и тяжело.
— Вы нас теперь… убьете? — голос у Сереги задрожал.
— Ну, старшего-то чего убивать, он и так неживой. Там свои методы есть; а вот с тобой предстоит еще разобраться.
— Ну, не надо, парень-то не виноват, это я… — жалобно проскрипел Голос.
— Вот и надо было думать, вам же говорили! А вы, честное слово, повели себя, как ребенок. Поиграть захотелось! А сколько усилий пришлось сделать, чтобы этот чертов автобус наконец-то приехал, — незнакомец сделал паузу и кивнул головой, как будто прочитал где-то правильный ответ. — Так что, дорогие родственнички, давайте, прощайтесь, свиданье закончено.
— Пожалейте только парня, — запричитал Серега «старший».
— Летите, Сергей Сергеевич, с миром, что вы так волнуетесь. Сейчас, только в конторе «вилку» рассчитают, пришлют рекомендации, тогда и посмотрим, как вашу молодость скорректировать. А она тут рядышком сидит, от страха зубами постукивает и правильно, между прочим, делает. Вам-то что? Вы же теперь душа, поболите немного и забудете. Так душа и должна болеть, а вот у вашей молодости проблемы будут... только пока не знаю, какие.
— Серега, прости меня, дурака! Но все же славно время провели…
— Прощай, старый… Спасибо тебе за все! — сказал Серега своему «гостю», а затем обратился к незнакомцу:
— А его там не накажут? Он ведь добра мне хотел…
— Нет, там не наказывают, там воздают по делам. И не тебе он добра хотел, а себе. Вот тебе точно отвечать придется за «отклонение» …
Когда Сергей остался наедине с незнакомцем, то не на шутку испугался: ему стало вдруг холодно, и тело задрожало.
— Вы меня сейчас… за-за-чищать бу- будете?
— Ты чего заикаешься и зубами стучишь? Я не киллер какой-нибудь, я всего лишь обычный корректор.
— Я не сту-т-чу зуб-бами, — сказал Серега и еще сильнее застучал зубами. — А что ттте-теперь… со мной… будет?
— Да ничего страшного, автобус-то вовремя появился, хотя мне повозиться пришлось. Не переживай, можно сказать, все обошлось. Но кое-что придется поправить. Догадываешься, о чем я?
— Нет, только не это!
— Именно это, юноша! Все бесплатно приобретенные навыки заберу, впрок они не пойдут! Все в вашей жизни имеет цену. Я сейчас не про деньги, за них можно купить разве что документы, но никак не умение.
— Значит, я теперь опять… во дворе на лавочке?
— А ты учиться не пробовал? При определенном усердии это поможет достичь нужного результата, — с этими словами незнакомец встал и протянул Сергею руку. — Прощай, юноша! Не грусти. Ладно, некоторые навыки, полученные тобой незаконно от Сергея Сергеевича, у тебя пока останутся… но на очень короткое время. Так что ты поспеши!
— Спасибо! Я никому не скажу…
— Я знаю! — он смерил его своим пронзительным немигающим взглядом. — Да кому ты скажешь? В общем, живи … успехов тебе!
Корректор встал и неспешно пошел вдоль аллеи, постепенно уменьшаясь в размерах и растворяясь в воздухе.
* * *
День у Сергея прошел в глубоких раздумьях. Корректор же намекнул, что на короткое время способность играть останется. Правда, не сказал, на какое.
«Но если старикан умеет так играть, значит, и я этому научусь», — сделал вывод Сергей.
Ближе к вечеру возникло желание куда-то ехать. Душа металась, не находя покоя в его осиротевшей голове: «Поеду к Славику... Зачем? Пивка попить? Ерунда какая-то. Нет, не поеду, не хочу ни пива, ни разговоров бестолковых ни о чем!»
Но его неумолимо тянуло куда-то. Не отдавая себе отчета, он запрыгнул в переполненный автобус…
Был снова конец рабочего дня, люди устало толкались в раскаленном от жаркого дня транспорте. Втиснувшись в толпу пассажиров, Сергей подумал, что вот у них есть определенная цель терпеть эту духоту, в отличие от него. Но тут он снова увидел девушку в передней части салона. Да, именно ту самую, с которой он так стремился оказаться рядом.
«Ну уж нет, сегодня-то я буду более решительным»,— подумал он и устремился вперед.
Да куда там! Равнодушная пассажирская орда стояла насмерть, не внемля ни его мольбам, ни напористым действиям.
«Лучше через заднюю дверь выйду на ее остановке и догоню», — решил Сергей.
— Девушка…— крикнул он, выскочив из автобуса. Он понятия не имел, что ей сказать, вся надежда была на импровизацию.
— Знаю-знаю, вы хотите спросить, сколько сейчас времени. Очевидно, у вас часов нет, и во всем автобусе ни у кого не нашлось! Я заметила: вы всякий раз, как меня видите, всех расталкиваете и кидаетесь ко мне. Так вот, скажу я вам: ваше время выш…
— Да, что вы, девушка! Я счастливый человек и потому часов не наблюдаю. Так, кажется, Грибоедов сказал? Я просто хочу с вами познакомиться, — сказав это, Серега сам вдруг опешил: где это он так научился знакомиться и откуда так хорошо знает «Горе от ума»? В школе-то он не выявлял особенной склонности к литературе.
Для девушки это тоже оказалось весьма неожиданным. Этакий хиппи, еще и гитарист, наверно, и, надо же, школьный курс литературы помнит! А, может, не только школьный? Но она продолжала гнуть «свою линию»:
— А я на улице не знакомлюсь!
— И правильно делаете, это же верх легкомыслия! Давайте зайдем куда-нибудь, там и познакомимся. Я провожу вас.
— А ты на гитаре играешь? — с опаской спросила она.
— Да так, немного… как пацаны во дворе на лавочке. Вообще-то я в политехе учусь. А вы… ты чем занимаешься?
— А я в музыкальном училище по классу скрипки учусь. Ну, еще и вокалом занимаюсь. Да, кстати, меня Ирина зовут! — сказала она с улыбкой. Ее сразу покорило такое сочетание наглости и интеллекта. Она подумала, что у него в голове, наверно, есть нечто, что делает ее не только оранжереей для выращивания волос.
— А я — Сергей!
Он проводил ее до дома, и она, сама того не ожидая, пригласила его в гости. Дома у нее стояло пианино и еще, как ни странно, была гитара.
— О! Так ты и на гитаре играешь? Неожиданно! А мне показалось, что ты гитаристов недолюбливаешь, считаешь их тупыми лохматыми хулиганами.
— Ну, я так… для интереса пробовала. Сыграй что-нибудь, только не блатное и не громкое.
Серега взял гитару и начал играть. Он не знал даже, что играет, пальцы сами скользили по грифу гитары, помимо его воли.
Ира удивленно посмотрела на него:
— А я думала, ты мне сейчас три блатных аккорда будешь бренчать!
— А ты, значит, и на скрипке играешь, и на фортепьяно, еще и на гитаре? Это же здорово!
— Ну, это мама на фортепьяно играет. Я только немного, у нас ведь каждый студент должен еще и на втором инструменте играть. Такое правило. Давай что-нибудь вместе сыграем? Ты — на гитаре, я — на скрипке.
Они заиграли какую-то старинную английскую пьеску, кажется, «Зеленые рукава». Сергей подумал: «Откуда я все это знаю? Нет, надо срочно в музыкалку поступить, пока могу, пока разрешают пользоваться таким неожиданным подарком».
В этот момент Сергей почувствовал на себе внимательный взгляд, идущий откуда-то из самой глубины сознания. Он закрыл глаза и увидел, как на него уставились его недавний «гость» и корректор. Старик радостно махал ему рукой, а корректор сдержанно улыбался лишь уголком рта. Потом погрозил пальцем и подмигнул.
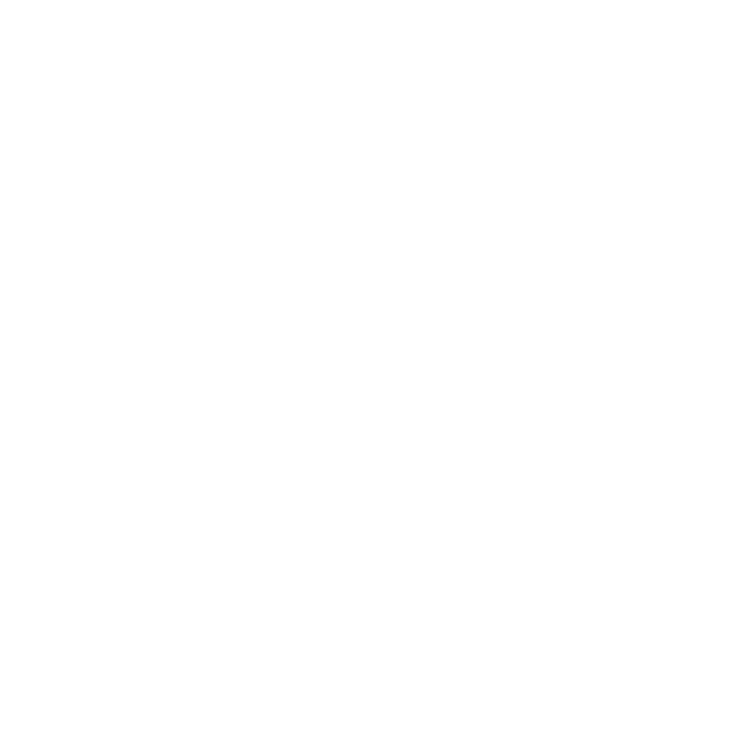
Валерия СИЯНОВА
Родилась в Еврейской автономной области, городе Биробиджан. Появилась на свет в 2003 году. Любовь к литературе окрепла в 2016 году, и с тех пор началось писательство «в стол», исключительно для своих блокнотов и дневников с желанием, чтоб никто и никогда ничего не увидел и не прочитал. Поделиться своими мыслями решила в 2024 году. В 2024 году в журнале «Художественное слово» (в ближайшее время) выйдет выпуск №42, в нём будет опубликовано первое произведение Валерии из раннего творчества под названием «Начало пути».
Родилась в Еврейской автономной области, городе Биробиджан. Появилась на свет в 2003 году. Любовь к литературе окрепла в 2016 году, и с тех пор началось писательство «в стол», исключительно для своих блокнотов и дневников с желанием, чтоб никто и никогда ничего не увидел и не прочитал. Поделиться своими мыслями решила в 2024 году. В 2024 году в журнале «Художественное слово» (в ближайшее время) выйдет выпуск №42, в нём будет опубликовано первое произведение Валерии из раннего творчества под названием «Начало пути».
ПОКОЙНАЯ ПРИСТАНЬ
Прядь нитей тонких-тонких однажды за дело своё принялась, сплетая воедино мастерство ручное. Крутит и наматывает она шёлковую ткань, и параллельно на машинке швейной вырисовывается узор, мудрёный и поначалу плохо различимый, состоящий из рисунков мелких, в которые для пониманья необходимо всматриваться пристально и долго-долго.
– Что ты выдумала на этот раз? – Антонина Соловьёва не могла разобрать изображение своей сестры Марты.
– Как что? Взгляни ещё раз. Да-да, гляди до тех пор, пока не поймёшь.
– А если я никогда не пойму? Не буду же я всю жизнь стоять на месте и вглядываться в атлас, – возмущённо сказала Антонина, девушка девятнадцати лет, не привыкшая делать что-либо своими руками.
– Марта, я сдаюсь! Сама мне расскажи, что изобразить хотела ты.
Первенец-сестра оторвалась от швейных принадлежностей, собираясь разложить их по своим местам, всё по полочкам, после того, как закончила работу. И только после этого обратила свой взор на Антонину, с которой они были различны, как огонь и вода. Марта в какой уж раз убедилась в необходимости привыкнуть к Тоне и её нежеланию разбираться в чём-либо самостоятельно. Пора бы привыкнуть, да… Однако тяжело это, ведь приходится объяснять всё-всё до мельчайших деталей, что Марта была вынуждена делать, несмотря на любовь к молчанию.
– Я не хотела тебе раскрывать тот смысл, который сама вижу в узоре. Каждый увидит в нём что-то своё. На то и создано искусство, чтоб мы могли задуматься и понять, что же открылось нам самим. Поэтому не желаю тебе рассказывать всё. Попробуй сама увидеть смысл. Не всегда же я буду рядом, чтобы всё объяснять. Пора и самой научиться, – Марта выговорила всё на выдохе, стремясь сделать это молниеносно, чтоб вновь вернуться к излюбленному молчанию.
Женщины рода Соловьёвых – творческие натуры, каждая из которых тяготела к определённой разновидности творчества. Ольга Соловьёва, матушка Марты и Тони, с детства увлекалась музыкой и мечтала стать профессиональной пианисткой и певицей, возрождающей дух победный, и заниматься в жизни лишь музыкой, дыша и живя только ею. Но жизнь часто поворачивается не так, как мы планируем. И тогда возникает внутренний диссонанс – ведь понимаешь, как планировал и как хотел, о чём мечтал и к чему стремился, но видишь реальность и осознаёшь, что на деле если не всё, то многое произошло вовсе не по заранее спроектированному сюжету. И как же дальше жить, если вдруг возникла неудовлетворённость действительностью, в которой проживаешь дни свои? Ольга не стала профессионально жить музыкой, как грезила однажды, но надеялась на то, что её дети сумеют воплотить в реальность свои мечтания, придающие смысл и окрыляющие существование.
Тоня, смотря на свою сестру Марту, вспомнила слова их матушки: «Никого не слушайте, девочки мои, и лишь вперёд шагайте! Куда идём мы с Пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нём! О нет, о нет, о нет!»
И отчего-то вновь подошло вплотную к Антонине уныние, как и бывало с ней часто, когда приходилось ей со своей сестрой рассуждать, поскольку продолжительное общение с Мартой в той или иной степени вновь возвращало к тем мыслям, которые Тоня гнала от себя.
– Ты-то нашла свой большой-большой секрет! Вот и говоришь так смело! Сама ищи свой смысл и вглядывайся в эту тряпку! Там никакого смысла нет! Выдумала же! Смысл… да его никогда там не было, нет и не будет, – Тоня взбесилась и импульсивно решила покинуть Марту, громко хлопнув дверью, убегая в порыве агрессии.
Марта молчала и лишь смотрела на теперь закрытую дверь, отделяющую её от всего мира. Ей не хотелось ничего говорить и как-либо отвечать своей сестре. Марта была спокойна. Но там, где есть место спокойствию, всегда найдётся место и усталости, и медленно разгорающемуся пламени, время которого ещё придёт.
Далеко не в первый раз происходит такое: Антонина пытается то вывести свою сестру из равновесия, то её понять, то раскритиковать, то проигнорировать. Марта устала от этих выматывающих качелей: больше не хотелось разбираться ни в чьём внутреннем мире. Ей казалось, что она иссякла, и силы покинули её, и атрофировалась способность обмениваться и парой фраз. Иногда настаёт пора отчуждения от всего и всех, и вот именно тогда и начинается траектория спадов и подъёмов, когда хочется поначалу молчать, как партизан, и хранить молчание до гроба. Но язык всё же в какой-то миг развязывается, и начинается выброс накопившихся мыслей, среди которых далеко не все так радужны и чудесны, увы.
– Сколько ещё осталось времени терпеть её выходки? – Марта удивилась своему ровному голосу. – Наверное, это и есть старость: отсутствие желания что-либо доказывать кому-то и бежать куда-то, словно ты вынужден гепардом быть. Это спокойное принятие происходящего и стремление к пребыванию в умиротворённом состоянии…
Марта изогнула свои брови и поджала губы.
– В двадцать семь лет начать чувствовать себя старой… Не ожидала такого от себя. Но да, выходит, всё же старость всегда с нами рядом. Даже в пять лет. Ведь и переход от пятилетнего возраста к шестилетнему – тоже старость, постепенное изменение и пеший ход туда, где окажутся те, кому суждено долго жить.
Марта встала со своего кресла и направилась к широкому зеркалу в дубовой оправе, медленно подходя к самой себе. Издалека она видела ещё симпатичную молодую женщину, но улыбаться себе ей не хотелось. И, подходя к отражению ближе, на расстояние вытянутой руки, она не узнала себя.
– Неужели это я? – Марта ухмыльнулась. – Вот что делает с тобой работа.
Она дотронулась рукой до зеркала и стала очерчивать пальцами контур своего лица, делая акцент на глазах.
– Здесь россыпь жизненных полос начинает проявляться, раньше вовсе этого не замечала. У людей очень чётко на ладонях очерчены линии судьбы, и постепенно они словно дублируются на человеческом лице. Конечно, ещё не так чётко их видно, всё-таки пока мне двадцать семь лет, но через некоторое время станут они ещё заметнее и глубже.
Марта отвернулась от своего отражения и осмотрела своё рабочее пространство, на которое уже давно не обращала должного внимания: повсюду был разгром и хаос, и она сморщилась, словно только сейчас заметила те условия, в которых находилась. Внезапно захотелось ей сбежать, чтоб след её простыл. А пока будет в бегах, желала, чтоб блестели пятки, унося куда-то, где не была ещё она.
Соловьёва вышла из кабинета с мыслями о том, что больше не хочет возвращаться туда. И было ей в настоящую новинку такое поведение, ведь раньше тихо делала свою работу, ни на что не отвлекаясь и стараясь думать только об одном, полноценно погружаясь в конкретную деятельность. Но Тоня говорила ей, что уже только одним стремлением быть сосредоточенной исключительно на моментах рабочих и своим нежеланием выделяться ей удавалось выделяться даже с ещё большей скоростью и видимостью, чем той хотелось.
Марта вновь мысленно обратилась к выражению лица своей сестры, выражающего полнейшее пренебрежение творчеством Марты. Но лишь в нём видела она жизнь свою – в создании узоров жизненной фортуны, раскрывающих то, что никому ничего не навязывает, а предлагает самостоятельный путь к осмыслению чего-то и – именно своего. Поэтому Марта любила абстракцию и фигуры без чёткой симметрии и точных правил построения. Ей нравилось отойти от всех привычных рамок и попробовать что-то своё, что, возможно, уже когда-то было, но повторить дважды одно и то же невозможно. В любом случае родится что-то новое и неповторимое, и верила Марта, что и в её жизни так же создаст оригинальное напоминание кому-то о том, что важно конкретно для него. А чтобы понять, что нужно именно тебе, важно как раз таки отказаться от той лапши, которую пытались на уши вешать. Чтобы понять, а что же не макаронным изделием является, а правдой-правдой?
И помочь приблизиться к истине она пыталась тем способом, который был ей доступен и известен – вышивание и шитьё, общение с людьми посредством ткани, не способной открыто говорить и песни петь, но обман её не коснётся. Она такая, какая есть. И хоть каждое волокно по-своему прочно, ткань всё же хрупка, и её с легкостью можно повредить. Но эта драгоценность скрывает и молчит о правдивости, сквозь узор которой можно то скрытое вывести наружу: ткань станет живой и расскажет о чём-то, о чём и вовсе могли не думать мы.
– С течением времени стареет и изнашивается любая материя, – Марта подобрала валяющийся лоскуток, который, по-видимому, швырнула Тоня, пока в порыве злости выбегала из кабинета. – Однажды по швам разойдётся и ткань, как ни сшивай её и ни склеивай. У всего есть своё начало и конец.
После произнесённых слов Марта вновь притихла.
Пребывая за работой и поглощением в её процесс, который притормаживался лишь на малое количество времени и то лишь для того, чтоб не дать своему организму раньше положенного времени отойти на вечный покой от переутомления, не было времени подумать о том, что жизнь постепенно уплывает. Куда-то… куда же?.. Возможно, в синее-синее море, бушующее по вечерам, а стихающее по утрам.
Марте не хотелось бежать и что-либо сейчас на ходу менять внезапно. Наоборот, проводя пальцами по ткани и осязая каждую ниточку, ей хотелось остановить сейчас время и продолжить спокойно и, никуда не торопясь, поглаживать бордовый узор осеннего клёна, листья которого нравилось собирать и составлять из них гербарий.
– А ведь и я – тоже гербарий, – Марта тихо улыбнулась, а за улыбкой последовал смешок. – Да, я – гербарий, засыхающий листок.
Почему-то Марте стало легче, как будто что-то тяжелое спустилось в бездну, в самый низ, который не увидеть. В жизни женщины настаёт момент, когда пора признаться в неизбежном факте – молодость не вечна, и уходит потихонечку она.
Марта любила с собой в сумке носить фотоальбом, в который поместила только три фотографии: совместный портрет со своей сестрой Тоней, изображение улыбающихся батюшки и матушки и фотографию почившего супруга. Марта закрывала свои глаза и наугад тасовала портреты, чтоб было для неё сюрпризом, какую ж фотографию вытянет она. Соловьёва открыла глаза, и взгляд, пребывая в неволе, был прикован к улыбке её матушки.
Марта давно не вытягивала изображение радующихся тех двоих, благодаря которым оказалась она вовлечённой в активный и непрерывный процесс жизни. Портрет родителей попался ей на глаза впервые за последние два года. И сейчас она смотрела на искрящиеся добротой лица непривычно, успевши, к её сожалению, позабыть отчётливость тех черт родных. При взгляде на этот портрет в глаза бросались выражения лиц – они были простыми и незатейливыми, бесхитростными и добродушными, передающими радость, которая усиливалась благодаря глубоким морщинкам, которые было невозможно не заметить, но именно сквозь них пробирался свет, влекущий к созерцанию лика.
– Интересно, у меня будут такие же морщины? Или они будут другими? – Марта задумалась. – Лицо – это карта судьбы: на ней виден пройденный путь, отражающий суть человека, своего рода её отражение. Но нужно ждать. Лишь время покажет настоящее лицо. Вот они, батюшка и матушка, были настоящими людьми: не щадили себя ради тех, кого любят, жертвуя самым дорогим – мечтой. Матушка не стала певицей, ведь появились мы с сестрой. Какая уж эстрада для женщины замужней? Видимо, нужно что-то выбирать одно, что станет центром жизни. И она выбрала семью, отказавшись от своей мечты.
– Будет ли моё лицо добродушным? Или же будет злым оно? Страшно об этом думать…
Не хотелось Марте допускать мысль о том, что карта её судьбы сможет открыть её с тёмной стороны. Но было понимание того, что, как бы там ни было, а время всё равно то самое придёт, когда все маски с людей спадут, и с неё в том числе, и истинная суть станет видна и ей, и всем другим людям. И как же хотелось надеяться на то, что суть эта не окажется злодейской…
– Наверное, всё же моё лицо будет не таким светлым, – Марта тяжело вздохнула.
От прежних мыслей её отвлёк внезапный шум, напомнивший далёкий звук стремительного движения поездов. Внезапно к Марте со спины подошла Тоня и начала щекотать свою сестру.
– А! Что ты делаешь? – Марта вся изменилась в лице, и задумчивая грусть уступила место испугу вперемешку с тревогой.
– Как что? Знаешь, я подумала и поняла, что погорячилась. Не должна была швырять твою работу и так себя вести,– начала Тоня, потупив взгляд и опечалив свой лик. – У меня ведь больше никого не осталось, Март, только ты. Извини, ты же меня знаешь…
– Всё в порядке.
– Меня осенило: давай оставим всё и уплывём навсегда далеко-далеко, где никто не найдёт.
Марта опешила, услышав такое предложение от своей сестры. Разве такое возможно – распрощаться со своим прошлым, со всем тем, что делает тебя тобой, оставить тех, кого ты любил, даже если они отныне не с нами на земле, а где-то в другом месте? Может быть, их и нет на Земле, но они, возможно, в Небесном Иерусалиме пребывают и оттуда взирают на нас, желая и нам достойно путь земной пройти.
– Нет, Тонь. Я не могу вот так бросить всё и отправиться в неизвестность.
– В смысле – не можешь? А что тебе тут делать? Что ещё за странности? Я уже купила билеты, и мы спокойно можем уплыть сегодня же.
Марта равнодушно и стеклянно смотрела на свою сестру, не выражая ровным счётом никаких эмоций. Она глядела на Антонину, как на человека, которого видит впервые в своей жизни.
– Я не уплыву. Если хочешь сбежать от себя – сбегай, но это всё равно не поможет, – Марте стало стыдно за свою сестру, но Тоню лишь развеселили слова Марты.
– Я-то уплыву: отплытие будет сегодня в пять часов вечера. А вот ты что делать будешь? Наивна! Жаль мне оставлять тебя. Собирай вещи, вместе со мной уедешь!
– Отправляйся без меня, я останусь здесь, – упорно продолжала гнуть свою линию Марта.
– Пожалеешь ведь потом. Конечно, пожалеешь! Ты ещё молода, а уже в гроб себя вогнала. И собираешься жить в тине болотной в окружении всего, что о прошлом напоминает. А жить надо днём сегодняшним! – взбудоражено стояла на своём Тоня.
Марта недоумённо смотрела на свою сестру, понимая, что в её словах есть тот смысл, который она пыталась выкроить на ткани в виде разнообразных узоров, возникающих, будто сами, без её личного участия, хотя вышивала-то именно она, словно узоры выходили через неё – она была не творцом, а орудием свыше. И Марта чувствовала себя связанной прядями, которые невооружённым взглядом не узреть, и они не давали той свободы, которая чувствовалась в Тоне.
– Пойдём, я провожу тебя. Но сама останусь здесь. Пожалуйста, не пытайся меня переубедить. В другом месте я буду чувствовать себя лишь хуже. Мне безопаснее в привычном и родном.
Тоня поражённо смотрела на свою сестру, понимая, что та сделала из себя ходячий труп, собирающийся жить в мавзолее.
– Марта, я не могу поверить, что ты правда собираешься остаться и вконец загубить себе жизнь, не дав себе возможность начать всё с чистого листа.
– Разве возможен, как ты говоришь, «чистый лист», если есть история, часть которой уже пройдена? То, что было, не выбросишь, оно будет всегда неподалёку и напомнит о себе.
Антонина смотрела на сестру и осознавала, что, действительно, не стоит её убеждать поехать с ней. Не хочет – как хочет.
– Я всё равно буду тебя ждать, Март. Надеюсь, что однажды ты передумаешь и всё же приедешь, – Тоня посмотрела на свою сестру с надеждой.
Двадцатисемилетняя Марта взирала на свою девятнадцатилетнюю сестру и читала про себя молитву, желая, чтоб у её сестры жизнь сложилась счастливо. Так, как в детстве их благословляла мама, мечтая, чтоб, если не у неё самой, так у детей воплотились мечты в реальность. Марта улыбнулась Тоне, которая непонимающе глядела на сестру, и внезапно её лицо озарилось благодаря промелькнувшей в её сознании благой вести о том, что всё же не одна она: есть у неё сестра, и вот её семья – она, Тоня.
– Я знаю, Тонь, что делать буду, – улыбнулась Марта. – Я буду желать тебе устроиться в жизни благословенно. В том и есть счастье моё – верить в счастье твоё и продолжать создавать полюбившиеся мне узоры.
Тоня усмехнулась, словно ахинею безумца услышала, но позже усмешка сменилась принятием и очередным напоминанием ей о том, что сестру не изменить. Она такая, какая есть. И, похоже, действительно говорит всерьёз и останется в этой тине, из которой будет пробиваться лучом.
– Ты неизменна, Марта. Всё на одном и том же стоишь. Но всё же есть у этого своё достоинство: у меня есть ты – моя пристань, к которой смогу вновь приплыть однажды.
Марта улыбнулась и смутилась, когда Тоня подошла ближе и обняла сестру, понимая, что совсем скоро она уплывёт, и они ещё не скоро смогут увидеться вновь.
Прядь нитей тонких-тонких однажды за дело своё принялась, сплетая воедино мастерство ручное. Крутит и наматывает она шёлковую ткань, и параллельно на машинке швейной вырисовывается узор, мудрёный и поначалу плохо различимый, состоящий из рисунков мелких, в которые для пониманья необходимо всматриваться пристально и долго-долго.
– Что ты выдумала на этот раз? – Антонина Соловьёва не могла разобрать изображение своей сестры Марты.
– Как что? Взгляни ещё раз. Да-да, гляди до тех пор, пока не поймёшь.
– А если я никогда не пойму? Не буду же я всю жизнь стоять на месте и вглядываться в атлас, – возмущённо сказала Антонина, девушка девятнадцати лет, не привыкшая делать что-либо своими руками.
– Марта, я сдаюсь! Сама мне расскажи, что изобразить хотела ты.
Первенец-сестра оторвалась от швейных принадлежностей, собираясь разложить их по своим местам, всё по полочкам, после того, как закончила работу. И только после этого обратила свой взор на Антонину, с которой они были различны, как огонь и вода. Марта в какой уж раз убедилась в необходимости привыкнуть к Тоне и её нежеланию разбираться в чём-либо самостоятельно. Пора бы привыкнуть, да… Однако тяжело это, ведь приходится объяснять всё-всё до мельчайших деталей, что Марта была вынуждена делать, несмотря на любовь к молчанию.
– Я не хотела тебе раскрывать тот смысл, который сама вижу в узоре. Каждый увидит в нём что-то своё. На то и создано искусство, чтоб мы могли задуматься и понять, что же открылось нам самим. Поэтому не желаю тебе рассказывать всё. Попробуй сама увидеть смысл. Не всегда же я буду рядом, чтобы всё объяснять. Пора и самой научиться, – Марта выговорила всё на выдохе, стремясь сделать это молниеносно, чтоб вновь вернуться к излюбленному молчанию.
Женщины рода Соловьёвых – творческие натуры, каждая из которых тяготела к определённой разновидности творчества. Ольга Соловьёва, матушка Марты и Тони, с детства увлекалась музыкой и мечтала стать профессиональной пианисткой и певицей, возрождающей дух победный, и заниматься в жизни лишь музыкой, дыша и живя только ею. Но жизнь часто поворачивается не так, как мы планируем. И тогда возникает внутренний диссонанс – ведь понимаешь, как планировал и как хотел, о чём мечтал и к чему стремился, но видишь реальность и осознаёшь, что на деле если не всё, то многое произошло вовсе не по заранее спроектированному сюжету. И как же дальше жить, если вдруг возникла неудовлетворённость действительностью, в которой проживаешь дни свои? Ольга не стала профессионально жить музыкой, как грезила однажды, но надеялась на то, что её дети сумеют воплотить в реальность свои мечтания, придающие смысл и окрыляющие существование.
Тоня, смотря на свою сестру Марту, вспомнила слова их матушки: «Никого не слушайте, девочки мои, и лишь вперёд шагайте! Куда идём мы с Пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нём! О нет, о нет, о нет!»
И отчего-то вновь подошло вплотную к Антонине уныние, как и бывало с ней часто, когда приходилось ей со своей сестрой рассуждать, поскольку продолжительное общение с Мартой в той или иной степени вновь возвращало к тем мыслям, которые Тоня гнала от себя.
– Ты-то нашла свой большой-большой секрет! Вот и говоришь так смело! Сама ищи свой смысл и вглядывайся в эту тряпку! Там никакого смысла нет! Выдумала же! Смысл… да его никогда там не было, нет и не будет, – Тоня взбесилась и импульсивно решила покинуть Марту, громко хлопнув дверью, убегая в порыве агрессии.
Марта молчала и лишь смотрела на теперь закрытую дверь, отделяющую её от всего мира. Ей не хотелось ничего говорить и как-либо отвечать своей сестре. Марта была спокойна. Но там, где есть место спокойствию, всегда найдётся место и усталости, и медленно разгорающемуся пламени, время которого ещё придёт.
Далеко не в первый раз происходит такое: Антонина пытается то вывести свою сестру из равновесия, то её понять, то раскритиковать, то проигнорировать. Марта устала от этих выматывающих качелей: больше не хотелось разбираться ни в чьём внутреннем мире. Ей казалось, что она иссякла, и силы покинули её, и атрофировалась способность обмениваться и парой фраз. Иногда настаёт пора отчуждения от всего и всех, и вот именно тогда и начинается траектория спадов и подъёмов, когда хочется поначалу молчать, как партизан, и хранить молчание до гроба. Но язык всё же в какой-то миг развязывается, и начинается выброс накопившихся мыслей, среди которых далеко не все так радужны и чудесны, увы.
– Сколько ещё осталось времени терпеть её выходки? – Марта удивилась своему ровному голосу. – Наверное, это и есть старость: отсутствие желания что-либо доказывать кому-то и бежать куда-то, словно ты вынужден гепардом быть. Это спокойное принятие происходящего и стремление к пребыванию в умиротворённом состоянии…
Марта изогнула свои брови и поджала губы.
– В двадцать семь лет начать чувствовать себя старой… Не ожидала такого от себя. Но да, выходит, всё же старость всегда с нами рядом. Даже в пять лет. Ведь и переход от пятилетнего возраста к шестилетнему – тоже старость, постепенное изменение и пеший ход туда, где окажутся те, кому суждено долго жить.
Марта встала со своего кресла и направилась к широкому зеркалу в дубовой оправе, медленно подходя к самой себе. Издалека она видела ещё симпатичную молодую женщину, но улыбаться себе ей не хотелось. И, подходя к отражению ближе, на расстояние вытянутой руки, она не узнала себя.
– Неужели это я? – Марта ухмыльнулась. – Вот что делает с тобой работа.
Она дотронулась рукой до зеркала и стала очерчивать пальцами контур своего лица, делая акцент на глазах.
– Здесь россыпь жизненных полос начинает проявляться, раньше вовсе этого не замечала. У людей очень чётко на ладонях очерчены линии судьбы, и постепенно они словно дублируются на человеческом лице. Конечно, ещё не так чётко их видно, всё-таки пока мне двадцать семь лет, но через некоторое время станут они ещё заметнее и глубже.
Марта отвернулась от своего отражения и осмотрела своё рабочее пространство, на которое уже давно не обращала должного внимания: повсюду был разгром и хаос, и она сморщилась, словно только сейчас заметила те условия, в которых находилась. Внезапно захотелось ей сбежать, чтоб след её простыл. А пока будет в бегах, желала, чтоб блестели пятки, унося куда-то, где не была ещё она.
Соловьёва вышла из кабинета с мыслями о том, что больше не хочет возвращаться туда. И было ей в настоящую новинку такое поведение, ведь раньше тихо делала свою работу, ни на что не отвлекаясь и стараясь думать только об одном, полноценно погружаясь в конкретную деятельность. Но Тоня говорила ей, что уже только одним стремлением быть сосредоточенной исключительно на моментах рабочих и своим нежеланием выделяться ей удавалось выделяться даже с ещё большей скоростью и видимостью, чем той хотелось.
Марта вновь мысленно обратилась к выражению лица своей сестры, выражающего полнейшее пренебрежение творчеством Марты. Но лишь в нём видела она жизнь свою – в создании узоров жизненной фортуны, раскрывающих то, что никому ничего не навязывает, а предлагает самостоятельный путь к осмыслению чего-то и – именно своего. Поэтому Марта любила абстракцию и фигуры без чёткой симметрии и точных правил построения. Ей нравилось отойти от всех привычных рамок и попробовать что-то своё, что, возможно, уже когда-то было, но повторить дважды одно и то же невозможно. В любом случае родится что-то новое и неповторимое, и верила Марта, что и в её жизни так же создаст оригинальное напоминание кому-то о том, что важно конкретно для него. А чтобы понять, что нужно именно тебе, важно как раз таки отказаться от той лапши, которую пытались на уши вешать. Чтобы понять, а что же не макаронным изделием является, а правдой-правдой?
И помочь приблизиться к истине она пыталась тем способом, который был ей доступен и известен – вышивание и шитьё, общение с людьми посредством ткани, не способной открыто говорить и песни петь, но обман её не коснётся. Она такая, какая есть. И хоть каждое волокно по-своему прочно, ткань всё же хрупка, и её с легкостью можно повредить. Но эта драгоценность скрывает и молчит о правдивости, сквозь узор которой можно то скрытое вывести наружу: ткань станет живой и расскажет о чём-то, о чём и вовсе могли не думать мы.
– С течением времени стареет и изнашивается любая материя, – Марта подобрала валяющийся лоскуток, который, по-видимому, швырнула Тоня, пока в порыве злости выбегала из кабинета. – Однажды по швам разойдётся и ткань, как ни сшивай её и ни склеивай. У всего есть своё начало и конец.
После произнесённых слов Марта вновь притихла.
Пребывая за работой и поглощением в её процесс, который притормаживался лишь на малое количество времени и то лишь для того, чтоб не дать своему организму раньше положенного времени отойти на вечный покой от переутомления, не было времени подумать о том, что жизнь постепенно уплывает. Куда-то… куда же?.. Возможно, в синее-синее море, бушующее по вечерам, а стихающее по утрам.
Марте не хотелось бежать и что-либо сейчас на ходу менять внезапно. Наоборот, проводя пальцами по ткани и осязая каждую ниточку, ей хотелось остановить сейчас время и продолжить спокойно и, никуда не торопясь, поглаживать бордовый узор осеннего клёна, листья которого нравилось собирать и составлять из них гербарий.
– А ведь и я – тоже гербарий, – Марта тихо улыбнулась, а за улыбкой последовал смешок. – Да, я – гербарий, засыхающий листок.
Почему-то Марте стало легче, как будто что-то тяжелое спустилось в бездну, в самый низ, который не увидеть. В жизни женщины настаёт момент, когда пора признаться в неизбежном факте – молодость не вечна, и уходит потихонечку она.
Марта любила с собой в сумке носить фотоальбом, в который поместила только три фотографии: совместный портрет со своей сестрой Тоней, изображение улыбающихся батюшки и матушки и фотографию почившего супруга. Марта закрывала свои глаза и наугад тасовала портреты, чтоб было для неё сюрпризом, какую ж фотографию вытянет она. Соловьёва открыла глаза, и взгляд, пребывая в неволе, был прикован к улыбке её матушки.
Марта давно не вытягивала изображение радующихся тех двоих, благодаря которым оказалась она вовлечённой в активный и непрерывный процесс жизни. Портрет родителей попался ей на глаза впервые за последние два года. И сейчас она смотрела на искрящиеся добротой лица непривычно, успевши, к её сожалению, позабыть отчётливость тех черт родных. При взгляде на этот портрет в глаза бросались выражения лиц – они были простыми и незатейливыми, бесхитростными и добродушными, передающими радость, которая усиливалась благодаря глубоким морщинкам, которые было невозможно не заметить, но именно сквозь них пробирался свет, влекущий к созерцанию лика.
– Интересно, у меня будут такие же морщины? Или они будут другими? – Марта задумалась. – Лицо – это карта судьбы: на ней виден пройденный путь, отражающий суть человека, своего рода её отражение. Но нужно ждать. Лишь время покажет настоящее лицо. Вот они, батюшка и матушка, были настоящими людьми: не щадили себя ради тех, кого любят, жертвуя самым дорогим – мечтой. Матушка не стала певицей, ведь появились мы с сестрой. Какая уж эстрада для женщины замужней? Видимо, нужно что-то выбирать одно, что станет центром жизни. И она выбрала семью, отказавшись от своей мечты.
– Будет ли моё лицо добродушным? Или же будет злым оно? Страшно об этом думать…
Не хотелось Марте допускать мысль о том, что карта её судьбы сможет открыть её с тёмной стороны. Но было понимание того, что, как бы там ни было, а время всё равно то самое придёт, когда все маски с людей спадут, и с неё в том числе, и истинная суть станет видна и ей, и всем другим людям. И как же хотелось надеяться на то, что суть эта не окажется злодейской…
– Наверное, всё же моё лицо будет не таким светлым, – Марта тяжело вздохнула.
От прежних мыслей её отвлёк внезапный шум, напомнивший далёкий звук стремительного движения поездов. Внезапно к Марте со спины подошла Тоня и начала щекотать свою сестру.
– А! Что ты делаешь? – Марта вся изменилась в лице, и задумчивая грусть уступила место испугу вперемешку с тревогой.
– Как что? Знаешь, я подумала и поняла, что погорячилась. Не должна была швырять твою работу и так себя вести,– начала Тоня, потупив взгляд и опечалив свой лик. – У меня ведь больше никого не осталось, Март, только ты. Извини, ты же меня знаешь…
– Всё в порядке.
– Меня осенило: давай оставим всё и уплывём навсегда далеко-далеко, где никто не найдёт.
Марта опешила, услышав такое предложение от своей сестры. Разве такое возможно – распрощаться со своим прошлым, со всем тем, что делает тебя тобой, оставить тех, кого ты любил, даже если они отныне не с нами на земле, а где-то в другом месте? Может быть, их и нет на Земле, но они, возможно, в Небесном Иерусалиме пребывают и оттуда взирают на нас, желая и нам достойно путь земной пройти.
– Нет, Тонь. Я не могу вот так бросить всё и отправиться в неизвестность.
– В смысле – не можешь? А что тебе тут делать? Что ещё за странности? Я уже купила билеты, и мы спокойно можем уплыть сегодня же.
Марта равнодушно и стеклянно смотрела на свою сестру, не выражая ровным счётом никаких эмоций. Она глядела на Антонину, как на человека, которого видит впервые в своей жизни.
– Я не уплыву. Если хочешь сбежать от себя – сбегай, но это всё равно не поможет, – Марте стало стыдно за свою сестру, но Тоню лишь развеселили слова Марты.
– Я-то уплыву: отплытие будет сегодня в пять часов вечера. А вот ты что делать будешь? Наивна! Жаль мне оставлять тебя. Собирай вещи, вместе со мной уедешь!
– Отправляйся без меня, я останусь здесь, – упорно продолжала гнуть свою линию Марта.
– Пожалеешь ведь потом. Конечно, пожалеешь! Ты ещё молода, а уже в гроб себя вогнала. И собираешься жить в тине болотной в окружении всего, что о прошлом напоминает. А жить надо днём сегодняшним! – взбудоражено стояла на своём Тоня.
Марта недоумённо смотрела на свою сестру, понимая, что в её словах есть тот смысл, который она пыталась выкроить на ткани в виде разнообразных узоров, возникающих, будто сами, без её личного участия, хотя вышивала-то именно она, словно узоры выходили через неё – она была не творцом, а орудием свыше. И Марта чувствовала себя связанной прядями, которые невооружённым взглядом не узреть, и они не давали той свободы, которая чувствовалась в Тоне.
– Пойдём, я провожу тебя. Но сама останусь здесь. Пожалуйста, не пытайся меня переубедить. В другом месте я буду чувствовать себя лишь хуже. Мне безопаснее в привычном и родном.
Тоня поражённо смотрела на свою сестру, понимая, что та сделала из себя ходячий труп, собирающийся жить в мавзолее.
– Марта, я не могу поверить, что ты правда собираешься остаться и вконец загубить себе жизнь, не дав себе возможность начать всё с чистого листа.
– Разве возможен, как ты говоришь, «чистый лист», если есть история, часть которой уже пройдена? То, что было, не выбросишь, оно будет всегда неподалёку и напомнит о себе.
Антонина смотрела на сестру и осознавала, что, действительно, не стоит её убеждать поехать с ней. Не хочет – как хочет.
– Я всё равно буду тебя ждать, Март. Надеюсь, что однажды ты передумаешь и всё же приедешь, – Тоня посмотрела на свою сестру с надеждой.
Двадцатисемилетняя Марта взирала на свою девятнадцатилетнюю сестру и читала про себя молитву, желая, чтоб у её сестры жизнь сложилась счастливо. Так, как в детстве их благословляла мама, мечтая, чтоб, если не у неё самой, так у детей воплотились мечты в реальность. Марта улыбнулась Тоне, которая непонимающе глядела на сестру, и внезапно её лицо озарилось благодаря промелькнувшей в её сознании благой вести о том, что всё же не одна она: есть у неё сестра, и вот её семья – она, Тоня.
– Я знаю, Тонь, что делать буду, – улыбнулась Марта. – Я буду желать тебе устроиться в жизни благословенно. В том и есть счастье моё – верить в счастье твоё и продолжать создавать полюбившиеся мне узоры.
Тоня усмехнулась, словно ахинею безумца услышала, но позже усмешка сменилась принятием и очередным напоминанием ей о том, что сестру не изменить. Она такая, какая есть. И, похоже, действительно говорит всерьёз и останется в этой тине, из которой будет пробиваться лучом.
– Ты неизменна, Марта. Всё на одном и том же стоишь. Но всё же есть у этого своё достоинство: у меня есть ты – моя пристань, к которой смогу вновь приплыть однажды.
Марта улыбнулась и смутилась, когда Тоня подошла ближе и обняла сестру, понимая, что совсем скоро она уплывёт, и они ещё не скоро смогут увидеться вновь.

Диана ДАВЫДОВА
Родилась в 2009 году. Поэт и прозаик, находящийся в начале своего литературного пути. Публикация в журнале «Современные записки» (апрель 2024 г.), в антологии «Книга на лето» (июнь 2024 г.).
Родилась в 2009 году. Поэт и прозаик, находящийся в начале своего литературного пути. Публикация в журнале «Современные записки» (апрель 2024 г.), в антологии «Книга на лето» (июнь 2024 г.).
ОТРАЖЕНИЕ
Отражение… Что это? Те же предметы или всего лишь их копии? А где можно его найти? В воде, в зеркале, в стакане, в серебряной ложке? Да, там тоже можно. Но лучшего отражения вы не найдете нигде, кроме как в глазах других людей. Этот приятный трепет, когда увидел себя первый раз в глазах нового для тебя человека. Это прекрасное чувство, которое расплывается внутри, заполняя каждый уголок души и сердца. И я считаю, что свое отражение таким образом можно увидеть только тогда, когда ты уже отражаешься не только в глазах, но и в душе этого человека. Находишь в нем отклик своего сердца. Увы, мне пришлось испытать это лишь раз в своей жизни.
* * *
Я живу в небольшом городе, работаю на неприметной работе, получаю свои гроши и не жалуюсь. В нашем городе почти не бывает солнечных и безоблачных дней, всегда пасмурно, часто льет дождь. У людей здесь не видно радости на лицах, потому что ее здесь нет, радость покинула этот скудный городок. Ее не встретишь гуляющей в парке, не застанешь в бедных квартирах горожан, она не расхаживает по улицам, пачкая обувь в грязи. Ее здесь просто нет. Поэтому все попытки отыскать ее здесь – бессмысленное занятие. Поверьте мне на слово, я сам пытался это сделать и не раз.
Я слышал, что радость людям приносят семья и друзья. Но, видимо, мне не суждено испытать это прекрасное, по словам других, и загадочное для меня чувство – у меня нет ни того, ни другого. Но я не чувствую себя одиноким, ничуть. Каждый раз, возвращаясь домой после работы, я забегаю в булочную, находящуюся напротив дома, в котором я живу. В это время там всегда толпа народу. Все шумят, обсуждают новости сегодняшнего дня. И тогда я вливаюсь в их разговоры. Была даже пара случаев, когда я сам вносил свою лепту в беседу, но меня никогда не было слышно. Мой тихий, неуверенный голос был подхвачен волной общего шума и суеты. Бывало, у меня спрашивали, который сейчас час, но я не успевал взглянуть на часы и ответить, отвечал кто-то другой, более быстрый, общительный и уверенный, чем я. И, может, потом между этими двумя завязывался долгий вечерний разговор. Но я уже их не слушал. Женщины обсуждали, какой цвет юбок нынче в моде, дети говорили о своих школьных заботах (как они любили называть свои дела), мужчины делились проблемами по работе. А у меня не было ни дел, ни проблем, ни забот, я просто стоял в очереди в булочной, чтобы купить свежий батон хлеба.
И когда доходила моя очередь, я брал этот батон хлеба и довольный, в приподнятом настроении шел домой. Это стало моей привычкой, я не могу назвать ее скверной или плохой, наоборот, это была хорошая привычка: заходить каждый вечер в булочную и вдоволь наслушаться людских бессмысленных бесед. Это служило для меня некой отрадой, забавой, развлечением. Эта серая мертвая скука города мимолетно сменялась живыми и цветными разговорами его жителей.
Но вот несчастье – осень. Каждый год она захватывает этот город и накрывает его колпаком тишины и покоя. Готовит город и его жителей к наступающей зиме. Но вместе с осенью приходит самая скверная погода из всех существующих на земле. Это дожди, ветра, туман. Но все это безобразие непременно сопровождается осенней хандрой, а в этот раз не обошлось еще и без болезни. Наверное, промочил ноги по дороге домой или меня продуло сильным ветром. А возможно, и то, и другое посодействовало тому, что я стал чувствовать сильную слабость, насморк и боль в горле, вскоре поднялась высокая температура. Стандартный набор. Врач выписал мне таблетки и отправил на больничный до конца недели. Я лежал, временами что-то читал, но большей частью просто спал.
Конечно же, я был не в состоянии обеспечивать себя свежим хлебом каждый вечер. И, разумеется, меня сильно угнетала эта мысль. Но вот однажды в шестом часу вечера мне позвонили в дверь. Это было весьма неожиданно, потому что сложно было вспомнить последний раз, когда кто-либо пользовался этим звонком. Вероятно, на нем был достаточный слой пыли, но моего нежданного гостя это явно не смутило. Он позвонил еще раз и на этот раз мне пришлось встать с постели и открыть дверь. На пороге стоял мальчуган; на вид лет восьми, в руках он держал батон хлеба, завернутый в бумагу. Он протянул мне сверток и быстро проговорил:
– От Софьи из булочной напротив.
После чего он ловко сбежал по лестнице и скрылся из виду, оставив меня на пороге со свертком в руках. Конечно, я был удивлен таким визитом, но также я был рад держать в руках привычный для меня батон свежего хлеба. Я принял этот дар. С того дня я пошел на поправку. Уж не знаю, лекарства ль начали действовать или же этот неожиданный подарок поспособствовал моему скорому выздоровлению.
Я долго думал на счет этой таинственной «Софьи из булочной напротив». Я никогда не обращал внимания на продавщиц и даже не поднимал на них взгляд. И думал, что на меня тоже никто не обращает внимание. Но, видимо, это было не так. Я долго пытался ее представить, вообразить, но ничего не выходило. Как будто в эти минуты раздумий я напрочь лишался фантазии. Может, у нее темные волосы, а может, и нет, возможно, у нее высокий рост и стройная фигура, а может, она низкая и полная, вероятно, у нее добрая улыбка и выразительные глаза или она выглядит, как злыдня. Нет, как злыдня она точно выглядеть не может. Может, может, может… В голове – одни догадки и предположения, совершенно отсутствует полноценный образ. Но я наверняка знал, что у этой «Софьи из булочной напротив» доброе сердце и глаза, выражающие эту сердечную доброту.
Неделя прошла, кончился больничный, и болезнь почти улетучилась. В понедельник я уже вышел на работу. Еще раз убедился в том, что ничего там не меняется и, видимо, никогда не поменяется. Работа – место, не подлежащие переменам, по крайней мере, моя. И, конечно, я не пропустил вечерний визит в булочную. Очередь – все та же, и разговоры в очереди – все те же. Вот что еще ни при каких обстоятельствах не подлежит каким-либо переменам, это очередь. И вот я подхожу к прилавку, говорю привычные слова. И тут милый женский голос отвечает:
– Пожалуйста, ваш хлеб. Вас давно не было. Все в порядке?
Я поднял глаза. За прилавком стояла аккуратная молодая девушка. Темные густые волосы, забранные в косу и перекинутые на грудь, грациозные черты лица: острый нос, узкие брови, большие карии глаза, пухлые губы. Она улыбалась, смотрела на меня и улыбалась. Из очереди начали подгонять, поэтому я поспешно забрал сверток с хлебом, отдал деньги и хотел было уже уйти, но все-таки последний раз взглянул на продавщицу. Я посмотрел ей в глаза, мы пересеклись взглядами и… Я увидел в них себя, я увидел свое отражение в ее глазах – этих и вправду выразительных глазах. Из очереди опять раздался возмущенный восклик, вероятно, в мой адрес, и я ушел; ушел, не сказав ни слова. А ведь она спрашивала о моих делах. Вот дурень! Ты даже слова не промолвил. Идиот. Надо было поблагодарить ее за подарок или хотя бы ответить на интересующий ее вопрос и сказать спасибо за беспокойство, а не стоять и смотреть, как полный дурак.
Эти мысли тревожили меня всю ночь и весь последующий день. Но мне так же все время вспоминался этот образ, эти мягкие черты лица, будто все самое прекрасное со всего света собрали и поместили в этот чарующий взгляд, в эти бездонные притягивающие глаза, в эту милую и сдержанную улыбку. Дорогой читатель, возможно, ты подумал о том, что это была совсем не Софья, и это вполне оправданное сомнение. Но я точно знал, что это была она – да, именно она. Никто другой не мог бы побеспокоиться о моих делах, кроме нее, никто больше не мог отправить ко мне того мальчика с заветным свертком, никто кроме нее, кроме Софьи.
Эта девушка очень тронула меня, и я решил ее отблагодарить, что-то подарить. Денег у меня было немного, я копил на новую пару обуви, но решил потратить эти незначительные сбережения на мою спасительницу. Долго я думал, чем же ее порадовать. Решил зайти в ювелирную лавку и сразу же мне приглянулась маленькая недорогая брошь. Это был аккуратный цветок, напоминающий фрезию. Нежные фиолетовые лепестки из мелких камушков блестели на свету. Зеленые листики были еле видны, но придавали цветку свежести. Эта брошка чем-то напоминала мне Софью, возможно, потому что при взгляде на украшение тоже хотелось думать только о прекрасном: о весне, о солнечных днях, о той расплывающейся внутри теплоте. Я купил брошь и покинул магазин. Фрезию завернули в шуршащую цветастую бумагу, которая придавала подарку более праздничный вид. Я был очень доволен покупкой. И я поймал сейчас себя на мысли, что, может быть, я даже в какой-то степени испытывал тогда радость. Да, возможно, это была именно она – радость…
Боролись во мне два чувства: во-первых, я хотел поскорее подарить Софье подарок, увидеть ее реакцию, ее светлую улыбку, но что-то останавливало меня это сделать, какой-то внутренний страх, мандраж. И долгое время, около двух недель, второе преобладало над первым. Я ходил в булочную как ни в чем не бывало, старался не поднимать глаз, не смотреть на милую продавщицу. Но вот пришел день, когда мне это надоело, надоело ждать и бороться с самим собой. И я решился. Решился, как мне казалось, на отважный шаг. В тот день я пошел на работу, еле дождался ее окончания и направился домой за брошью. Все в тот вечер казалось мне другим: лучше, красивее, сказочнее. Да, опять я чувствовал этот необъяснимый трепет в груди, я принимал это за радость. В улицах пасмурного города я заметил что-то необычайное, необъяснимое, хотя, наверное, ничего не поменялось и оставалось таким же скучным и неприметным, но не для меня. Взяв заветную бумажку с цветком внутри, я выбежал из подъезда и направился через дорогу в булочную.
К тому времени очередь стала значительно меньше. Всего пять человек стояли передо мной, а сзади никого. Нервно перебирал я край цветастой бумаги. Я совершенно не слышал, что говорили люди рядом, о чем говорили, с кем говорили, как говорили… В голове я лишь проговаривал речь, которую скажу перед вручением подарка, представлял ее лицо, перебирал разные варианты ее реакции: радость, недоумение, растерянность, благодарность, злость? И вот передо мной – никого; я выдохнул, шагнул, на секунду закрыл глаза, еще раз выдохнул и поднял голову. Бездонные, чарующие глаза, легкая улыбка, нежный румянец на щеках, тугая коса, перекинутая на грудь… но нет. Ничего этого не было, я увидел женщину преклонных лет. Морщины, щурившиеся глаза, поджатые губы, местами седые волосы, убранные назад. Где она? Где та, ради которой я шел сюда? Где она, где? Почему передо мной не она? Я смотрел, как будто ждал, что сейчас откуда-нибудь выйдет Софья и все будет, как запланировано, все будет, как надо, как должно быть. Но нет, она не вышла, не появилась.
– Брать-то будете чего-то? – хриплым голосом спросила женщина.
– А… Софья… она где? – запинаясь, пробормотал я.
– Софья-то? Уехала Софья.
– Как… уехала, куда? – наверное, видно было, как постепенно умирает надежда в моих глазах.
– Так как наследство-то получила от дядюшки покойного, так и уехала Софья-то.
– А вернется? – оставалась во мне еще капля веры в лучшее, но ее тут же растоптали, высушили, уничтожили:
– А чего ей возвращаться-то? Наследство-то, говорят, большое.
– И адреса нету?
– Нету, нету, добрый человек. Брать-то будешь чего?
Я явно уже измотал старушку своими расспросами.
Я ушел. Возвращаясь домой, я приметил, насколько же скуден, беден, скучен, сер этот город, он прогнил, прогнил изнутри. Какие дурные фасады зданий, глупый желтый свет фонарей. Кто придумал все это? Кому это надо? Зачем, как, почему?..
Я заснул тревожным сном по возвращении домой. Брошь я положил на стол: эта нелепая бумага уже не казалась мне праздничной, это шуршание от нее раздражало меня, хотя совсем недавно успокаивало. Как много всего поменялось во мне лишь за один вечер.
Брошь я решил носить у себя на груди в память о той мимолетной влюбленности и как уважение к предмету этой самой влюбленности – Софье. Я искренне остался благодарен ей на всю оставшуюся жизнь за те чувства, которые меня посещали и посещают сейчас при мысли о ней. Благодарен за то, что я испытал радость, настоящую радость, которую так сложно найти. И спасибо за то, что подарила мне мое отражение в своих прелестных глазах, Софья. Спасибо.
Отражение… Что это? Те же предметы или всего лишь их копии? А где можно его найти? В воде, в зеркале, в стакане, в серебряной ложке? Да, там тоже можно. Но лучшего отражения вы не найдете нигде, кроме как в глазах других людей. Этот приятный трепет, когда увидел себя первый раз в глазах нового для тебя человека. Это прекрасное чувство, которое расплывается внутри, заполняя каждый уголок души и сердца. И я считаю, что свое отражение таким образом можно увидеть только тогда, когда ты уже отражаешься не только в глазах, но и в душе этого человека. Находишь в нем отклик своего сердца. Увы, мне пришлось испытать это лишь раз в своей жизни.
* * *
Я живу в небольшом городе, работаю на неприметной работе, получаю свои гроши и не жалуюсь. В нашем городе почти не бывает солнечных и безоблачных дней, всегда пасмурно, часто льет дождь. У людей здесь не видно радости на лицах, потому что ее здесь нет, радость покинула этот скудный городок. Ее не встретишь гуляющей в парке, не застанешь в бедных квартирах горожан, она не расхаживает по улицам, пачкая обувь в грязи. Ее здесь просто нет. Поэтому все попытки отыскать ее здесь – бессмысленное занятие. Поверьте мне на слово, я сам пытался это сделать и не раз.
Я слышал, что радость людям приносят семья и друзья. Но, видимо, мне не суждено испытать это прекрасное, по словам других, и загадочное для меня чувство – у меня нет ни того, ни другого. Но я не чувствую себя одиноким, ничуть. Каждый раз, возвращаясь домой после работы, я забегаю в булочную, находящуюся напротив дома, в котором я живу. В это время там всегда толпа народу. Все шумят, обсуждают новости сегодняшнего дня. И тогда я вливаюсь в их разговоры. Была даже пара случаев, когда я сам вносил свою лепту в беседу, но меня никогда не было слышно. Мой тихий, неуверенный голос был подхвачен волной общего шума и суеты. Бывало, у меня спрашивали, который сейчас час, но я не успевал взглянуть на часы и ответить, отвечал кто-то другой, более быстрый, общительный и уверенный, чем я. И, может, потом между этими двумя завязывался долгий вечерний разговор. Но я уже их не слушал. Женщины обсуждали, какой цвет юбок нынче в моде, дети говорили о своих школьных заботах (как они любили называть свои дела), мужчины делились проблемами по работе. А у меня не было ни дел, ни проблем, ни забот, я просто стоял в очереди в булочной, чтобы купить свежий батон хлеба.
И когда доходила моя очередь, я брал этот батон хлеба и довольный, в приподнятом настроении шел домой. Это стало моей привычкой, я не могу назвать ее скверной или плохой, наоборот, это была хорошая привычка: заходить каждый вечер в булочную и вдоволь наслушаться людских бессмысленных бесед. Это служило для меня некой отрадой, забавой, развлечением. Эта серая мертвая скука города мимолетно сменялась живыми и цветными разговорами его жителей.
Но вот несчастье – осень. Каждый год она захватывает этот город и накрывает его колпаком тишины и покоя. Готовит город и его жителей к наступающей зиме. Но вместе с осенью приходит самая скверная погода из всех существующих на земле. Это дожди, ветра, туман. Но все это безобразие непременно сопровождается осенней хандрой, а в этот раз не обошлось еще и без болезни. Наверное, промочил ноги по дороге домой или меня продуло сильным ветром. А возможно, и то, и другое посодействовало тому, что я стал чувствовать сильную слабость, насморк и боль в горле, вскоре поднялась высокая температура. Стандартный набор. Врач выписал мне таблетки и отправил на больничный до конца недели. Я лежал, временами что-то читал, но большей частью просто спал.
Конечно же, я был не в состоянии обеспечивать себя свежим хлебом каждый вечер. И, разумеется, меня сильно угнетала эта мысль. Но вот однажды в шестом часу вечера мне позвонили в дверь. Это было весьма неожиданно, потому что сложно было вспомнить последний раз, когда кто-либо пользовался этим звонком. Вероятно, на нем был достаточный слой пыли, но моего нежданного гостя это явно не смутило. Он позвонил еще раз и на этот раз мне пришлось встать с постели и открыть дверь. На пороге стоял мальчуган; на вид лет восьми, в руках он держал батон хлеба, завернутый в бумагу. Он протянул мне сверток и быстро проговорил:
– От Софьи из булочной напротив.
После чего он ловко сбежал по лестнице и скрылся из виду, оставив меня на пороге со свертком в руках. Конечно, я был удивлен таким визитом, но также я был рад держать в руках привычный для меня батон свежего хлеба. Я принял этот дар. С того дня я пошел на поправку. Уж не знаю, лекарства ль начали действовать или же этот неожиданный подарок поспособствовал моему скорому выздоровлению.
Я долго думал на счет этой таинственной «Софьи из булочной напротив». Я никогда не обращал внимания на продавщиц и даже не поднимал на них взгляд. И думал, что на меня тоже никто не обращает внимание. Но, видимо, это было не так. Я долго пытался ее представить, вообразить, но ничего не выходило. Как будто в эти минуты раздумий я напрочь лишался фантазии. Может, у нее темные волосы, а может, и нет, возможно, у нее высокий рост и стройная фигура, а может, она низкая и полная, вероятно, у нее добрая улыбка и выразительные глаза или она выглядит, как злыдня. Нет, как злыдня она точно выглядеть не может. Может, может, может… В голове – одни догадки и предположения, совершенно отсутствует полноценный образ. Но я наверняка знал, что у этой «Софьи из булочной напротив» доброе сердце и глаза, выражающие эту сердечную доброту.
Неделя прошла, кончился больничный, и болезнь почти улетучилась. В понедельник я уже вышел на работу. Еще раз убедился в том, что ничего там не меняется и, видимо, никогда не поменяется. Работа – место, не подлежащие переменам, по крайней мере, моя. И, конечно, я не пропустил вечерний визит в булочную. Очередь – все та же, и разговоры в очереди – все те же. Вот что еще ни при каких обстоятельствах не подлежит каким-либо переменам, это очередь. И вот я подхожу к прилавку, говорю привычные слова. И тут милый женский голос отвечает:
– Пожалуйста, ваш хлеб. Вас давно не было. Все в порядке?
Я поднял глаза. За прилавком стояла аккуратная молодая девушка. Темные густые волосы, забранные в косу и перекинутые на грудь, грациозные черты лица: острый нос, узкие брови, большие карии глаза, пухлые губы. Она улыбалась, смотрела на меня и улыбалась. Из очереди начали подгонять, поэтому я поспешно забрал сверток с хлебом, отдал деньги и хотел было уже уйти, но все-таки последний раз взглянул на продавщицу. Я посмотрел ей в глаза, мы пересеклись взглядами и… Я увидел в них себя, я увидел свое отражение в ее глазах – этих и вправду выразительных глазах. Из очереди опять раздался возмущенный восклик, вероятно, в мой адрес, и я ушел; ушел, не сказав ни слова. А ведь она спрашивала о моих делах. Вот дурень! Ты даже слова не промолвил. Идиот. Надо было поблагодарить ее за подарок или хотя бы ответить на интересующий ее вопрос и сказать спасибо за беспокойство, а не стоять и смотреть, как полный дурак.
Эти мысли тревожили меня всю ночь и весь последующий день. Но мне так же все время вспоминался этот образ, эти мягкие черты лица, будто все самое прекрасное со всего света собрали и поместили в этот чарующий взгляд, в эти бездонные притягивающие глаза, в эту милую и сдержанную улыбку. Дорогой читатель, возможно, ты подумал о том, что это была совсем не Софья, и это вполне оправданное сомнение. Но я точно знал, что это была она – да, именно она. Никто другой не мог бы побеспокоиться о моих делах, кроме нее, никто больше не мог отправить ко мне того мальчика с заветным свертком, никто кроме нее, кроме Софьи.
Эта девушка очень тронула меня, и я решил ее отблагодарить, что-то подарить. Денег у меня было немного, я копил на новую пару обуви, но решил потратить эти незначительные сбережения на мою спасительницу. Долго я думал, чем же ее порадовать. Решил зайти в ювелирную лавку и сразу же мне приглянулась маленькая недорогая брошь. Это был аккуратный цветок, напоминающий фрезию. Нежные фиолетовые лепестки из мелких камушков блестели на свету. Зеленые листики были еле видны, но придавали цветку свежести. Эта брошка чем-то напоминала мне Софью, возможно, потому что при взгляде на украшение тоже хотелось думать только о прекрасном: о весне, о солнечных днях, о той расплывающейся внутри теплоте. Я купил брошь и покинул магазин. Фрезию завернули в шуршащую цветастую бумагу, которая придавала подарку более праздничный вид. Я был очень доволен покупкой. И я поймал сейчас себя на мысли, что, может быть, я даже в какой-то степени испытывал тогда радость. Да, возможно, это была именно она – радость…
Боролись во мне два чувства: во-первых, я хотел поскорее подарить Софье подарок, увидеть ее реакцию, ее светлую улыбку, но что-то останавливало меня это сделать, какой-то внутренний страх, мандраж. И долгое время, около двух недель, второе преобладало над первым. Я ходил в булочную как ни в чем не бывало, старался не поднимать глаз, не смотреть на милую продавщицу. Но вот пришел день, когда мне это надоело, надоело ждать и бороться с самим собой. И я решился. Решился, как мне казалось, на отважный шаг. В тот день я пошел на работу, еле дождался ее окончания и направился домой за брошью. Все в тот вечер казалось мне другим: лучше, красивее, сказочнее. Да, опять я чувствовал этот необъяснимый трепет в груди, я принимал это за радость. В улицах пасмурного города я заметил что-то необычайное, необъяснимое, хотя, наверное, ничего не поменялось и оставалось таким же скучным и неприметным, но не для меня. Взяв заветную бумажку с цветком внутри, я выбежал из подъезда и направился через дорогу в булочную.
К тому времени очередь стала значительно меньше. Всего пять человек стояли передо мной, а сзади никого. Нервно перебирал я край цветастой бумаги. Я совершенно не слышал, что говорили люди рядом, о чем говорили, с кем говорили, как говорили… В голове я лишь проговаривал речь, которую скажу перед вручением подарка, представлял ее лицо, перебирал разные варианты ее реакции: радость, недоумение, растерянность, благодарность, злость? И вот передо мной – никого; я выдохнул, шагнул, на секунду закрыл глаза, еще раз выдохнул и поднял голову. Бездонные, чарующие глаза, легкая улыбка, нежный румянец на щеках, тугая коса, перекинутая на грудь… но нет. Ничего этого не было, я увидел женщину преклонных лет. Морщины, щурившиеся глаза, поджатые губы, местами седые волосы, убранные назад. Где она? Где та, ради которой я шел сюда? Где она, где? Почему передо мной не она? Я смотрел, как будто ждал, что сейчас откуда-нибудь выйдет Софья и все будет, как запланировано, все будет, как надо, как должно быть. Но нет, она не вышла, не появилась.
– Брать-то будете чего-то? – хриплым голосом спросила женщина.
– А… Софья… она где? – запинаясь, пробормотал я.
– Софья-то? Уехала Софья.
– Как… уехала, куда? – наверное, видно было, как постепенно умирает надежда в моих глазах.
– Так как наследство-то получила от дядюшки покойного, так и уехала Софья-то.
– А вернется? – оставалась во мне еще капля веры в лучшее, но ее тут же растоптали, высушили, уничтожили:
– А чего ей возвращаться-то? Наследство-то, говорят, большое.
– И адреса нету?
– Нету, нету, добрый человек. Брать-то будешь чего?
Я явно уже измотал старушку своими расспросами.
Я ушел. Возвращаясь домой, я приметил, насколько же скуден, беден, скучен, сер этот город, он прогнил, прогнил изнутри. Какие дурные фасады зданий, глупый желтый свет фонарей. Кто придумал все это? Кому это надо? Зачем, как, почему?..
Я заснул тревожным сном по возвращении домой. Брошь я положил на стол: эта нелепая бумага уже не казалась мне праздничной, это шуршание от нее раздражало меня, хотя совсем недавно успокаивало. Как много всего поменялось во мне лишь за один вечер.
Брошь я решил носить у себя на груди в память о той мимолетной влюбленности и как уважение к предмету этой самой влюбленности – Софье. Я искренне остался благодарен ей на всю оставшуюся жизнь за те чувства, которые меня посещали и посещают сейчас при мысли о ней. Благодарен за то, что я испытал радость, настоящую радость, которую так сложно найти. И спасибо за то, что подарила мне мое отражение в своих прелестных глазах, Софья. Спасибо.
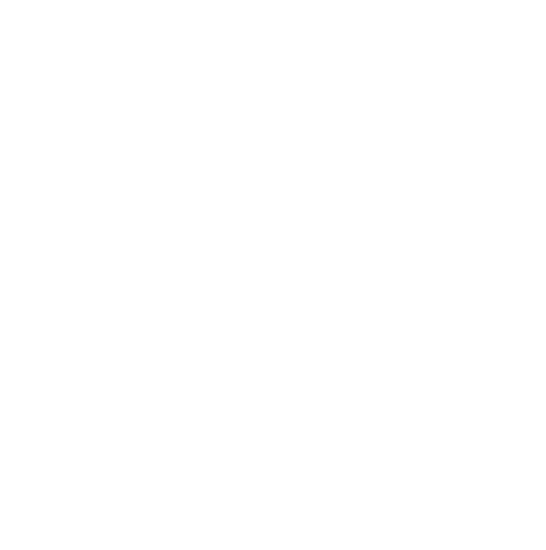
Алексей ПРЕСНАКОВ
Специальный корреспондент газеты РТСРК «Московский Вестник Культуры». Член Российского творческого Союза работников культуры (Московское отделение). Почетный Амбассадор Евразийской Творческой Гильдии ECG (London) в России. Член Интернационального Союза писателей. Член Международного союза русскоязычных писателей. Номинант на соискание национальной литературной премии «Поэт года» за 2023 год в четырёх номинациях. Номинант на литературную премию «Георгиевская лента» Российского союза писателей, приуроченной к 80-летию Великой Победы. Номинант на литературную премию Российского Императорского Дома под личным покровительством Великой Княгини Марии Владимировны «Наследие» за 2022, 2023 гг. Номинант на соискание литературной премии Российского Союза Писателей «Святая Русь» за 2023 год. Номинант на соискание литературной премии Российского Союза Писателей имени Сергея Есенина «Русь моя», 2023 г. Ныне участник СВО.
Специальный корреспондент газеты РТСРК «Московский Вестник Культуры». Член Российского творческого Союза работников культуры (Московское отделение). Почетный Амбассадор Евразийской Творческой Гильдии ECG (London) в России. Член Интернационального Союза писателей. Член Международного союза русскоязычных писателей. Номинант на соискание национальной литературной премии «Поэт года» за 2023 год в четырёх номинациях. Номинант на литературную премию «Георгиевская лента» Российского союза писателей, приуроченной к 80-летию Великой Победы. Номинант на литературную премию Российского Императорского Дома под личным покровительством Великой Княгини Марии Владимировны «Наследие» за 2022, 2023 гг. Номинант на соискание литературной премии Российского Союза Писателей «Святая Русь» за 2023 год. Номинант на соискание литературной премии Российского Союза Писателей имени Сергея Есенина «Русь моя», 2023 г. Ныне участник СВО.
ШКОЛА НА ОКРАИНЕ ВСЕЛЕННОЙ
Глава 1.
С трудом, путём запугивания и шутками Сергею удалось помимо положенных на своих бойцов четырёх с половиной литров питьевой воды в сутки «выцыганить» ещё одну полуторалитровую бутылку. Но не думайте, что этим всё закончилось. Половина личного запаса, а это 30–40 грамм оружейного масла, перекочевала в карман «дающего по-братски». Но это стоило того. Вода – жизнь!
При таких тяжёлых физических нагрузках, как строительство блиндажей, коп индивидуальных ячеек и многих других, еда важна, да, но вода!..
Сбор конденсата помогал, но в подавляющем большинстве попыток он был безуспешен. То сильный ветер сорвёт натянутый на распорки полиэтилен, то гостинец от врагов, разорвавшись где-то недалеко, разобьёт мечты о безлимитном водопое в пух и прах.
Убрав «золотой запас» в рюкзак, Сергей не сразу отправился на свои позиции. По дороге он сумел чудом раздобыть пять скоб для крепления брёвен на накат блиндажа и обменять пачку сигарет на чудесное лакомство! 240-граммовая баночка ставриды в масле! Остаток приклеенной этикетки свисал с этого чудесного подарка судьбы, а утреннее солнышко, пробивая обожжённые кроны деревьев лесополосы, играло зайчиками, попадая на частично обнажённый металл рыбного сокровища. Когда оба фронтовика ударили по рукам, у Сергея на лице невольно появилась улыбка, но, вспомнив, где он находится и к чему может привести этот «блестящий маячок», он быстро положил предмет обмена в карман бушлата, испещрённого «шрамами» от штопки.
Не спеша, с улыбкой на лице Сергей шёл по извилистой тропинке, которая соединяла позиции подразделения, посматривая в правую сторону, на поле.
Всё поле было усеяно кратерами от прилётов и очень сильно напоминало поверхность Луны, но местами вырванный взрывами чернозём и зелёно-коричневые сгустки прошлогодней полугнилой травы возвращали фантазию из космоса обратно, на несчастную Землю. Там, справа, метрах в трехстах, находился враг. Коварный, опасный, умный.
На позиции, которую занимало подразделение, уже вовсю кипела работа. Кто-то обустраивал свои огневые ячейки, усердно врываясь всё глубже и глубже, кто-то занимался строительством нового блиндажа.
Зайдя в первый блиндаж, где находились спальные места и печка, он встретил своего брата-фронтовика Валентина, который готовил нехитрый завтрак для своих боевых товарищей. Без лишних слов Сергей, глядя на Валентина, начал медленно извлекать из рюкзака бутылку за бутылкой с питьевой водой. Когда рука полезла в рюкзак в четвёртый раз, лицо Валентина заметно напряглось. С лицами профессиональных игроков в покер, оставшимися вдвоём в финале, они смотрели друг другу глаза в глаза, и как только четвёртая бутылка показалась в сумраке блиндажа, Валентин растянулся в улыбке и громко сказал:
– Да ладно!!!
А Сергей с явно сдерживаемой улыбкой запустил руку в рюкзак четвёртый раз.
Валентин, почти смеясь, спросил:
– Что? Пятая?
Сергей, уже не в силах сдерживать улыбку, резко вынул из рюкзака скобы, заботливо замотанные в полиэтилен, и, подняв их над головой, торжественно ответил:
– Не пятая! А пять!
– Серёга, откуда?! – спросил Валентин.
– Ловкость рук и никакого мошенничества! – с заметной гордостью ответил Сергей.
Там, где они находились, не было ничего, кроме обугленных деревьев. Порой дело доходило до обмена пачки сигарет на камень размером с кулак. Да, да! Вы не ослышались! Спросите, для чего? А для всего! Для забивания гвоздей, обкладки печей, да много для чего. Некоторые нерадивые братья, понадеявшись на заверения «Там всё дадут», так и приехали без шанцевого инструмента, гвоздей и прочего, о чём впоследствии горько сожалели.
На памяти Сергея самый ценный обмен происходил очень серьёзно. Ситуация напоминала девяностые годы.
Бородатые, стриженые люди с автоматами – с одной стороны, такие же – по другую.
Загород.
Одна тысяча пятьсот шестнадцать километров от Ленинграда. Между ними стоит пошарпанный, но, тем не менее, крепкий ящик когда-то зелёного цвета, из-под боеприпасов.
– Сколько? – спрашивает один.
– Не продается, – отвечает переговорщик с другой стороны.
Но противоположная сторона не теряет надежду и начинает торг:
– Шесть!
– Не продается! – явно набивая цену, отвечает бородач напротив.
И в итоге, уже минут через десять, стороны всё-таки находят компромисс.
– Двенадцать!
Две группы угрюмых мужиков сходятся в цене; довольные, расходятся по своим позициям.
Внимание! Вопрос для знатоков: что было в ящике? И чего было двенадцать?
А теперь – правильный ответ! Гонг!
В ящике… ничего не было!
Ничего…в обмен на двенадцать… двенадцать пачек сигарет!
Тишина в зале, все в шоке...
Да, в ящике на самом деле ничего не было. Судорожная борьба с двухходовыми психологическими играми велась за пустой ящик. А что такое ящик? Это и столешница, и металлические уголки, соединяющие стенки, и полусгнившие саморезы, и прочее. Ах, какое множество полезных вещей можно извлечь из него, а применить, например, для хранения?! Как ёмкость! Это уже просто «буржуинство» какое-то! Смеялись оба: и Валя, и Сергей.
Как фокусник Кио, Сергей ловким движением руки вынул из кармана рыбную консерву, чтобы окончательно удивить боевого товарища, но вдруг в глазах всё погасло.
Глава 2.
Пронеслись облака, планеты, а потом снова темнота и вдруг – резкий звон в ушах, как будто ты прикоснулся к старому электрическому звонку, что дарит детям долгожданную перемену между уроками.
Комья земли посыпались сверху. Кто-то сзади схватил Сергея за шиворот и с отборным матом потащил его из воронки туда, откуда неслась навстречу, как ощущал Сергей, смерть.
Сергей буквально вылетел из воронки и увидел перед собой солдат, бегущих в дым, окутавший всё на сто метров вперёд. Кто-то падал тряпичной куклой, некоторые после ближнего разрыва от прилёта просто исчезали, не оставив от себя ничего.
Мощная рука невидимого матершинника не отпускала и продолжала толкать вперёд Сергея, сопровождая криками и давая ему всё новые и новые характеристики: кто он, что он и куда ему засунут какую-то «жлыгу», чтобы ему быстрее бежалось! Рука толкала вперёд!
С самого начала, как только Сергей пришёл в себя, он не мог вспомнить, понять: что произошло? Почему атака? Подготовки не было, бодались на передке умеренно, а тут! Зачем?..
Разрыв!
Сергей упал. Наконец-то рядом он увидел своего визави. Тот что-то пытался сказать, но красная, в пузырях пена изо рта не давала возможности сделать это. Не прошло и пяти секунд, как тело толкающего обмякло. Лишь редкие конвульсии, а пульсирующие струйки крови из туловища забрызгивали ноги Сергея. Нереально трясущаяся рука с вытянутым указательным пальцем показывала в сторону, куда бежали оставшиеся бойцы, падая друг за другом. И тут пришло осознание происходящего: пришёл в действие механизм. Механизм, где работа, как называют братья, побывавшие «за речкой», «за лентой», превратилась в рутину.
«Странная форма!» – подумал Сергей про себя, обратив внимание на «селедку» (форменное обмундирование бойца Красной армии).
И вновь – удар, новая боль! Но Сергей не потерял сознание. Звон, крики, стоны.
Протерев глаза, Сергей увидел опять же того обнаглевшего матерщинника с вытянутой рукой в форме, но в форме старой, выцветшей, непривычной, хотя до боли знакомой. Одна нога Сергея никак не хотела подниматься, как будто застряла в вязком, хлюпающем болоте. Полузалепленными песком глазами он всё-таки увидел причину. Его грязный сапог плотно застрял в разорванном теле человека, одетого в форму бойца Красной армии, а рядом лежала та самая (да!) винтовка Мосина. В противоположной стороне валялся пистолет, пулемёт Шпагина, с причудливо изогнутым от попадания осколков затворным коробом. Рука потянулась к винтовке...
И снова боль! А потом опять крики, визг, звон в ушах. Но мозг работал! Всё остальное просто исчезло.
«Бред! Не может быть! Я, наверное, в «ауте»! Мне всё кажется! Я не мог! Всё это сказки!» – думал Сергей.
Но мозг и тут начал пытаться инстинктивно выстраивать ситуации самосохранения.
«Нет!.. Нет!.. Это всё рассказы! Начитался! Попаданец? Ну, даже если так!»
Знания по географии и истории боев в этих местах у Сергея отсутствовали от слова «совсем». Почему-то, несмотря на всю стрессовость ситуации, вспомнился монолог Обломова со словами о Сиалефкте и Чингригупте, но очередной прогремевший рядом разрыв быстро вернул его в реалию происходящего.
Кто-то скажет: «Да нет! Так не может быть!»
Но иногда секунды превращаются в часы, так похожие друг на друга, и ты не ощущаешь течения времени, не понимаешь его назначения – полная прострация от всего.
И опять боль!
Опять полёт! Опять множество непонятных, ранее даже не виданных планет!
Тишина. Полное спокойствие. Умиротворение... Радость...
Глава 3.
Я лечу... Я могу не дышать... Я не хочу двигаться... Я – общее, целое не важно, чего…
Почему-то захотелось вздохнуть, так… напоследок.
Противные крики стали медленно наполнять тот бездонный, тихий космос, в котором невесомо плыл Сергей. Стоны стали более отчетливыми, и громкость нарастала всё больше и больше. Отчаянно захотелось дышать, но ничего не получалось. Охватила паника, но мозг, как отдельная личность, дал команду телу: «Двигаться! Двигаться!»
Сергей почувствовал под руками вязкую, холодную жижу. Оттолкнувшись руками, он поднял голову из огромной грязевой лужи, сопроводив это мощным вдохом. Вдохнуть не получилось. Грязь, казалось, изнутри забила тело солдата.
Жадно хватая воздух, Сергей начал, стоя на коленях, протирать залепленные грязью глаза.
Слух неожиданно полностью восстановился. Сергей открыл глаза, и ему предстала следующая картина.
Четыре лошади с диким ржанием бегали, как заведённые, туда и обратно по небольшому участку поля, молотя копытами всё, что попадало под них. В клубах дыма виднелись тёмные всадники, которые, размахивая саблями, методично заставляли падать пехотинцев в серой форме и в странных чёрных шляпах высокой цилиндрической формы с широкими полями. Множество тел, судя по цвету одежды, пехотинцев, было хаотично разбросано по неровному полю. Виднелись и тела в тёмной одежде, мощные туши мёртвых лошадей.
От всего этого Сергея отделяло полсотни метров и перекошенный, полуразбитый фрагмент поредевшего деревянного забора.
Сергей медленно осмотрел себя и, несмотря на грязь, увидел, что одежда его – тёмного цвета. Что-то болталось на боку и мешало встать на ноги. Посмотрев, Сергей обнаружил у себя упиравшиеся в землю ножны, тут же перед ним из грязи торчала сабля. Трехдужечная гарда с едва проглядывающей позолотой.
Над ухом справа раздался визг пули, которая с чавканьем угодила во что-то сзади. Схватив саблю, Сергей резко развернулся назад и, выставляя её перед собой, буквально насадил на неё человека в сером мундире, пытавшегося произвести удар сверху прикладом ружья. Поскользнувшись на заляпанной грязью «ташке» с вензелем Александра Первого, тело нападавшего с жалобным лицом начало резко заваливаться направо, утягивая руку Сергея, в которой находился клинок, буквально выворачивая ему пальцы. С трудом выдернув руку, Сергей ногами оттолкнул тело и, схватив обеими руками торчащую из тела саблю, попытался вытащить. Хватаясь за мундир, он порвал его окончательно, при этом пара пуговиц с цифрой «семь» отлетели в сторону.
Редкие выстрелы, звон, крики и прочий ужас сместились намного дальше в противоположную сторону. Слышны были лишь редкие стоны раненых.
Впереди, метрах в десяти, пытался подняться на ноги человек в чёрной форме.
«Гусар! Точно гусар! Чакчиры (узкие штаны), куртка с мехом! Наш! Александрийский гусарский! Наш!!!» – чуть было вслух не прокричал Сергей.
«Значит, не своего завалил! – отлегло от сердца у Сергея. – А эти егеря – австрийцы в сером! «Корсиканка», истоптанная лошадиными копытами, та самая необычная чёрная шляпа! Точно, егерь!»
Уж в этом-то Сергей разбирался!
Давным-давно, ещё в середине восьмидесятых, мать с отцом частенько выезжали на выходные к крёстному Сергея в Старый Петергоф.
У крёстного был сын Андрей, с которым Сергей рисовал на клетчатых листах из школьной тетради фигуры мушкетёров, уланов, гусар, после чего мальчишки вырезали их ножницами с небольшим отрезом под площадку. Затем этот край складывался и получался настоящий бумажный солдатик.
Форму и вооружение изучали скрупулезно. Каждому хотелось блеснуть своими выдающимися знаниями.
Сергей медленно подошёл к уже вставшему и опирающемуся на саблю гусару. Из его головы шла кровь, нижняя часть правой ноги была стёрта вместе с тканью и мясом в одну непонятную субстанцию и походила на некий влажный нарост.
– Живые, брат! – улыбаясь, тихо сказал гусар.
Сергей тоже невольно растянулся в улыбке и уже сделал шаг вперёд, чтобы помочь боевому товарищу, как вдруг увидел позади его, метрах в пяти, поднимающуюся из сутолоки тел руку с пистолем, явно направленным в их с чёрным гусаром сторону.
Сергей резким толчком левой руки оттолкнул еле стоявшего гусара в сторону, а сам хотел уйти вправо, но прогремел выстрел. Опять секунды растянулись в длинные, долгие реки времени. Осознав, что уйти с линии огня не хватает времени, Сергей про себя крикнул: «Бл…»
Крик растянулся, но тут же все закончилось. Пустота…
Глава 4.
Резкий свет! Движение с невозможной скоростью вперёд! Боковое зрение размыто, смазано от невообразимой скорости!
Ярко!
Очень ярко!
Разрыв! Звон!
Открылись глаза.
Сергея осыпало землёй. Кто-то схватил его сзади за отворот гимнастёрки и опять, знакомым голосом обкладывая матом, потащил Сергея из воронки. Память пережитого в предыдущий раз, несмотря на скоротечность событий, происшедших «прыжком» ранее, чётко отложила информацию о скором прилёте боеприпаса, буквально секунды, а, может, больше? Он не мог вспомнить, как долго он смотрел тогда, в первый раз, как бойцы Красной армии уходят в смертельный бой.
Сергей подсел и перехватил сзади руку толкающего, рывком да с подбивом бедра перекинул метра на два вперёд из «смертельной» воронки собрата и быстро пополз вперёд.
Разрыв!
Звон!
Пронзительная боль на долю секунды, но которую невозможно забыть!
Боль была настолько невыносимой, что сам смысл слова перерождался в нечто новое, более фундаментальное, чем просто жалкое слово «боль». Что-то ужасное! Это было…
Мерцающее сознание успело предположить: «Я в аду?!»
Глава 5.
Глаза открылись. Сквозь пыль и дым било солнце в залепленные всё тем же песком глаза.
Опять песок во рту. Везде!
Вдох!
Долгий! Продолжительный!
Два бревна от наката прижали Сергея к боковой стенке блиндажа. Напротив, в чаще искорёженных бревен просматривалось разорванное тело брата-фронтовика.
Форма! Шевроны! Валя!!!
Ещё прилёт! Где-то совсем рядом!
Пошла «стрелкотня» на левом фланге!
Рядом! Рядом!
Сергей освободился из-под завала брёвен и выбежал на позиции. Буквально чудом прошедшая мимо очередь не задела Сергея. Бросившись ближе к позиции ручного пулемета, он сумел скатиться в ячейку к своему пулемётчику с позывным «Пчела».
– Командир, ты где, …ля, ходишь?! – крикнул Пчела, продолжая выдавать короткие очереди на левый фланг наших позиций.
– Крой, командир! Там Кот кого-то из наших тащит! – продолжал кричать он.
Сергей видел, как Кот преодолевает последние метры до спасительной ячейки, волоча за собой бесформенное тело нашего боевого товарища! В бою он шёл уже на механике, ничего не замечая! Была задача! Вытащить раненого товарища! И Кот тащил. Он не смотрел назад…
Уйдя в запасную ячейку, ближе к левому флангу своих позиций, Сергей привёл на боевой взвод заранее приготовленный «Шмель» и произвёл выстрел в сторону врага, тем самым дав пару секунд Коту, чтобы уйти в ячейку.
«Как зашли?! Где четвёртая рота, которая прикрывала левый фланг?!» – думал Сергей.
Из глубины лесополосы выскочили двое в «мультикаме» с синими повязками на руках и закрепились метрах в пятнадцати от пулемёта. Сергею пришлось сместиться между Котом и Пчелой, чтобы предупредить крайнего об угрозе обхода.
С левого фланга пришедшие в себя остатки штурмовиков врага продолжали давить и забрасывать гранатами позицию, где вёл бой Кот.
Оставался один вариант – обеспечить огневую поддержку для отхода товарища в запасную пулеметную ячейку. Таким образом брат закрыл бы угрозу обхода и поддержал отход Сергея для закрепления на запасных позициях. Всё получилось, как по маслу!
И Кот рванул! Добежал! И вдвоём с Пчелой дали «стрелкотню».
Сергей рванул с места и побежал. Пробежал три метра, и тут со стороны, где засела группа, пытающаяся обойти позиции братьев, появилась фигура и что-то бросила в сторону укрытий группы Сергея. Тут же фигура, скошенная пулеметной очередью, неспешно завалилась вперёд.
Граната медленно летела за спины Пчелы и Кота. Сергей буквально летел мимо них. Братья продолжали вести бой, ничего не замечая сзади.
Сергей летел, как тогда, в космосе. Или, может, это было нечто другое?
Была лёгкость. Он знал: он успеет.
Да! Не было никаких сомнений!
Он всё понимал. Теперь он не колеблется... Он знает, что надо делать. Полное спокойствие.
Упав на гранату, он сжался в комок.
Глава 6.
– Что это у него в руке зажато? Смотри! – сказал боец из группы эвакуации своему товарищу.
Услышав это, Пчела не спеша подошёл и сказал, чтобы тело пока не трогали. Всё имущество сейчас заберут и передадут родственникам. Возражений не было.
Всё личное имущество командира, которое находилось на нём, Пчела упаковал в водонепроницаемый контейнер. Лишь странный небольшой предмет с налипшей грязью, который он вынул из руки Сергея, лежал на цинке от патронов.
Пчела взял в руки этот предмет. Сплюнув на него, начал тереть о рукав. В скором времени на ладони появилась золотистая пуговица, на которой значилась цифра «семь».
Глава 1.
С трудом, путём запугивания и шутками Сергею удалось помимо положенных на своих бойцов четырёх с половиной литров питьевой воды в сутки «выцыганить» ещё одну полуторалитровую бутылку. Но не думайте, что этим всё закончилось. Половина личного запаса, а это 30–40 грамм оружейного масла, перекочевала в карман «дающего по-братски». Но это стоило того. Вода – жизнь!
При таких тяжёлых физических нагрузках, как строительство блиндажей, коп индивидуальных ячеек и многих других, еда важна, да, но вода!..
Сбор конденсата помогал, но в подавляющем большинстве попыток он был безуспешен. То сильный ветер сорвёт натянутый на распорки полиэтилен, то гостинец от врагов, разорвавшись где-то недалеко, разобьёт мечты о безлимитном водопое в пух и прах.
Убрав «золотой запас» в рюкзак, Сергей не сразу отправился на свои позиции. По дороге он сумел чудом раздобыть пять скоб для крепления брёвен на накат блиндажа и обменять пачку сигарет на чудесное лакомство! 240-граммовая баночка ставриды в масле! Остаток приклеенной этикетки свисал с этого чудесного подарка судьбы, а утреннее солнышко, пробивая обожжённые кроны деревьев лесополосы, играло зайчиками, попадая на частично обнажённый металл рыбного сокровища. Когда оба фронтовика ударили по рукам, у Сергея на лице невольно появилась улыбка, но, вспомнив, где он находится и к чему может привести этот «блестящий маячок», он быстро положил предмет обмена в карман бушлата, испещрённого «шрамами» от штопки.
Не спеша, с улыбкой на лице Сергей шёл по извилистой тропинке, которая соединяла позиции подразделения, посматривая в правую сторону, на поле.
Всё поле было усеяно кратерами от прилётов и очень сильно напоминало поверхность Луны, но местами вырванный взрывами чернозём и зелёно-коричневые сгустки прошлогодней полугнилой травы возвращали фантазию из космоса обратно, на несчастную Землю. Там, справа, метрах в трехстах, находился враг. Коварный, опасный, умный.
На позиции, которую занимало подразделение, уже вовсю кипела работа. Кто-то обустраивал свои огневые ячейки, усердно врываясь всё глубже и глубже, кто-то занимался строительством нового блиндажа.
Зайдя в первый блиндаж, где находились спальные места и печка, он встретил своего брата-фронтовика Валентина, который готовил нехитрый завтрак для своих боевых товарищей. Без лишних слов Сергей, глядя на Валентина, начал медленно извлекать из рюкзака бутылку за бутылкой с питьевой водой. Когда рука полезла в рюкзак в четвёртый раз, лицо Валентина заметно напряглось. С лицами профессиональных игроков в покер, оставшимися вдвоём в финале, они смотрели друг другу глаза в глаза, и как только четвёртая бутылка показалась в сумраке блиндажа, Валентин растянулся в улыбке и громко сказал:
– Да ладно!!!
А Сергей с явно сдерживаемой улыбкой запустил руку в рюкзак четвёртый раз.
Валентин, почти смеясь, спросил:
– Что? Пятая?
Сергей, уже не в силах сдерживать улыбку, резко вынул из рюкзака скобы, заботливо замотанные в полиэтилен, и, подняв их над головой, торжественно ответил:
– Не пятая! А пять!
– Серёга, откуда?! – спросил Валентин.
– Ловкость рук и никакого мошенничества! – с заметной гордостью ответил Сергей.
Там, где они находились, не было ничего, кроме обугленных деревьев. Порой дело доходило до обмена пачки сигарет на камень размером с кулак. Да, да! Вы не ослышались! Спросите, для чего? А для всего! Для забивания гвоздей, обкладки печей, да много для чего. Некоторые нерадивые братья, понадеявшись на заверения «Там всё дадут», так и приехали без шанцевого инструмента, гвоздей и прочего, о чём впоследствии горько сожалели.
На памяти Сергея самый ценный обмен происходил очень серьёзно. Ситуация напоминала девяностые годы.
Бородатые, стриженые люди с автоматами – с одной стороны, такие же – по другую.
Загород.
Одна тысяча пятьсот шестнадцать километров от Ленинграда. Между ними стоит пошарпанный, но, тем не менее, крепкий ящик когда-то зелёного цвета, из-под боеприпасов.
– Сколько? – спрашивает один.
– Не продается, – отвечает переговорщик с другой стороны.
Но противоположная сторона не теряет надежду и начинает торг:
– Шесть!
– Не продается! – явно набивая цену, отвечает бородач напротив.
И в итоге, уже минут через десять, стороны всё-таки находят компромисс.
– Двенадцать!
Две группы угрюмых мужиков сходятся в цене; довольные, расходятся по своим позициям.
Внимание! Вопрос для знатоков: что было в ящике? И чего было двенадцать?
А теперь – правильный ответ! Гонг!
В ящике… ничего не было!
Ничего…в обмен на двенадцать… двенадцать пачек сигарет!
Тишина в зале, все в шоке...
Да, в ящике на самом деле ничего не было. Судорожная борьба с двухходовыми психологическими играми велась за пустой ящик. А что такое ящик? Это и столешница, и металлические уголки, соединяющие стенки, и полусгнившие саморезы, и прочее. Ах, какое множество полезных вещей можно извлечь из него, а применить, например, для хранения?! Как ёмкость! Это уже просто «буржуинство» какое-то! Смеялись оба: и Валя, и Сергей.
Как фокусник Кио, Сергей ловким движением руки вынул из кармана рыбную консерву, чтобы окончательно удивить боевого товарища, но вдруг в глазах всё погасло.
Глава 2.
Пронеслись облака, планеты, а потом снова темнота и вдруг – резкий звон в ушах, как будто ты прикоснулся к старому электрическому звонку, что дарит детям долгожданную перемену между уроками.
Комья земли посыпались сверху. Кто-то сзади схватил Сергея за шиворот и с отборным матом потащил его из воронки туда, откуда неслась навстречу, как ощущал Сергей, смерть.
Сергей буквально вылетел из воронки и увидел перед собой солдат, бегущих в дым, окутавший всё на сто метров вперёд. Кто-то падал тряпичной куклой, некоторые после ближнего разрыва от прилёта просто исчезали, не оставив от себя ничего.
Мощная рука невидимого матершинника не отпускала и продолжала толкать вперёд Сергея, сопровождая криками и давая ему всё новые и новые характеристики: кто он, что он и куда ему засунут какую-то «жлыгу», чтобы ему быстрее бежалось! Рука толкала вперёд!
С самого начала, как только Сергей пришёл в себя, он не мог вспомнить, понять: что произошло? Почему атака? Подготовки не было, бодались на передке умеренно, а тут! Зачем?..
Разрыв!
Сергей упал. Наконец-то рядом он увидел своего визави. Тот что-то пытался сказать, но красная, в пузырях пена изо рта не давала возможности сделать это. Не прошло и пяти секунд, как тело толкающего обмякло. Лишь редкие конвульсии, а пульсирующие струйки крови из туловища забрызгивали ноги Сергея. Нереально трясущаяся рука с вытянутым указательным пальцем показывала в сторону, куда бежали оставшиеся бойцы, падая друг за другом. И тут пришло осознание происходящего: пришёл в действие механизм. Механизм, где работа, как называют братья, побывавшие «за речкой», «за лентой», превратилась в рутину.
«Странная форма!» – подумал Сергей про себя, обратив внимание на «селедку» (форменное обмундирование бойца Красной армии).
И вновь – удар, новая боль! Но Сергей не потерял сознание. Звон, крики, стоны.
Протерев глаза, Сергей увидел опять же того обнаглевшего матерщинника с вытянутой рукой в форме, но в форме старой, выцветшей, непривычной, хотя до боли знакомой. Одна нога Сергея никак не хотела подниматься, как будто застряла в вязком, хлюпающем болоте. Полузалепленными песком глазами он всё-таки увидел причину. Его грязный сапог плотно застрял в разорванном теле человека, одетого в форму бойца Красной армии, а рядом лежала та самая (да!) винтовка Мосина. В противоположной стороне валялся пистолет, пулемёт Шпагина, с причудливо изогнутым от попадания осколков затворным коробом. Рука потянулась к винтовке...
И снова боль! А потом опять крики, визг, звон в ушах. Но мозг работал! Всё остальное просто исчезло.
«Бред! Не может быть! Я, наверное, в «ауте»! Мне всё кажется! Я не мог! Всё это сказки!» – думал Сергей.
Но мозг и тут начал пытаться инстинктивно выстраивать ситуации самосохранения.
«Нет!.. Нет!.. Это всё рассказы! Начитался! Попаданец? Ну, даже если так!»
Знания по географии и истории боев в этих местах у Сергея отсутствовали от слова «совсем». Почему-то, несмотря на всю стрессовость ситуации, вспомнился монолог Обломова со словами о Сиалефкте и Чингригупте, но очередной прогремевший рядом разрыв быстро вернул его в реалию происходящего.
Кто-то скажет: «Да нет! Так не может быть!»
Но иногда секунды превращаются в часы, так похожие друг на друга, и ты не ощущаешь течения времени, не понимаешь его назначения – полная прострация от всего.
И опять боль!
Опять полёт! Опять множество непонятных, ранее даже не виданных планет!
Тишина. Полное спокойствие. Умиротворение... Радость...
Глава 3.
Я лечу... Я могу не дышать... Я не хочу двигаться... Я – общее, целое не важно, чего…
Почему-то захотелось вздохнуть, так… напоследок.
Противные крики стали медленно наполнять тот бездонный, тихий космос, в котором невесомо плыл Сергей. Стоны стали более отчетливыми, и громкость нарастала всё больше и больше. Отчаянно захотелось дышать, но ничего не получалось. Охватила паника, но мозг, как отдельная личность, дал команду телу: «Двигаться! Двигаться!»
Сергей почувствовал под руками вязкую, холодную жижу. Оттолкнувшись руками, он поднял голову из огромной грязевой лужи, сопроводив это мощным вдохом. Вдохнуть не получилось. Грязь, казалось, изнутри забила тело солдата.
Жадно хватая воздух, Сергей начал, стоя на коленях, протирать залепленные грязью глаза.
Слух неожиданно полностью восстановился. Сергей открыл глаза, и ему предстала следующая картина.
Четыре лошади с диким ржанием бегали, как заведённые, туда и обратно по небольшому участку поля, молотя копытами всё, что попадало под них. В клубах дыма виднелись тёмные всадники, которые, размахивая саблями, методично заставляли падать пехотинцев в серой форме и в странных чёрных шляпах высокой цилиндрической формы с широкими полями. Множество тел, судя по цвету одежды, пехотинцев, было хаотично разбросано по неровному полю. Виднелись и тела в тёмной одежде, мощные туши мёртвых лошадей.
От всего этого Сергея отделяло полсотни метров и перекошенный, полуразбитый фрагмент поредевшего деревянного забора.
Сергей медленно осмотрел себя и, несмотря на грязь, увидел, что одежда его – тёмного цвета. Что-то болталось на боку и мешало встать на ноги. Посмотрев, Сергей обнаружил у себя упиравшиеся в землю ножны, тут же перед ним из грязи торчала сабля. Трехдужечная гарда с едва проглядывающей позолотой.
Над ухом справа раздался визг пули, которая с чавканьем угодила во что-то сзади. Схватив саблю, Сергей резко развернулся назад и, выставляя её перед собой, буквально насадил на неё человека в сером мундире, пытавшегося произвести удар сверху прикладом ружья. Поскользнувшись на заляпанной грязью «ташке» с вензелем Александра Первого, тело нападавшего с жалобным лицом начало резко заваливаться направо, утягивая руку Сергея, в которой находился клинок, буквально выворачивая ему пальцы. С трудом выдернув руку, Сергей ногами оттолкнул тело и, схватив обеими руками торчащую из тела саблю, попытался вытащить. Хватаясь за мундир, он порвал его окончательно, при этом пара пуговиц с цифрой «семь» отлетели в сторону.
Редкие выстрелы, звон, крики и прочий ужас сместились намного дальше в противоположную сторону. Слышны были лишь редкие стоны раненых.
Впереди, метрах в десяти, пытался подняться на ноги человек в чёрной форме.
«Гусар! Точно гусар! Чакчиры (узкие штаны), куртка с мехом! Наш! Александрийский гусарский! Наш!!!» – чуть было вслух не прокричал Сергей.
«Значит, не своего завалил! – отлегло от сердца у Сергея. – А эти егеря – австрийцы в сером! «Корсиканка», истоптанная лошадиными копытами, та самая необычная чёрная шляпа! Точно, егерь!»
Уж в этом-то Сергей разбирался!
Давным-давно, ещё в середине восьмидесятых, мать с отцом частенько выезжали на выходные к крёстному Сергея в Старый Петергоф.
У крёстного был сын Андрей, с которым Сергей рисовал на клетчатых листах из школьной тетради фигуры мушкетёров, уланов, гусар, после чего мальчишки вырезали их ножницами с небольшим отрезом под площадку. Затем этот край складывался и получался настоящий бумажный солдатик.
Форму и вооружение изучали скрупулезно. Каждому хотелось блеснуть своими выдающимися знаниями.
Сергей медленно подошёл к уже вставшему и опирающемуся на саблю гусару. Из его головы шла кровь, нижняя часть правой ноги была стёрта вместе с тканью и мясом в одну непонятную субстанцию и походила на некий влажный нарост.
– Живые, брат! – улыбаясь, тихо сказал гусар.
Сергей тоже невольно растянулся в улыбке и уже сделал шаг вперёд, чтобы помочь боевому товарищу, как вдруг увидел позади его, метрах в пяти, поднимающуюся из сутолоки тел руку с пистолем, явно направленным в их с чёрным гусаром сторону.
Сергей резким толчком левой руки оттолкнул еле стоявшего гусара в сторону, а сам хотел уйти вправо, но прогремел выстрел. Опять секунды растянулись в длинные, долгие реки времени. Осознав, что уйти с линии огня не хватает времени, Сергей про себя крикнул: «Бл…»
Крик растянулся, но тут же все закончилось. Пустота…
Глава 4.
Резкий свет! Движение с невозможной скоростью вперёд! Боковое зрение размыто, смазано от невообразимой скорости!
Ярко!
Очень ярко!
Разрыв! Звон!
Открылись глаза.
Сергея осыпало землёй. Кто-то схватил его сзади за отворот гимнастёрки и опять, знакомым голосом обкладывая матом, потащил Сергея из воронки. Память пережитого в предыдущий раз, несмотря на скоротечность событий, происшедших «прыжком» ранее, чётко отложила информацию о скором прилёте боеприпаса, буквально секунды, а, может, больше? Он не мог вспомнить, как долго он смотрел тогда, в первый раз, как бойцы Красной армии уходят в смертельный бой.
Сергей подсел и перехватил сзади руку толкающего, рывком да с подбивом бедра перекинул метра на два вперёд из «смертельной» воронки собрата и быстро пополз вперёд.
Разрыв!
Звон!
Пронзительная боль на долю секунды, но которую невозможно забыть!
Боль была настолько невыносимой, что сам смысл слова перерождался в нечто новое, более фундаментальное, чем просто жалкое слово «боль». Что-то ужасное! Это было…
Мерцающее сознание успело предположить: «Я в аду?!»
Глава 5.
Глаза открылись. Сквозь пыль и дым било солнце в залепленные всё тем же песком глаза.
Опять песок во рту. Везде!
Вдох!
Долгий! Продолжительный!
Два бревна от наката прижали Сергея к боковой стенке блиндажа. Напротив, в чаще искорёженных бревен просматривалось разорванное тело брата-фронтовика.
Форма! Шевроны! Валя!!!
Ещё прилёт! Где-то совсем рядом!
Пошла «стрелкотня» на левом фланге!
Рядом! Рядом!
Сергей освободился из-под завала брёвен и выбежал на позиции. Буквально чудом прошедшая мимо очередь не задела Сергея. Бросившись ближе к позиции ручного пулемета, он сумел скатиться в ячейку к своему пулемётчику с позывным «Пчела».
– Командир, ты где, …ля, ходишь?! – крикнул Пчела, продолжая выдавать короткие очереди на левый фланг наших позиций.
– Крой, командир! Там Кот кого-то из наших тащит! – продолжал кричать он.
Сергей видел, как Кот преодолевает последние метры до спасительной ячейки, волоча за собой бесформенное тело нашего боевого товарища! В бою он шёл уже на механике, ничего не замечая! Была задача! Вытащить раненого товарища! И Кот тащил. Он не смотрел назад…
Уйдя в запасную ячейку, ближе к левому флангу своих позиций, Сергей привёл на боевой взвод заранее приготовленный «Шмель» и произвёл выстрел в сторону врага, тем самым дав пару секунд Коту, чтобы уйти в ячейку.
«Как зашли?! Где четвёртая рота, которая прикрывала левый фланг?!» – думал Сергей.
Из глубины лесополосы выскочили двое в «мультикаме» с синими повязками на руках и закрепились метрах в пятнадцати от пулемёта. Сергею пришлось сместиться между Котом и Пчелой, чтобы предупредить крайнего об угрозе обхода.
С левого фланга пришедшие в себя остатки штурмовиков врага продолжали давить и забрасывать гранатами позицию, где вёл бой Кот.
Оставался один вариант – обеспечить огневую поддержку для отхода товарища в запасную пулеметную ячейку. Таким образом брат закрыл бы угрозу обхода и поддержал отход Сергея для закрепления на запасных позициях. Всё получилось, как по маслу!
И Кот рванул! Добежал! И вдвоём с Пчелой дали «стрелкотню».
Сергей рванул с места и побежал. Пробежал три метра, и тут со стороны, где засела группа, пытающаяся обойти позиции братьев, появилась фигура и что-то бросила в сторону укрытий группы Сергея. Тут же фигура, скошенная пулеметной очередью, неспешно завалилась вперёд.
Граната медленно летела за спины Пчелы и Кота. Сергей буквально летел мимо них. Братья продолжали вести бой, ничего не замечая сзади.
Сергей летел, как тогда, в космосе. Или, может, это было нечто другое?
Была лёгкость. Он знал: он успеет.
Да! Не было никаких сомнений!
Он всё понимал. Теперь он не колеблется... Он знает, что надо делать. Полное спокойствие.
Упав на гранату, он сжался в комок.
Глава 6.
– Что это у него в руке зажато? Смотри! – сказал боец из группы эвакуации своему товарищу.
Услышав это, Пчела не спеша подошёл и сказал, чтобы тело пока не трогали. Всё имущество сейчас заберут и передадут родственникам. Возражений не было.
Всё личное имущество командира, которое находилось на нём, Пчела упаковал в водонепроницаемый контейнер. Лишь странный небольшой предмет с налипшей грязью, который он вынул из руки Сергея, лежал на цинке от патронов.
Пчела взял в руки этот предмет. Сплюнув на него, начал тереть о рукав. В скором времени на ладони появилась золотистая пуговица, на которой значилась цифра «семь».

Ольга БОГОМАЗОВА
Богомазова Ольга Владимировна (псевдоним Оля Женина). Родилась 15 ноября 1974 года в Екатеринбуре. Много лет пишу статьи в свой авторский тревел-блог. Заканчиваю писать сборник юмористических детских рассказов «Женькины истории», которую одобрило крупное детское издательство.
Богомазова Ольга Владимировна (псевдоним Оля Женина). Родилась 15 ноября 1974 года в Екатеринбуре. Много лет пишу статьи в свой авторский тревел-блог. Заканчиваю писать сборник юмористических детских рассказов «Женькины истории», которую одобрило крупное детское издательство.
МАМА, Я ЛЕНИНА УБИЛА!
Сашенька зажмурила глаза. Резко вдохнула и размахнулась. Потом шумно выдохнула и ударила камнем по лицу маленького Володи Ульянова. Грохот от камня и какой-то странный скрежет заставил Сашеньку открыть глаза. Нос маленького Володи расплющился, отчего лицо стало походить на ехидного пекинеса. Такого же, как у соседки тёти Любы с третьего этажа. С вечно трясущимся языком и очень злобными глазами. Вот только глаза маленького Володи были по-прежнему добры и смотрели с той самой — именной, нежной улыбкой.
Сашенька решила, что бить надо именно по глазам, живым свидетелям того, отчего в это тёплое лето, всего лишь восьмое в ее жизни, она превращалась в невольного палача.
Сашенька опять размахнулась и ударила.
С каждым ударом разлетались из-под камня красные ошмётки. Иногда появлялись слабые искорки.
С каждым ударом лицо маленького вождя превращалось в бесформенную золотую массу.
С каждым ударом уходило то, что поселилось глубоко внутри, и то, что Сашенька даже не могла объяснить. Что-то странно сжимающее, заставляющее прятать глаза.
То, что принуждало казаться себе какой-то крошечной и почему-то очень чумазой. И от этой чумазости и какой-то неопрятности хотелось стать совсем незаметной, а лучше и вообще исчезнуть…
А как хорошо, как замечательно спокойно было десять дней назад. Сначала – сборы. И был вытащен старенький шоколадный чемоданчик. Поглажены и упакованы в аккуратные стопочки вещи. И появились этот восторг и эта потребность со всеми во дворе поделиться своей радостью. И все эту радость принимали с большим желанием и, подмигивая, говорили:
— Вот и Сашенька стала совсем взрослая. Вот и она едет в пионерский лагерь.
А потом — вечерние переживания: как бы не пошел дождь, как бы не проспать автобус. Потом — много детей и новые знакомства. И вот уже звуки звонкого горна. И вот уже объявляют, что к Лёше Сидорову приехали родители, и тоненький мальчишка с конопатым носом, счастливо и гордо улыбаясь, бежит за порцией ранней родительской любви. А к вечеру, сидя у костра и распевая во весь свой беззубый рот, Сашенька ощущает, как наступает настоящее лагерное лето. Такое же, как и она сама. Беззубое. Безопасное. По-детски долгожданное.
И вот уже все разбредаются кучками. И у всех кучек свои секретики. А у Сашеньки секретиков больше. Она — командир звёздочки. Пять человек, как пять лучей. Как на той звездочке, откуда смотрит на веселых октябрят маленький Володя Ульянов. Мама ту звездочку сразу Сашеньке на грудь приколола, чтобы не потерялась эта лучистая драгоценность.
Растрёпанная после сончаса, спешит Сашенька в кружок. Хочется всё. И мягкую собачку, и лошадку кожаную, и чеканную картинку. А пусть сегодня будет чеканка. Конечно, пусть. Сашенька и пухленькая, похожая на румяную баранку, Лида деловито стукают острыми палочками по махонькой серебряной пластинке. Пока по махонькой, потому что самые младшие.
А мальчики из старших отрядов выстукивают серьезные картины. Они приходят и за руку здороваются с учителем. Весь лагерь считает, что похож он на Владимира Ильича Ленина. Сергей Ильич Лукьянов и сам знает про свое сходство с великим вождем. И оно, это сходство, льстит ему и дает ощущение своей огромной значимости.
Учитель Сергей Ильич Лукьянов Сашеньке нравится. Нравится его старенький вязаный жилет, его кудряшки вокруг лысины, нравится его ленинская улыбка и тихий, вкрадчивый голос. Дедушки у Сашеньки не было, но если бы был, то хотелось, чтобы походил он на Сергея Ильича.
Ах, как хотелось быть уже взрослой, чтобы тоже вот так, запросто здороваться с учителем за руку и тихим голосом обсуждать великое искусство.
Через пару дней Сашенька, краснея, несмело показывает картину учителю. Учитель смотрит на картину, хвалит, ласково улыбается и тихо говорит:
— Молодец, Сашенька, хорошо получается.
А потом вдруг протягивает руку. Сашенька алеет от гордости, несмело поднимает свою. И тут же вздрагивает. Как от злой крапивы вздрагивает. Рука учителя, минуя Сашенькину руку, порхает куда-то за спину. Потом — вниз. Под ситцевое платьице. И поглаживает, похлопывает то, что одето в голубые трикотажные трусики.
И как-то сразу стало всё не так. Как-то стало неуютно и тревожно. Сразу захотелось плакать. И отчаянно захотелось, чтобы того, что случилось, никогда не было. И захотелось уйти, убежать. Но Сашенька замирает, молчит и ничего не делает. Только, расширив глаза, смотрит на свою работу и гулом в ушах слышит чужое шумное дыхание.
А уже потом, выйдя из кружка, Сашенька идёт по главной аллее и думает. Что же это? И почему? А, быть может, так и надо? А, быть может, это просто показалось и переживать незачем?! Ведь взрослые, ведь они же взрослые…
А через два дня Сашенька в пустой палате в углу видит Лиду. Скрючившись, Лида размазывает слёзы по уже совсем промокшему лицу.
— Лид, ты чего? По маме скучаешь? А?
Лида судорожно вздыхает, почему-то натягивает на облупленные коленки свое платье, прижимая к ним мокрый подбородок. Как будто хочет вся скрыться. Стать ситцевым коконом. А потом вдруг резко, как от удара, выпрямляется. Сашенька чувствует боль на коже от Лидиных пальцев и слышит яростный шепот:
— Ты никому не скажешь?! Точно никому?!
Не отрывая взгляда от Лиды, Сашенька медленно мотает головой.
— Он меня… трогал. Трогал… там…
— Где… там?
И хотя Сашенька уже поняла и кто, и где, она всё равно это спросила. Спросила, а сама не хотела и страшилась услышать ответ. Лида кладет руку себе на животик. Туда, где кончались тесёмки пояска желтого платьица с ярко-красными аппетитными клубничками.
Расширив глаза, как будто увидев что-то страшное, Лида опускает глаза туда, к самым краешкам тесемок и как будто с трудом сжимает и разжимает губы. И часто-часто их облизывает. И шепчет. Без слов шепчет.
И по тому, как Лида шепчет, и по тому, как вдруг в бессловесном плаче у нее трясутся плечи, Сашенька почему-то судорожно начинает дышать. Она вдруг понимает то, чего не поняла тогда. Что это — плохо. Что то, что произошло с ней и с Лидой, это неправильно. И Сашенька вспоминает, как она подалась вся вперед навстречу той взрослой руке, и чувствует, как крапивным укусом полыхает там, под ее юбочкой. И начинает задыхаться от этой нестерпимой необходимости сказать о своем.
Сашенька Лиде на ухо тихонько рассказывает о своем секрете и через минуту, всхлипывая и взявшись за руки, они тихонько обсуждают, что им делать дальше. Можно так было или нельзя — вот вопрос, который мучает их. Пошептавшись, они решают, что Лида пойдет к знакомой старшей девочке. И расскажет. И, может быть, что-то прояснится.
Вечером были песни, и все как-то даже подзабылось. И в палате девчонки рассказывали страшные истории, визжали и притворно боялись. А утром, как и было заведено, звездочки пошли на уборку территории. Подметая ежистые шишки, Сашенька слышит чей-то голос и поднимает голову.
Около корпуса, сгорбившись, стоит Лида, а вокруг нее кучка девочек из разных отрядов. Слышны злые смешки и громкие возгласы:
— Раз она шалава, то так ей и надо!
— Врет она, такого не бывает!
— Толстая, ляхи жирные, сама дает!
— Юбку ей задери, чо там у нее?!
Лида плачет и, не стремясь убежать, делает вялые движения то вправо, то влево, то назад, стараясь увернуться от чужих ладоней и кулаков. Судорожно порхает взгляд от одного к другому, натыкается на Сашеньку.
Чувствуя, что как колючей веревкой поднимается к горлу страх, Сашенька растеряно и лихорадочно моргает. Замечает, как под рубашкой начинают мелко дрожать худенькие плечи. И почему-то холодно, очень холодно. И не можно такое выдержать. Медленно Сашенька отворачивается. И уходит на ставших чужими ногах, и слышит в ушах злобные молоточки. Барабанными палочками отбивают они строгий ритм. Тру-си-ха. Тру-си-ха. Труси-ха.
Весь день вокруг Лиды прыгают октябрята и пионеры, девочки и мальчики. Толкают, поднимают юбку, сыплют на голову мусор из сухих веток и колючих шишек.
А с утра, ко всеобщему восторгу обнаруживая ее в мокрой кровати, продолжают все с удвоенной силой. Все сторонятся Лиду, даже вожатая Ксюша и воспитатель Тамара Петровна не препятствуют этому злобному детскому карнавалу, а наоборот, делая озабоченные лица, вслух рассуждают о «черте-каком ребенке» и о том, что уж они-то тут точно ни при чем.
А потом тетя Маша-уборщица, маленькая, седая, без передних зубов, ударила по спине Игорька Щапова из четвертого отряда. Он, взяв сучковатую палку, пытался поднять Лиде юбку. Ударила пустым ведром и прошипела:
— Привыкай руки в карманах держать. С малолетки привыкай.
А потом обвела всех взглядом — тяжелым взглядом из-под набрякших в складочку век — и чисто сказала:
— С-с-ссучонок.
И с этого дня стали все ходить мимо Лиды. Так, как будто ее и вовсе не было. И Сашенька тоже. Мимо.
Через два дня опухшую от слез Лиду увозит мать, и Сашенька долго стоит около ворот, смотря вслед давно уехавшему автомобилю. Она никак не может понять, что же произошло. Произошло не с Лидой, а произошло с ней, хорошей девочкой. Как и почему и в какое мгновение она стала такой же злой и жестокой предательницей. Такой же, как и те, у которых такого не было, а у нее как раз было. И кто во всем этом виноват, и как теперь с этим жить.
Сашенька стала сторониться ребят и нашла себе местечко за старой брошенной беседкой, где можно было сидеть одной и не надо было слушать то, что говорили о Лиде. Как-то, делая очередной секретик, она вздрогнула от шагов и услышанных голосов. По голосам она поняла, что к беседке подошли две лагерные уборщицы: в своей красной выцветшей панамке и от этого похожая на грибок тетя Маша и молодая кудрявая тетя Зоя.
Сашенька услышала, как чиркнули спички. Увидела, как мимо полетел, поструился голубой дымок, и послышались обрывки непонятных фраз.
Говорили они о Лиде. Тетя Зоя говорила, что не верит, а тетя Маша ругалась. Ругалась страшными словами. Стыдными для Сашеньки. Но почему-то из-за тех слов захотелось Сашеньке прижаться к ней. И чтобы та обняла ее крепко-крепко. И чтоб не отпускала.
А потом она услышала, что тетя Маша сильно закашляла, густо сплюнула и сказала:
— …убила бы гада! Камнем, да по рылу…Айда, Зойка, трубят уже!
Уже издалека слышит Сашенька звон пустых ведер и призывный звук пионерского горна. Осторожно выходит из своего укрытия.
Сжимая кулак, шурша сандаликами, Сашенька бежит по главной аллее. Мимо голубой столовой! Мимо разноцветных корпусов! Мимо клуба с кружками! Мимо! Мимо! Туда, к забору, за которым таится любимая Сашенькина речка. Туда! Вот она! Шуршит маленькая волна, что-то шепчет, успокаивает. Пенкой молочной моет камушки.
Она разжимает кулачок и видит следы от впившихся лучей октябрятской звездочки. Луч солнца попал на нее, и Сашенька еще ярче видит, как заблестели кудряшки и залоснилось лицо маленького Ильича.
Положив звёздочку на камень и взяв другой, побольше и потяжелее, Сашенька зажмурила глаза и размахнулась…
А потом, разглядывая металлический блин, она представила на этом месте другое лицо и ясно вспомнила ту самую руку. И так нестерпимо захотелось быть далеко — и от этого берега, и от этого звука пионерского горна, и от той комнаты, где живет та страшная рука. Сашенька посмотрела на свои руки. Опять с отчаянной силой вздохнула, до искорок в глазах зажмурилась и что есть силы ударила…
Очнулась она в лагерном изоляторе. Все было снежно-белым и чистым. Через открытое окно слышны были птичьи разговоры, и где-то вдалеке журчала детская жизнь. Как-то протяжно ныла рука и внутри было странно пусто. Подняв глаза, Сашенька увидела сидящую на кровати мать. Она гладила ее по забинтованной руке и тихонько плакала.
— Как ты, Сашенька?
Сашенька улыбнулась, повернула голову за прохладным оконным ветерком, помолчала и твердо, чувствуя какое-то удивительное облегчение, прошептала:
— Мама, я убила Ленина. Я его убила.
Сашенька зажмурила глаза. Резко вдохнула и размахнулась. Потом шумно выдохнула и ударила камнем по лицу маленького Володи Ульянова. Грохот от камня и какой-то странный скрежет заставил Сашеньку открыть глаза. Нос маленького Володи расплющился, отчего лицо стало походить на ехидного пекинеса. Такого же, как у соседки тёти Любы с третьего этажа. С вечно трясущимся языком и очень злобными глазами. Вот только глаза маленького Володи были по-прежнему добры и смотрели с той самой — именной, нежной улыбкой.
Сашенька решила, что бить надо именно по глазам, живым свидетелям того, отчего в это тёплое лето, всего лишь восьмое в ее жизни, она превращалась в невольного палача.
Сашенька опять размахнулась и ударила.
С каждым ударом разлетались из-под камня красные ошмётки. Иногда появлялись слабые искорки.
С каждым ударом лицо маленького вождя превращалось в бесформенную золотую массу.
С каждым ударом уходило то, что поселилось глубоко внутри, и то, что Сашенька даже не могла объяснить. Что-то странно сжимающее, заставляющее прятать глаза.
То, что принуждало казаться себе какой-то крошечной и почему-то очень чумазой. И от этой чумазости и какой-то неопрятности хотелось стать совсем незаметной, а лучше и вообще исчезнуть…
А как хорошо, как замечательно спокойно было десять дней назад. Сначала – сборы. И был вытащен старенький шоколадный чемоданчик. Поглажены и упакованы в аккуратные стопочки вещи. И появились этот восторг и эта потребность со всеми во дворе поделиться своей радостью. И все эту радость принимали с большим желанием и, подмигивая, говорили:
— Вот и Сашенька стала совсем взрослая. Вот и она едет в пионерский лагерь.
А потом — вечерние переживания: как бы не пошел дождь, как бы не проспать автобус. Потом — много детей и новые знакомства. И вот уже звуки звонкого горна. И вот уже объявляют, что к Лёше Сидорову приехали родители, и тоненький мальчишка с конопатым носом, счастливо и гордо улыбаясь, бежит за порцией ранней родительской любви. А к вечеру, сидя у костра и распевая во весь свой беззубый рот, Сашенька ощущает, как наступает настоящее лагерное лето. Такое же, как и она сама. Беззубое. Безопасное. По-детски долгожданное.
И вот уже все разбредаются кучками. И у всех кучек свои секретики. А у Сашеньки секретиков больше. Она — командир звёздочки. Пять человек, как пять лучей. Как на той звездочке, откуда смотрит на веселых октябрят маленький Володя Ульянов. Мама ту звездочку сразу Сашеньке на грудь приколола, чтобы не потерялась эта лучистая драгоценность.
Растрёпанная после сончаса, спешит Сашенька в кружок. Хочется всё. И мягкую собачку, и лошадку кожаную, и чеканную картинку. А пусть сегодня будет чеканка. Конечно, пусть. Сашенька и пухленькая, похожая на румяную баранку, Лида деловито стукают острыми палочками по махонькой серебряной пластинке. Пока по махонькой, потому что самые младшие.
А мальчики из старших отрядов выстукивают серьезные картины. Они приходят и за руку здороваются с учителем. Весь лагерь считает, что похож он на Владимира Ильича Ленина. Сергей Ильич Лукьянов и сам знает про свое сходство с великим вождем. И оно, это сходство, льстит ему и дает ощущение своей огромной значимости.
Учитель Сергей Ильич Лукьянов Сашеньке нравится. Нравится его старенький вязаный жилет, его кудряшки вокруг лысины, нравится его ленинская улыбка и тихий, вкрадчивый голос. Дедушки у Сашеньки не было, но если бы был, то хотелось, чтобы походил он на Сергея Ильича.
Ах, как хотелось быть уже взрослой, чтобы тоже вот так, запросто здороваться с учителем за руку и тихим голосом обсуждать великое искусство.
Через пару дней Сашенька, краснея, несмело показывает картину учителю. Учитель смотрит на картину, хвалит, ласково улыбается и тихо говорит:
— Молодец, Сашенька, хорошо получается.
А потом вдруг протягивает руку. Сашенька алеет от гордости, несмело поднимает свою. И тут же вздрагивает. Как от злой крапивы вздрагивает. Рука учителя, минуя Сашенькину руку, порхает куда-то за спину. Потом — вниз. Под ситцевое платьице. И поглаживает, похлопывает то, что одето в голубые трикотажные трусики.
И как-то сразу стало всё не так. Как-то стало неуютно и тревожно. Сразу захотелось плакать. И отчаянно захотелось, чтобы того, что случилось, никогда не было. И захотелось уйти, убежать. Но Сашенька замирает, молчит и ничего не делает. Только, расширив глаза, смотрит на свою работу и гулом в ушах слышит чужое шумное дыхание.
А уже потом, выйдя из кружка, Сашенька идёт по главной аллее и думает. Что же это? И почему? А, быть может, так и надо? А, быть может, это просто показалось и переживать незачем?! Ведь взрослые, ведь они же взрослые…
А через два дня Сашенька в пустой палате в углу видит Лиду. Скрючившись, Лида размазывает слёзы по уже совсем промокшему лицу.
— Лид, ты чего? По маме скучаешь? А?
Лида судорожно вздыхает, почему-то натягивает на облупленные коленки свое платье, прижимая к ним мокрый подбородок. Как будто хочет вся скрыться. Стать ситцевым коконом. А потом вдруг резко, как от удара, выпрямляется. Сашенька чувствует боль на коже от Лидиных пальцев и слышит яростный шепот:
— Ты никому не скажешь?! Точно никому?!
Не отрывая взгляда от Лиды, Сашенька медленно мотает головой.
— Он меня… трогал. Трогал… там…
— Где… там?
И хотя Сашенька уже поняла и кто, и где, она всё равно это спросила. Спросила, а сама не хотела и страшилась услышать ответ. Лида кладет руку себе на животик. Туда, где кончались тесёмки пояска желтого платьица с ярко-красными аппетитными клубничками.
Расширив глаза, как будто увидев что-то страшное, Лида опускает глаза туда, к самым краешкам тесемок и как будто с трудом сжимает и разжимает губы. И часто-часто их облизывает. И шепчет. Без слов шепчет.
И по тому, как Лида шепчет, и по тому, как вдруг в бессловесном плаче у нее трясутся плечи, Сашенька почему-то судорожно начинает дышать. Она вдруг понимает то, чего не поняла тогда. Что это — плохо. Что то, что произошло с ней и с Лидой, это неправильно. И Сашенька вспоминает, как она подалась вся вперед навстречу той взрослой руке, и чувствует, как крапивным укусом полыхает там, под ее юбочкой. И начинает задыхаться от этой нестерпимой необходимости сказать о своем.
Сашенька Лиде на ухо тихонько рассказывает о своем секрете и через минуту, всхлипывая и взявшись за руки, они тихонько обсуждают, что им делать дальше. Можно так было или нельзя — вот вопрос, который мучает их. Пошептавшись, они решают, что Лида пойдет к знакомой старшей девочке. И расскажет. И, может быть, что-то прояснится.
Вечером были песни, и все как-то даже подзабылось. И в палате девчонки рассказывали страшные истории, визжали и притворно боялись. А утром, как и было заведено, звездочки пошли на уборку территории. Подметая ежистые шишки, Сашенька слышит чей-то голос и поднимает голову.
Около корпуса, сгорбившись, стоит Лида, а вокруг нее кучка девочек из разных отрядов. Слышны злые смешки и громкие возгласы:
— Раз она шалава, то так ей и надо!
— Врет она, такого не бывает!
— Толстая, ляхи жирные, сама дает!
— Юбку ей задери, чо там у нее?!
Лида плачет и, не стремясь убежать, делает вялые движения то вправо, то влево, то назад, стараясь увернуться от чужих ладоней и кулаков. Судорожно порхает взгляд от одного к другому, натыкается на Сашеньку.
Чувствуя, что как колючей веревкой поднимается к горлу страх, Сашенька растеряно и лихорадочно моргает. Замечает, как под рубашкой начинают мелко дрожать худенькие плечи. И почему-то холодно, очень холодно. И не можно такое выдержать. Медленно Сашенька отворачивается. И уходит на ставших чужими ногах, и слышит в ушах злобные молоточки. Барабанными палочками отбивают они строгий ритм. Тру-си-ха. Тру-си-ха. Труси-ха.
Весь день вокруг Лиды прыгают октябрята и пионеры, девочки и мальчики. Толкают, поднимают юбку, сыплют на голову мусор из сухих веток и колючих шишек.
А с утра, ко всеобщему восторгу обнаруживая ее в мокрой кровати, продолжают все с удвоенной силой. Все сторонятся Лиду, даже вожатая Ксюша и воспитатель Тамара Петровна не препятствуют этому злобному детскому карнавалу, а наоборот, делая озабоченные лица, вслух рассуждают о «черте-каком ребенке» и о том, что уж они-то тут точно ни при чем.
А потом тетя Маша-уборщица, маленькая, седая, без передних зубов, ударила по спине Игорька Щапова из четвертого отряда. Он, взяв сучковатую палку, пытался поднять Лиде юбку. Ударила пустым ведром и прошипела:
— Привыкай руки в карманах держать. С малолетки привыкай.
А потом обвела всех взглядом — тяжелым взглядом из-под набрякших в складочку век — и чисто сказала:
— С-с-ссучонок.
И с этого дня стали все ходить мимо Лиды. Так, как будто ее и вовсе не было. И Сашенька тоже. Мимо.
Через два дня опухшую от слез Лиду увозит мать, и Сашенька долго стоит около ворот, смотря вслед давно уехавшему автомобилю. Она никак не может понять, что же произошло. Произошло не с Лидой, а произошло с ней, хорошей девочкой. Как и почему и в какое мгновение она стала такой же злой и жестокой предательницей. Такой же, как и те, у которых такого не было, а у нее как раз было. И кто во всем этом виноват, и как теперь с этим жить.
Сашенька стала сторониться ребят и нашла себе местечко за старой брошенной беседкой, где можно было сидеть одной и не надо было слушать то, что говорили о Лиде. Как-то, делая очередной секретик, она вздрогнула от шагов и услышанных голосов. По голосам она поняла, что к беседке подошли две лагерные уборщицы: в своей красной выцветшей панамке и от этого похожая на грибок тетя Маша и молодая кудрявая тетя Зоя.
Сашенька услышала, как чиркнули спички. Увидела, как мимо полетел, поструился голубой дымок, и послышались обрывки непонятных фраз.
Говорили они о Лиде. Тетя Зоя говорила, что не верит, а тетя Маша ругалась. Ругалась страшными словами. Стыдными для Сашеньки. Но почему-то из-за тех слов захотелось Сашеньке прижаться к ней. И чтобы та обняла ее крепко-крепко. И чтоб не отпускала.
А потом она услышала, что тетя Маша сильно закашляла, густо сплюнула и сказала:
— …убила бы гада! Камнем, да по рылу…Айда, Зойка, трубят уже!
Уже издалека слышит Сашенька звон пустых ведер и призывный звук пионерского горна. Осторожно выходит из своего укрытия.
Сжимая кулак, шурша сандаликами, Сашенька бежит по главной аллее. Мимо голубой столовой! Мимо разноцветных корпусов! Мимо клуба с кружками! Мимо! Мимо! Туда, к забору, за которым таится любимая Сашенькина речка. Туда! Вот она! Шуршит маленькая волна, что-то шепчет, успокаивает. Пенкой молочной моет камушки.
Она разжимает кулачок и видит следы от впившихся лучей октябрятской звездочки. Луч солнца попал на нее, и Сашенька еще ярче видит, как заблестели кудряшки и залоснилось лицо маленького Ильича.
Положив звёздочку на камень и взяв другой, побольше и потяжелее, Сашенька зажмурила глаза и размахнулась…
А потом, разглядывая металлический блин, она представила на этом месте другое лицо и ясно вспомнила ту самую руку. И так нестерпимо захотелось быть далеко — и от этого берега, и от этого звука пионерского горна, и от той комнаты, где живет та страшная рука. Сашенька посмотрела на свои руки. Опять с отчаянной силой вздохнула, до искорок в глазах зажмурилась и что есть силы ударила…
Очнулась она в лагерном изоляторе. Все было снежно-белым и чистым. Через открытое окно слышны были птичьи разговоры, и где-то вдалеке журчала детская жизнь. Как-то протяжно ныла рука и внутри было странно пусто. Подняв глаза, Сашенька увидела сидящую на кровати мать. Она гладила ее по забинтованной руке и тихонько плакала.
— Как ты, Сашенька?
Сашенька улыбнулась, повернула голову за прохладным оконным ветерком, помолчала и твердо, чувствуя какое-то удивительное облегчение, прошептала:
— Мама, я убила Ленина. Я его убила.

Антон ТЁМА
Родился в 1989 году в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Окончил Славянский сельскохозяйственный техникум. За перо взялся в 2024 году. Решил себя попробовать в этом деле.
Родился в 1989 году в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Окончил Славянский сельскохозяйственный техникум. За перо взялся в 2024 году. Решил себя попробовать в этом деле.
ОТРАЖЕНИЕ
Глава 1.
В разгар лета, в самый разгар июля в небольшой посёлок у берегов Азовского моря приехала погостить девочка Аня. Это место покинули её родители много лет назад — здесь не было перспектив ни для работы, ни для семейной жизни. Но теперь они отправили сюда свою дочь, чтобы она отдохнула от городской суеты и порадовала одинокую бабушку Меланью своим присутствием.
И вообще в этом посёлке доживали люди преклонного возраста, к которым на лето наведывались их внуки и внучки. А уж зимой посёлок совсем казался мёртвым: только лишь задувал громко ветер, и скучно шумели ветки об окна домов.
Бабушка Меланья очень любила внучку, а та отвечала ей взаимностью, теплом и послушанием. Когда она звала свою внучку Аннушкой и всегда кричала ей в окошко: «Аннушка, обед! Пошли кушать к столу!», отчего лицо Аннушки всегда заливалось краской, потому что она стыдилась этого перед своими друзьями.
Из друзей у неё были Христина, Валя и мальчик Женя, который всё пытался за ней приударить, но она только виляла перед ним хвостом и дразнила обещаниями, что подумает, быть его девушкой или нет. И так уже на протяжении третьего лета. Сама она не знала, что такое любить мальчика и испытывать подобные чувства. А Женя всё по ней сох и рвал на голове волосы, когда та уезжала в конце лета к себе домой, оставив вопрос открытым. Ещё к их компании этим летом присоединился пёс, которому дали кличку Колобок. Он ужасно любил обжираться и постоянно ходил за всеми хвостиком, заглядывая жалостно в глаза, а ещё жалостней – в рот, если кто-то ел конфетку, и никогда не любил отведывать одну, отвечая на это жалобно: «М-м-м… Тяф».
Христина и Валя были местными, а Женя – приезжий, из города. Он, так же, как и Аня, приезжал погостить к своим бабушке и дедушке. Только лишь с той разницей, что у Ани была только бабушка. Дедушку она не застала, поэтому знает о нём только по фотографиям и рассказам бабушки и родителей. Родители ей как-то рассказывали о нём: он был моряком и часто ходил в море, но умер от болезни ещё молодым.
Анне было уже шестнадцать лет, и она чувствовала себя наравне со старшими. Иногда она даже позволяла себе спорить с ними и высказывать своё недовольство. Бабушка Меланья была человеком добрым и сдержанным, поэтому многое прощала ей и никогда не применяла физическую силу, хотя поводы бывали вескими. А ещё Аня любила часами стоять у зеркала, которое у бабушки было большим, в полный её рост, и расчёсывать свои длинные каштановые красивые волосы. При этом она напевала разные песенки.
Как-то вдруг неожиданно в посёлок заявился неизвестный никому парень. Он был широк плечами, с волевым лицом, красивыми зелёно-коричневыми глазами и ростом под метр девяносто. Женя, конечно, был не рад такому повороту событий. Появился конкурент, которому конкурент – не конкурент.
Был в посёлке рыночек с крышей над головой, где любили собираться ребятишки по вечерам, пока не зашло солнце, до прихода комаров и сплетни всякие раздувать, плеваться и материться.
– Вот тебе на! Явилось чудо, да не понятно откуда, да ещё и некрасивый, – сказал язвительно Женя.
– Ой, ой, ой, – отвечала ему Аня, отворачиваясь и добавляя. – Ты уж не лучше.
И Женя тут же делал обиженный вид и уходил домой расстроенным, оглядываясь по пути – не посмотрит ли жалостно Аня и не позовёт ли его обратно. Но увы, её бессердечие всегда ставило жирную точку в данном вопросе.
И в это время бабушка Меланья со второго этажа через москитную сетку звонким и громким голосом кричала из окна:
— Аннушка, давай кушать! Ужин стынет!
И Аннушка снова заливалась краской, шла домой, чтобы не огорчать свою любимую бабулю. А за ней увязывался всегда Колобок, который выучил, что означает бабушкин крик, но только не краснел, а, наоборот, радостно вилял хвостиком.
Глава 2.
Каждый субботний вечер отличался от других дней тем, что в Доме культуры устраивалась дискотека. Вход был платным – пять рублей, которые потом пускали на покупку новых кассет. Чтобы купить их, надо было специально ехать в город в известный магазин «Иванушка».
Танцы были хороши тем, что, в отличие от посиделок, тебя не мог укусить комар. А на улице творилось страшное: если остаться, особенно на свету, без движения хотя бы минуту, то можно было оказаться унесённым комарами куда-нибудь в камыши – на полное их пиршество.
В день, когда была дискотека, вся молодёжь гудела в ДК. Музыка играла по последнему «писку моды». Кто-то танцевал, а кто-то сидел перед сценой, всё никак не решаясь выйти танцевать. Женя был из тех, которые всё решались, но… вы понимаете. А вот новый широкоплечий конкурент танцевал, не стесняясь. Кстати, звали его Егор, и по слухам он был боксёром. Он танцевал и всё ближе и ближе подходил к Ане, и вдруг они столкнулись. Аннушка приветливо улыбнулась, а Егор, нежно обхватив её за талию, начал с ней танцевать медленный танец. Анна вовсе не противи-лась, а, положа руку партнёру на плечо, отдалась ему в танце.
Сердце Евгения забилось чаще, не выдержало такого напряжения, и он решительно стушевался. Выйдя на улицу, он побежал к ближайшему фонарному столбу, чтобы его было видно, и остался ждать свою возлюбленную. Под светом фонаря не то чтобы комары летали, но и барражировали огромные майские жуки, врезаясь во всё, что попадалось у них на пути.
Испытав тяжёлые муки, от которых даже Колобок был в шоке, до последнего ожидая вкусненького, и натанцевавшись вдоволь с комарами, Женя всё-таки дождался окончания дискотеки. Но к его удивлению, Аннушка вышла одна, словно никому не нужная и брошенная на произвол судьбы. Он обрадовался, гордо выпрямился, подбоченившись, как Наполеон, и, наблюдая, как она к нему приближается, делал вид, что неудобства, предоставляемые ему местной фауной, абсолютно нипочём. Даже руками старался не махать, когда комары облепили его всего, с ног до головы, а майские жуки иногда нечаянно врезались ему прямо в голову.
– О, Евгений! Ты что ли, дурак, здесь стоишь? – иронично улыбнулась Анна.
Опустив руки и начиная отмахиваться и плеваться от комаров, Евгений как ни в чём не бывало мягко ей ответил:
– Я тут стоял, вижу, ты идёшь. Думаю, уж дождусь, чтобы проводить тебя домой.
– А-а-а… Ну, пошли, коли ждёшь.
Всю дорогу они шли молча. Свет луны ласково касался её нежного личика, а лёгкий, тёплый ветерок игриво трогал волосы.
– Вот и пришли, – смущённо сказал Женя. – Спокойной ночи тебе.
– У нас в городе вообще-то говорят: «Чао».
Евгений улыбнулся и, как шарик лопнул, произнёс:
– Да пошла ты, дура. Я тебя терплю уже третий год, а ты, змея подколодная, со своим «чао» машешь мне каждое лето по отъезду.
– Уж больно ты мне нужен, – усмехнулась она и, обернувшись, добавила. – Сам дурак!
Так и не было у Аннушки никого, кроме своего отражения в зеркале да прекрасных, расчёсанных волос. С годами она становилась старше, но любила себя по-прежнему. Однако, когда прошли долгие годы и появились первые морщинки, а в волосах – седые волоски, её сердце начало биться не в такт и волноваться. Вспомнив строчку из Есенина: «Своею гордою душой прошёл я счастье стороной», она вспомнила и ту «змею подколодную», и краски своего лица при крике своей бабули: «Ан-нушка! Кушать стынет!»
Глава 1.
В разгар лета, в самый разгар июля в небольшой посёлок у берегов Азовского моря приехала погостить девочка Аня. Это место покинули её родители много лет назад — здесь не было перспектив ни для работы, ни для семейной жизни. Но теперь они отправили сюда свою дочь, чтобы она отдохнула от городской суеты и порадовала одинокую бабушку Меланью своим присутствием.
И вообще в этом посёлке доживали люди преклонного возраста, к которым на лето наведывались их внуки и внучки. А уж зимой посёлок совсем казался мёртвым: только лишь задувал громко ветер, и скучно шумели ветки об окна домов.
Бабушка Меланья очень любила внучку, а та отвечала ей взаимностью, теплом и послушанием. Когда она звала свою внучку Аннушкой и всегда кричала ей в окошко: «Аннушка, обед! Пошли кушать к столу!», отчего лицо Аннушки всегда заливалось краской, потому что она стыдилась этого перед своими друзьями.
Из друзей у неё были Христина, Валя и мальчик Женя, который всё пытался за ней приударить, но она только виляла перед ним хвостом и дразнила обещаниями, что подумает, быть его девушкой или нет. И так уже на протяжении третьего лета. Сама она не знала, что такое любить мальчика и испытывать подобные чувства. А Женя всё по ней сох и рвал на голове волосы, когда та уезжала в конце лета к себе домой, оставив вопрос открытым. Ещё к их компании этим летом присоединился пёс, которому дали кличку Колобок. Он ужасно любил обжираться и постоянно ходил за всеми хвостиком, заглядывая жалостно в глаза, а ещё жалостней – в рот, если кто-то ел конфетку, и никогда не любил отведывать одну, отвечая на это жалобно: «М-м-м… Тяф».
Христина и Валя были местными, а Женя – приезжий, из города. Он, так же, как и Аня, приезжал погостить к своим бабушке и дедушке. Только лишь с той разницей, что у Ани была только бабушка. Дедушку она не застала, поэтому знает о нём только по фотографиям и рассказам бабушки и родителей. Родители ей как-то рассказывали о нём: он был моряком и часто ходил в море, но умер от болезни ещё молодым.
Анне было уже шестнадцать лет, и она чувствовала себя наравне со старшими. Иногда она даже позволяла себе спорить с ними и высказывать своё недовольство. Бабушка Меланья была человеком добрым и сдержанным, поэтому многое прощала ей и никогда не применяла физическую силу, хотя поводы бывали вескими. А ещё Аня любила часами стоять у зеркала, которое у бабушки было большим, в полный её рост, и расчёсывать свои длинные каштановые красивые волосы. При этом она напевала разные песенки.
Как-то вдруг неожиданно в посёлок заявился неизвестный никому парень. Он был широк плечами, с волевым лицом, красивыми зелёно-коричневыми глазами и ростом под метр девяносто. Женя, конечно, был не рад такому повороту событий. Появился конкурент, которому конкурент – не конкурент.
Был в посёлке рыночек с крышей над головой, где любили собираться ребятишки по вечерам, пока не зашло солнце, до прихода комаров и сплетни всякие раздувать, плеваться и материться.
– Вот тебе на! Явилось чудо, да не понятно откуда, да ещё и некрасивый, – сказал язвительно Женя.
– Ой, ой, ой, – отвечала ему Аня, отворачиваясь и добавляя. – Ты уж не лучше.
И Женя тут же делал обиженный вид и уходил домой расстроенным, оглядываясь по пути – не посмотрит ли жалостно Аня и не позовёт ли его обратно. Но увы, её бессердечие всегда ставило жирную точку в данном вопросе.
И в это время бабушка Меланья со второго этажа через москитную сетку звонким и громким голосом кричала из окна:
— Аннушка, давай кушать! Ужин стынет!
И Аннушка снова заливалась краской, шла домой, чтобы не огорчать свою любимую бабулю. А за ней увязывался всегда Колобок, который выучил, что означает бабушкин крик, но только не краснел, а, наоборот, радостно вилял хвостиком.
Глава 2.
Каждый субботний вечер отличался от других дней тем, что в Доме культуры устраивалась дискотека. Вход был платным – пять рублей, которые потом пускали на покупку новых кассет. Чтобы купить их, надо было специально ехать в город в известный магазин «Иванушка».
Танцы были хороши тем, что, в отличие от посиделок, тебя не мог укусить комар. А на улице творилось страшное: если остаться, особенно на свету, без движения хотя бы минуту, то можно было оказаться унесённым комарами куда-нибудь в камыши – на полное их пиршество.
В день, когда была дискотека, вся молодёжь гудела в ДК. Музыка играла по последнему «писку моды». Кто-то танцевал, а кто-то сидел перед сценой, всё никак не решаясь выйти танцевать. Женя был из тех, которые всё решались, но… вы понимаете. А вот новый широкоплечий конкурент танцевал, не стесняясь. Кстати, звали его Егор, и по слухам он был боксёром. Он танцевал и всё ближе и ближе подходил к Ане, и вдруг они столкнулись. Аннушка приветливо улыбнулась, а Егор, нежно обхватив её за талию, начал с ней танцевать медленный танец. Анна вовсе не противи-лась, а, положа руку партнёру на плечо, отдалась ему в танце.
Сердце Евгения забилось чаще, не выдержало такого напряжения, и он решительно стушевался. Выйдя на улицу, он побежал к ближайшему фонарному столбу, чтобы его было видно, и остался ждать свою возлюбленную. Под светом фонаря не то чтобы комары летали, но и барражировали огромные майские жуки, врезаясь во всё, что попадалось у них на пути.
Испытав тяжёлые муки, от которых даже Колобок был в шоке, до последнего ожидая вкусненького, и натанцевавшись вдоволь с комарами, Женя всё-таки дождался окончания дискотеки. Но к его удивлению, Аннушка вышла одна, словно никому не нужная и брошенная на произвол судьбы. Он обрадовался, гордо выпрямился, подбоченившись, как Наполеон, и, наблюдая, как она к нему приближается, делал вид, что неудобства, предоставляемые ему местной фауной, абсолютно нипочём. Даже руками старался не махать, когда комары облепили его всего, с ног до головы, а майские жуки иногда нечаянно врезались ему прямо в голову.
– О, Евгений! Ты что ли, дурак, здесь стоишь? – иронично улыбнулась Анна.
Опустив руки и начиная отмахиваться и плеваться от комаров, Евгений как ни в чём не бывало мягко ей ответил:
– Я тут стоял, вижу, ты идёшь. Думаю, уж дождусь, чтобы проводить тебя домой.
– А-а-а… Ну, пошли, коли ждёшь.
Всю дорогу они шли молча. Свет луны ласково касался её нежного личика, а лёгкий, тёплый ветерок игриво трогал волосы.
– Вот и пришли, – смущённо сказал Женя. – Спокойной ночи тебе.
– У нас в городе вообще-то говорят: «Чао».
Евгений улыбнулся и, как шарик лопнул, произнёс:
– Да пошла ты, дура. Я тебя терплю уже третий год, а ты, змея подколодная, со своим «чао» машешь мне каждое лето по отъезду.
– Уж больно ты мне нужен, – усмехнулась она и, обернувшись, добавила. – Сам дурак!
Так и не было у Аннушки никого, кроме своего отражения в зеркале да прекрасных, расчёсанных волос. С годами она становилась старше, но любила себя по-прежнему. Однако, когда прошли долгие годы и появились первые морщинки, а в волосах – седые волоски, её сердце начало биться не в такт и волноваться. Вспомнив строчку из Есенина: «Своею гордою душой прошёл я счастье стороной», она вспомнила и ту «змею подколодную», и краски своего лица при крике своей бабули: «Ан-нушка! Кушать стынет!»

Ольга РУЧИНА
Ольга Ручина — автор дебютного сборника рассказов «Дорогие мои старики». В своих историях Ольга запечатлевает судьбы «маленьких» людей, которых мы встречаем ежедневно, но редко интересуемся их жизнью: это бабушка с её необъяснимой любовью к даче или огороду, алкоголики, которые постоянно сидят у подъезда и обсуждают политику, вечно ругающаяся, но не разводящаяся пара пожилых соседей. У всех героев есть своя судьба, свои переживания, свой крест, о котором мы и не догадываемся. Рассказы Ольги основаны на реальных событиях, а её социологическое образование и любовь к истории России помогают передать дух уходящей эпохи наших бабушек.
Ольга Ручина — автор дебютного сборника рассказов «Дорогие мои старики». В своих историях Ольга запечатлевает судьбы «маленьких» людей, которых мы встречаем ежедневно, но редко интересуемся их жизнью: это бабушка с её необъяснимой любовью к даче или огороду, алкоголики, которые постоянно сидят у подъезда и обсуждают политику, вечно ругающаяся, но не разводящаяся пара пожилых соседей. У всех героев есть своя судьба, свои переживания, свой крест, о котором мы и не догадываемся. Рассказы Ольги основаны на реальных событиях, а её социологическое образование и любовь к истории России помогают передать дух уходящей эпохи наших бабушек.
ЧЕТВЕРКА ПО АСТРОНОМИИ
1980 год.
– Володя, ты зачем ребёнка спаиваешь?! – чуть ли не визжа, проговорила тётя Нина.
– Нина Петровна, перестаньте! Разве я спаиваю? Да и пусть пьет дома, а не где попало и не что попало! Это ж моя настойка, я её сам делал. Там ноль процентов алкоголя, это даже полезно будет! Для сердца настойки – самое то! – защищался Володя.
– Это поэтому у тебя было предынфарктное состояние в прошлом году? – парировала тётя Нина.
– Эй, нет, это вы уже по-грязному играете! Нервы, Нина Петровна, это всё нервы! Вы сами посмотрите, что происходит! В Латинской Америке воюют! Перу, Сальвадор, Ливия в огне! А знаете, кто в этом виноват?
Дядя Володя был уже навеселе, но политический дискурс его раззадорил. Голос его звучал громко и четко.
– Товарищи, да что же такое происходит?! Люди гибнут! Как тут не переживать?!
Тётя Маша одернула мужа; ей всегда было стыдно за его пустую болтовню. Она, конечно, его любила всей душой, но выглядел он глупо. Она искренне верила, что политикой должны заниматься знающие люди, а не работники с завода.
– Не надо меня поправлять! Не надо, женщина! – обратился муж к Марии. – А кто, спросите вы меня, в этом виноват?
На самом деле его никто об этом не спрашивал.
– Вот скажи мне, Женя, кто в этом виноват? – Володя обратился к сыну хозяйки дома, 17-летнему пацану, который оканчивал школу в этом году. – Чему вас там сейчас учат? А, пионер?
– Володя! Отстань от Жени! – взмолилась жена.
– Во-первых, Ливия находится в Африке, а не в Латинской Америке, – вступил в разговор тот самый Женя, – а во-вторых, ответ на ваш вопрос очень прост: Латинская Америка находится недалеко от США, а в XIX веке американцы провозгласили доктрину Монро. Поэтому они в этом и виноваты. Как говорил Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
В гостиной наступила тишина. Гости замолчали, не было слышно даже чоканья бокалов. Женя умел привлечь к себе внимание. Конечно, он не был красавцем в широком понимании этого слова: роста он был невысокого, лицо простое, ничем не выдающееся, как говорила его бабуля, он пошел в мать, а вот младший брат его – в красавца отца. Сами понимаете, чьей мамой была бабуля.
Однако Женя завораживал своей простотой, мягкостью, добродушием. Его нельзя было уличить ни в чём плохом, разве что курил он иногда за компанию с друзьями, но только когда удавалось незаметно стрельнуть сигаретку у отца. Все пророчили ему великое будущее. Ну, может быть, не великое, но хорошее – точно. В школе Женя участвовал во всех конкурсах, во всех веселых играх; не то чтобы ему это очень нравилось, но отказаться он не мог. Учителя любили Женю, его всегда можно было и с младшеклассниками оставить, и столы подвинуть попросить. И, конечно же, учился Женя на «отлично». Хотя, знаете, когда в первом классе вас мама заставляет переписывать прописи по шесть раз, то дальше вы уже просто боитесь учиться не на «отлично». Итак, Женя был хорош во всех отношениях.
– Это доктор какой, что ли? – спросила Нина Петровна, женщина далекая от политики и от учебы. Ей было уже глубоко за 60, образование она получила в вечерней школе, когда ей было уже за 20. Так уж получилось.
– Женщина вы тёмная, Нина Петровна! Доктрина Монро – это политика! – снова вступил в разговор Володя. – Всё верно он говорит! Вот это мозгач! Золотая память! Учёным тебе надо быть, Женёк. Будешь придумывать, как спасти мир от американцев. У тебя, небось, все пятёрки?
Женя покраснел: он не любил, когда его хвалят.
– Почти да, только вот астрономию надо подтянуть, скоро будем писать контрольную работу.
– Эх, молодец! Жаль, что мне не 17 лет, – с грустью опрокинул стакан наливочки дядя Володя. – Давай, пока мамка не видит, я тебе чуть-чуть налью попробовать, за удачную учебу, так сказать!
– Я даже бате твоему оставил две бутылочки, – уже шёпотом проговорил дядя Володя.
– Нет, спасибо, дядь Володь. Я не пью и вам не советую, алкоголь только ухудшает здоровье.
– Эх, молодёжь, – обиженно проговорил дядя Володя, – много вы понимаете.
На этом разговор и закончился. Конечно же, дальше дядя Володя пить не перестал, зато стал менее разговорчивым и более меланхоличным. Его жену это немного даже обрадовало: на этот раз он хотя бы буянить не будет и не будет снова ругаться по пустякам на сына.
Тем временем Женя спокойно завершил второе блюдо (кто же откажется от картошечки с курицей?), но десерта ждать не стал – сладкое он не любил. Сейчас ему предстояло очень важное дело – подготовка к контрольной по астрономии. Нужно было выучить всего 25 звёздных маяков. Очень уж хотелось выйти отличником да и порадовать мать, которая на него возлагала большие надежды.
Женя был в процессе изучения 16-го звездного маяка, как зазвонил телефон. Видимо, за шумным застольем никто не услышал звонок, поэтому Женя пошёл отвечать сам.
Звонила Катя. Соседка и почти одноклассница – Катя училась в параллельном классе. Они с Женей, как говорила его мама, «дружили». Голос Жени чуть дрогнул, когда он понял, кто звонит.
– Пойдём погуляем по парку? – предложила Катя.
Это не был долгий мучительный выбор – девушка или астрономия; Жене было 17 лет, и ответ был очевиден.
Парк был красивый. Только что отстроенный, там даже была карусель «Орбита» – это когда ты садишься, тебя поднимают высоко и катают под наклоном. Экстрим! Тот вечер Женя запомнил на всю жизнь. Уже тогда он принял решение, что женится на Кате.
* * *
За контрольную по астрономии в итоге Женя получил четыре.
В аттестате вышла единственная четвёрка – как раз по астрономии. Да, было грустно, стыдно перед матерью, но зато он был счастлив. Четвёрка в аттестате казалась ерундой. Ну, почти ерундой. Совсем чуть-чуть было обидно. И ещё немного страшно: ведь мать так надеялась, что он будет круглым отличником. Она практически не разговаривала с ним после той новости о четверке. Но зато у него вся жизнь была впереди: поступление в университет, женитьба. Разве может одна оценка разрушить его жизнь? С такими мыслями Женя аккуратно открыл стенку, где стоял весь хрусталь, нашел ту самую бутылку с настойкой дяди Володи, которую тот отдал его отцу. Конечно, отец на него поругается, когда увидит пропажу, но разве это важно? Сейчас Жене хотелось отметить с друзьями выпускной, сам он пить не собирался, только одноклассникам отдать бутылку – проставиться, так сказать, как взрослый.
Оценив обстановку, то есть проверив, нет ли рядом родителей, Женя закрыл стенку. Всё было тихо: мать на кухне слушает радио, отца дома нет. Парень положил в портфель бутылку и беззвучно закрыл за собой дверь в комнату. Он уже было хотел уйти к друзьям, как вдруг зазвонил телефон. Женя не придумал ничего лучше, как быстро вернуться в гостиную и сделать вид, что его дома нет.
Звонила Катя. Мать взяла трубку.
– Нет, Жени дома нет, – с раздражением ответила женщина, – его часто теперь дома нет.
Женщина сделала паузу, решаясь, говорить дальше или не говорить.
– Он даже забросил учебу. Катя, я же мать, я же вижу, что он постоянно с тобой болтается, а ты специально его отвлекаешь.
Вероятно, Катя что-то пробормотала в свое оправдание.
– Нет, Катя, ты меня не поняла. Женечка из-за тебя разрушил своё будущее. Он столько учился ради красного аттестата, а ты ему всё испортила.
Женя был в ярости: да как она вообще смеет что-то говорить про его оценки? Через секунду ярость сменилась стыдом. Это он сам во всём виноват, он не смог ничего выучить, он глупый.
Тем временем мать продолжала нравоучения.
– Катя, ты не пойми меня неправильно, ты хорошая девочка, но Женя должен учиться. Все-таки стыдно иметь четвёрку в аттестате. Кончено, тебе этого не понять, но всё-таки прошу, услышь меня. Перестань ему так часто звонить. Всего тебе хорошего, Катя! – мать положила трубку.
Жене показалось, что он услышал, как Катя всхлипнула.
* * *
Вечер был испорчен. С матерью Женя поругался, Катя не захотела даже открыть ему дверь. Настроение паршивое, стыдно за четвёрку. Ладно бы по математике или физике, но по астрономии! Он же мог выучить те звездные маяки.
– Жек, давай с нами за компанию рюмку настойки твоей. Вышибает с первого дубля, – улыбался уже подвыпивший лучший друг Жени. – Чуть-чуть, пьём за любовь – грех не выпить.
Дядя Володя гордился бы Женей в тот вечер. Парень выпил три рюмки настойки и не поморщился. Полегчало на душе.
* * *
1986 год.
Женя держит в руках маленький сверток. Рядом стоит улыбающаяся жена, а навстречу идут мать с братом. Всем хочется увидеть новорождённую.
– Катенька, Женечка, я такая счастливая! Моя первая внучка. Надеюсь, не последняя, – женщина посмотрела на младшего сына.
Женя был счастлив. Катя родила ему дочь. Он окончил университет с красным дипломом, у него уже была хорошая работа, его мебельное предприятие начинало приносить прибыль. Что ещё можно желать для счастья?
Разве что собственную квартиру. Но и она у него скоро появится. Государство даст.
Поездку в Сочи? И это тоже в жизни будет. Сам заработает.
Побывать на концерте Малинина? Может быть, ему не так уж этого сильно и хочется, но Катя обожает его песни. Значит, и это будет.
Впереди – светлое будущее в стране, которая будет процветать веки вечные; так думал Женя, смотря на свою спящую новорожденную дочку.
* * *
1995 год.
– Товара не будет, – сказал мужской голос по телефону.
– Как это не будет? Я все оставшиеся деньги в него вложил! Ты сказал, что дело верное!
– Евгений, пойми меня правильно, времена тяжёлые, наш дальнобойщик убит. Я не знаю, где товар.
– Как убит?
– Выстрелом в упор. Так понятнее? Или тебе продемонстрировать, когда я приеду? – голос мужчины начал звучать угрожающе. – Либо мы сейчас с тобой забываем, что между нами было, либо я приезжаю, и мы разберёмся, как мужики.
Женя понял, что товара никогда и не было, его просто обвели вокруг пальца. Его! Образованного человека, который сколотил состояние, насколько это было возможно при социалистическом строе, благодаря своей смекалке.
Он потерял всё. Сбережения обесценились, всё, что он откладывал дочери на будущее, превратилось в копейки. Буквально. Работы больше нет, он выбрал развивать своё предприятие, которое за какие-то полгода превратилось в поле для боя всяких группировок. Спасибо, что хоть жив остался. У матери около дома вообще людей стреляют чуть ли не каждый день. Но ему легче не становилось.
Жена. А нужен ли он будет такой Кате? Безработный, безденежный?
Рука потянулась к стенке с алкоголем. Облегчить боль на секунду. Нет сил терпеть. Вино всегда помогало. In vino veritas – «Истина в вине», – писал Блок.
«Забыться, забыться, забыться», – как мантра звучало желание в голове. Казалось, что если сейчас Женя не выпьет, то боль, разочарование, непонимание, как жить, разорвут изнутри.
Он выпил три стопки и не поморщился. Полегчало. Легчало всю неделю.
* * *
2003 год.
Женя пил уже 8 лет. Не то чтобы пил, но выпивал. По многу. Он потерял всё, что когда-то заработал честным трудом и природной смекалкой. Что-то украли, что-то обесценилось. Осталась одна комната в общежитии, где каждый вечер Женя собирался с друзьями, которых принято называть собутыльниками.
Он пытался устроиться на работу: то здесь есть шабашка, то там. Но как-то оно не выходило. Работать было некомфортно, да и зачем, если ты всё равно всё потеряешь в итоге?
«Дожить до пенсии, – думал Женя, – чтобы это новое государство выплатило всё, что я ему отдал».
Но до пенсии было ещё долго, а выпивка – вот здесь, совсем рядом. У него не было на неё денег, но он всё равно пил. Кто-то из «друзей» проставлялся, кто-то гнал свои настойки, а кто-то просто бесплатно «забирал» из магазина. Такой алкоголь Женя старался не пить – было совестно.
Мать не пускала в дом, у неё-таки родилась вторая внучка, места больше не было. Он приходил к матери, когда пытался начать «новую жизнь», рассказывал племяннице интересные истории, ел щи, занимал немного денег, зная, что новой жизни у него всё равно не будет.
Его пытались лечить, возили по врачам. Но Женя знал, что ему это не поможет. Перегоревшую лампочку нельзя восстановить, даже если вставить её в новый абажур. А когда этой лампочке ещё и стыдно за то, что она перегорела и не может заново зажечься, тут не поможет даже 25-й кадр.
Дни шли один за другим, ничего не менялось, кроме названий на бутылках.
* * *
– Мы живём, как на дне, – прозвучал пьяный голос соседа.
– Да, точно! – таким же пьяным голосом отозвался Женя.
– «Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!..» – процитировал он отрывок из пьесы Горького «На дне».
– Как хорошо сказал! – хором отозвались другие собутыльники – Выпьем за это! Не чокаясь.
Пили они сорокоградусную в комнате общежития размером два на три метра. Запах стоял ужасный. Опустошили третью бутылку водки. Потом четвёртую. Обсуждали поэзию, политический строй, материли Ельцина. Политические диспуты решались мирно. Сразу видно – интеллигенция.
* * *
На следующее утро постучались в дверь.
Катя.
Женя снова почувствовал стыд. Ему было неприятно, что Катя видит то, во что он превратился. Она ушла от него уже 20 лет назад. Он знал, что она его любила, но всё-таки вовремя поняла, что брак тянет её вниз. В какой-то момент Катя начала пить с ним на пару. Ей тоже было тяжело. Он не знал, как, но ей удалось уйти от пагубной привычки, выбрать паршивую, но жизнь. Хотя паршиво Катя не выглядела от слова «совсем». Она стояла перед ним на пороге в красивом пальто. Да, это была не шуба, какую он ей дарил 30 лет назад, но всё-таки пальто было красивым.
– Здравствуй, Женя.
Ответа не последовало.
– Я пришла тебе сказать, что твоя дочка скоро выходит замуж. Будем играть свадьбу в Питере.
– Счастья молодым, денег у меня нет, подарков больше не дарю, – съязвил Женя. – Хотя, как говорил поэт Роберт Стивенсон: «Любовь дороже всех сокровищ. Она – алмаз, которого не могут купить даже цари». Вот пусть муж ей алмазы и покупает.
– Да я не за деньгами пришла, просто хотела тебе рассказать.
– Рассказала? Надеюсь, сейчас счастлива. Адьоз, аривидерчи, оревуар или просто до свидания, – Женя закрыл дверь своей комнаты, всем видом демонстрируя, что видеть Катю он не хочет.
В тот вечер пили за любовь, за счастье молодых, и вообще Женя был счастлив. За дочь особенно. Он переживал, что не смог ей дать всего того, что хотел, но теперь, когда у неё есть муж, он мог быть спокоен за неё. В этот раз пить ему не особо хотелось, но отказаться он не мог. Было стыдно перед друзьями, да и как-то не было смысла отказываться от рюмки.
* * *
Он умер от инфаркта в 58 лет в той самой комнате в общежитии. До пенсии он не дожил.
На похоронах были все родственники, бывшая жена и, конечно же, дочь. Говорили про Женю только хорошее. А плохого действительно и не было. Он никогда никому не желал зла и не делал ничего плохого. Никому, кроме себя.
– Он был очень умный человек! Его можно было бы отправить на «Поле чудес», и он бы выиграл автомобиль, – сказал его двоюродный брат.
– Это правда. В школе у него была всего одна четвертка – по астрономии! – ответила мать.
1980 год.
– Володя, ты зачем ребёнка спаиваешь?! – чуть ли не визжа, проговорила тётя Нина.
– Нина Петровна, перестаньте! Разве я спаиваю? Да и пусть пьет дома, а не где попало и не что попало! Это ж моя настойка, я её сам делал. Там ноль процентов алкоголя, это даже полезно будет! Для сердца настойки – самое то! – защищался Володя.
– Это поэтому у тебя было предынфарктное состояние в прошлом году? – парировала тётя Нина.
– Эй, нет, это вы уже по-грязному играете! Нервы, Нина Петровна, это всё нервы! Вы сами посмотрите, что происходит! В Латинской Америке воюют! Перу, Сальвадор, Ливия в огне! А знаете, кто в этом виноват?
Дядя Володя был уже навеселе, но политический дискурс его раззадорил. Голос его звучал громко и четко.
– Товарищи, да что же такое происходит?! Люди гибнут! Как тут не переживать?!
Тётя Маша одернула мужа; ей всегда было стыдно за его пустую болтовню. Она, конечно, его любила всей душой, но выглядел он глупо. Она искренне верила, что политикой должны заниматься знающие люди, а не работники с завода.
– Не надо меня поправлять! Не надо, женщина! – обратился муж к Марии. – А кто, спросите вы меня, в этом виноват?
На самом деле его никто об этом не спрашивал.
– Вот скажи мне, Женя, кто в этом виноват? – Володя обратился к сыну хозяйки дома, 17-летнему пацану, который оканчивал школу в этом году. – Чему вас там сейчас учат? А, пионер?
– Володя! Отстань от Жени! – взмолилась жена.
– Во-первых, Ливия находится в Африке, а не в Латинской Америке, – вступил в разговор тот самый Женя, – а во-вторых, ответ на ваш вопрос очень прост: Латинская Америка находится недалеко от США, а в XIX веке американцы провозгласили доктрину Монро. Поэтому они в этом и виноваты. Как говорил Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
В гостиной наступила тишина. Гости замолчали, не было слышно даже чоканья бокалов. Женя умел привлечь к себе внимание. Конечно, он не был красавцем в широком понимании этого слова: роста он был невысокого, лицо простое, ничем не выдающееся, как говорила его бабуля, он пошел в мать, а вот младший брат его – в красавца отца. Сами понимаете, чьей мамой была бабуля.
Однако Женя завораживал своей простотой, мягкостью, добродушием. Его нельзя было уличить ни в чём плохом, разве что курил он иногда за компанию с друзьями, но только когда удавалось незаметно стрельнуть сигаретку у отца. Все пророчили ему великое будущее. Ну, может быть, не великое, но хорошее – точно. В школе Женя участвовал во всех конкурсах, во всех веселых играх; не то чтобы ему это очень нравилось, но отказаться он не мог. Учителя любили Женю, его всегда можно было и с младшеклассниками оставить, и столы подвинуть попросить. И, конечно же, учился Женя на «отлично». Хотя, знаете, когда в первом классе вас мама заставляет переписывать прописи по шесть раз, то дальше вы уже просто боитесь учиться не на «отлично». Итак, Женя был хорош во всех отношениях.
– Это доктор какой, что ли? – спросила Нина Петровна, женщина далекая от политики и от учебы. Ей было уже глубоко за 60, образование она получила в вечерней школе, когда ей было уже за 20. Так уж получилось.
– Женщина вы тёмная, Нина Петровна! Доктрина Монро – это политика! – снова вступил в разговор Володя. – Всё верно он говорит! Вот это мозгач! Золотая память! Учёным тебе надо быть, Женёк. Будешь придумывать, как спасти мир от американцев. У тебя, небось, все пятёрки?
Женя покраснел: он не любил, когда его хвалят.
– Почти да, только вот астрономию надо подтянуть, скоро будем писать контрольную работу.
– Эх, молодец! Жаль, что мне не 17 лет, – с грустью опрокинул стакан наливочки дядя Володя. – Давай, пока мамка не видит, я тебе чуть-чуть налью попробовать, за удачную учебу, так сказать!
– Я даже бате твоему оставил две бутылочки, – уже шёпотом проговорил дядя Володя.
– Нет, спасибо, дядь Володь. Я не пью и вам не советую, алкоголь только ухудшает здоровье.
– Эх, молодёжь, – обиженно проговорил дядя Володя, – много вы понимаете.
На этом разговор и закончился. Конечно же, дальше дядя Володя пить не перестал, зато стал менее разговорчивым и более меланхоличным. Его жену это немного даже обрадовало: на этот раз он хотя бы буянить не будет и не будет снова ругаться по пустякам на сына.
Тем временем Женя спокойно завершил второе блюдо (кто же откажется от картошечки с курицей?), но десерта ждать не стал – сладкое он не любил. Сейчас ему предстояло очень важное дело – подготовка к контрольной по астрономии. Нужно было выучить всего 25 звёздных маяков. Очень уж хотелось выйти отличником да и порадовать мать, которая на него возлагала большие надежды.
Женя был в процессе изучения 16-го звездного маяка, как зазвонил телефон. Видимо, за шумным застольем никто не услышал звонок, поэтому Женя пошёл отвечать сам.
Звонила Катя. Соседка и почти одноклассница – Катя училась в параллельном классе. Они с Женей, как говорила его мама, «дружили». Голос Жени чуть дрогнул, когда он понял, кто звонит.
– Пойдём погуляем по парку? – предложила Катя.
Это не был долгий мучительный выбор – девушка или астрономия; Жене было 17 лет, и ответ был очевиден.
Парк был красивый. Только что отстроенный, там даже была карусель «Орбита» – это когда ты садишься, тебя поднимают высоко и катают под наклоном. Экстрим! Тот вечер Женя запомнил на всю жизнь. Уже тогда он принял решение, что женится на Кате.
* * *
За контрольную по астрономии в итоге Женя получил четыре.
В аттестате вышла единственная четвёрка – как раз по астрономии. Да, было грустно, стыдно перед матерью, но зато он был счастлив. Четвёрка в аттестате казалась ерундой. Ну, почти ерундой. Совсем чуть-чуть было обидно. И ещё немного страшно: ведь мать так надеялась, что он будет круглым отличником. Она практически не разговаривала с ним после той новости о четверке. Но зато у него вся жизнь была впереди: поступление в университет, женитьба. Разве может одна оценка разрушить его жизнь? С такими мыслями Женя аккуратно открыл стенку, где стоял весь хрусталь, нашел ту самую бутылку с настойкой дяди Володи, которую тот отдал его отцу. Конечно, отец на него поругается, когда увидит пропажу, но разве это важно? Сейчас Жене хотелось отметить с друзьями выпускной, сам он пить не собирался, только одноклассникам отдать бутылку – проставиться, так сказать, как взрослый.
Оценив обстановку, то есть проверив, нет ли рядом родителей, Женя закрыл стенку. Всё было тихо: мать на кухне слушает радио, отца дома нет. Парень положил в портфель бутылку и беззвучно закрыл за собой дверь в комнату. Он уже было хотел уйти к друзьям, как вдруг зазвонил телефон. Женя не придумал ничего лучше, как быстро вернуться в гостиную и сделать вид, что его дома нет.
Звонила Катя. Мать взяла трубку.
– Нет, Жени дома нет, – с раздражением ответила женщина, – его часто теперь дома нет.
Женщина сделала паузу, решаясь, говорить дальше или не говорить.
– Он даже забросил учебу. Катя, я же мать, я же вижу, что он постоянно с тобой болтается, а ты специально его отвлекаешь.
Вероятно, Катя что-то пробормотала в свое оправдание.
– Нет, Катя, ты меня не поняла. Женечка из-за тебя разрушил своё будущее. Он столько учился ради красного аттестата, а ты ему всё испортила.
Женя был в ярости: да как она вообще смеет что-то говорить про его оценки? Через секунду ярость сменилась стыдом. Это он сам во всём виноват, он не смог ничего выучить, он глупый.
Тем временем мать продолжала нравоучения.
– Катя, ты не пойми меня неправильно, ты хорошая девочка, но Женя должен учиться. Все-таки стыдно иметь четвёрку в аттестате. Кончено, тебе этого не понять, но всё-таки прошу, услышь меня. Перестань ему так часто звонить. Всего тебе хорошего, Катя! – мать положила трубку.
Жене показалось, что он услышал, как Катя всхлипнула.
* * *
Вечер был испорчен. С матерью Женя поругался, Катя не захотела даже открыть ему дверь. Настроение паршивое, стыдно за четвёрку. Ладно бы по математике или физике, но по астрономии! Он же мог выучить те звездные маяки.
– Жек, давай с нами за компанию рюмку настойки твоей. Вышибает с первого дубля, – улыбался уже подвыпивший лучший друг Жени. – Чуть-чуть, пьём за любовь – грех не выпить.
Дядя Володя гордился бы Женей в тот вечер. Парень выпил три рюмки настойки и не поморщился. Полегчало на душе.
* * *
1986 год.
Женя держит в руках маленький сверток. Рядом стоит улыбающаяся жена, а навстречу идут мать с братом. Всем хочется увидеть новорождённую.
– Катенька, Женечка, я такая счастливая! Моя первая внучка. Надеюсь, не последняя, – женщина посмотрела на младшего сына.
Женя был счастлив. Катя родила ему дочь. Он окончил университет с красным дипломом, у него уже была хорошая работа, его мебельное предприятие начинало приносить прибыль. Что ещё можно желать для счастья?
Разве что собственную квартиру. Но и она у него скоро появится. Государство даст.
Поездку в Сочи? И это тоже в жизни будет. Сам заработает.
Побывать на концерте Малинина? Может быть, ему не так уж этого сильно и хочется, но Катя обожает его песни. Значит, и это будет.
Впереди – светлое будущее в стране, которая будет процветать веки вечные; так думал Женя, смотря на свою спящую новорожденную дочку.
* * *
1995 год.
– Товара не будет, – сказал мужской голос по телефону.
– Как это не будет? Я все оставшиеся деньги в него вложил! Ты сказал, что дело верное!
– Евгений, пойми меня правильно, времена тяжёлые, наш дальнобойщик убит. Я не знаю, где товар.
– Как убит?
– Выстрелом в упор. Так понятнее? Или тебе продемонстрировать, когда я приеду? – голос мужчины начал звучать угрожающе. – Либо мы сейчас с тобой забываем, что между нами было, либо я приезжаю, и мы разберёмся, как мужики.
Женя понял, что товара никогда и не было, его просто обвели вокруг пальца. Его! Образованного человека, который сколотил состояние, насколько это было возможно при социалистическом строе, благодаря своей смекалке.
Он потерял всё. Сбережения обесценились, всё, что он откладывал дочери на будущее, превратилось в копейки. Буквально. Работы больше нет, он выбрал развивать своё предприятие, которое за какие-то полгода превратилось в поле для боя всяких группировок. Спасибо, что хоть жив остался. У матери около дома вообще людей стреляют чуть ли не каждый день. Но ему легче не становилось.
Жена. А нужен ли он будет такой Кате? Безработный, безденежный?
Рука потянулась к стенке с алкоголем. Облегчить боль на секунду. Нет сил терпеть. Вино всегда помогало. In vino veritas – «Истина в вине», – писал Блок.
«Забыться, забыться, забыться», – как мантра звучало желание в голове. Казалось, что если сейчас Женя не выпьет, то боль, разочарование, непонимание, как жить, разорвут изнутри.
Он выпил три стопки и не поморщился. Полегчало. Легчало всю неделю.
* * *
2003 год.
Женя пил уже 8 лет. Не то чтобы пил, но выпивал. По многу. Он потерял всё, что когда-то заработал честным трудом и природной смекалкой. Что-то украли, что-то обесценилось. Осталась одна комната в общежитии, где каждый вечер Женя собирался с друзьями, которых принято называть собутыльниками.
Он пытался устроиться на работу: то здесь есть шабашка, то там. Но как-то оно не выходило. Работать было некомфортно, да и зачем, если ты всё равно всё потеряешь в итоге?
«Дожить до пенсии, – думал Женя, – чтобы это новое государство выплатило всё, что я ему отдал».
Но до пенсии было ещё долго, а выпивка – вот здесь, совсем рядом. У него не было на неё денег, но он всё равно пил. Кто-то из «друзей» проставлялся, кто-то гнал свои настойки, а кто-то просто бесплатно «забирал» из магазина. Такой алкоголь Женя старался не пить – было совестно.
Мать не пускала в дом, у неё-таки родилась вторая внучка, места больше не было. Он приходил к матери, когда пытался начать «новую жизнь», рассказывал племяннице интересные истории, ел щи, занимал немного денег, зная, что новой жизни у него всё равно не будет.
Его пытались лечить, возили по врачам. Но Женя знал, что ему это не поможет. Перегоревшую лампочку нельзя восстановить, даже если вставить её в новый абажур. А когда этой лампочке ещё и стыдно за то, что она перегорела и не может заново зажечься, тут не поможет даже 25-й кадр.
Дни шли один за другим, ничего не менялось, кроме названий на бутылках.
* * *
– Мы живём, как на дне, – прозвучал пьяный голос соседа.
– Да, точно! – таким же пьяным голосом отозвался Женя.
– «Человек! Это – великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!..» – процитировал он отрывок из пьесы Горького «На дне».
– Как хорошо сказал! – хором отозвались другие собутыльники – Выпьем за это! Не чокаясь.
Пили они сорокоградусную в комнате общежития размером два на три метра. Запах стоял ужасный. Опустошили третью бутылку водки. Потом четвёртую. Обсуждали поэзию, политический строй, материли Ельцина. Политические диспуты решались мирно. Сразу видно – интеллигенция.
* * *
На следующее утро постучались в дверь.
Катя.
Женя снова почувствовал стыд. Ему было неприятно, что Катя видит то, во что он превратился. Она ушла от него уже 20 лет назад. Он знал, что она его любила, но всё-таки вовремя поняла, что брак тянет её вниз. В какой-то момент Катя начала пить с ним на пару. Ей тоже было тяжело. Он не знал, как, но ей удалось уйти от пагубной привычки, выбрать паршивую, но жизнь. Хотя паршиво Катя не выглядела от слова «совсем». Она стояла перед ним на пороге в красивом пальто. Да, это была не шуба, какую он ей дарил 30 лет назад, но всё-таки пальто было красивым.
– Здравствуй, Женя.
Ответа не последовало.
– Я пришла тебе сказать, что твоя дочка скоро выходит замуж. Будем играть свадьбу в Питере.
– Счастья молодым, денег у меня нет, подарков больше не дарю, – съязвил Женя. – Хотя, как говорил поэт Роберт Стивенсон: «Любовь дороже всех сокровищ. Она – алмаз, которого не могут купить даже цари». Вот пусть муж ей алмазы и покупает.
– Да я не за деньгами пришла, просто хотела тебе рассказать.
– Рассказала? Надеюсь, сейчас счастлива. Адьоз, аривидерчи, оревуар или просто до свидания, – Женя закрыл дверь своей комнаты, всем видом демонстрируя, что видеть Катю он не хочет.
В тот вечер пили за любовь, за счастье молодых, и вообще Женя был счастлив. За дочь особенно. Он переживал, что не смог ей дать всего того, что хотел, но теперь, когда у неё есть муж, он мог быть спокоен за неё. В этот раз пить ему не особо хотелось, но отказаться он не мог. Было стыдно перед друзьями, да и как-то не было смысла отказываться от рюмки.
* * *
Он умер от инфаркта в 58 лет в той самой комнате в общежитии. До пенсии он не дожил.
На похоронах были все родственники, бывшая жена и, конечно же, дочь. Говорили про Женю только хорошее. А плохого действительно и не было. Он никогда никому не желал зла и не делал ничего плохого. Никому, кроме себя.
– Он был очень умный человек! Его можно было бы отправить на «Поле чудес», и он бы выиграл автомобиль, – сказал его двоюродный брат.
– Это правда. В школе у него была всего одна четвертка – по астрономии! – ответила мать.

Элина КУЛИКОВА
Родилась в 1994 г. в Красноярске. В 2012 году переехала в Москву. С отличием окончила бакалавриат и магистратуру МГЮА им. О.Е. Кутафина по направлению «Международное частное право». В 2023 г. эмигрировала в Испанию, где посвятила большую часть времени изучению истории литературы и написанию своих собственных произведений. На средиземноморском побережье Коста-дель-Соль начала создавать цикл андалузских рассказов и пьес, насыщенных южным колоритом. В 2024 г. завершила работу над своим первым романом «Дневник Эрики Вин».
Родилась в 1994 г. в Красноярске. В 2012 году переехала в Москву. С отличием окончила бакалавриат и магистратуру МГЮА им. О.Е. Кутафина по направлению «Международное частное право». В 2023 г. эмигрировала в Испанию, где посвятила большую часть времени изучению истории литературы и написанию своих собственных произведений. На средиземноморском побережье Коста-дель-Соль начала создавать цикл андалузских рассказов и пьес, насыщенных южным колоритом. В 2024 г. завершила работу над своим первым романом «Дневник Эрики Вин».
МИШЕЛЬ
Вы никогда не прочитаете эти заметки, поэтому я позволю своей памяти пожить ощущением лёгкой вольности. Мы встречались с вами всего несколько раз на классах по йоге в небольшом городке в одной южной деревне в ста шестидесяти двух километрах от часовой стрелки Гибралтарской скалы. Я практически не помню вас «до», но я прекрасно помню вас «после». Последний раз я видел вас на вечернем классе в гимнастическом зале. Вы были веселы и о чем-то возбужденно разговаривали со своей подругой на неведомом для меня французском. Мы поздоровались на испанском, соблюдая приличия приютившей нас страны. Это приветствие было столь обезличенным, бездушным. Оно, это приветствие, меня ни в коей мере не обязывало заглянуть вам в лицо. Я абсолютно не помню ваших черт, что и говорить о чертах, отличающих вас от других! От вас, как от материализации человеческого существа в пространстве, где нам довелось пребывать короткий промежуток времени вместе, во мне останется лишь цвет ваших волос, воспоминание о прошлогоднем испанском загаре, брызги пигментных пятен на руках и белые морщины, пользующиеся услугами солнца не по его прямому назначению. «До» существовал только ваш возраст – без имени, национальности, интересов и вероисповедания.
Всё началось, или будет точнее выразиться закончилось, в декабре. В наших краях тогда закрепился сырой промозглый декабрь. Температура в неотапливаемых квартирах провинциальной Андалусии едва превышала шестнадцать градусов по Цельсию. Единственным спасением для всех обитателей вымирающего туристического городка были утренние солнечные ванны за чашечкой манчады, в которую неминуемо должна была погрузиться жирная масса испанского чурроса. Днём все жители курорта выползали на променад. Прогулка под блёклым солнцем, с вялым боем, пробивающимся сквозь водянистую завесу, устроенную ветрами и морским бризом, ровно ограничивалась длинной, заботливо обустроенной провинциальными властями набережной. Я думаю, что наше paseo чем-то должно было напоминать вам набережную Круазет. Я всегда представляю, как направляюсь в шикарном костюме по набережной за очередной веточкой, а не в грязной толстовке бреду, сойдя на гальку, за битыми разноцветными кусочками керамической плитки, которые когда-нибудь будут выложены в определённой случаем последовательности на кухне моего маленького дома, где я встречу свою старость, а за ней и смерть. Да, вы не могли не думать о родном Провансе, гуляя здесь со своим молчаливым и вечно уставшим мужем.
Что значилось следом за променадом в нашей программе дневного согревания? Обед. Обеденное время, облачившись в куртки, шарфы и шляпы, мы проводили в открытых уличных ресторанах, поскольку улица днём всегда была теплее помещений. Одна из шляп за обедом неминуемо должна была взмыть ввысь. Но никто из обедающих не бежал за шляпами, сознавая свою отчаянную ветхость в сравнении с силами природы, ограничившись лишь ленивым поворотом головы в сторону уносимого предмета, улетучивающегося времени. Головы поворачивались вспять. Челюсти продолжали вяло пережёвывать оставшиеся мягкие куски морской рыбы.
Я никогда не замечал на обедах вашей шляпы или шляпы вашего мужа среди прочих. Вы предпочитали обедать в вашем двухэтажном доме на краю поселения. Иногда, находясь в приподнятом расположении духа, вы уединялись в узком кругу семьи и друзей в кафе «для местных». Ваша подруга-бельгийка проводила с вами все дни напролёт. Муж облегчённо выдыхал, когда она, бельгийка, подъезжала на своей Веспе по гравийной дороге к парадному входу вашего дома. Веспа в наших краях встречается довольно часто как причуда вышедших на пенсию европейцев. Вы с подругой негласно следовали установленной моде. Вы садились на мопед к своей подруге и ехали, крепко прижимаясь щекой к её маленькой спине, на вечернее занятие по йоге в центр города. Здесь меня поправил бы местный читатель: «Не города, а села». Что же, в угоду местному читателю исправлюсь: «Они ехали в центр поселения, которое, погрузившись в непробудную зимнюю спячку, уже видело вещие зимние сны».
Я пропустил то последнее занятие по йоге. Мы виделись с вами в ваш предпоследний спокойный час. На мгновение меня посетила мысль, когда я слушал мелодию вашего разговора с подругой: «Может, мне выучить французский?» В наших краях подобные услуги – обычное дело. Кто-то даёт языковые уроки, кто-то тренирует, кто-то проводит сеансы психотерапии. Всё за умеренную плату, скорректированную на уровень экономической развитости региона, средний возраст и число жителей нашего приморского парадиса. Однако, мысль о французском, не успев ещё полностью оформиться в моей продуваемой ветром голове, была грубо откинута моей же нерешительностью на безопасное для неё расстояние. Прошло несколько дней. Я не ходил на занятия по йоге. Мысли о двух франкоговорящих подругах меня нисколько не беспокоили.
Спустя неделю после вашего последнего класса, мы с учителем пили чай на террасе у неё дома. Ничего необычного. Я думаю, что вы знали, что она, учитель по совместительству, является матерью моей жены. Она, тренер, мне шёпотом поведала за кружечкой остывшего шоколадного чая, что в тот вечер вы были счастливы как никогда. Всё занятие вы улыбались. Упражнения на баланс, которые вам так плохо давались, наконец-то получились – без страданий, колыханий и падений. У вас всё получалось в тот день. Я тоже запомню вас улыбающейся. Последнюю неделю вы были спокойны. Следы внутренней борьбы растворились вовне. Дослушивая рассказ учителя, я вспомнил про изучение французского. Мне стало любопытно, случилось бы это «после», подойди я к вам и договорись за предстоящие классы. Тем, что вы сделали, вы невольно заставили меня думать о вас. О возможности всё изменить одним неожиданным предложением, одним неуверенным словом. Но произошло ровно то, что вы сами себе предсказали. Никто не в силах был вмешаться в вашу внутреннюю борьбу и предопределить иной, менее печальный для вас исход.
Всё случилось в канун католического Рождества. Предположу, что вы были католичкой. Это ваш праздник – не мой. Но даже меня к концу тяжёлого года сразила тоска и хандра по моему оставленному навеки дому. Или тоска по упущенным возможностям? Без лишней драмы, но всё никак не возьму в толк. Светящиеся рождественские ярмарки приводили людей, кажущихся психическими здоровыми, в ужас. Мне хотелось рыдать от очередного «Feliz Navidad» или сливающегося со звуками потрескивающих в камине дров Фрэнком Синатрой. От предрождественского сумасшествия веяло тоской, столь страшной и сильной, что мне не подвластно её облечение в простые человеческие слова. Я выбирал подарки на ощупь, не глядя, играя среди пальм и вечного, пусть иногда остывающего солнца, в ваше католического Рождество. Мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Тяжёлый экзистенциальный праздник.
Но вы решили не растягивать предпраздничное волнение и нескончаемую череду приготовлений. В местной группе в социальных сетях я прочёл тщательно подготовленный вашим мужем некролог. Вы покончили с собой, вернувшись с ничем не примечательного обеда в компании мрачного мужа. От знакомых я выведал детали: вы повеселись на люстре в вашей спальне на втором этаже вашего на первый взгляд благополучного дома. Спальня мужа располагалась на первом этаже. Вы с ним уже давно не спали вместе — не могли сосуществовать в плоскости одного этажа. Когда подруга-бельгийка спросила вашего мужа, что он чувствует после случившегося и не нужна ли ему какая-либо помощь, он ответил лишь коротко: «Я наконец-то чувствую себя свободным». Вы были нездоровы. Но я об этом не догадывался, впрочем, как и многие из тех, кто вас окружал.
Преподаватель йоги в связи с трагедией вспомнила занятие, когда у вас никак не получалась одна стойка на равновесие, и вы, задыхаясь от истеричных удушающих слёз, выбежали подышать прямо на проезжую часть. Благо, в нашем поселении машины – редкость, и проезжие части безопасны для коротких раздумий. Через пять минут вы вернулись с растянувшей ваши губы в разные стороны неестественной улыбкой.
Да, многие сразу вспомнили вас «до». Большинство сошлось во мнении, что вы были «неуравновешенной», что случившееся было естественным следствием прерванного лечения. Эпитет «ненормальная» – никто из уважения к вашей памяти не употреблял. Смерть вынудила сплетников переродиться в снисходительных обсуждающих. Но ваш муж вполне мог не быть снисходительным к вам. Он прожил с вами более тридцати лет и вполне мог выражаться за границами своего некролога в своей памяти о вас как о «ненормальной», «сумасшедшей» или в моменты высшего гнева – «старой суке». Он благодарил Бога, что теперь он, бедный и уставший, наконец-то отдохнёт от уничтожавшей его все эти годы вашей головы. Но Бог в этой истории ни при чём, впрочем, как и праздник католического Рождества.
Все говорили о вас, а я вас абсолютно не помнил. Мне нечего было добавить в рамках многоголосых обсуждений. Но я постоянно думал о вас в первые дни «после». Что если бы я подошёл тогда к вам... Нет, я ни в коей мере не винил себя. Здесь, скорее, речь идёт о банальном любопытстве и пересечении неведомых глазу линий судьбы. Так могло ли что-то измениться? Почему ровно через неделю со дня, как я обратил на вас внимание и подумал об уроках, вы вдруг покончили жизнь самоубийством? Меня поражало это адское совпадение. Вы заставили меня думать о смерти, о возможности её намеренного выбора. Ваша неуравновешенность подтолкнула вас в избранном вами направлении.
С тяжёлой головой я подходил к дому с пакетами, переполненными продуктами для рождественского стола. Из одной сумки переваливались через край два длинных, чуть надломленных багета. Я остановился, не доходя до дома четырнадцать средних шагов, чтобы впихнуть багеты обратно внутрь сумки. Подняв голову, я увидел вас в мотоциклетном шлеме возле припаркованной прямо напротив моего дома Веспы. Вы поздоровались со мной, я, чуть помедлив, вглядевшись как следует в ваше лицо, ответил тем же. Мы не говорили с вами, ограничившись лишь коротким пожеланием друг другу доброго дня. Не оборачиваясь, точно увидев призрака, я спокойно подошёл к двери своего дома. Ключи от входной двери рука держала на удивление твердо. Два оборота и дверь поддалась. Я осторожно закрыл за собой дверь и остался молча стоять в прихожей, придавливаемый к полу тяжестью сумок. Этого просто не могло быть! Я не мог поверить в реальность случившейся встречи. Призраков ведь не существует, даже в нашем вымирающем поселении! Но, если призраков не существует, то это значит лишь одно … Как я мог быть настолько слеп? Я перепутал вас с вашей подругой-бельгийкой! Пакеты с грохотом упали на пол. Я расправил плечи и засмеялся во весь голос. Жена испуганно сбежала ко мне вниз по лестнице:
– Что случилось? Включи здесь свет!
Я продолжал смеяться над своей наивной глупостью. Простите меня, теперь я вас прекрасно помню! Вспомнил наконец-то, узнал, как по Чехову!
Всё стало ясно. Я сквозь смех и слёзы прокричал: «Она заказывала в нашем цветочном магазине памятный венок для неё!»
СТАРАЯ ТАМОЖНЯ
В доме по адресу «Старая таможня, 12» за последние три четверти века в общей сложности проживало всего два человека. Временные наслоения ни в коей мере не коснулись их судеб. Когда существовала одна, второй не было места среди живых. Когда родилась младшая, в глазных впадинах старшей уже зияла непроглядная тьма. Они существовали и пристально вслушивались в этот случившийся с человечеством мир по отдельности. Благо или проклятье, но слух у каждой из них до самой смерти оставался кристально чистым, музыкальным.
Обе постоялицы этого зажатого с двух сторон четырёхэтажного дома неминуемо должны были быть женщинами. Двумя женщинами, ничем не похожими друг на друга. Единственным общим знаменателем в их судьбе должны были стать звуки маленькой провинциальной улочки, влетающие внутрь дома сквозь открытые настежь окна.
Старая таможня гремела и день, и ночь, связывая площадь Мадрида с курортной улицей Кармен. Нескончаемые потоки местных работяг андалю с детьми разной альтуры и грузными жёнами шествовали на очередную феерию. Грубость названия и сама по себе неухоженность улицы заставляли прохожих ускорять свой шаг, повышать голос на детей и отхаркивать накопившуюся за зиму усталость. Слюна впечатывалась в и без того грязную римскую брусчатку – уцелевший подарок завоевателей для будущей Старой таможни.
Потрепанный сородичами одноухий пёс, следуя примеру своего хозяина, остановился на углу одного из домов. Пёс высоко задрал свою заднюю лапу, прислонившись внутренней стороной бедра практически вплотную к стене. Собачья и людская моча тонкими струйками потекли по направлению шествия. Сделав своё дело, пёс довольно завилял хвостом. Хозяин потрепал его по макушке, другой рукой попутно застёгивая свои чёрные выходные брюки – единственные в гардеробе молодого рабочего. Следом он взял пса за матерчатый ошейник со следами полевой грязи и потащил его вперед. По улице эхом прокатился довольный собачий лай. Из мастерской на углу выбежал с ругательствами сапожник и помчался следом за молодым парнем и его четвероногим подельником. Маленькая девочка в белом одеянии с синей свечой в руке вздрогнула от испуга. Отец подхватил её, уже рыдающую, на руки. Вскоре они скрылись за поворотом, но плач ребёнка еще долго раздавался в ушах жителей Старой таможни.
Людской поток плавно тёк по направлению к церкви, откуда должны были вынести золотую платформу-трон, украшенную фигурами святых. Весь город возбуждённо звучал, предвкушая святое шествие. Именно в один из таких праздничных дней массового выхода нарядных андалузцев, вечно кричащих новости своему соседу, идущему в полуметре от них, в город приехала новая учительница музыки.
Очень тихо и незаметно в Святую неделю в год прихода Франсиско Франко к власти она провернула ключ в ржавой замочной скважине, отворила коротко скрипнувшую дверь и вошла в дом № 12. Её звали Патриция.
Новую учительницу музыки для только что отреставрированного Дома культуры выписали из ничем не примечательного музыкального училища в Мадриде. Сама Патриция родилась в глухой деревушке где-то в провинции Кастилия-Ла-Манча – на родине Дон Кихота. В её родном поселении проживало не более сотни человек, большинство из которых были дряхлыми стариками, ссыпающимися поочерёдно вместе с песочным временем в могилы. Ветер дул в тех краях с неистовой силой, приводя в работу лопасти ветряных мельниц, унося вместе с собой землю со свежих могил.
Квартиру учительнице предоставила местная мэрия абсолютно бесплатно. Предложенная должность и бесплатное жильё сделали свое дело. Патриция собрала один-единственный чемодан и отправилась в доселе неведомый для себя южный регион. Но уже в первую ночь на новом месте, заслышав острые звуки, точно металлические дробинки, вырывающиеся из уст пьяных работяг, которые возвращались с праздничных гуляний в свои дома по соседству, Патриция засомневалась в правильности своего поступка. Она очутилась здесь совсем одна среди этой неиссякаемой энергии, неослабевающих ни на секунду звуков улицы. Она поселилась в центре Старого города среди людей, которые поколениями жили здесь и не собирались ради неё менять свои привычки.
Первое занятие в музыкальной школе при Доме культуры должно было состояться в понедельник после затянувшегося празднования католической Пасхи. Патриция не спала четыре ночи кряду. Она попыталась выйти на пятничное шествие, надеясь слиться с журчащим людским потоком, забыться в нём, но нестройный гам, напор и дерзость южан, с которыми она была вынуждена праздновать Святую неделю, показались ей чрезмерными. Крики и топот ежесекундно возвращали её в удручающую отсутствием мелодичности реальность.
Композиция была ломаной, точно все музыкальные инструменты решили заиграть разом – рассинхронно и невпопад. Один хриплый голос подавлял другой, не менее охрипший, но так же пронзающий острыми нотами пустоту – голос взрослого разгорячённого криансой испанского мужчины. Перерывы между выкриками сопровождались глубокими затяжками с последующим рычащим кашлем. Самокрутки часто вылетали вместе со словами из быстро двигающихся в такт шествию и общему разговору челюстей. Сломанная рука невидимого дирижера даже и не пыталась исправить ситуацию. Дирижер давно плюнул и махнул на этот деревенский оркестр своей немощной рукой.
Патриция заперлась в своём домике и плотно закрыла на щеколды деревянные ставни. Но о звенящей тишине ей можно было только мечтать. Патриция начала тосковать по оставленному деревенскому дому и своей маленькой семье. По участку с оливковым полем в несколько гектар и по кажущемуся теперь сном отсутствию соседей в радиусе мили.
У нее не получалось собраться с мыслями, нотные тетради так и оставались запертыми в чемодане. Единственное, на что ей хватило сил в первые дни своего пребывания на Старой таможне, это глажка одежды. Она старательно выгладила под барабанную дробь проходящего под её окнами оркестра белую блузу и вычистила подол юбки, запылившийся в дороге. О творчестве и интеллектуальном труде в такой атмосфере не могло быть и речи.
В понедельник городок поутих. Праздничный шум сменился стройным гулом трудовых будней. Патриция неохотно поднялась с дивана в гостиной, куда она перебралась под утро – подальше от ритмов танго, с рвением исполняемого мышами прямо под потолком в её спальне; сварила себе порцию терпкого кортадо, выпила его залпом, ничуточки не поморщившись. Затем она переоделась в подготовленный заранее комплект и вышла навстречу своему первому дню в должности учительницы музыки. Это был первый рабочий день в ее жизни как таковой. Несмотря на очередную бессонную ночь, она собралась с силами и улыбнулась первому встречному – булочнику в лавке напротив. Булочник густо покраснел от столь пустячного знака внимания к нему, небритому и полноватому Хорхе, со стороны утонченной юной чужеземки. Он улыбнулся ей в ответ своими пожелтевшими от самокруток и кофе зубами, попутно отряхивая белые от муки руки о прохудившийся во многих местах кухонный фартук – наследие его прабабки. Когда Патриция отвернулась от него, он присвистнул ей вслед и звучно сглотнул накопившуюся во рту слюну. Увы, но Хорхе давно не доводилось флиртовать с молодыми девушками. Свист больше напоминал клич отчаявшегося охотника, заблудившегося в лесу. Патриция вздрогнула, как вздрагивают, услышав за спиной отрывистый гудок клаксона. Неприятная дрожь прошла по всему телу. Она непроизвольно стряхнула кисти рук и, не оборачиваясь назад, пошла дальше.
Патриция желала в мелочах запечатлеть в своей памяти незнакомый для себя путь. Она бережно ступала по брусчатке, едва касаясь её носочками своих новеньких эспадрий. Этот день, говорила она себе, непременно должен быть особенными. День, когда она впервые стала одним из полноправных творцов жизни маленького приморского городка.
Тот день действительно вырезал замысловатые узоры на карте ее рассыпающейся в прах памяти. Спустя три четверти века, она начнет вспоминать Старую таможню точно с того мгновения, когда она, двадцатилетняя провинциалка с нотными тетрадями в руке и скрипкой в потертом черном футляре, выбежала из своего дома навстречу своей судьбе. Тот день будет первым в веренице ускользающих воспоминаний, который, словно кадр старой кинохроники, выборочно подсветится софитами усыхающего мозга, а звуки на той плёнке будут потрескивать, точно обугленные поленья в камине.
Патриция будет лежать в своей постели, умытая и одетая во все новое, поджидая подкрадывающуюся на цыпочках к ней смерть. Но она не будет вслушиваться в ее невесомые шаги. В последние часы своей жизни, на закате еще холодного апрельского солнца, одаряющего её тело своими мягкими лучами сквозь распахнутое окно, она предпочтёт окунуться в воспоминания о былых звучаниях своей отыгранной до последней ноты жизни.
В восемь часов утра на улицах в понедельник было уже полно народу. Патриция сразу же, у входной двери была подхвачена разношерстной процессией, которая, строго будучи единой рекой в конце улицы Кармен, разливалась на два ручейка: один перетекал к морю, другой, свернув направо, – вглубь старого города, с резвым журчанием следовал в сторону центральной площади.
Основную массу прохожих составляли рыбаки, идущие с сетями и удочками наперевес, и старые женщины с тележками на двух колесах. Если появление первых было вполне логично объяснимо началом новой недели, то процессия пожилых хромающих матрон, опирающихся на свои тележки, была не так очевидна для человека, приехавшего в наш городок из сельской местности. Патриция выпорхнула из потока и с удивлением оглядела женщин. Они были довольны собой и деловито пересказывали друг другу подробное меню грядущих семейных обедов. «Вырезку купить у Хосе, пескаду – у малыша Энрике, вино и оливки мужчины привезут из Гранады, можно не покупать», – донеслось из уст одной по-цыгански одетой и размалёванной испанки. Смех, дребезг тележек о каменную брусчатку.
Следом Патриция услышала барабанную дробь. Она привстала с постели и подслеповатыми глазами различила на улице напротив своего дома процессию военных морячков. У каждого к шее и торсу широкими кожаными ремнями был примотан белоснежный барабан. Они чеканили барабанными палочками при поддержке шествующих следом за ними духовых реквием по Иисусу Христу. Патриция улыбнулась удаляющейся от её открытого балкона процессии. Голоса стихли, в комнату подул свежий ветер.
Барабаны напомнили Патриции о многолетней войне с соседями. Многодетная семья из Латинской Америки поселилась у неё по правую стену в начале 60-х гг. У Патриции не было собственных детей, чтобы мстить им их же плачуще-топающим в ботинках не по размеру оружием. У Патриции для таких случаев была припасена всего-навсего поварёшка, обмотанная, как и подобает сделать приличному человеку, махровым полотенцем. Когда соседи кричали, отмечая очередной день рождения одного из нескончаемых родственничков, Патриция, вооружившись поварёшкой, начинала выбивать модные в то время рок-композиции прямо о смежную с неугомонными соседями стену. Соседи всё прекрасно слышали. Поначалу поварёшка действовала на них успокаивающе – латиносы умолкали, давая Патриции поспать пару драгоценных часов. Но со временем они стали отвечать ей в такт. Они били ей в стену кулаком и звонко смеялись с явным южноамериканским акцентом. Всех голосов было не сосчитать. Одинокая учительница слушала голоса за стенкой и тихо плакала, накрывшись с головой пуховым одеялом.
Спустя какое-то время Патриция начала привыкать к их голосам. Человек способен привыкнуть ко всему. Он даже способен научиться видеть сны, телесно находясь в камере пыток. Но, к сожалению, выстраданное счастье Патриции было недолгим. Случилось ужасное. Соседи закупили новую металлическую мебель, больше пригодную для сада и огорода. Они стали день и ночь передвигать эту самую мебель, не отрывая ножки мебели от каменного пола. После недели с перестановкой, Патриции пришлось показаться стоматологу. Её молчаливый протест стоил ей двух стёршихся передних резцов.
Высохшая, точно мумия, старуха повернулась на бок и уставилась в противоположную стену. «Сколько же их жило там, слева? Не меньше сотни, честное слово», – про себя подумала Патриция. Последние пару лет слева живёт приличный пожилой господин, который, должно быть, как и она сама, доживает уцелевшие крупицы своего земного времени. Его никогда не слышно, он почти не выходит на улицу; кто знает, может быть, он уже умер и лежит там смиренный и тихий, ожидая приезда ближайших родственников на очередные каникулы. То-то же они удивятся! Каникулы будут испорчены похоронной вознёй. Носилки с телом старика точно заденут смежную тонкую стену. Патриция услышит его прощальный выход на до сих пор не переименованную Старую таможню. Похоже, что все уцелевшие осколки века Франко сперва будут вынуждены пройти таможню, и только затем избранным счастливчикам будет суждено увидеть небеса. Патриция широко улыбнулась, обнажив свой единственный зуб. Она стала гадать: кто же станет её новым соседом?
Патриция затаила своё прерывистое хрипящее дыхание и прислушалась. Со стороны соседа не доносилось ни единого звука. «Надо было прожить столько лет, чтобы наконец-то прочувствовать полную тишину», – она шёпотом промолвила в пустоту. Её взгляд зацепился за вывеску кафе на противоположной улице. Она не могла различить, что там было написано. Она молча смотрела на неё. Память вновь начала говорить с ней.
Патриция глубоко, насколько это было ей по силам, втянула в своё нутро комнатный воздух, смешавшийся с запахами улицы. Вздох не дал ей подсказок. Она снова стала прислушиваться, не сводя взгляд с вывески.
Она вспомнила, что дом № 14 был гостевым домом. В том самом доме, где сейчас лежит этот старик в гробовой тишине. Причём проживали в нём не обычные туристы из скандинавских стран или Англии, а эмигранты – выходцы преимущественно из Восточной Европы, Африки и Персидских стран. Славян она не запомнила, они были тихие и вечно грустные. Да, иногда они пили, но никогда не шумели в доме или под её окнами. Если и били бутылки, то не специально и всегда застенчиво и виновато за то извинялись перед нею. Они уходили рано утром в поле на сбор черимойи и возвращались затемно. Нет, про них и вспомнить нечего.
На улице раздался неожиданный колокольный бой. Патриция насчитала пять протяжных ударов. Бой резко затих. Вывеска турецкой забегаловки. 70-е годы. Летняя ночь. Уже седая Патриция, готовящаяся через полгода выйти на пенсию, проснулась от звуков скрежета металла о стену. Испуганная появлением в своей жизни нового, она лежала в постели, точно парализованная, вслушиваясь в царапающую металлическую симфонию. Что это могло быть? Звук перестановки мебели ей был хорошо известен. Он её уже не будил – спустя столько лет, она спокойно засыпала под скрежет ножек. Нет, это было что-то другое. Определённо что-то большое и неподатливое. Она дождалась, пока это нечто с четвёртого этажа вынесли на улицу. Любопытство взяло верх. Патриция набросила поверх пижамы на плечи халат и вышла на балкон. Внизу под своим балконом она увидела картину, которая не увязалась у неё в голове ни с одним законом логики. Даже сейчас, вновь услышав тот день, она задаётся одним лишь вопросом: «Зачем?» Она бы многое отдала за то, чтобы узнать, свидетельницей чего она стала в ту ночь. Как жалко, что ей не хватило храбрости уточнить у двух ребят истинные мотивы их поступка. Два парня, должно быть, турки или пакистанцы, осматривали со всех сторон выставленную посреди улицы огромную вывеску с одним-единственным словом: «KEBAB». Тот, что был помладше, предложил поменять в ней лампочки, отвечающие за подсветку. Старший отказался, сославшись на то, что всё и без того работает. Они выкурили по сигарете возле вывески. Затем молча взяли её с противоположных сторон и понесли обратно, на четвёртый этаж дома по соседству. После того дня Патриция не слышала, чтобы вывеску куда-либо выносили вновь. Патриция оторвала свой рассеянный взгляд от вывески. Она пыталась найти в пространстве точку, которой можно было бы воспользоваться в качестве опоры.
Чайка напугала её протяжным криком, возродив тем самым в памяти стоны молодой пары, которая жила всё в том же, плодовитом на соседей доме № 14 ещё до того, как там поселились подозрительные парни с вывеской. Молодая пара въехала в жильё, которое было так же предоставлено им мэрией через год после того, как Патриция сама обосновалась в городе. Ничто так не раздражало Патрицию за эти годы, как звуки, издаваемые новобрачными каждую ночь. Девушка стонала так неистово, что Патриция, лёжа одна в своей двуспальной кровати, обращалась ко всем католическим святым, моля их, чтобы девушка поскорее кончила, и эти звуки любви прекратились у неё под боком. Но девушка стонала часами, парень от усталости рычал, но никогда не сдавался. В те годы Патриция начала курить и выпивать, улавливая звуки наслаждения, долетающие с завидной регулярностью до её уха. Она хотела им отомстить, но не знала как. У неё не было ни мужа, ни парня, которого она могла бы пригласить к себе домой после уроков музыки. Она долго думала, искала способы, как сообщить соседям о том, что ей всё известно, что вот она – здесь, прямо у них за стенкой. Попросить их ответным актом быть потише, но она долго не могла понять, как ей это сделать. И вот, спустя месяцы бессонных ночей, после приговорённой посреди ночи бутылки Риохи, она решила, что неминуемо должна купить пианино.
На следующее утро голова у Патриции пульсировала, руки подёргивала хаотичная дрожь. Но она была весела, так как знала, что в этот день она закажет себе пианино. Да, это был её план мести. Она поставит его в гостиную и будет сутками напролёт выбивать по клавишам бодрящие своим оптимизмом композиции классиков. Но, к сожалению, мечта о мести так и осталась неосуществлённой. Пианино было заказано, грузчики вместе с настройщиком прибыли в назначенный день, но оконный проём и размер дверного проёма не впустил в себя музыкальную громадину. Однако обстоятельствам не так легко было победить Патрицию. Она велела выставить окно в гостиной и пробить дополнительные пару сантиметров в стене. Грузчики согласились. Проём необходимой величины был готов, заржавевший кран, простаивающий годами на парковке у фабрики по упаковке фруктов, знакомый Патриции по музыкальной школе попросил пригнать своего друга. Пианино обмотали как следует тросом, а конец его пристегнули к подъёмному механизму. Всё было готово. Патриция стояла в стороне и потирала руки, мысленно представляя, какую сегодня композицию она исполнит для новобрачных.
«Поднимай», – крикнул один из грузчиков водителю крана.
Лебёдка загудела, пианино резко взмыло в воздух. Весенний ветер опасно нагибал остриженные макушки величественных пальм. Все внимательно смотрели, как ветер раскачивает в воздухе чёрный лакированный предмет, бликующий солнцем. Звук лебёдки резко стих. На секунду стали слышны только порывы ветра. За ними последовал резкий скрип раскачивающегося крюка, на который крепились тросы, удерживающие в невесомости пианино. Ещё один сильный порыв ветра, ещё один протяжный скрип. Пианино качалось из стороны в сторону. Все присутствующие молча мотали головой. Они следили взглядом за пианино в воздухе, как следят взглядом на трибунах за мячом зрители на теннисном матче, с затаённым дыханием в момент розыгрыша важного очка. Ещё один скрип. Патриция схватила за руку грузчика и больно сдавила ему руку. Последний скрип. Пианино в доли секунды вместе с ржавым крюком с грохотом сорвалось на брусчатку. Это был самый пронзительный звук, который когда-либо издавала на Старой таможне скромная Патриция. После того, как мечта о пианино в прямом смысле разлетелась на мелкие кусочки, Патриция в своём доме ни на чём другом так и не сыграла. Почему-то она не признавала звуки скрипки и губной гармошки в качестве оружия.
Церковный колокол отбил семь ударов. Солнце скрылось за крышами домов. Предметы в спальной комнате лишились собственной тени. На прохладную улицу после дневного сна высыпали дети. Они разделились на две команды и принялись резво играть в футбол прямо на площади Мадрида. Патриция прикрыла глаза, впуская в себя их задорные голоса, звуки их борьбы, звон основательных ударов по мячу. Она нашла в окружающем её все эти годы шуме Старой таможни жизнь. Она не стала андалузкой, но она наконец-то поняла мелодию, которую каждый из них так настойчиво исполнял для неё изо дня в день.
Засыпая, Патриция услышала звук от удара футбольного мяча. Мяч влетел в окно, внутрь первого этажа её дома. Она отчётливо различила скрежет разлетающегося на мелкие осколки стекла. Это был знак ей свыше – она ещё здесь, она жива. Патриция спокойно уснула, храня улыбку Будды на устах.
Вы никогда не прочитаете эти заметки, поэтому я позволю своей памяти пожить ощущением лёгкой вольности. Мы встречались с вами всего несколько раз на классах по йоге в небольшом городке в одной южной деревне в ста шестидесяти двух километрах от часовой стрелки Гибралтарской скалы. Я практически не помню вас «до», но я прекрасно помню вас «после». Последний раз я видел вас на вечернем классе в гимнастическом зале. Вы были веселы и о чем-то возбужденно разговаривали со своей подругой на неведомом для меня французском. Мы поздоровались на испанском, соблюдая приличия приютившей нас страны. Это приветствие было столь обезличенным, бездушным. Оно, это приветствие, меня ни в коей мере не обязывало заглянуть вам в лицо. Я абсолютно не помню ваших черт, что и говорить о чертах, отличающих вас от других! От вас, как от материализации человеческого существа в пространстве, где нам довелось пребывать короткий промежуток времени вместе, во мне останется лишь цвет ваших волос, воспоминание о прошлогоднем испанском загаре, брызги пигментных пятен на руках и белые морщины, пользующиеся услугами солнца не по его прямому назначению. «До» существовал только ваш возраст – без имени, национальности, интересов и вероисповедания.
Всё началось, или будет точнее выразиться закончилось, в декабре. В наших краях тогда закрепился сырой промозглый декабрь. Температура в неотапливаемых квартирах провинциальной Андалусии едва превышала шестнадцать градусов по Цельсию. Единственным спасением для всех обитателей вымирающего туристического городка были утренние солнечные ванны за чашечкой манчады, в которую неминуемо должна была погрузиться жирная масса испанского чурроса. Днём все жители курорта выползали на променад. Прогулка под блёклым солнцем, с вялым боем, пробивающимся сквозь водянистую завесу, устроенную ветрами и морским бризом, ровно ограничивалась длинной, заботливо обустроенной провинциальными властями набережной. Я думаю, что наше paseo чем-то должно было напоминать вам набережную Круазет. Я всегда представляю, как направляюсь в шикарном костюме по набережной за очередной веточкой, а не в грязной толстовке бреду, сойдя на гальку, за битыми разноцветными кусочками керамической плитки, которые когда-нибудь будут выложены в определённой случаем последовательности на кухне моего маленького дома, где я встречу свою старость, а за ней и смерть. Да, вы не могли не думать о родном Провансе, гуляя здесь со своим молчаливым и вечно уставшим мужем.
Что значилось следом за променадом в нашей программе дневного согревания? Обед. Обеденное время, облачившись в куртки, шарфы и шляпы, мы проводили в открытых уличных ресторанах, поскольку улица днём всегда была теплее помещений. Одна из шляп за обедом неминуемо должна была взмыть ввысь. Но никто из обедающих не бежал за шляпами, сознавая свою отчаянную ветхость в сравнении с силами природы, ограничившись лишь ленивым поворотом головы в сторону уносимого предмета, улетучивающегося времени. Головы поворачивались вспять. Челюсти продолжали вяло пережёвывать оставшиеся мягкие куски морской рыбы.
Я никогда не замечал на обедах вашей шляпы или шляпы вашего мужа среди прочих. Вы предпочитали обедать в вашем двухэтажном доме на краю поселения. Иногда, находясь в приподнятом расположении духа, вы уединялись в узком кругу семьи и друзей в кафе «для местных». Ваша подруга-бельгийка проводила с вами все дни напролёт. Муж облегчённо выдыхал, когда она, бельгийка, подъезжала на своей Веспе по гравийной дороге к парадному входу вашего дома. Веспа в наших краях встречается довольно часто как причуда вышедших на пенсию европейцев. Вы с подругой негласно следовали установленной моде. Вы садились на мопед к своей подруге и ехали, крепко прижимаясь щекой к её маленькой спине, на вечернее занятие по йоге в центр города. Здесь меня поправил бы местный читатель: «Не города, а села». Что же, в угоду местному читателю исправлюсь: «Они ехали в центр поселения, которое, погрузившись в непробудную зимнюю спячку, уже видело вещие зимние сны».
Я пропустил то последнее занятие по йоге. Мы виделись с вами в ваш предпоследний спокойный час. На мгновение меня посетила мысль, когда я слушал мелодию вашего разговора с подругой: «Может, мне выучить французский?» В наших краях подобные услуги – обычное дело. Кто-то даёт языковые уроки, кто-то тренирует, кто-то проводит сеансы психотерапии. Всё за умеренную плату, скорректированную на уровень экономической развитости региона, средний возраст и число жителей нашего приморского парадиса. Однако, мысль о французском, не успев ещё полностью оформиться в моей продуваемой ветром голове, была грубо откинута моей же нерешительностью на безопасное для неё расстояние. Прошло несколько дней. Я не ходил на занятия по йоге. Мысли о двух франкоговорящих подругах меня нисколько не беспокоили.
Спустя неделю после вашего последнего класса, мы с учителем пили чай на террасе у неё дома. Ничего необычного. Я думаю, что вы знали, что она, учитель по совместительству, является матерью моей жены. Она, тренер, мне шёпотом поведала за кружечкой остывшего шоколадного чая, что в тот вечер вы были счастливы как никогда. Всё занятие вы улыбались. Упражнения на баланс, которые вам так плохо давались, наконец-то получились – без страданий, колыханий и падений. У вас всё получалось в тот день. Я тоже запомню вас улыбающейся. Последнюю неделю вы были спокойны. Следы внутренней борьбы растворились вовне. Дослушивая рассказ учителя, я вспомнил про изучение французского. Мне стало любопытно, случилось бы это «после», подойди я к вам и договорись за предстоящие классы. Тем, что вы сделали, вы невольно заставили меня думать о вас. О возможности всё изменить одним неожиданным предложением, одним неуверенным словом. Но произошло ровно то, что вы сами себе предсказали. Никто не в силах был вмешаться в вашу внутреннюю борьбу и предопределить иной, менее печальный для вас исход.
Всё случилось в канун католического Рождества. Предположу, что вы были католичкой. Это ваш праздник – не мой. Но даже меня к концу тяжёлого года сразила тоска и хандра по моему оставленному навеки дому. Или тоска по упущенным возможностям? Без лишней драмы, но всё никак не возьму в толк. Светящиеся рождественские ярмарки приводили людей, кажущихся психическими здоровыми, в ужас. Мне хотелось рыдать от очередного «Feliz Navidad» или сливающегося со звуками потрескивающих в камине дров Фрэнком Синатрой. От предрождественского сумасшествия веяло тоской, столь страшной и сильной, что мне не подвластно её облечение в простые человеческие слова. Я выбирал подарки на ощупь, не глядя, играя среди пальм и вечного, пусть иногда остывающего солнца, в ваше католического Рождество. Мне хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Тяжёлый экзистенциальный праздник.
Но вы решили не растягивать предпраздничное волнение и нескончаемую череду приготовлений. В местной группе в социальных сетях я прочёл тщательно подготовленный вашим мужем некролог. Вы покончили с собой, вернувшись с ничем не примечательного обеда в компании мрачного мужа. От знакомых я выведал детали: вы повеселись на люстре в вашей спальне на втором этаже вашего на первый взгляд благополучного дома. Спальня мужа располагалась на первом этаже. Вы с ним уже давно не спали вместе — не могли сосуществовать в плоскости одного этажа. Когда подруга-бельгийка спросила вашего мужа, что он чувствует после случившегося и не нужна ли ему какая-либо помощь, он ответил лишь коротко: «Я наконец-то чувствую себя свободным». Вы были нездоровы. Но я об этом не догадывался, впрочем, как и многие из тех, кто вас окружал.
Преподаватель йоги в связи с трагедией вспомнила занятие, когда у вас никак не получалась одна стойка на равновесие, и вы, задыхаясь от истеричных удушающих слёз, выбежали подышать прямо на проезжую часть. Благо, в нашем поселении машины – редкость, и проезжие части безопасны для коротких раздумий. Через пять минут вы вернулись с растянувшей ваши губы в разные стороны неестественной улыбкой.
Да, многие сразу вспомнили вас «до». Большинство сошлось во мнении, что вы были «неуравновешенной», что случившееся было естественным следствием прерванного лечения. Эпитет «ненормальная» – никто из уважения к вашей памяти не употреблял. Смерть вынудила сплетников переродиться в снисходительных обсуждающих. Но ваш муж вполне мог не быть снисходительным к вам. Он прожил с вами более тридцати лет и вполне мог выражаться за границами своего некролога в своей памяти о вас как о «ненормальной», «сумасшедшей» или в моменты высшего гнева – «старой суке». Он благодарил Бога, что теперь он, бедный и уставший, наконец-то отдохнёт от уничтожавшей его все эти годы вашей головы. Но Бог в этой истории ни при чём, впрочем, как и праздник католического Рождества.
Все говорили о вас, а я вас абсолютно не помнил. Мне нечего было добавить в рамках многоголосых обсуждений. Но я постоянно думал о вас в первые дни «после». Что если бы я подошёл тогда к вам... Нет, я ни в коей мере не винил себя. Здесь, скорее, речь идёт о банальном любопытстве и пересечении неведомых глазу линий судьбы. Так могло ли что-то измениться? Почему ровно через неделю со дня, как я обратил на вас внимание и подумал об уроках, вы вдруг покончили жизнь самоубийством? Меня поражало это адское совпадение. Вы заставили меня думать о смерти, о возможности её намеренного выбора. Ваша неуравновешенность подтолкнула вас в избранном вами направлении.
С тяжёлой головой я подходил к дому с пакетами, переполненными продуктами для рождественского стола. Из одной сумки переваливались через край два длинных, чуть надломленных багета. Я остановился, не доходя до дома четырнадцать средних шагов, чтобы впихнуть багеты обратно внутрь сумки. Подняв голову, я увидел вас в мотоциклетном шлеме возле припаркованной прямо напротив моего дома Веспы. Вы поздоровались со мной, я, чуть помедлив, вглядевшись как следует в ваше лицо, ответил тем же. Мы не говорили с вами, ограничившись лишь коротким пожеланием друг другу доброго дня. Не оборачиваясь, точно увидев призрака, я спокойно подошёл к двери своего дома. Ключи от входной двери рука держала на удивление твердо. Два оборота и дверь поддалась. Я осторожно закрыл за собой дверь и остался молча стоять в прихожей, придавливаемый к полу тяжестью сумок. Этого просто не могло быть! Я не мог поверить в реальность случившейся встречи. Призраков ведь не существует, даже в нашем вымирающем поселении! Но, если призраков не существует, то это значит лишь одно … Как я мог быть настолько слеп? Я перепутал вас с вашей подругой-бельгийкой! Пакеты с грохотом упали на пол. Я расправил плечи и засмеялся во весь голос. Жена испуганно сбежала ко мне вниз по лестнице:
– Что случилось? Включи здесь свет!
Я продолжал смеяться над своей наивной глупостью. Простите меня, теперь я вас прекрасно помню! Вспомнил наконец-то, узнал, как по Чехову!
Всё стало ясно. Я сквозь смех и слёзы прокричал: «Она заказывала в нашем цветочном магазине памятный венок для неё!»
СТАРАЯ ТАМОЖНЯ
В доме по адресу «Старая таможня, 12» за последние три четверти века в общей сложности проживало всего два человека. Временные наслоения ни в коей мере не коснулись их судеб. Когда существовала одна, второй не было места среди живых. Когда родилась младшая, в глазных впадинах старшей уже зияла непроглядная тьма. Они существовали и пристально вслушивались в этот случившийся с человечеством мир по отдельности. Благо или проклятье, но слух у каждой из них до самой смерти оставался кристально чистым, музыкальным.
Обе постоялицы этого зажатого с двух сторон четырёхэтажного дома неминуемо должны были быть женщинами. Двумя женщинами, ничем не похожими друг на друга. Единственным общим знаменателем в их судьбе должны были стать звуки маленькой провинциальной улочки, влетающие внутрь дома сквозь открытые настежь окна.
Старая таможня гремела и день, и ночь, связывая площадь Мадрида с курортной улицей Кармен. Нескончаемые потоки местных работяг андалю с детьми разной альтуры и грузными жёнами шествовали на очередную феерию. Грубость названия и сама по себе неухоженность улицы заставляли прохожих ускорять свой шаг, повышать голос на детей и отхаркивать накопившуюся за зиму усталость. Слюна впечатывалась в и без того грязную римскую брусчатку – уцелевший подарок завоевателей для будущей Старой таможни.
Потрепанный сородичами одноухий пёс, следуя примеру своего хозяина, остановился на углу одного из домов. Пёс высоко задрал свою заднюю лапу, прислонившись внутренней стороной бедра практически вплотную к стене. Собачья и людская моча тонкими струйками потекли по направлению шествия. Сделав своё дело, пёс довольно завилял хвостом. Хозяин потрепал его по макушке, другой рукой попутно застёгивая свои чёрные выходные брюки – единственные в гардеробе молодого рабочего. Следом он взял пса за матерчатый ошейник со следами полевой грязи и потащил его вперед. По улице эхом прокатился довольный собачий лай. Из мастерской на углу выбежал с ругательствами сапожник и помчался следом за молодым парнем и его четвероногим подельником. Маленькая девочка в белом одеянии с синей свечой в руке вздрогнула от испуга. Отец подхватил её, уже рыдающую, на руки. Вскоре они скрылись за поворотом, но плач ребёнка еще долго раздавался в ушах жителей Старой таможни.
Людской поток плавно тёк по направлению к церкви, откуда должны были вынести золотую платформу-трон, украшенную фигурами святых. Весь город возбуждённо звучал, предвкушая святое шествие. Именно в один из таких праздничных дней массового выхода нарядных андалузцев, вечно кричащих новости своему соседу, идущему в полуметре от них, в город приехала новая учительница музыки.
Очень тихо и незаметно в Святую неделю в год прихода Франсиско Франко к власти она провернула ключ в ржавой замочной скважине, отворила коротко скрипнувшую дверь и вошла в дом № 12. Её звали Патриция.
Новую учительницу музыки для только что отреставрированного Дома культуры выписали из ничем не примечательного музыкального училища в Мадриде. Сама Патриция родилась в глухой деревушке где-то в провинции Кастилия-Ла-Манча – на родине Дон Кихота. В её родном поселении проживало не более сотни человек, большинство из которых были дряхлыми стариками, ссыпающимися поочерёдно вместе с песочным временем в могилы. Ветер дул в тех краях с неистовой силой, приводя в работу лопасти ветряных мельниц, унося вместе с собой землю со свежих могил.
Квартиру учительнице предоставила местная мэрия абсолютно бесплатно. Предложенная должность и бесплатное жильё сделали свое дело. Патриция собрала один-единственный чемодан и отправилась в доселе неведомый для себя южный регион. Но уже в первую ночь на новом месте, заслышав острые звуки, точно металлические дробинки, вырывающиеся из уст пьяных работяг, которые возвращались с праздничных гуляний в свои дома по соседству, Патриция засомневалась в правильности своего поступка. Она очутилась здесь совсем одна среди этой неиссякаемой энергии, неослабевающих ни на секунду звуков улицы. Она поселилась в центре Старого города среди людей, которые поколениями жили здесь и не собирались ради неё менять свои привычки.
Первое занятие в музыкальной школе при Доме культуры должно было состояться в понедельник после затянувшегося празднования католической Пасхи. Патриция не спала четыре ночи кряду. Она попыталась выйти на пятничное шествие, надеясь слиться с журчащим людским потоком, забыться в нём, но нестройный гам, напор и дерзость южан, с которыми она была вынуждена праздновать Святую неделю, показались ей чрезмерными. Крики и топот ежесекундно возвращали её в удручающую отсутствием мелодичности реальность.
Композиция была ломаной, точно все музыкальные инструменты решили заиграть разом – рассинхронно и невпопад. Один хриплый голос подавлял другой, не менее охрипший, но так же пронзающий острыми нотами пустоту – голос взрослого разгорячённого криансой испанского мужчины. Перерывы между выкриками сопровождались глубокими затяжками с последующим рычащим кашлем. Самокрутки часто вылетали вместе со словами из быстро двигающихся в такт шествию и общему разговору челюстей. Сломанная рука невидимого дирижера даже и не пыталась исправить ситуацию. Дирижер давно плюнул и махнул на этот деревенский оркестр своей немощной рукой.
Патриция заперлась в своём домике и плотно закрыла на щеколды деревянные ставни. Но о звенящей тишине ей можно было только мечтать. Патриция начала тосковать по оставленному деревенскому дому и своей маленькой семье. По участку с оливковым полем в несколько гектар и по кажущемуся теперь сном отсутствию соседей в радиусе мили.
У нее не получалось собраться с мыслями, нотные тетради так и оставались запертыми в чемодане. Единственное, на что ей хватило сил в первые дни своего пребывания на Старой таможне, это глажка одежды. Она старательно выгладила под барабанную дробь проходящего под её окнами оркестра белую блузу и вычистила подол юбки, запылившийся в дороге. О творчестве и интеллектуальном труде в такой атмосфере не могло быть и речи.
В понедельник городок поутих. Праздничный шум сменился стройным гулом трудовых будней. Патриция неохотно поднялась с дивана в гостиной, куда она перебралась под утро – подальше от ритмов танго, с рвением исполняемого мышами прямо под потолком в её спальне; сварила себе порцию терпкого кортадо, выпила его залпом, ничуточки не поморщившись. Затем она переоделась в подготовленный заранее комплект и вышла навстречу своему первому дню в должности учительницы музыки. Это был первый рабочий день в ее жизни как таковой. Несмотря на очередную бессонную ночь, она собралась с силами и улыбнулась первому встречному – булочнику в лавке напротив. Булочник густо покраснел от столь пустячного знака внимания к нему, небритому и полноватому Хорхе, со стороны утонченной юной чужеземки. Он улыбнулся ей в ответ своими пожелтевшими от самокруток и кофе зубами, попутно отряхивая белые от муки руки о прохудившийся во многих местах кухонный фартук – наследие его прабабки. Когда Патриция отвернулась от него, он присвистнул ей вслед и звучно сглотнул накопившуюся во рту слюну. Увы, но Хорхе давно не доводилось флиртовать с молодыми девушками. Свист больше напоминал клич отчаявшегося охотника, заблудившегося в лесу. Патриция вздрогнула, как вздрагивают, услышав за спиной отрывистый гудок клаксона. Неприятная дрожь прошла по всему телу. Она непроизвольно стряхнула кисти рук и, не оборачиваясь назад, пошла дальше.
Патриция желала в мелочах запечатлеть в своей памяти незнакомый для себя путь. Она бережно ступала по брусчатке, едва касаясь её носочками своих новеньких эспадрий. Этот день, говорила она себе, непременно должен быть особенными. День, когда она впервые стала одним из полноправных творцов жизни маленького приморского городка.
Тот день действительно вырезал замысловатые узоры на карте ее рассыпающейся в прах памяти. Спустя три четверти века, она начнет вспоминать Старую таможню точно с того мгновения, когда она, двадцатилетняя провинциалка с нотными тетрадями в руке и скрипкой в потертом черном футляре, выбежала из своего дома навстречу своей судьбе. Тот день будет первым в веренице ускользающих воспоминаний, который, словно кадр старой кинохроники, выборочно подсветится софитами усыхающего мозга, а звуки на той плёнке будут потрескивать, точно обугленные поленья в камине.
Патриция будет лежать в своей постели, умытая и одетая во все новое, поджидая подкрадывающуюся на цыпочках к ней смерть. Но она не будет вслушиваться в ее невесомые шаги. В последние часы своей жизни, на закате еще холодного апрельского солнца, одаряющего её тело своими мягкими лучами сквозь распахнутое окно, она предпочтёт окунуться в воспоминания о былых звучаниях своей отыгранной до последней ноты жизни.
В восемь часов утра на улицах в понедельник было уже полно народу. Патриция сразу же, у входной двери была подхвачена разношерстной процессией, которая, строго будучи единой рекой в конце улицы Кармен, разливалась на два ручейка: один перетекал к морю, другой, свернув направо, – вглубь старого города, с резвым журчанием следовал в сторону центральной площади.
Основную массу прохожих составляли рыбаки, идущие с сетями и удочками наперевес, и старые женщины с тележками на двух колесах. Если появление первых было вполне логично объяснимо началом новой недели, то процессия пожилых хромающих матрон, опирающихся на свои тележки, была не так очевидна для человека, приехавшего в наш городок из сельской местности. Патриция выпорхнула из потока и с удивлением оглядела женщин. Они были довольны собой и деловито пересказывали друг другу подробное меню грядущих семейных обедов. «Вырезку купить у Хосе, пескаду – у малыша Энрике, вино и оливки мужчины привезут из Гранады, можно не покупать», – донеслось из уст одной по-цыгански одетой и размалёванной испанки. Смех, дребезг тележек о каменную брусчатку.
Следом Патриция услышала барабанную дробь. Она привстала с постели и подслеповатыми глазами различила на улице напротив своего дома процессию военных морячков. У каждого к шее и торсу широкими кожаными ремнями был примотан белоснежный барабан. Они чеканили барабанными палочками при поддержке шествующих следом за ними духовых реквием по Иисусу Христу. Патриция улыбнулась удаляющейся от её открытого балкона процессии. Голоса стихли, в комнату подул свежий ветер.
Барабаны напомнили Патриции о многолетней войне с соседями. Многодетная семья из Латинской Америки поселилась у неё по правую стену в начале 60-х гг. У Патриции не было собственных детей, чтобы мстить им их же плачуще-топающим в ботинках не по размеру оружием. У Патриции для таких случаев была припасена всего-навсего поварёшка, обмотанная, как и подобает сделать приличному человеку, махровым полотенцем. Когда соседи кричали, отмечая очередной день рождения одного из нескончаемых родственничков, Патриция, вооружившись поварёшкой, начинала выбивать модные в то время рок-композиции прямо о смежную с неугомонными соседями стену. Соседи всё прекрасно слышали. Поначалу поварёшка действовала на них успокаивающе – латиносы умолкали, давая Патриции поспать пару драгоценных часов. Но со временем они стали отвечать ей в такт. Они били ей в стену кулаком и звонко смеялись с явным южноамериканским акцентом. Всех голосов было не сосчитать. Одинокая учительница слушала голоса за стенкой и тихо плакала, накрывшись с головой пуховым одеялом.
Спустя какое-то время Патриция начала привыкать к их голосам. Человек способен привыкнуть ко всему. Он даже способен научиться видеть сны, телесно находясь в камере пыток. Но, к сожалению, выстраданное счастье Патриции было недолгим. Случилось ужасное. Соседи закупили новую металлическую мебель, больше пригодную для сада и огорода. Они стали день и ночь передвигать эту самую мебель, не отрывая ножки мебели от каменного пола. После недели с перестановкой, Патриции пришлось показаться стоматологу. Её молчаливый протест стоил ей двух стёршихся передних резцов.
Высохшая, точно мумия, старуха повернулась на бок и уставилась в противоположную стену. «Сколько же их жило там, слева? Не меньше сотни, честное слово», – про себя подумала Патриция. Последние пару лет слева живёт приличный пожилой господин, который, должно быть, как и она сама, доживает уцелевшие крупицы своего земного времени. Его никогда не слышно, он почти не выходит на улицу; кто знает, может быть, он уже умер и лежит там смиренный и тихий, ожидая приезда ближайших родственников на очередные каникулы. То-то же они удивятся! Каникулы будут испорчены похоронной вознёй. Носилки с телом старика точно заденут смежную тонкую стену. Патриция услышит его прощальный выход на до сих пор не переименованную Старую таможню. Похоже, что все уцелевшие осколки века Франко сперва будут вынуждены пройти таможню, и только затем избранным счастливчикам будет суждено увидеть небеса. Патриция широко улыбнулась, обнажив свой единственный зуб. Она стала гадать: кто же станет её новым соседом?
Патриция затаила своё прерывистое хрипящее дыхание и прислушалась. Со стороны соседа не доносилось ни единого звука. «Надо было прожить столько лет, чтобы наконец-то прочувствовать полную тишину», – она шёпотом промолвила в пустоту. Её взгляд зацепился за вывеску кафе на противоположной улице. Она не могла различить, что там было написано. Она молча смотрела на неё. Память вновь начала говорить с ней.
Патриция глубоко, насколько это было ей по силам, втянула в своё нутро комнатный воздух, смешавшийся с запахами улицы. Вздох не дал ей подсказок. Она снова стала прислушиваться, не сводя взгляд с вывески.
Она вспомнила, что дом № 14 был гостевым домом. В том самом доме, где сейчас лежит этот старик в гробовой тишине. Причём проживали в нём не обычные туристы из скандинавских стран или Англии, а эмигранты – выходцы преимущественно из Восточной Европы, Африки и Персидских стран. Славян она не запомнила, они были тихие и вечно грустные. Да, иногда они пили, но никогда не шумели в доме или под её окнами. Если и били бутылки, то не специально и всегда застенчиво и виновато за то извинялись перед нею. Они уходили рано утром в поле на сбор черимойи и возвращались затемно. Нет, про них и вспомнить нечего.
На улице раздался неожиданный колокольный бой. Патриция насчитала пять протяжных ударов. Бой резко затих. Вывеска турецкой забегаловки. 70-е годы. Летняя ночь. Уже седая Патриция, готовящаяся через полгода выйти на пенсию, проснулась от звуков скрежета металла о стену. Испуганная появлением в своей жизни нового, она лежала в постели, точно парализованная, вслушиваясь в царапающую металлическую симфонию. Что это могло быть? Звук перестановки мебели ей был хорошо известен. Он её уже не будил – спустя столько лет, она спокойно засыпала под скрежет ножек. Нет, это было что-то другое. Определённо что-то большое и неподатливое. Она дождалась, пока это нечто с четвёртого этажа вынесли на улицу. Любопытство взяло верх. Патриция набросила поверх пижамы на плечи халат и вышла на балкон. Внизу под своим балконом она увидела картину, которая не увязалась у неё в голове ни с одним законом логики. Даже сейчас, вновь услышав тот день, она задаётся одним лишь вопросом: «Зачем?» Она бы многое отдала за то, чтобы узнать, свидетельницей чего она стала в ту ночь. Как жалко, что ей не хватило храбрости уточнить у двух ребят истинные мотивы их поступка. Два парня, должно быть, турки или пакистанцы, осматривали со всех сторон выставленную посреди улицы огромную вывеску с одним-единственным словом: «KEBAB». Тот, что был помладше, предложил поменять в ней лампочки, отвечающие за подсветку. Старший отказался, сославшись на то, что всё и без того работает. Они выкурили по сигарете возле вывески. Затем молча взяли её с противоположных сторон и понесли обратно, на четвёртый этаж дома по соседству. После того дня Патриция не слышала, чтобы вывеску куда-либо выносили вновь. Патриция оторвала свой рассеянный взгляд от вывески. Она пыталась найти в пространстве точку, которой можно было бы воспользоваться в качестве опоры.
Чайка напугала её протяжным криком, возродив тем самым в памяти стоны молодой пары, которая жила всё в том же, плодовитом на соседей доме № 14 ещё до того, как там поселились подозрительные парни с вывеской. Молодая пара въехала в жильё, которое было так же предоставлено им мэрией через год после того, как Патриция сама обосновалась в городе. Ничто так не раздражало Патрицию за эти годы, как звуки, издаваемые новобрачными каждую ночь. Девушка стонала так неистово, что Патриция, лёжа одна в своей двуспальной кровати, обращалась ко всем католическим святым, моля их, чтобы девушка поскорее кончила, и эти звуки любви прекратились у неё под боком. Но девушка стонала часами, парень от усталости рычал, но никогда не сдавался. В те годы Патриция начала курить и выпивать, улавливая звуки наслаждения, долетающие с завидной регулярностью до её уха. Она хотела им отомстить, но не знала как. У неё не было ни мужа, ни парня, которого она могла бы пригласить к себе домой после уроков музыки. Она долго думала, искала способы, как сообщить соседям о том, что ей всё известно, что вот она – здесь, прямо у них за стенкой. Попросить их ответным актом быть потише, но она долго не могла понять, как ей это сделать. И вот, спустя месяцы бессонных ночей, после приговорённой посреди ночи бутылки Риохи, она решила, что неминуемо должна купить пианино.
На следующее утро голова у Патриции пульсировала, руки подёргивала хаотичная дрожь. Но она была весела, так как знала, что в этот день она закажет себе пианино. Да, это был её план мести. Она поставит его в гостиную и будет сутками напролёт выбивать по клавишам бодрящие своим оптимизмом композиции классиков. Но, к сожалению, мечта о мести так и осталась неосуществлённой. Пианино было заказано, грузчики вместе с настройщиком прибыли в назначенный день, но оконный проём и размер дверного проёма не впустил в себя музыкальную громадину. Однако обстоятельствам не так легко было победить Патрицию. Она велела выставить окно в гостиной и пробить дополнительные пару сантиметров в стене. Грузчики согласились. Проём необходимой величины был готов, заржавевший кран, простаивающий годами на парковке у фабрики по упаковке фруктов, знакомый Патриции по музыкальной школе попросил пригнать своего друга. Пианино обмотали как следует тросом, а конец его пристегнули к подъёмному механизму. Всё было готово. Патриция стояла в стороне и потирала руки, мысленно представляя, какую сегодня композицию она исполнит для новобрачных.
«Поднимай», – крикнул один из грузчиков водителю крана.
Лебёдка загудела, пианино резко взмыло в воздух. Весенний ветер опасно нагибал остриженные макушки величественных пальм. Все внимательно смотрели, как ветер раскачивает в воздухе чёрный лакированный предмет, бликующий солнцем. Звук лебёдки резко стих. На секунду стали слышны только порывы ветра. За ними последовал резкий скрип раскачивающегося крюка, на который крепились тросы, удерживающие в невесомости пианино. Ещё один сильный порыв ветра, ещё один протяжный скрип. Пианино качалось из стороны в сторону. Все присутствующие молча мотали головой. Они следили взглядом за пианино в воздухе, как следят взглядом на трибунах за мячом зрители на теннисном матче, с затаённым дыханием в момент розыгрыша важного очка. Ещё один скрип. Патриция схватила за руку грузчика и больно сдавила ему руку. Последний скрип. Пианино в доли секунды вместе с ржавым крюком с грохотом сорвалось на брусчатку. Это был самый пронзительный звук, который когда-либо издавала на Старой таможне скромная Патриция. После того, как мечта о пианино в прямом смысле разлетелась на мелкие кусочки, Патриция в своём доме ни на чём другом так и не сыграла. Почему-то она не признавала звуки скрипки и губной гармошки в качестве оружия.
Церковный колокол отбил семь ударов. Солнце скрылось за крышами домов. Предметы в спальной комнате лишились собственной тени. На прохладную улицу после дневного сна высыпали дети. Они разделились на две команды и принялись резво играть в футбол прямо на площади Мадрида. Патриция прикрыла глаза, впуская в себя их задорные голоса, звуки их борьбы, звон основательных ударов по мячу. Она нашла в окружающем её все эти годы шуме Старой таможни жизнь. Она не стала андалузкой, но она наконец-то поняла мелодию, которую каждый из них так настойчиво исполнял для неё изо дня в день.
Засыпая, Патриция услышала звук от удара футбольного мяча. Мяч влетел в окно, внутрь первого этажа её дома. Она отчётливо различила скрежет разлетающегося на мелкие осколки стекла. Это был знак ей свыше – она ещё здесь, она жива. Патриция спокойно уснула, храня улыбку Будды на устах.

Владимир ЛОКТЕВ
Родился в 1945 году в Архангельске, учился в Одессе, с 1970 года живет в Астрахани. Кандидат технических наук, доцент, ветеран труда (2006 год). Автор около 150 научных публикаций, в том числе за рубежом (Англия, Германия). Призер конкурсов журнала «Крокодил» (1979 год), еженедельника «Аргументы и факты» (2018 год). Публиковался в журналах «Студенческий меридиан» (1980 год), «Журналист» (1985 год), в «Строительной газете», в газете «Волга» и других региональных изданиях, в вузовских многотиражках Москвы и Астрахани. Автор биографической повести «В семье» (2024 год).
Родился в 1945 году в Архангельске, учился в Одессе, с 1970 года живет в Астрахани. Кандидат технических наук, доцент, ветеран труда (2006 год). Автор около 150 научных публикаций, в том числе за рубежом (Англия, Германия). Призер конкурсов журнала «Крокодил» (1979 год), еженедельника «Аргументы и факты» (2018 год). Публиковался в журналах «Студенческий меридиан» (1980 год), «Журналист» (1985 год), в «Строительной газете», в газете «Волга» и других региональных изданиях, в вузовских многотиражках Москвы и Астрахани. Автор биографической повести «В семье» (2024 год).
БАБУШКИН ДОМ
Каждый год в начале лета я с нетерпением ждал, когда мы с далекого севера поедем на теплый юг. Сначала – на поездах, потом от станции запряженная в телегу лошадь долго везла нас к бабушкиному дому. По степи, через поля, мимо ветряка, едва шевелящего большими крыльями. Подальше, среди деревьев были видны дома с соломенными крышами. Колодцы-журавли привлекали к себе необъяснимой легкостью конструкции и одновременно своим величием, размахом. Возле одного из них телега остановилась.
– Тпру-у-у-у, прыбулы, – извозчик спрыгнул с телеги и стал сгружать вещи.
Со двора выскочила девчонка, за ней не бегом, но довольно скоро, вытирая на ходу руки передником, вышла немолодая женщина:
– Ну, слава Богу, прыихалы, – она неловко замахала руками, заахала, обнялась с отцом, матерью.
Я был рад, что моя двоюродная сестра Люда (мы с ней одногодки), уже гостила у бабушки Фроси. Позже к бабуне (так мы ее называли) привозили других наших братьев и сестер, помельче. В хуторе кто не знал, спрашивал нас:
– Вы чии?
Сами мы не всегда могли объяснить, местные объяснялись очень просто:
– Та цэ ж Фриськины.
Бабушкин дом или по-местному хата, как и другие, была побеленной, чистенькой. Отсутствие удобств нас не смущало.
Со двора, нажав металлический язычок щеколды на двери, заходишь в темные сени. Там стояли ведра с колодезной водой, налево – комната с земляным полом, слегка присыпанным сухой соломой или травой. В ближнем правом углу почти четверть комнаты занимала печь, в которой бабушка варила борщи и пекла пахнущий родным хлеб. Рядом стояла широченная деревянная кровать-лежанка, застеленная овчинным покрывалом. С нее можно было забраться на печь под самый потолок, спрятаться от взрослых или наблюдать за ними сверху. В левом углу, украшенном иконами и рушниками, вдоль двух стен стояла массивная деревянная скамья, рядом – такой же прочный, кажущийся вечным деревянный стол. Два окошечка во двор чаще всего были наглухо закрыты ставнями от летней жары и света, чтобы не надоедали мухи.
Люда сообщила мне новости в бабунином хозяйстве – десяток кур во главе с красавцем-петухом и пяток овец, главную мы решили назвать Любимка. Все жили вместе: овцы – внизу, куры – вверху, на насесте. Иногда компанию им составляли воробьи и ласточки, которые в соломенной крыше соорудили свои домики-гнезда, в них попискивали детеныши-птенчики. Точно как в песне: «Ластивки гниздэчко звыли в стрыси».
Под одной с овчарней крышей находилось просторное помещение – гумно. Там хранилось главное богатство хозяйки – зерно и разный инструмент: косы, серпы, цепа, которыми молотили хлеб, ручная тяжелая мельничка, с помощью которой иногда нам доверяли перетирать зерно в муку.
Однажды в сильный ливень мы прятались в сенях и с опаской поглядывали на стихию в приоткрытую дверь. Молнии, гром, вода, темень, ветер, все тогда перемешалось. Бабуня рассказывала нам о всемирном потопе, о загробной жизни, о суде, на котором определят, кому жить в раю, кому – в аду, другие преинтересные вещи. Она не стыдилась, что была неграмотной, не умела ни читать, ни писать. Мы с Людой обсуждали какие-то книги, фильмы и спросили между прочим:
– Бабуня, а ты кино видела когда-нибудь?
– Хай його трясся, – это было самое страшное ее ругательство. – Хиба можна дывытыся такэ?
После ливня наступила свежесть, полно луж. Мы с Людой забрели в вишневый сад, стали трясти деревья, обливать друг друга остатками дождя с веток, насквозь промокли. Бабуня снова беззлобно выругалась так, как мы уже привыкли:
– Ах вы, бисови диты! А ну, годи.
Каждый год летом к бабушке съезжались родственники. Кто раньше, кто позже, иногда гостей одновременно собиралось больше десятка человек, короче – сплошные встречи и проводы. Была на этот случай в хате еще одна секретная комнатка, которую называли хатыней, в ней размещалась одна из взрослых пар. Остальные спали: маленькие – на печи и на лежанке, взрослые – пóкотом и вальтом на полу, застеленном разными тряпками, тулупами, одеждами. Такое размещение всегда сопровождалось шутками, смехом, долгими разбирательствами кто, как и где ляжет, чем укроется. В этой неразберихе, если проявить настойчивость, хитрость, смекалку, можно было добиться разрешения тоже устроиться спать на полу, в этой куче-мала между кем-нибудь из взрослых.
За двором был небольшой огород, а за ним начиналось бабунино хлебное поле. Когда пшеница созревала, начиналась суета. Взрослые дружно, за день-два косили хлеб, собирали в снопы, потом молотили, женщины вручную просеивали зерно. Нам, детям, одно удовольствие было вдыхать аромат и пробежаться босиком по стерне, свежескошенному полю. Бежать нужно по-особенному: прижимая стопы ног вдоль и поближе к земле, чтобы ногам не было больно от оставшихся низких столбиков-стебельков. Потом во дворе стоял шум от молотьбы, с места на место перемещались снопы, зерно, солома, взрослые и мы, детвора.
Украинская темная ночь на копне свежей соломы летом – это поистине что-то неописуемое, сказочное. Вдыхая аромат свежескошенной пшеницы, заглядывая в звездные дали, всматриваясь в Млечный путь, наблюдая за постоянно падающими звездами-метеоритами, начинаешь задумываться о вечности, о бесконечных просторах, о дальних звездах, путешествиях, жизни.
Редко, но все же иногда с мамами, папами, дядями, тетями, большой семьей ходили купаться. Выходили по холодку, дорога была дальней, весь путь в одну сторону с отдыхом в посадках занимал часа два. За большим селом было, его так и называли, Соленое озеро. Здесь мы облюбовали место, где можно было купаться детям, а взрослым нырять с берега; настоящее раздолье. В хутор, усталые и довольные, возвращались только к вечеру.
В бабушкином невзрачном домике-мазанке взрослые долго еще сидели за столом под иконами, рушниками при свете керосиновой лампы, бабуня хлопотала вокруг них. Песни сменялись бесконечными разговорами про недавнюю войну с немцами, про житье-бытье, про нас, детей. Мы с интересом и часто со смехом смотрели на родителей сверху, с печки, подслушивали и по-своему, по-детски обсуждали их разговоры, пока не засыпали.
Пролетело лето; нам завтра уезжать, мы с Людой уснули на печи. Среди ночи проснулись от громкого, шумного смеха. Оказывается, засидевшиеся за столом взрослые дети попросили у матери добавки – горилочки. Бабуня достала припасенную бутылку и выставила на стол. После тоста чокнулись, выпили и удивленно переглянулись. Самогонка оказалась соленой, как вода в озере, на котором мы недавно отдыхали. Воду набрал кто-то из взрослых для растираний, а бутылка с легкой бабуниной руки оказалась на столе. Это и стало причиной веселья, разбудившего нас.
После гвалта так и не уснули. Чтобы успеть на станцию к поезду, выехали на телеге до рассвета, еще затемно. Издалека, из степи доносились песнопения запозднившейся молодежи:
– Дывлюсь я на нэбо, та й думку гадаю. Чому я нэ сокил, чому нэ литаю?
– Деф-фки поют, Воф-фке спать не дают, – укачивала меня мать.
Долго потом снилась мне наша бабуня и бабушкин дом.
…Прошло много лет. Давно нет бабуни, нет ее хаты, хутора того нет. И у Люды, и у нас с супругой выросли дети, повзрослели внуки, подрастают правнуки. Глядя на них, понимаю, какое это счастье: для каждого – свой БАБУШКИН ДОМ.
Каждый год в начале лета я с нетерпением ждал, когда мы с далекого севера поедем на теплый юг. Сначала – на поездах, потом от станции запряженная в телегу лошадь долго везла нас к бабушкиному дому. По степи, через поля, мимо ветряка, едва шевелящего большими крыльями. Подальше, среди деревьев были видны дома с соломенными крышами. Колодцы-журавли привлекали к себе необъяснимой легкостью конструкции и одновременно своим величием, размахом. Возле одного из них телега остановилась.
– Тпру-у-у-у, прыбулы, – извозчик спрыгнул с телеги и стал сгружать вещи.
Со двора выскочила девчонка, за ней не бегом, но довольно скоро, вытирая на ходу руки передником, вышла немолодая женщина:
– Ну, слава Богу, прыихалы, – она неловко замахала руками, заахала, обнялась с отцом, матерью.
Я был рад, что моя двоюродная сестра Люда (мы с ней одногодки), уже гостила у бабушки Фроси. Позже к бабуне (так мы ее называли) привозили других наших братьев и сестер, помельче. В хуторе кто не знал, спрашивал нас:
– Вы чии?
Сами мы не всегда могли объяснить, местные объяснялись очень просто:
– Та цэ ж Фриськины.
Бабушкин дом или по-местному хата, как и другие, была побеленной, чистенькой. Отсутствие удобств нас не смущало.
Со двора, нажав металлический язычок щеколды на двери, заходишь в темные сени. Там стояли ведра с колодезной водой, налево – комната с земляным полом, слегка присыпанным сухой соломой или травой. В ближнем правом углу почти четверть комнаты занимала печь, в которой бабушка варила борщи и пекла пахнущий родным хлеб. Рядом стояла широченная деревянная кровать-лежанка, застеленная овчинным покрывалом. С нее можно было забраться на печь под самый потолок, спрятаться от взрослых или наблюдать за ними сверху. В левом углу, украшенном иконами и рушниками, вдоль двух стен стояла массивная деревянная скамья, рядом – такой же прочный, кажущийся вечным деревянный стол. Два окошечка во двор чаще всего были наглухо закрыты ставнями от летней жары и света, чтобы не надоедали мухи.
Люда сообщила мне новости в бабунином хозяйстве – десяток кур во главе с красавцем-петухом и пяток овец, главную мы решили назвать Любимка. Все жили вместе: овцы – внизу, куры – вверху, на насесте. Иногда компанию им составляли воробьи и ласточки, которые в соломенной крыше соорудили свои домики-гнезда, в них попискивали детеныши-птенчики. Точно как в песне: «Ластивки гниздэчко звыли в стрыси».
Под одной с овчарней крышей находилось просторное помещение – гумно. Там хранилось главное богатство хозяйки – зерно и разный инструмент: косы, серпы, цепа, которыми молотили хлеб, ручная тяжелая мельничка, с помощью которой иногда нам доверяли перетирать зерно в муку.
Однажды в сильный ливень мы прятались в сенях и с опаской поглядывали на стихию в приоткрытую дверь. Молнии, гром, вода, темень, ветер, все тогда перемешалось. Бабуня рассказывала нам о всемирном потопе, о загробной жизни, о суде, на котором определят, кому жить в раю, кому – в аду, другие преинтересные вещи. Она не стыдилась, что была неграмотной, не умела ни читать, ни писать. Мы с Людой обсуждали какие-то книги, фильмы и спросили между прочим:
– Бабуня, а ты кино видела когда-нибудь?
– Хай його трясся, – это было самое страшное ее ругательство. – Хиба можна дывытыся такэ?
После ливня наступила свежесть, полно луж. Мы с Людой забрели в вишневый сад, стали трясти деревья, обливать друг друга остатками дождя с веток, насквозь промокли. Бабуня снова беззлобно выругалась так, как мы уже привыкли:
– Ах вы, бисови диты! А ну, годи.
Каждый год летом к бабушке съезжались родственники. Кто раньше, кто позже, иногда гостей одновременно собиралось больше десятка человек, короче – сплошные встречи и проводы. Была на этот случай в хате еще одна секретная комнатка, которую называли хатыней, в ней размещалась одна из взрослых пар. Остальные спали: маленькие – на печи и на лежанке, взрослые – пóкотом и вальтом на полу, застеленном разными тряпками, тулупами, одеждами. Такое размещение всегда сопровождалось шутками, смехом, долгими разбирательствами кто, как и где ляжет, чем укроется. В этой неразберихе, если проявить настойчивость, хитрость, смекалку, можно было добиться разрешения тоже устроиться спать на полу, в этой куче-мала между кем-нибудь из взрослых.
За двором был небольшой огород, а за ним начиналось бабунино хлебное поле. Когда пшеница созревала, начиналась суета. Взрослые дружно, за день-два косили хлеб, собирали в снопы, потом молотили, женщины вручную просеивали зерно. Нам, детям, одно удовольствие было вдыхать аромат и пробежаться босиком по стерне, свежескошенному полю. Бежать нужно по-особенному: прижимая стопы ног вдоль и поближе к земле, чтобы ногам не было больно от оставшихся низких столбиков-стебельков. Потом во дворе стоял шум от молотьбы, с места на место перемещались снопы, зерно, солома, взрослые и мы, детвора.
Украинская темная ночь на копне свежей соломы летом – это поистине что-то неописуемое, сказочное. Вдыхая аромат свежескошенной пшеницы, заглядывая в звездные дали, всматриваясь в Млечный путь, наблюдая за постоянно падающими звездами-метеоритами, начинаешь задумываться о вечности, о бесконечных просторах, о дальних звездах, путешествиях, жизни.
Редко, но все же иногда с мамами, папами, дядями, тетями, большой семьей ходили купаться. Выходили по холодку, дорога была дальней, весь путь в одну сторону с отдыхом в посадках занимал часа два. За большим селом было, его так и называли, Соленое озеро. Здесь мы облюбовали место, где можно было купаться детям, а взрослым нырять с берега; настоящее раздолье. В хутор, усталые и довольные, возвращались только к вечеру.
В бабушкином невзрачном домике-мазанке взрослые долго еще сидели за столом под иконами, рушниками при свете керосиновой лампы, бабуня хлопотала вокруг них. Песни сменялись бесконечными разговорами про недавнюю войну с немцами, про житье-бытье, про нас, детей. Мы с интересом и часто со смехом смотрели на родителей сверху, с печки, подслушивали и по-своему, по-детски обсуждали их разговоры, пока не засыпали.
Пролетело лето; нам завтра уезжать, мы с Людой уснули на печи. Среди ночи проснулись от громкого, шумного смеха. Оказывается, засидевшиеся за столом взрослые дети попросили у матери добавки – горилочки. Бабуня достала припасенную бутылку и выставила на стол. После тоста чокнулись, выпили и удивленно переглянулись. Самогонка оказалась соленой, как вода в озере, на котором мы недавно отдыхали. Воду набрал кто-то из взрослых для растираний, а бутылка с легкой бабуниной руки оказалась на столе. Это и стало причиной веселья, разбудившего нас.
После гвалта так и не уснули. Чтобы успеть на станцию к поезду, выехали на телеге до рассвета, еще затемно. Издалека, из степи доносились песнопения запозднившейся молодежи:
– Дывлюсь я на нэбо, та й думку гадаю. Чому я нэ сокил, чому нэ литаю?
– Деф-фки поют, Воф-фке спать не дают, – укачивала меня мать.
Долго потом снилась мне наша бабуня и бабушкин дом.
…Прошло много лет. Давно нет бабуни, нет ее хаты, хутора того нет. И у Люды, и у нас с супругой выросли дети, повзрослели внуки, подрастают правнуки. Глядя на них, понимаю, какое это счастье: для каждого – свой БАБУШКИН ДОМ.
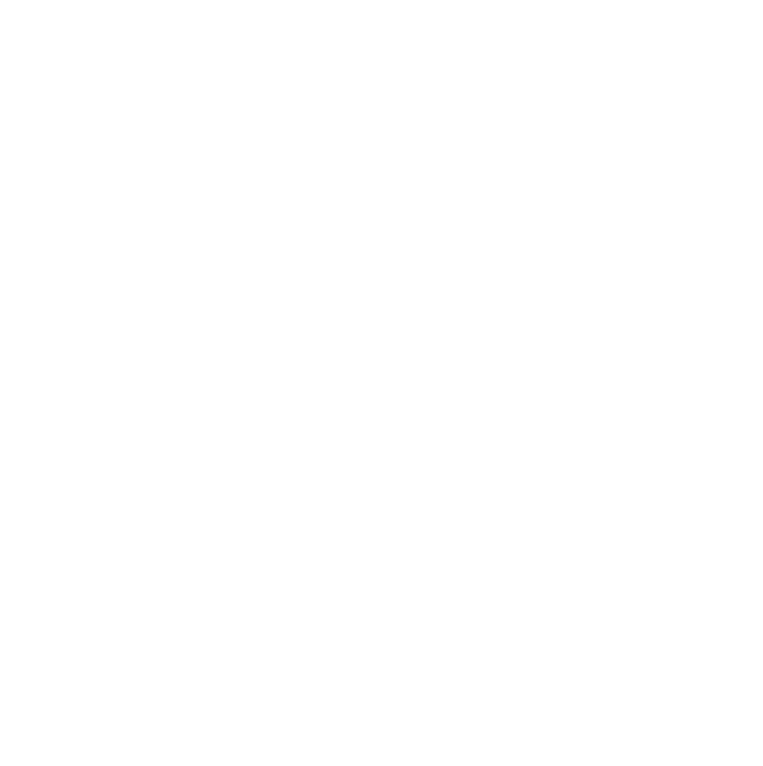
Любовь ФЕДОСЕЕВА
Лингвист по образованию, поэтесса, своё творчество в области литературы начала сравнительно недавно. В 2024 году в альманахе «Линии» был впервые опубликован блок стихов на тему философии жизни.
Лингвист по образованию, поэтесса, своё творчество в области литературы начала сравнительно недавно. В 2024 году в альманахе «Линии» был впервые опубликован блок стихов на тему философии жизни.
ДВАДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ
День первый
Пробуждение было тяжелым… Может, приснилось? Нет…реальность захватила своими цепкими когтями и выдернула из сна…не приснилось…
Я открыла глаза и начала вспоминать…
Утро начиналось, как обычно. Работа. Мерно постукивая по клавишам, я задумалась: неужели на этот раз – все? Совсем? Неужели я была права, и у тебя и правда кто-то появился? Может, ошиблась? Изменение в поведении последние два месяца подтверждало неприятную догадку. Меня так часто предавали, что я теперь уже не могу себя сдерживать…внутренний ураган выплескивается наружу полноценным тайфуном. Наверное, страшнее измены для меня только ложь. Скажи ты правду, все было бы по-другому. Ты потерял бы только часть меня…так теряешь целиком…но, похоже, тебе до этого нет дела…Остыл.
Раздался звук сообщения, и чат загрузил видео. Шок… Сознание, медленно защищаясь, трансформирует взрыв эмоций от ужаса до безысходности; пощечина… Хлестко, низко, мерзко.
Адреналин падал, и мозг с ужасом возвращал к реальности. Выдержу. Жизнь научила падать и вставать, не научила одному… перестать верить в то, что есть в каждом человеке хорошее…Похоже, есть, но только не для меня…
Надо собраться. А смысл? К черту все. Нет больше сил. Господи, за что опять? Тишина. Понятно.
Собраться. Работать. Надо. Заблокирован.
День проходит, как в тумане, перемежаясь мгновениями адекватности…по-другому не сказать, именно адекватности. Внутри все сжалось…что дальше?
«Привет, ты нужна мне где-то через час», – наверно, невежливо, только на реверансы нет сил.
«Ты приезжай, а хочешь, я выйду?» – последовал ответ.
Все как в тумане…
«Не могу говорить, перезвоню, закончу через час, не могу», – сбивчиво…
День второй
Это было вчера. Сегодня – суббота и рабочий день. Чуть легче, но просыпаться тяжело… тяжелая ночь…глаза опухли.
«Ты как?» – звук бубенчика, сообщение.
«Терпимо».
Надо себя поднять. Надо. Медленно бреду на кухню. Во рту горечь кофе успокаивает, проваливаясь в пищевод. Жива.
Тошнит. От всего происходящего тошнит. Надо сосредоточиться на работе. Всегда выручало. Но в этот раз почему-то по-другому.
В такие моменты говорят: «Он того не стоит!.. Отвлекись…Клин клином вышибают. А знаете, это всё не помогает. Даже знаю, почему… Дело не в НЁМ, не в чувстве ЛЮБВИ, дело – в уязвленном самолюбии. У всех, всегда.
«Я не могу без него дышать». Можешь. И дышать, и спать, и есть. Обида, жалость к себе и уязвленное самолюбие – вот что говорит внутри. И еще –надежда. Надо перестать себя жалеть. Или наоборот – начать…
Мысли и чувства распадаются частичками жизненного пазла.
День третий
Пробуждение. Серые мысли. Матрица. Надо вставать. Воскресенье.
«Ты рано. Завтрак?»
«Нет, только чай, выходить через 15 мин»
Дорога ведет вперед, деревья мелькают за стеклами. Люблю вести машину, ощущать контроль, послушные реакции автомобиля на повороты рулевого колеса. Мысли не отступают… Ну как так могло произойти? Как же ошибалась…впрочем, как и всегда…
Не время себя жалеть, время зализывать раны.
Холод помогает начать трезво мыслить. Снег падает хлопьями на лобовое стекло, сметаемый дворниками. Шкряб-шкряб дворники о сухое стекло. Не заметила, снег перестал.
День двенадцатый
Погода не радует. Дождь в декабре… Ломка.
ЕГО не хватает, но… всегда есть «но»… Неужели прошло почти две недели? Что тогда было, ох…пятница, 13… думала, для меня число 13 обычное, ан нет… надо же… или, может, дело не в числе, а в человеческом свинстве?
Как странно, хотя нет…не странно. Люди не меняются, а значит, гнилое нутро там было всегда. Гнилое яблоко выкидывают.
День двадцать первый
Этой зимой стала любить холод, морозный воздух. Помогает трезво мыслить. Парковка. Надо подниматься домой… В окнах темно, тоскливо. Надо завести кошку, а, может, собаку… Дурацкие мысли, улыбнуло. Домой. Лифт медленно ползет. Остановился. В открытые двери пахнуло знакомым одеколоном.
Эпилог
Она вышла из лифта, не оборачиваясь, и вставила ключ в замочную скважину. За спиной послышалось дыхание и переминание с ноги на ногу. Сердце бешено застучало...
Она повернула ключ, потянула на себя дверь и, так и не оглянувшись, вошла в темный коридор квартиры. Правду говорят: не бывает поздно, бывает уже не надо…
День первый
Пробуждение было тяжелым… Может, приснилось? Нет…реальность захватила своими цепкими когтями и выдернула из сна…не приснилось…
Я открыла глаза и начала вспоминать…
Утро начиналось, как обычно. Работа. Мерно постукивая по клавишам, я задумалась: неужели на этот раз – все? Совсем? Неужели я была права, и у тебя и правда кто-то появился? Может, ошиблась? Изменение в поведении последние два месяца подтверждало неприятную догадку. Меня так часто предавали, что я теперь уже не могу себя сдерживать…внутренний ураган выплескивается наружу полноценным тайфуном. Наверное, страшнее измены для меня только ложь. Скажи ты правду, все было бы по-другому. Ты потерял бы только часть меня…так теряешь целиком…но, похоже, тебе до этого нет дела…Остыл.
Раздался звук сообщения, и чат загрузил видео. Шок… Сознание, медленно защищаясь, трансформирует взрыв эмоций от ужаса до безысходности; пощечина… Хлестко, низко, мерзко.
Адреналин падал, и мозг с ужасом возвращал к реальности. Выдержу. Жизнь научила падать и вставать, не научила одному… перестать верить в то, что есть в каждом человеке хорошее…Похоже, есть, но только не для меня…
Надо собраться. А смысл? К черту все. Нет больше сил. Господи, за что опять? Тишина. Понятно.
Собраться. Работать. Надо. Заблокирован.
День проходит, как в тумане, перемежаясь мгновениями адекватности…по-другому не сказать, именно адекватности. Внутри все сжалось…что дальше?
«Привет, ты нужна мне где-то через час», – наверно, невежливо, только на реверансы нет сил.
«Ты приезжай, а хочешь, я выйду?» – последовал ответ.
Все как в тумане…
«Не могу говорить, перезвоню, закончу через час, не могу», – сбивчиво…
День второй
Это было вчера. Сегодня – суббота и рабочий день. Чуть легче, но просыпаться тяжело… тяжелая ночь…глаза опухли.
«Ты как?» – звук бубенчика, сообщение.
«Терпимо».
Надо себя поднять. Надо. Медленно бреду на кухню. Во рту горечь кофе успокаивает, проваливаясь в пищевод. Жива.
Тошнит. От всего происходящего тошнит. Надо сосредоточиться на работе. Всегда выручало. Но в этот раз почему-то по-другому.
В такие моменты говорят: «Он того не стоит!.. Отвлекись…Клин клином вышибают. А знаете, это всё не помогает. Даже знаю, почему… Дело не в НЁМ, не в чувстве ЛЮБВИ, дело – в уязвленном самолюбии. У всех, всегда.
«Я не могу без него дышать». Можешь. И дышать, и спать, и есть. Обида, жалость к себе и уязвленное самолюбие – вот что говорит внутри. И еще –надежда. Надо перестать себя жалеть. Или наоборот – начать…
Мысли и чувства распадаются частичками жизненного пазла.
День третий
Пробуждение. Серые мысли. Матрица. Надо вставать. Воскресенье.
«Ты рано. Завтрак?»
«Нет, только чай, выходить через 15 мин»
Дорога ведет вперед, деревья мелькают за стеклами. Люблю вести машину, ощущать контроль, послушные реакции автомобиля на повороты рулевого колеса. Мысли не отступают… Ну как так могло произойти? Как же ошибалась…впрочем, как и всегда…
Не время себя жалеть, время зализывать раны.
Холод помогает начать трезво мыслить. Снег падает хлопьями на лобовое стекло, сметаемый дворниками. Шкряб-шкряб дворники о сухое стекло. Не заметила, снег перестал.
День двенадцатый
Погода не радует. Дождь в декабре… Ломка.
ЕГО не хватает, но… всегда есть «но»… Неужели прошло почти две недели? Что тогда было, ох…пятница, 13… думала, для меня число 13 обычное, ан нет… надо же… или, может, дело не в числе, а в человеческом свинстве?
Как странно, хотя нет…не странно. Люди не меняются, а значит, гнилое нутро там было всегда. Гнилое яблоко выкидывают.
День двадцать первый
Этой зимой стала любить холод, морозный воздух. Помогает трезво мыслить. Парковка. Надо подниматься домой… В окнах темно, тоскливо. Надо завести кошку, а, может, собаку… Дурацкие мысли, улыбнуло. Домой. Лифт медленно ползет. Остановился. В открытые двери пахнуло знакомым одеколоном.
Эпилог
Она вышла из лифта, не оборачиваясь, и вставила ключ в замочную скважину. За спиной послышалось дыхание и переминание с ноги на ногу. Сердце бешено застучало...
Она повернула ключ, потянула на себя дверь и, так и не оглянувшись, вошла в темный коридор квартиры. Правду говорят: не бывает поздно, бывает уже не надо…
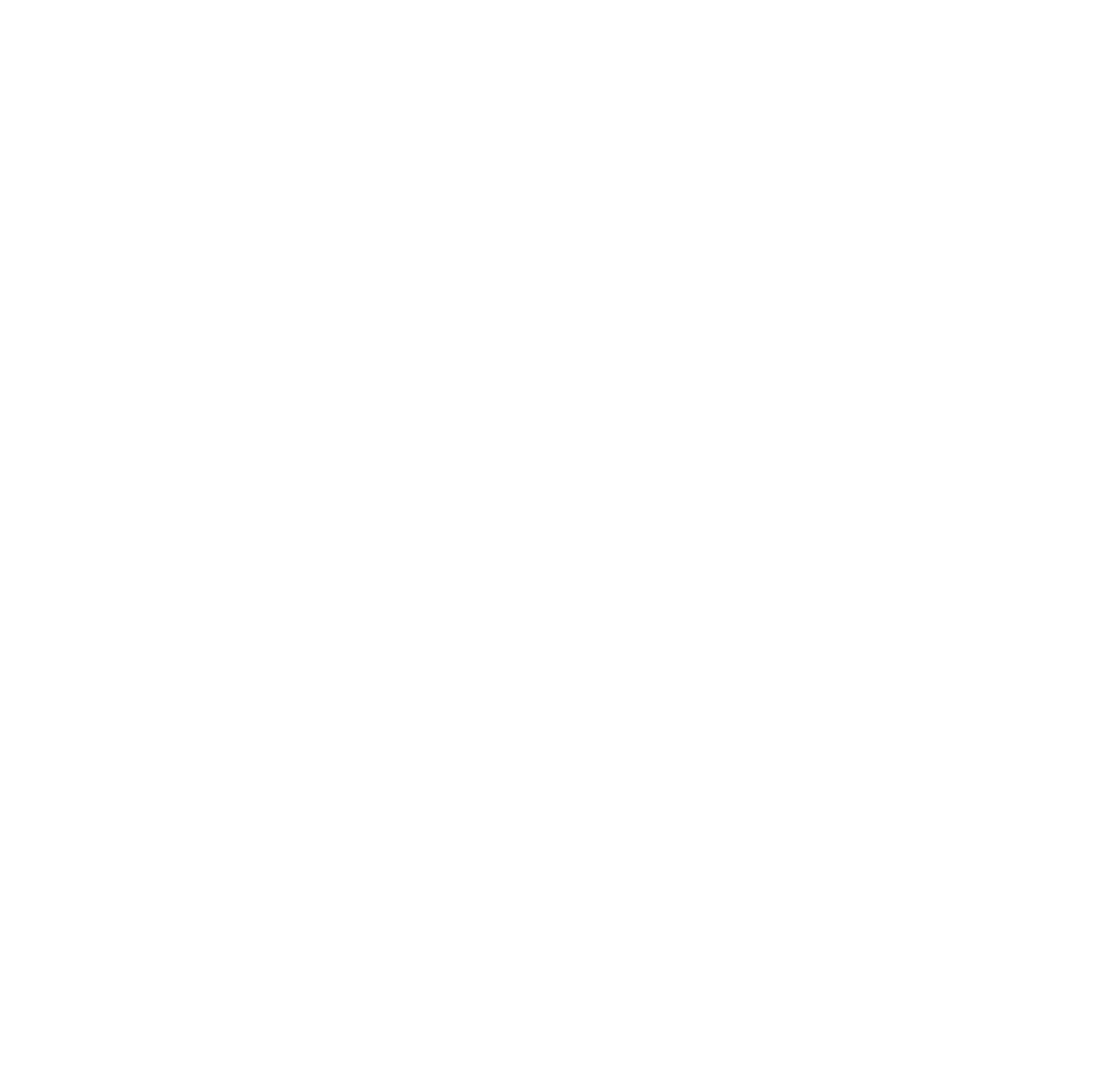
Людмила МЕЛЬНИКОВА
Родилась на Орловщине, окончила Орловский государственный аграрный университет по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», работает в области защиты растений. Имеет опыт участия в составе членов жюри литературного сообщества. Особое внимание автор старается уделить вопросу, что именно под словом «любовь» понимают герои, на что они готовы ради того, чтобы её обрести. Роман-воспоминание «Роза Лануана» на данный момент является единственным произведение автора, состоит из нескольких частей. Начало роману было положено в 2007 году, автор продолжает писать его по сей день, работая над третьей частью. Первая часть «Признание» опубликована в электронном формате на Литрес.
Родилась на Орловщине, окончила Орловский государственный аграрный университет по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство», работает в области защиты растений. Имеет опыт участия в составе членов жюри литературного сообщества. Особое внимание автор старается уделить вопросу, что именно под словом «любовь» понимают герои, на что они готовы ради того, чтобы её обрести. Роман-воспоминание «Роза Лануана» на данный момент является единственным произведение автора, состоит из нескольких частей. Начало роману было положено в 2007 году, автор продолжает писать его по сей день, работая над третьей частью. Первая часть «Признание» опубликована в электронном формате на Литрес.
ПРИЗНАНИЕ
Пролог
Вчера вечером, когда я, поужинав, собиралась отправиться в комнату и почитать перед сном своего любимого Гиже, дочь остановила меня взглядом. Я поняла, что она хочет что-то сказать и не может решиться. Она встала из-за стола и предложила сопроводить меня. Я нисколько не была против и даже обрадовалась возможности пройтись с ней до своей двери. Мы оставили в столовой её мужа, мистера Стерна, и их двоих детей, с которыми обменялись поцелуями и пожеланиями добрых снов.
На рассвете дочь и всё её семейство оставляли меня, уезжая на год за океан, в Мелюа. Туда супруга моей Мэдл пригласили возглавить правящую партию Маримо. Мистер Гарри занимал высокий пост и здесь, но на близлежащем континенте решили, что в скором времени не обойдутся без его присутствия. Предложение было заманчивым, Стерн над ним долго не раздумывал. Естественно, он увозил с собой всю семью. Смена обстановки была прекрасной возможностью взглянуть на быт других людей, завязать знакомства, открыть что-то неизвестное для себя.
Месяц назад мистеру Стерну исполнилось пятьдесят семь лет, его жене было пятьдесят три, а их детям – двадцать один и девятнадцать. Ох, эти юные годы! Когда мне было столько же лет, моя реальность вовсе не походила на их сегодняшнюю. Я довольна тем, что их взросление совпало с благоприятным периодом, будущее – размеренно и безмятежно.
Внук мой Лестер продолжит своё обучение в Мелюа. Он крайне увлечён флорой и, думаю, со временем из него получится неплохой учёный-ботаник. А моя младшая внучка Джуди почему-то мечтает строить быстроходные суда и отправиться в кругосветное путешествие. Не знаю, в кого из наших родственников она пошла, но тяга её к мореплаванию безмерна. Самое главное заключается в том, что мы не смеёмся над этим желанием, не пытаемся направить её страсть в другое русло, более подходящее девушке. Наверное, её решимость и блеск в глазах заставляют нас верить в то, что она обязательно добьётся своего. Пусть будет так.
Я счастлива за всех них и отпускаю от себя без препятствий и уговоров. Прекрасно понимаю, что у каждого – свой путь, и мне в нём отведена лишь небольшая роль любящей бабушки, хотя роль эта приятная. Мне грустно. Но я столько видела за свой век, что не могу тешить себя надеждой на своё вечное существование. Однажды меня не станет, как и многих моих родных и близких.
Но возвращаюсь к вчерашнему дню. Мы с дочерью дошли до моей комнаты, разговаривая об их отплытии. Я уверяла её в том, что нет смысла переживать о нашей разлуке, что её место – в кругу своей семьи, и ласково пожимала ей руку. Одновременно я догадывалась, о чём она хотела меня попросить. Моя милая Мадлен уже не раз обращалась ко мне с просьбой раскрыть ей тайны моей жизни. Не хочу сказать, что жизнь моя была какой-то загадкой. Я всегда охотно рассказывала дочери, Гарри и внукам о своих родственниках, когда они осведомлялись. Но часто в этих словах встречалась недосказанность: какие-то вещи я не могла объяснить или вовсе не помнила. А в чём-то откровенно и не желала признаться. Я знаю, что они на меня за это не сердятся. Возможно, все они, кроме дочери, не находят мою историю необыкновенной. Но она-то знает, что всё далеко не так.
Моя Мэдл была свидетельницей разных эпизодов и сцен молодости своей матери, и её цель – разобраться в своих детских и юношеских впечатлениях. Она подозревает, что её мать не просто обыкновенная пожилая дама с соседней улицы, судьба которой похожа на тысячи других. Мадлен точно знает, что в моей биографии есть нечто важное, и не только для меня самой. И ей непременно хочется об этом услышать. Причём интерес этот не покидает её уже долгое время. И вот она в очередной раз делает попытку поговорить со мной, смотрит испытывающе и молча спрашивает. Осознаёт, что я догадалась, и надеется на долгожданный ответ. Наконец я сдаюсь.
– Ты всё узнаешь, Мэдл. Только не здесь, не сию минуту. Иначе тебе всё покажется скомканным, и возникнут новые вопросы. Завтра вы уедете, и я смогу собраться и доверить весь свой любовный роман бумаге. У меня будет целый год, чтобы вспомнить все подробности и записать их.
Дочь бросилась мне на шею, крепко обнимая.
– Неужели я больше не увижу тебя, мама?! Я чувствую, что не увижу! Прости!..
– Не стоит ни за что прощать. Не плачь, иначе и я заплачу.
Я обхватила её за плечи.
– Я тоже сильно тебя люблю, – вздохнула я, – но мы обе взрослые женщины и знаем, что бессмертия не существует. Мой срок подходит к концу. Не считай меня бесчувственной.
– Нет, мама! Я не считаю. Мне тяжело расставаться с тобой.
– С завтрашнего дня твой мир немного изменится. Мне будет достаточно знать, что вы помните обо мне. Я начну писать тебе о своём прошлом. Мне будет казаться, что мы рядом, и я общаюсь с тобой.
– Твоей силе воли можно только позавидовать. Я понимаю, что в моём возрасте нужно быть рассудительней, но реву, будто десятилетняя.
– Я провожу вас поутру, – улыбнулась я.
– Хорошо, – Мадлен уже отпустила свои объятья и осторожно протирала слёзы. – Мама, я очень тебя люблю.
– И я тебя тоже.
– Спокойной ночи, – она коснулась губами моей щеки и ушла.
Настало утро. Я проводила Стернов до ворот, по очереди прижала к сердцу, поцеловала и пожелала всего наилучшего. Они гостили у меня неделю. Задерживать их больше не было возможности: в порту ждал корабль. Я помахала вслед их карете и медленно направилась к порогу.
Сегодня придётся остаться одной, а завтра ко мне приедет мой преданный друг. Он поживёт у меня столько, сколько посчитает нужным. Нам не будет скучно. Мы посвятим дни этой осени прогулкам на свежем воздухе, разговорам о современной и старой литературе и воспоминаниям нашей молодости. Уже сегодня я представляю, как он появится в воротах моего дома и, не торопясь, почтенно приблизится ко мне, опираясь на трость. Он поможет мне написать о себе, напомнит то, о чём я забыла, расскажет тебе, моя дорогая Мэдл, чего ты не знаешь.
Признаюсь: так трудно оттолкнуться для повествования от чего-то конкретного. Мне семьдесят пять, и кое-какие факты могут скомпрометировать меня перед тобою. Впрочем, когда жизнь уже заканчивается, бояться глупо. С чего же начать?.. Начну с того дня, когда…
I
…Раздался громкий гудок, и поезд, мчавший меня ещё полчаса назад среди бескрайних полей, остановился у перрона Лануана. Весна только начиналась, приветливо обнимая лучами солнца снежный покров земли, но на перроне её приход ощущался больше всего. Вокзальные голуби с опаской прогуливались под ногами прохожих, изредка взмывая к крыше. На брусчатку лениво капали сосульки.
Вместе с шумной толпой приезжих я сошла с поезда. Закончилось моё полуторагодово́е обучение в Турре, пришла пора возвратиться домой. Мне было девятнадцать лет. Теперь я, как подобает настоящей молодой леди, была образованной, имела довольно неплохие знания о музыке, литературе, живописи и могла самостоятельно организовать ведение домашнего хозяйства. Отныне я была готова к тому, чтобы выйти замуж и стать достойной опорой своему супругу. Судьба предоставляла мне такую возможность. Кроме семьи моего возвращения ждал ещё один человек. Мой любимый Эрих Эрдон. Сегодня он и мой брат Шон с нетерпением ожидали меня на перроне. Думаю, будет вполне справедливо рассказать сначала об Эрихе, несмотря на упоминание о моём брате.
Во всём облике Эриха прослеживались черты благородного происхождения. Он был высок, слегка худоват. Его светло-голубые глаза, утончённый нос и волевой подбородок говорили о его целеустремлённости. Молодой человек был приезжим в Лануане. Его появление в городе было случайным, но, по-видимому, так должно было произойти.
В тот далёкий месяц июль, когда он впервые сюда приехал, Эрих принял предложение двух своих друзей отплыть в небольшое путешествие. Нил Грог и Анн Одд считались большими любителями проводить свободное время на собственном корабле Анна Одда. Они причаливали к пристаням разных городов и гуляли по неизвестным улицам и площадям. Анн Одд вёл дневник своих впечатлений и планировал отправиться в длинное плавание к неизведанным материкам.
Эрих на момент, когда друзья пригласили его разделить их компанию, не был озабочен никаким делом. Он задумал найти себе хорошее место для открытия конторы по сопровождению сделок, но с этим не спешил. Он окунулся в путешествие с намерением хорошенько поразмыслить над своим будущим. По прошествии трёх с половиной недель скольжения по волнам вся компания причалила к порту Лануана. Знакомясь с городом, друзья узнали, что через день состоится праздничный вечер в неком местном графстве. Всем троим было любопытно взглянуть на провинциальный бал. До этого они посещали только балы Биларда, жителями которого являлись. Решено было задержаться.
Именно на этом провинциальном празднике в графстве Стилон Эрих впервые увидел меня. Я хорошо помню, как, протанцевав самый первый вальс с каким-то кавалером, встретила вдруг незнакомое мне лицо. Эрих почтительно поклонился и пригласил меня на следующий танец. Мне было на тот момент семнадцать, и я впервые ощутила странное чувство влюблённости.
Мы провели вместе весь вечер. Эрих узнал об имении, в котором я живу, и решительно сказал, что завтра же явится к отцу просить моей руки. Я не поверила, ответив, что такое скоропалительное заявление с его стороны не может быть принято мной за правду. И лучше ему было бы об этом молчать. На что он ответил, что не смеет говорить мне слова, которые не сможет подкрепить делом.
Действительно, на следующий день он попросил моей руки. Папа, мама, старший брат и младшая сестра смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Их удивление удвоилось, когда они и я узнали, что мать Эриха – одна из самых состоятельных женщин Биларда и занимает далеко не последнее место в обществе. Возможность родства со столь богатыми людьми просто привела нас в оцепенение. Мой отец, мистер Ноун, обещал Эриху дать ответ через день. Молодой человек удалился. Папа, весьма уважаемый человек в городе, рассудил, что я просто обязана получить не обычное, а достойное образование, чтобы стоять с мужем на одной ступени. Эрих не был против этого решения. Он сказал, что подождёт меня столько времени, сколько будет нужно. Он поспешил вернуться в Билард и сообщить обо всём своей матери. Флорентина Эрдон не была против этой новости. Она сама пожелала приехать в Лануан и познакомиться со мной и всей моей семьёй. Я ещё виделась с Эрихом на протяжении месяца, а потом уехала в Турр…
Сегодня я возвращалась домой с тем же тёплым чувством к Эриху, как и больше года назад. Мы часто переписывались на протяжении всего моего обучения, и в строках его посланий я читала неугасаемый интерес ко мне. А также из них узнала, что Эрих переехал из Биларда в Лануан, где снял дом для своего проживания. Он решил остаться в нашем городе навсегда и приступил к строительству особняка на Новой улице. Именно в этом доме он планировал начать семейную жизнь, в которой необходимо присутствие доброй, обаятельной жены и прелестных детишек.
Я увидела брата и Эриха ещё из окна поезда, поправила шаль, надела перчатки и ступила на перрон. Пока я шла к ним навстречу, меня охватила дрожь. Казалось, что это была весенняя прохлада, но больше на меня действовало волнение свидания с Эрдоном.
Первым среди всей толпы меня заметил брат. Он сообщил об этом Эриху.
Мой брат Шон не был высоким, но зато природа наградила его крепкими широкими плечами, красивыми серыми глазами и обворожительной улыбкой. Пожалуй, его чрезмерная привлекательность часто играла ему во вред. В него влюблялось огромное количество девушек и женщин. Я видела это во взглядах слабого пола на балах и просто при встречах на улице. Шон был ровесником Эриха, ему так же было двадцать четыре года. Брат был женат на моей любимой подруге Аманде. Но и этот брак не мешал некоторым молодым особам присылать ему анонимные признания в любви. Он не отвечал на них, что, наверное, ещё больше подогревало интерес к нему.
Честно признаюсь, что брат был мне ближе моей младшей сестры Эллис. Он оказывал на меня большое влияние. Всегда со всеми своими тревогами и волнениями я первым делом бежала к нему. Шон умел найти нужный аргумент и дать хороший совет. После беседы с ним всё становилось на место, и любая моя проблема сводилась на нет. Я верила каждому его слову. Знала: что бы со мной ни случилось, он возвратит меня к самообладанию и благополучию. В этом году он заканчивал своё обучение на врача и имел небольшую практику. По-моему, он был всемогущим. Но, может быть, мне так казалось, потому что он был моим братом?
Я предоставляю, Мэдл, тебе самой право ответить на этот вопрос.
Приблизившись к Эриху и Шону, я мимолётно скользнула взглядом на Эриха и, заметив его еле скрываемую радость от свидания, протянула руки навстречу брату.
– Мой дорогой! – обняла я Шона. – Аманда хорошо за тобой смотрит.
– Ну что ты, я так выгляжу только в честь твоего возвращения. Аманда здесь ни при чём. И лучше я скажу тебе сейчас… – он резко тяжело вздохнул и решительно продолжил, – мы развелись.
Два последних слова меня ошеломили. Я молча уставилась на брата, ожидая сию же минуту объяснений, но он сказал только то, что поставит меня в известность относительно своей бывшей супруги дома. По его тону было понятно, что сейчас он мне больше ничего не поведает. Вопрос, зачем он вообще известил меня об этом при Эрдоне, а не по прибытии домой, ввёл меня в задумчивость. Что могло произойти между Шоном и Амандой?
Эрих почувствовал, что новость замкнула меня, и решил переключить внимание на себя.
– Рад снова находиться рядом с Вами, мисс Ноун, – он поцеловал мне руку и ласково посмотрел мне в глаза.
– И я рада, мистер Эрдон.
Эрих предложил мне свой локоть, и все мы пошли к экипажу. Пока будущий муж помогал мне удобней устроиться, брат расплатился с носильщиком вещей. Экипаж вывез нас за пределы города, в родовое имение Кеннет. Молчание, создавшееся между нами, нарушил Шон, осведомившись у меня, какая погода в Турре.
– Сплошная слякоть на этой неделе, – ответила я. – Я уехала с радостью. Так соскучилась по дому! Как там у нас?
– Мама у Аннет, – сказал Шон. – Она обещала вернуться сегодня. Может быть, уже приехала. Её сопровождает Каин. Ты же её знаешь…
– А отец?
– Ждёт тебя. А нашу Эллис на месте практически не застать. Она целые дни проводит на свежем воздухе.
– В такую погоду?
– Разве непогода может быть помехой, если рядом очаровательный молодой человек?
Я второй раз вопросительно посмотрела на брата. Мысли в моей голове стали сбиваться в предположениях. Кто этот очаровательный молодой человек?
Брат, прочитав всё это на моём лице, выдержал короткую паузу и продолжал:
– У нас гостит мистер Морен. Вот уже вторую неделю своего пребывания он выполняет любые капризы нашей сестры. Не удивляйся, что я так запросто рассказываю тебе все новости в присутствии мистера Эрдона. За время твоего отсутствия мы так сдружились, что ничего друг от друга не скрываем.
Эрих кивнул в подтверждение его слов.
– Поэтому я рассказал тебе и об Аманде, – добавил Шон. – Если бы ты заинтересовалась ею дома при всех, мне было бы труднее поставить тебя в известность. Но сейчас тебя, наверное, больше интересует наш гость?
– Нет, – я посмотрела на Эриха. – Мне интереснее знать, как обстоят дела у мистера Эрдона.
– У меня всё в порядке, большое спасибо. Я позволил себе встретить вас с братом и проводить до Кеннета. Но более отвлекать на себя ваше внимание не смею. Могу я надеяться на нашу встречу завтра?
– Разумеется.
– В какой половине дня мне лучше приехать?
– После обеда. Я буду ожидать Вас после двух.
Щёки мои слегка порозовели. Я чувствовала, что буду ждать нашей завтрашней встречи, как только он откланяется сегодня. Сердце трепетало от мысли о том, что этот видный молодой человек станет моим мужем. Я понимала, что влюблена по-прежнему.
На некоторое мгновение я перевела взгляд за окно и увидела, как мимо нас проносилась знакомая аллея. Сугробы ослепляли своей белизной, играя на солнце. Настроение моё было великолепным.
– Ты вернулась как нельзя кстати. Через два дня намечается бал, – сказал Шон.
Я улыбнулась против своей воли. О бале я мечтала все полтора года. Танцы, атмосфера вечеров, красивые туалеты – всё это было близко моей душе. Я хотела всю свою жизнь провести в веселье и войти в высшее общество. Эрих, как никто другой, мог мне в этом помочь.
– Эллис хвасталась мне тем, что сшила себе необыкновенное платье, – продолжал брат. – Но пересилила себя, чтобы не показать его мне. Но эта борьба в её глазах…
Он добродушно засмеялся.
– Поразишься, как она изменилась за это время.
– Настолько, что я могу её не узнать? – пошутила я.
– Нет, перемены в ней не столь сильны.
Экипаж наш оставил за собой аллею, оказавшись среди полей, и впереди уже виднелось имение. Кеннет, в котором жила моя семья, располагался недалеко от Лануана. Сюда возможно было доехать за час. Наш дом ранее принадлежал моему деду. Отец был единственным наследником. Неподалёку находилась одна деревенька, некогда принадлежавшая нашему роду, и по сей день простой народ, заселявший её, работал на этих землях. Особняк наш вовсе не утопал в растительности, как это было свойственно старинным имениям. Мистер Ноун сам следил за обновлением деревьев и, пожалуй, можно было найти всего две липы, возраст которых перевалил за сто пятьдесят лет.
Сам же дом почти не претерпел изменений. Он был по-прежнему двухэтажным и красился в один и тот же белый цвет. Лишь та его сторона, которая выходила окнами в сад, была дополнена пристройкой. Отец называл её скатом. Это был широкий выступ в форме полукруга, напоминавший танцевальную площадку. Пол ската соответствовал уровню второго этажа и опирался на колонны, уходившие в землю. Сверху площадка была полностью открыта, поэтому она подвергалась дождям, осеннему листопаду и снежным заносам. Папа выполнил её постройку ввиду небольших размеров самого дома с той необходимостью, чтобы гости Кеннета могли устраивать на скате танцы.
Экипаж подвёз нас к резным воротам. Эрих любезно помог мне выйти, и все мы пошли к дому по дороге, покрытой гравием. Вдоль неё тянулась молодая липовая аллея, которая завершалась у самого порога небольшим декоративным фонтаном, обрамлённым заснеженной рабаткой.
В гостиной нас встретили папа и экономка Гриди. Отец простёр ко мне руки и горячо обнял. После того, как мы обменялись с ним приветствиями, он поздоровался с мистером Эрдоном. В это время слова радости по поводу моего возвращения я услышала и от Гриди. Она взяла на себя обязанность перенести багаж в мою комнату. Отец позвал всех нас отобедать. Эрих отказался, сославшись на то, что сегодня его ещё ждут дела. Он попрощался с нами до завтра и уехал.
Я поднялась к себе, чтобы переодеться. В комнате моей всё было по-прежнему. Гриди проводила здесь уборку, не меняя положения вещей. Даже томик стихов, оставленный мною перед самым отъездом, лежал на столе нетронутым. Я прошлась мимо кровати к окну, не мешая Гриди извлекать мой багаж из чемоданов.
– Теперь в доме будет веселее, – говорила экономка. – Бедная мисс Эллис устала скучать. Мистер Шон, хотя и живёт в последнее время с нами, показывается на глаза лишь утром и вечером.
– А как же гость? – спросила я, посмотрев в окно. – Мне сообщили, что весь его досуг в распоряжении сестры.
– Мистер Морен у нас совсем недавно. Мисс Эллис с его появлением оживилась. В общем, он вполне положительный молодой человек. По-моему, ему столько же лет, как и Вашему брату, или чуть больше. Мисс Эллис попросила его проводить её сегодня до деревни. Скорее всего, они вернутся к ужину. Давайте я помогу Вам переодеться.
Я доверилась заботливым рукам Гриди. Она затянула меня в корсет, надела новое платье и усадила перед зеркалом. Пока Гриди поправляла мне причёску, я разглядывала своё отражение и попутно следила за её руками. Сегодня я находила себя привлекательнее обычного. На щеках ловила лёгкий румянец, а во взгляде – маленькую искру. Я предвкушала целую вереницу дней, наполненную встречами с Эрдоном, а после – нашу свадьбу.
Открылась дверь, и в мою комнату, шурша платьем, вошла мама. Я поднялась ей навстречу, и мы обнялись.
– Девочка моя! Как ты добралась?
– Спасибо, мама, хорошо.
– Как ты похорошела! – мама окинула меня взглядом. – Я торопила Каина, чтобы поскорее тебя увидеть. Сейчас тоже переоденусь, и мы встретимся за столом.
Она поцеловала меня в щёку и так же, как вошла, стремительно вышла.
Мама моя, миссис Шарлотт Ноун, была богатой наследницей нашей бабушки Аннет. Аннет жила одна в шикарном особняке на одной из улиц Ргассы и была весьма известной особой. Она осталась вдовой и требовала от дочери к себе большого внимания. Поэтому мама уезжала к ней очень часто и надолго. Шарлотт проводила в Ргассе недели. Мы, её дети, настолько привыкли к этим поездкам, что порой даже не замечали её отсутствия в Кеннете. Нередко Шон шутил, что мама и бабушка решают сложный вопрос по разделу бабушкиного наследства, ведь претендентов было достаточно – две дочери и трое внуков. Если конкретнее, то это были мама, тётя Сельма (мамина сестра), Шон, я и Эллис. Хотя Шон тут же добавлял, что внукам, скорее всего, не на что рассчитывать, поскольку последние навещали бабушку достаточно редко. Да Аннет и не питала к нам всем особой любви, хотя и не испытывала ненависти. Такова уж она была.
Мама любила изысканно одеваться, носить дорогие украшения и держаться, как настоящая леди. В этом мы с Эллис были на неё очень похожи. Сестра предпочитала шить себе оригинальные платья, а я имела слабость к драгоценностям. Но о том, что я подолгу могла любоваться золотом и серебром, никто не знал.
Гриди закончила приводить меня в порядок, и мы обе спустились в столовую. Отец и Шон были уже там. Мы немного подождали маму и принялись за обед. Родители подробно расспрашивали меня об учёбе. Я охотно отвечала. После Шон увёл меня к себе, усадил на кровать, опёрся ладонями на спинку стула в комнате и начал рассказ:
– Около пяти месяцев назад я нашёл в моём доме на Седьмой улице на полу своей спальни записку. Видимо, она случайно выпала из одежды Аманды. В глаза бросились простые две строчки: «Жду Вас завтра в час дня под навесом старого театра». Я не придал этому значения. Это послание мне не предназначалось. А жене его могла написать какая-нибудь подруга. Я положил бумажку на стол и ушёл. За весь день о ней даже не вспомнил и точно не знаю, лежала ли она на столе, когда мы с Амандой ложились спать. На следующий день я отправился на учёбу и пробыл там до обеда. Собираясь перекусить в ближайшем кафе, перешёл дорогу и встретился там с одним знакомым. Он настойчиво пригласил меня пообедать в новом ресторане, мы поймали экипаж и поехали. Дорога к ресторану пролегала недалеко от старого театра. Я вдруг вспомнил о вчерашней записке и бросил взгляд на навес театра. Под ним я увидел Аманду и хорошо известного нам с тобой мистера Бенедикта Лики. Я тут же сверил часы: был час дня, – Шон внимательно на меня посмотрел. – Что бы ты подумала на моём месте?..
Я молчала. Имя Бенедикта Лики говорило само за себя. Люди пересказывали его любовные похождения и обсуждали, как он дорожил холостяцкой свободой. У него было много головокружительных романов с замужними и незамужними женщинами. В свои сорок лет он ни в чём не уступал молодым джентльменам. Мистер Лики был одним из лучших в танцах и в езде на лошадях, хорошо разбирался в искусстве. Знал толк в вине, сигарах и со знанием дела говорил о политике. Он был красив и смел. Женщины теряли головы, вступая с ним в любовные связи. По слухам, его дважды вызывали на дуэль (несмотря на то, что дуэль была запрещена законом и грозила лишением свободы, не говоря уже о внушительном штрафе), и он неизменно одерживал победу. Но поскольку дуэли доказаны не были, Лики оставался на свободе. Весь город был наслышан о его амурных делах, но общество продолжало его принимать в свой круг, перешёптываясь за спиной. Бенедикт Лики был родом из Енеяка, но большую часть своей жизни проводил в Лануане. Сам он являлся хорошим адвокатом, собирался открыть в ближайшее время своё дело в Енеяке и уехать туда на постоянное место жительства. Говорили, что на родине у него большой и красивый дом, а в банке – солидное наследство, оставленное родителями.
Брат ещё не закончил свою историю, но я уже всё поняла. Аманда стала очередной любовницей Лики. Мне не хотелось в это верить.
– Она объяснилась? – спросила я.
– Они оба хотели объясниться, – Шон убрал руки от стула, выпрямился. – Я остановил экипаж за углом, сообщив знакомому, что передумал ехать в ресторан, и вышел. Вернулся к театру. Аманда и Лики были на пути к парку. Я догнал их. Ты бы видела лицо моей жены… Мистер Лики, в отличие от неё, сохранил присутствие духа. Он попытался выдать их встречу за случайность, но его спокойствие и уверенность в невинности происходящего уже не могли меня переубедить. Я вызвал его на дуэль. Он отклонил вызов, ответив, что его совесть чиста, и он не собирается подтверждать её дуэлью. Мы расстались врагами. Аманда вернулась со мною домой. Возвращаться в университет я не мог. Моё душевное состояние было нарушено. Я потерял сосредоточенность. Аманда бросила оправдания, ходила за мной по дому, выпрашивая прощения, пока я не закрылся в библиотеке. Мне было больно, Керен.
Шон посмотрел на меня влажными глазами.
– Мне было жалко её и себя. Наше семейное счастье рухнуло. Она сидела под дверью, не в силах сдержать рыдания. Звала меня, просила открыть. Я боролся с собой, подходил к двери, брался за ручку, но снова отходил. Чувство оскорбления и предательства питали во мне чёрствость. Я не знал, как следует поступить: мне изменили, наплевали на мою любовь, обманули доверие.
Я встала с кровати и обняла брата.
– Я ведь любил её, Керен, понимаешь?! Мне не нужна была ни одна другая женщина! Что её заставило пойти на измену, какие мои действия оттолкнули её от меня?! Мне казалось, что наши отношения идеальны, что мы можем доверить друг другу любые тайны. Я провёл ночь в библиотеке, не желая её видеть, не желая видеть прислугу. Мне необходимо было прийти в себя. И дверь я так и не открыл! Я, который за день до этого ни за что бы не смог поставить между нами никакой преграды! Никогда не думал, что между нами появится прохлада, и мы однажды не поймём друг друга. Три года совместной жизни растаяли в один миг. Мне надо было принять решение – остаться супругами или расстаться. Над этим я думал всю ночь. Так тяжело мне никогда не было.
Шон тяжело вздохнул.
– Наверное, я поступил с ней жестоко, не позволив высказаться, уверить меня в обратном. Просто не хотел её слушать. В течение всего следующего дня мы не виделись. Я был в университете, она заперлась в нашей спальне. Прошла ночь, к утру у меня созрело решение. Я был согласен закрыть на всё глаза и наладить наши отношения. С этой мыслью я отправился на учёбу. Настроение моё улучшилось. Я настроился на то, чтобы вернуть себе любовь Аманды. До обеда в моей голове выстроился целый монолог, который я хотел ей представить. Вернувшись домой, первым делом я направился к спальне. Мне казалось, что Аманда непременно откроет мне, и мы объяснимся. Дёрнув ручку, я к своему удивлению обнаружил дверь незапертой. Меня посетило тревожное чувство. Я вошёл. Комната была пуста. Аманда оставила мне письмо. Я боялся его читать, несколько минут держал в руках, не решаясь открыть.
Шон немного помолчал.
– Она писала, что не может саму себя простить. Недостойна быть рядом со мной, не может ждать, когда я сообщу ей о нашем разрыве, и поэтому уходит. Она настаивала на нашем разводе и сообщала, что когда потребуется оформлять документы, её можно будет найти у её отца. Письмо было осмысленным, решение твёрдым, и в этот момент я осознал, что безвозвратно потерял жену. Ехать за ней, пытаться её вернуть было бесполезно. Встретились мы лишь при оформлении развода. Аманда выглядела устало, почти не смотрела на меня и не хотела задержаться ни на минуту. Я знал, что с Лики она не встречается, так как слышал, что его не раз видели с родственницей одного из наших знакомых. Единственное, что связывает нас с Амандой до сих пор, это наши воспоминания и то, что мы не развенчаны.
Шон грустно мне улыбнулся. Его грусть передалась и мне.
– Значит, она у отца, – сказала я. – Аманда моя лучшая подруга, мне её жаль, как и тебя. Трудно поверить, что вы больше не вместе. Ты не будешь против, если я продолжу с ней общение, когда встречу?
– Нисколько. Даже родители готовы вновь увидеть её в Кеннете. Не удивляйся. Мне самому странно. Наверное, они сочувствуют ей, ведь она у Лики не первая.
– Что же ты намерен делать сейчас?
– Окончить университет и жениться.
– Жениться?! Так скоро? На ком?
– Пока не знаю.
– Шон, ты, шутишь! Скажи, что шутишь! Ты любишь Аманду, как можешь говорить о женитьбе?! – рассердилась я.
– Я понимаю тебя, Керен, но жизнь моя не закончилась. Мне необходимо встретить новую женщину, чтобы забыть Аманду. Я хочу семью, хочу детей. Аманда ушла от меня. Я до сих пор не могу понять, любит ли она меня! Она стала такой закрытой, отстранённой! Я думал, нужны ли мне сейчас новые отношения, и решил, что нужны. Зачем оставаться долго одному, если встретится достойная девушка?!
– Выжди хотя бы какое-то время.
– Ради чего?
– Чтобы лучше разобраться в самом себе.
– Мы развелись два месяца назад. Я собираюсь жениться не завтра. Пока я встречу другую женщину и оценю её по достоинству, пройдёт ещё пара месяцев. Если я женюсь к осени, пауза будет достаточной.
Теперь тяжело вздохнула и я:
– Я разговариваю с тобой и не верю, что вы больше не супруги. Желаю услышать эту историю из уст самой Аманды. Может быть, я пойму её, найду ей оправдание. Надеюсь, что мне представится такой случай. Я сержусь на неё и на тебя тоже. Да, не удивляйся. Я сержусь на тебя за то, что ты её любишь. Но вместо того, чтобы постараться её вернуть, ты планируешь новые отношения! Хотя в то же время я понимаю, что оскорблено твоё достоинство! Ну вот, я уже настолько расстроилась, что не хочу об этом говорить.
Пролог
Вчера вечером, когда я, поужинав, собиралась отправиться в комнату и почитать перед сном своего любимого Гиже, дочь остановила меня взглядом. Я поняла, что она хочет что-то сказать и не может решиться. Она встала из-за стола и предложила сопроводить меня. Я нисколько не была против и даже обрадовалась возможности пройтись с ней до своей двери. Мы оставили в столовой её мужа, мистера Стерна, и их двоих детей, с которыми обменялись поцелуями и пожеланиями добрых снов.
На рассвете дочь и всё её семейство оставляли меня, уезжая на год за океан, в Мелюа. Туда супруга моей Мэдл пригласили возглавить правящую партию Маримо. Мистер Гарри занимал высокий пост и здесь, но на близлежащем континенте решили, что в скором времени не обойдутся без его присутствия. Предложение было заманчивым, Стерн над ним долго не раздумывал. Естественно, он увозил с собой всю семью. Смена обстановки была прекрасной возможностью взглянуть на быт других людей, завязать знакомства, открыть что-то неизвестное для себя.
Месяц назад мистеру Стерну исполнилось пятьдесят семь лет, его жене было пятьдесят три, а их детям – двадцать один и девятнадцать. Ох, эти юные годы! Когда мне было столько же лет, моя реальность вовсе не походила на их сегодняшнюю. Я довольна тем, что их взросление совпало с благоприятным периодом, будущее – размеренно и безмятежно.
Внук мой Лестер продолжит своё обучение в Мелюа. Он крайне увлечён флорой и, думаю, со временем из него получится неплохой учёный-ботаник. А моя младшая внучка Джуди почему-то мечтает строить быстроходные суда и отправиться в кругосветное путешествие. Не знаю, в кого из наших родственников она пошла, но тяга её к мореплаванию безмерна. Самое главное заключается в том, что мы не смеёмся над этим желанием, не пытаемся направить её страсть в другое русло, более подходящее девушке. Наверное, её решимость и блеск в глазах заставляют нас верить в то, что она обязательно добьётся своего. Пусть будет так.
Я счастлива за всех них и отпускаю от себя без препятствий и уговоров. Прекрасно понимаю, что у каждого – свой путь, и мне в нём отведена лишь небольшая роль любящей бабушки, хотя роль эта приятная. Мне грустно. Но я столько видела за свой век, что не могу тешить себя надеждой на своё вечное существование. Однажды меня не станет, как и многих моих родных и близких.
Но возвращаюсь к вчерашнему дню. Мы с дочерью дошли до моей комнаты, разговаривая об их отплытии. Я уверяла её в том, что нет смысла переживать о нашей разлуке, что её место – в кругу своей семьи, и ласково пожимала ей руку. Одновременно я догадывалась, о чём она хотела меня попросить. Моя милая Мадлен уже не раз обращалась ко мне с просьбой раскрыть ей тайны моей жизни. Не хочу сказать, что жизнь моя была какой-то загадкой. Я всегда охотно рассказывала дочери, Гарри и внукам о своих родственниках, когда они осведомлялись. Но часто в этих словах встречалась недосказанность: какие-то вещи я не могла объяснить или вовсе не помнила. А в чём-то откровенно и не желала признаться. Я знаю, что они на меня за это не сердятся. Возможно, все они, кроме дочери, не находят мою историю необыкновенной. Но она-то знает, что всё далеко не так.
Моя Мэдл была свидетельницей разных эпизодов и сцен молодости своей матери, и её цель – разобраться в своих детских и юношеских впечатлениях. Она подозревает, что её мать не просто обыкновенная пожилая дама с соседней улицы, судьба которой похожа на тысячи других. Мадлен точно знает, что в моей биографии есть нечто важное, и не только для меня самой. И ей непременно хочется об этом услышать. Причём интерес этот не покидает её уже долгое время. И вот она в очередной раз делает попытку поговорить со мной, смотрит испытывающе и молча спрашивает. Осознаёт, что я догадалась, и надеется на долгожданный ответ. Наконец я сдаюсь.
– Ты всё узнаешь, Мэдл. Только не здесь, не сию минуту. Иначе тебе всё покажется скомканным, и возникнут новые вопросы. Завтра вы уедете, и я смогу собраться и доверить весь свой любовный роман бумаге. У меня будет целый год, чтобы вспомнить все подробности и записать их.
Дочь бросилась мне на шею, крепко обнимая.
– Неужели я больше не увижу тебя, мама?! Я чувствую, что не увижу! Прости!..
– Не стоит ни за что прощать. Не плачь, иначе и я заплачу.
Я обхватила её за плечи.
– Я тоже сильно тебя люблю, – вздохнула я, – но мы обе взрослые женщины и знаем, что бессмертия не существует. Мой срок подходит к концу. Не считай меня бесчувственной.
– Нет, мама! Я не считаю. Мне тяжело расставаться с тобой.
– С завтрашнего дня твой мир немного изменится. Мне будет достаточно знать, что вы помните обо мне. Я начну писать тебе о своём прошлом. Мне будет казаться, что мы рядом, и я общаюсь с тобой.
– Твоей силе воли можно только позавидовать. Я понимаю, что в моём возрасте нужно быть рассудительней, но реву, будто десятилетняя.
– Я провожу вас поутру, – улыбнулась я.
– Хорошо, – Мадлен уже отпустила свои объятья и осторожно протирала слёзы. – Мама, я очень тебя люблю.
– И я тебя тоже.
– Спокойной ночи, – она коснулась губами моей щеки и ушла.
Настало утро. Я проводила Стернов до ворот, по очереди прижала к сердцу, поцеловала и пожелала всего наилучшего. Они гостили у меня неделю. Задерживать их больше не было возможности: в порту ждал корабль. Я помахала вслед их карете и медленно направилась к порогу.
Сегодня придётся остаться одной, а завтра ко мне приедет мой преданный друг. Он поживёт у меня столько, сколько посчитает нужным. Нам не будет скучно. Мы посвятим дни этой осени прогулкам на свежем воздухе, разговорам о современной и старой литературе и воспоминаниям нашей молодости. Уже сегодня я представляю, как он появится в воротах моего дома и, не торопясь, почтенно приблизится ко мне, опираясь на трость. Он поможет мне написать о себе, напомнит то, о чём я забыла, расскажет тебе, моя дорогая Мэдл, чего ты не знаешь.
Признаюсь: так трудно оттолкнуться для повествования от чего-то конкретного. Мне семьдесят пять, и кое-какие факты могут скомпрометировать меня перед тобою. Впрочем, когда жизнь уже заканчивается, бояться глупо. С чего же начать?.. Начну с того дня, когда…
I
…Раздался громкий гудок, и поезд, мчавший меня ещё полчаса назад среди бескрайних полей, остановился у перрона Лануана. Весна только начиналась, приветливо обнимая лучами солнца снежный покров земли, но на перроне её приход ощущался больше всего. Вокзальные голуби с опаской прогуливались под ногами прохожих, изредка взмывая к крыше. На брусчатку лениво капали сосульки.
Вместе с шумной толпой приезжих я сошла с поезда. Закончилось моё полуторагодово́е обучение в Турре, пришла пора возвратиться домой. Мне было девятнадцать лет. Теперь я, как подобает настоящей молодой леди, была образованной, имела довольно неплохие знания о музыке, литературе, живописи и могла самостоятельно организовать ведение домашнего хозяйства. Отныне я была готова к тому, чтобы выйти замуж и стать достойной опорой своему супругу. Судьба предоставляла мне такую возможность. Кроме семьи моего возвращения ждал ещё один человек. Мой любимый Эрих Эрдон. Сегодня он и мой брат Шон с нетерпением ожидали меня на перроне. Думаю, будет вполне справедливо рассказать сначала об Эрихе, несмотря на упоминание о моём брате.
Во всём облике Эриха прослеживались черты благородного происхождения. Он был высок, слегка худоват. Его светло-голубые глаза, утончённый нос и волевой подбородок говорили о его целеустремлённости. Молодой человек был приезжим в Лануане. Его появление в городе было случайным, но, по-видимому, так должно было произойти.
В тот далёкий месяц июль, когда он впервые сюда приехал, Эрих принял предложение двух своих друзей отплыть в небольшое путешествие. Нил Грог и Анн Одд считались большими любителями проводить свободное время на собственном корабле Анна Одда. Они причаливали к пристаням разных городов и гуляли по неизвестным улицам и площадям. Анн Одд вёл дневник своих впечатлений и планировал отправиться в длинное плавание к неизведанным материкам.
Эрих на момент, когда друзья пригласили его разделить их компанию, не был озабочен никаким делом. Он задумал найти себе хорошее место для открытия конторы по сопровождению сделок, но с этим не спешил. Он окунулся в путешествие с намерением хорошенько поразмыслить над своим будущим. По прошествии трёх с половиной недель скольжения по волнам вся компания причалила к порту Лануана. Знакомясь с городом, друзья узнали, что через день состоится праздничный вечер в неком местном графстве. Всем троим было любопытно взглянуть на провинциальный бал. До этого они посещали только балы Биларда, жителями которого являлись. Решено было задержаться.
Именно на этом провинциальном празднике в графстве Стилон Эрих впервые увидел меня. Я хорошо помню, как, протанцевав самый первый вальс с каким-то кавалером, встретила вдруг незнакомое мне лицо. Эрих почтительно поклонился и пригласил меня на следующий танец. Мне было на тот момент семнадцать, и я впервые ощутила странное чувство влюблённости.
Мы провели вместе весь вечер. Эрих узнал об имении, в котором я живу, и решительно сказал, что завтра же явится к отцу просить моей руки. Я не поверила, ответив, что такое скоропалительное заявление с его стороны не может быть принято мной за правду. И лучше ему было бы об этом молчать. На что он ответил, что не смеет говорить мне слова, которые не сможет подкрепить делом.
Действительно, на следующий день он попросил моей руки. Папа, мама, старший брат и младшая сестра смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Их удивление удвоилось, когда они и я узнали, что мать Эриха – одна из самых состоятельных женщин Биларда и занимает далеко не последнее место в обществе. Возможность родства со столь богатыми людьми просто привела нас в оцепенение. Мой отец, мистер Ноун, обещал Эриху дать ответ через день. Молодой человек удалился. Папа, весьма уважаемый человек в городе, рассудил, что я просто обязана получить не обычное, а достойное образование, чтобы стоять с мужем на одной ступени. Эрих не был против этого решения. Он сказал, что подождёт меня столько времени, сколько будет нужно. Он поспешил вернуться в Билард и сообщить обо всём своей матери. Флорентина Эрдон не была против этой новости. Она сама пожелала приехать в Лануан и познакомиться со мной и всей моей семьёй. Я ещё виделась с Эрихом на протяжении месяца, а потом уехала в Турр…
Сегодня я возвращалась домой с тем же тёплым чувством к Эриху, как и больше года назад. Мы часто переписывались на протяжении всего моего обучения, и в строках его посланий я читала неугасаемый интерес ко мне. А также из них узнала, что Эрих переехал из Биларда в Лануан, где снял дом для своего проживания. Он решил остаться в нашем городе навсегда и приступил к строительству особняка на Новой улице. Именно в этом доме он планировал начать семейную жизнь, в которой необходимо присутствие доброй, обаятельной жены и прелестных детишек.
Я увидела брата и Эриха ещё из окна поезда, поправила шаль, надела перчатки и ступила на перрон. Пока я шла к ним навстречу, меня охватила дрожь. Казалось, что это была весенняя прохлада, но больше на меня действовало волнение свидания с Эрдоном.
Первым среди всей толпы меня заметил брат. Он сообщил об этом Эриху.
Мой брат Шон не был высоким, но зато природа наградила его крепкими широкими плечами, красивыми серыми глазами и обворожительной улыбкой. Пожалуй, его чрезмерная привлекательность часто играла ему во вред. В него влюблялось огромное количество девушек и женщин. Я видела это во взглядах слабого пола на балах и просто при встречах на улице. Шон был ровесником Эриха, ему так же было двадцать четыре года. Брат был женат на моей любимой подруге Аманде. Но и этот брак не мешал некоторым молодым особам присылать ему анонимные признания в любви. Он не отвечал на них, что, наверное, ещё больше подогревало интерес к нему.
Честно признаюсь, что брат был мне ближе моей младшей сестры Эллис. Он оказывал на меня большое влияние. Всегда со всеми своими тревогами и волнениями я первым делом бежала к нему. Шон умел найти нужный аргумент и дать хороший совет. После беседы с ним всё становилось на место, и любая моя проблема сводилась на нет. Я верила каждому его слову. Знала: что бы со мной ни случилось, он возвратит меня к самообладанию и благополучию. В этом году он заканчивал своё обучение на врача и имел небольшую практику. По-моему, он был всемогущим. Но, может быть, мне так казалось, потому что он был моим братом?
Я предоставляю, Мэдл, тебе самой право ответить на этот вопрос.
Приблизившись к Эриху и Шону, я мимолётно скользнула взглядом на Эриха и, заметив его еле скрываемую радость от свидания, протянула руки навстречу брату.
– Мой дорогой! – обняла я Шона. – Аманда хорошо за тобой смотрит.
– Ну что ты, я так выгляжу только в честь твоего возвращения. Аманда здесь ни при чём. И лучше я скажу тебе сейчас… – он резко тяжело вздохнул и решительно продолжил, – мы развелись.
Два последних слова меня ошеломили. Я молча уставилась на брата, ожидая сию же минуту объяснений, но он сказал только то, что поставит меня в известность относительно своей бывшей супруги дома. По его тону было понятно, что сейчас он мне больше ничего не поведает. Вопрос, зачем он вообще известил меня об этом при Эрдоне, а не по прибытии домой, ввёл меня в задумчивость. Что могло произойти между Шоном и Амандой?
Эрих почувствовал, что новость замкнула меня, и решил переключить внимание на себя.
– Рад снова находиться рядом с Вами, мисс Ноун, – он поцеловал мне руку и ласково посмотрел мне в глаза.
– И я рада, мистер Эрдон.
Эрих предложил мне свой локоть, и все мы пошли к экипажу. Пока будущий муж помогал мне удобней устроиться, брат расплатился с носильщиком вещей. Экипаж вывез нас за пределы города, в родовое имение Кеннет. Молчание, создавшееся между нами, нарушил Шон, осведомившись у меня, какая погода в Турре.
– Сплошная слякоть на этой неделе, – ответила я. – Я уехала с радостью. Так соскучилась по дому! Как там у нас?
– Мама у Аннет, – сказал Шон. – Она обещала вернуться сегодня. Может быть, уже приехала. Её сопровождает Каин. Ты же её знаешь…
– А отец?
– Ждёт тебя. А нашу Эллис на месте практически не застать. Она целые дни проводит на свежем воздухе.
– В такую погоду?
– Разве непогода может быть помехой, если рядом очаровательный молодой человек?
Я второй раз вопросительно посмотрела на брата. Мысли в моей голове стали сбиваться в предположениях. Кто этот очаровательный молодой человек?
Брат, прочитав всё это на моём лице, выдержал короткую паузу и продолжал:
– У нас гостит мистер Морен. Вот уже вторую неделю своего пребывания он выполняет любые капризы нашей сестры. Не удивляйся, что я так запросто рассказываю тебе все новости в присутствии мистера Эрдона. За время твоего отсутствия мы так сдружились, что ничего друг от друга не скрываем.
Эрих кивнул в подтверждение его слов.
– Поэтому я рассказал тебе и об Аманде, – добавил Шон. – Если бы ты заинтересовалась ею дома при всех, мне было бы труднее поставить тебя в известность. Но сейчас тебя, наверное, больше интересует наш гость?
– Нет, – я посмотрела на Эриха. – Мне интереснее знать, как обстоят дела у мистера Эрдона.
– У меня всё в порядке, большое спасибо. Я позволил себе встретить вас с братом и проводить до Кеннета. Но более отвлекать на себя ваше внимание не смею. Могу я надеяться на нашу встречу завтра?
– Разумеется.
– В какой половине дня мне лучше приехать?
– После обеда. Я буду ожидать Вас после двух.
Щёки мои слегка порозовели. Я чувствовала, что буду ждать нашей завтрашней встречи, как только он откланяется сегодня. Сердце трепетало от мысли о том, что этот видный молодой человек станет моим мужем. Я понимала, что влюблена по-прежнему.
На некоторое мгновение я перевела взгляд за окно и увидела, как мимо нас проносилась знакомая аллея. Сугробы ослепляли своей белизной, играя на солнце. Настроение моё было великолепным.
– Ты вернулась как нельзя кстати. Через два дня намечается бал, – сказал Шон.
Я улыбнулась против своей воли. О бале я мечтала все полтора года. Танцы, атмосфера вечеров, красивые туалеты – всё это было близко моей душе. Я хотела всю свою жизнь провести в веселье и войти в высшее общество. Эрих, как никто другой, мог мне в этом помочь.
– Эллис хвасталась мне тем, что сшила себе необыкновенное платье, – продолжал брат. – Но пересилила себя, чтобы не показать его мне. Но эта борьба в её глазах…
Он добродушно засмеялся.
– Поразишься, как она изменилась за это время.
– Настолько, что я могу её не узнать? – пошутила я.
– Нет, перемены в ней не столь сильны.
Экипаж наш оставил за собой аллею, оказавшись среди полей, и впереди уже виднелось имение. Кеннет, в котором жила моя семья, располагался недалеко от Лануана. Сюда возможно было доехать за час. Наш дом ранее принадлежал моему деду. Отец был единственным наследником. Неподалёку находилась одна деревенька, некогда принадлежавшая нашему роду, и по сей день простой народ, заселявший её, работал на этих землях. Особняк наш вовсе не утопал в растительности, как это было свойственно старинным имениям. Мистер Ноун сам следил за обновлением деревьев и, пожалуй, можно было найти всего две липы, возраст которых перевалил за сто пятьдесят лет.
Сам же дом почти не претерпел изменений. Он был по-прежнему двухэтажным и красился в один и тот же белый цвет. Лишь та его сторона, которая выходила окнами в сад, была дополнена пристройкой. Отец называл её скатом. Это был широкий выступ в форме полукруга, напоминавший танцевальную площадку. Пол ската соответствовал уровню второго этажа и опирался на колонны, уходившие в землю. Сверху площадка была полностью открыта, поэтому она подвергалась дождям, осеннему листопаду и снежным заносам. Папа выполнил её постройку ввиду небольших размеров самого дома с той необходимостью, чтобы гости Кеннета могли устраивать на скате танцы.
Экипаж подвёз нас к резным воротам. Эрих любезно помог мне выйти, и все мы пошли к дому по дороге, покрытой гравием. Вдоль неё тянулась молодая липовая аллея, которая завершалась у самого порога небольшим декоративным фонтаном, обрамлённым заснеженной рабаткой.
В гостиной нас встретили папа и экономка Гриди. Отец простёр ко мне руки и горячо обнял. После того, как мы обменялись с ним приветствиями, он поздоровался с мистером Эрдоном. В это время слова радости по поводу моего возвращения я услышала и от Гриди. Она взяла на себя обязанность перенести багаж в мою комнату. Отец позвал всех нас отобедать. Эрих отказался, сославшись на то, что сегодня его ещё ждут дела. Он попрощался с нами до завтра и уехал.
Я поднялась к себе, чтобы переодеться. В комнате моей всё было по-прежнему. Гриди проводила здесь уборку, не меняя положения вещей. Даже томик стихов, оставленный мною перед самым отъездом, лежал на столе нетронутым. Я прошлась мимо кровати к окну, не мешая Гриди извлекать мой багаж из чемоданов.
– Теперь в доме будет веселее, – говорила экономка. – Бедная мисс Эллис устала скучать. Мистер Шон, хотя и живёт в последнее время с нами, показывается на глаза лишь утром и вечером.
– А как же гость? – спросила я, посмотрев в окно. – Мне сообщили, что весь его досуг в распоряжении сестры.
– Мистер Морен у нас совсем недавно. Мисс Эллис с его появлением оживилась. В общем, он вполне положительный молодой человек. По-моему, ему столько же лет, как и Вашему брату, или чуть больше. Мисс Эллис попросила его проводить её сегодня до деревни. Скорее всего, они вернутся к ужину. Давайте я помогу Вам переодеться.
Я доверилась заботливым рукам Гриди. Она затянула меня в корсет, надела новое платье и усадила перед зеркалом. Пока Гриди поправляла мне причёску, я разглядывала своё отражение и попутно следила за её руками. Сегодня я находила себя привлекательнее обычного. На щеках ловила лёгкий румянец, а во взгляде – маленькую искру. Я предвкушала целую вереницу дней, наполненную встречами с Эрдоном, а после – нашу свадьбу.
Открылась дверь, и в мою комнату, шурша платьем, вошла мама. Я поднялась ей навстречу, и мы обнялись.
– Девочка моя! Как ты добралась?
– Спасибо, мама, хорошо.
– Как ты похорошела! – мама окинула меня взглядом. – Я торопила Каина, чтобы поскорее тебя увидеть. Сейчас тоже переоденусь, и мы встретимся за столом.
Она поцеловала меня в щёку и так же, как вошла, стремительно вышла.
Мама моя, миссис Шарлотт Ноун, была богатой наследницей нашей бабушки Аннет. Аннет жила одна в шикарном особняке на одной из улиц Ргассы и была весьма известной особой. Она осталась вдовой и требовала от дочери к себе большого внимания. Поэтому мама уезжала к ней очень часто и надолго. Шарлотт проводила в Ргассе недели. Мы, её дети, настолько привыкли к этим поездкам, что порой даже не замечали её отсутствия в Кеннете. Нередко Шон шутил, что мама и бабушка решают сложный вопрос по разделу бабушкиного наследства, ведь претендентов было достаточно – две дочери и трое внуков. Если конкретнее, то это были мама, тётя Сельма (мамина сестра), Шон, я и Эллис. Хотя Шон тут же добавлял, что внукам, скорее всего, не на что рассчитывать, поскольку последние навещали бабушку достаточно редко. Да Аннет и не питала к нам всем особой любви, хотя и не испытывала ненависти. Такова уж она была.
Мама любила изысканно одеваться, носить дорогие украшения и держаться, как настоящая леди. В этом мы с Эллис были на неё очень похожи. Сестра предпочитала шить себе оригинальные платья, а я имела слабость к драгоценностям. Но о том, что я подолгу могла любоваться золотом и серебром, никто не знал.
Гриди закончила приводить меня в порядок, и мы обе спустились в столовую. Отец и Шон были уже там. Мы немного подождали маму и принялись за обед. Родители подробно расспрашивали меня об учёбе. Я охотно отвечала. После Шон увёл меня к себе, усадил на кровать, опёрся ладонями на спинку стула в комнате и начал рассказ:
– Около пяти месяцев назад я нашёл в моём доме на Седьмой улице на полу своей спальни записку. Видимо, она случайно выпала из одежды Аманды. В глаза бросились простые две строчки: «Жду Вас завтра в час дня под навесом старого театра». Я не придал этому значения. Это послание мне не предназначалось. А жене его могла написать какая-нибудь подруга. Я положил бумажку на стол и ушёл. За весь день о ней даже не вспомнил и точно не знаю, лежала ли она на столе, когда мы с Амандой ложились спать. На следующий день я отправился на учёбу и пробыл там до обеда. Собираясь перекусить в ближайшем кафе, перешёл дорогу и встретился там с одним знакомым. Он настойчиво пригласил меня пообедать в новом ресторане, мы поймали экипаж и поехали. Дорога к ресторану пролегала недалеко от старого театра. Я вдруг вспомнил о вчерашней записке и бросил взгляд на навес театра. Под ним я увидел Аманду и хорошо известного нам с тобой мистера Бенедикта Лики. Я тут же сверил часы: был час дня, – Шон внимательно на меня посмотрел. – Что бы ты подумала на моём месте?..
Я молчала. Имя Бенедикта Лики говорило само за себя. Люди пересказывали его любовные похождения и обсуждали, как он дорожил холостяцкой свободой. У него было много головокружительных романов с замужними и незамужними женщинами. В свои сорок лет он ни в чём не уступал молодым джентльменам. Мистер Лики был одним из лучших в танцах и в езде на лошадях, хорошо разбирался в искусстве. Знал толк в вине, сигарах и со знанием дела говорил о политике. Он был красив и смел. Женщины теряли головы, вступая с ним в любовные связи. По слухам, его дважды вызывали на дуэль (несмотря на то, что дуэль была запрещена законом и грозила лишением свободы, не говоря уже о внушительном штрафе), и он неизменно одерживал победу. Но поскольку дуэли доказаны не были, Лики оставался на свободе. Весь город был наслышан о его амурных делах, но общество продолжало его принимать в свой круг, перешёптываясь за спиной. Бенедикт Лики был родом из Енеяка, но большую часть своей жизни проводил в Лануане. Сам он являлся хорошим адвокатом, собирался открыть в ближайшее время своё дело в Енеяке и уехать туда на постоянное место жительства. Говорили, что на родине у него большой и красивый дом, а в банке – солидное наследство, оставленное родителями.
Брат ещё не закончил свою историю, но я уже всё поняла. Аманда стала очередной любовницей Лики. Мне не хотелось в это верить.
– Она объяснилась? – спросила я.
– Они оба хотели объясниться, – Шон убрал руки от стула, выпрямился. – Я остановил экипаж за углом, сообщив знакомому, что передумал ехать в ресторан, и вышел. Вернулся к театру. Аманда и Лики были на пути к парку. Я догнал их. Ты бы видела лицо моей жены… Мистер Лики, в отличие от неё, сохранил присутствие духа. Он попытался выдать их встречу за случайность, но его спокойствие и уверенность в невинности происходящего уже не могли меня переубедить. Я вызвал его на дуэль. Он отклонил вызов, ответив, что его совесть чиста, и он не собирается подтверждать её дуэлью. Мы расстались врагами. Аманда вернулась со мною домой. Возвращаться в университет я не мог. Моё душевное состояние было нарушено. Я потерял сосредоточенность. Аманда бросила оправдания, ходила за мной по дому, выпрашивая прощения, пока я не закрылся в библиотеке. Мне было больно, Керен.
Шон посмотрел на меня влажными глазами.
– Мне было жалко её и себя. Наше семейное счастье рухнуло. Она сидела под дверью, не в силах сдержать рыдания. Звала меня, просила открыть. Я боролся с собой, подходил к двери, брался за ручку, но снова отходил. Чувство оскорбления и предательства питали во мне чёрствость. Я не знал, как следует поступить: мне изменили, наплевали на мою любовь, обманули доверие.
Я встала с кровати и обняла брата.
– Я ведь любил её, Керен, понимаешь?! Мне не нужна была ни одна другая женщина! Что её заставило пойти на измену, какие мои действия оттолкнули её от меня?! Мне казалось, что наши отношения идеальны, что мы можем доверить друг другу любые тайны. Я провёл ночь в библиотеке, не желая её видеть, не желая видеть прислугу. Мне необходимо было прийти в себя. И дверь я так и не открыл! Я, который за день до этого ни за что бы не смог поставить между нами никакой преграды! Никогда не думал, что между нами появится прохлада, и мы однажды не поймём друг друга. Три года совместной жизни растаяли в один миг. Мне надо было принять решение – остаться супругами или расстаться. Над этим я думал всю ночь. Так тяжело мне никогда не было.
Шон тяжело вздохнул.
– Наверное, я поступил с ней жестоко, не позволив высказаться, уверить меня в обратном. Просто не хотел её слушать. В течение всего следующего дня мы не виделись. Я был в университете, она заперлась в нашей спальне. Прошла ночь, к утру у меня созрело решение. Я был согласен закрыть на всё глаза и наладить наши отношения. С этой мыслью я отправился на учёбу. Настроение моё улучшилось. Я настроился на то, чтобы вернуть себе любовь Аманды. До обеда в моей голове выстроился целый монолог, который я хотел ей представить. Вернувшись домой, первым делом я направился к спальне. Мне казалось, что Аманда непременно откроет мне, и мы объяснимся. Дёрнув ручку, я к своему удивлению обнаружил дверь незапертой. Меня посетило тревожное чувство. Я вошёл. Комната была пуста. Аманда оставила мне письмо. Я боялся его читать, несколько минут держал в руках, не решаясь открыть.
Шон немного помолчал.
– Она писала, что не может саму себя простить. Недостойна быть рядом со мной, не может ждать, когда я сообщу ей о нашем разрыве, и поэтому уходит. Она настаивала на нашем разводе и сообщала, что когда потребуется оформлять документы, её можно будет найти у её отца. Письмо было осмысленным, решение твёрдым, и в этот момент я осознал, что безвозвратно потерял жену. Ехать за ней, пытаться её вернуть было бесполезно. Встретились мы лишь при оформлении развода. Аманда выглядела устало, почти не смотрела на меня и не хотела задержаться ни на минуту. Я знал, что с Лики она не встречается, так как слышал, что его не раз видели с родственницей одного из наших знакомых. Единственное, что связывает нас с Амандой до сих пор, это наши воспоминания и то, что мы не развенчаны.
Шон грустно мне улыбнулся. Его грусть передалась и мне.
– Значит, она у отца, – сказала я. – Аманда моя лучшая подруга, мне её жаль, как и тебя. Трудно поверить, что вы больше не вместе. Ты не будешь против, если я продолжу с ней общение, когда встречу?
– Нисколько. Даже родители готовы вновь увидеть её в Кеннете. Не удивляйся. Мне самому странно. Наверное, они сочувствуют ей, ведь она у Лики не первая.
– Что же ты намерен делать сейчас?
– Окончить университет и жениться.
– Жениться?! Так скоро? На ком?
– Пока не знаю.
– Шон, ты, шутишь! Скажи, что шутишь! Ты любишь Аманду, как можешь говорить о женитьбе?! – рассердилась я.
– Я понимаю тебя, Керен, но жизнь моя не закончилась. Мне необходимо встретить новую женщину, чтобы забыть Аманду. Я хочу семью, хочу детей. Аманда ушла от меня. Я до сих пор не могу понять, любит ли она меня! Она стала такой закрытой, отстранённой! Я думал, нужны ли мне сейчас новые отношения, и решил, что нужны. Зачем оставаться долго одному, если встретится достойная девушка?!
– Выжди хотя бы какое-то время.
– Ради чего?
– Чтобы лучше разобраться в самом себе.
– Мы развелись два месяца назад. Я собираюсь жениться не завтра. Пока я встречу другую женщину и оценю её по достоинству, пройдёт ещё пара месяцев. Если я женюсь к осени, пауза будет достаточной.
Теперь тяжело вздохнула и я:
– Я разговариваю с тобой и не верю, что вы больше не супруги. Желаю услышать эту историю из уст самой Аманды. Может быть, я пойму её, найду ей оправдание. Надеюсь, что мне представится такой случай. Я сержусь на неё и на тебя тоже. Да, не удивляйся. Я сержусь на тебя за то, что ты её любишь. Но вместо того, чтобы постараться её вернуть, ты планируешь новые отношения! Хотя в то же время я понимаю, что оскорблено твоё достоинство! Ну вот, я уже настолько расстроилась, что не хочу об этом говорить.
Установилась тишина.
– Может быть, ты и права… – протянул Шон. – Но я почти уверен, что она меня больше не любит. Так зачем же мне пытаться её вернуть? Чувствам нужна взаимность. Лучше будет, если всё останется, как есть. Жаль, что в период нашего разлада тебя здесь не было. Возможно, ты подсказала бы мне правильное решение… Пока я вспомнил: поговори с Эллис, узнай, что с ней происходит. Наверное, уже полгода, как она не хочет со мной откровенничать, когда я интересуюсь её жизнью. По-видимому, она влюбилась и носит эту тайну в себе. Думаю, тебе она откроется.
– Хорошо, – я сделала шаг к двери.
Шон остановил меня:
– И прошу тебя больше не говорить со мной об Аманде. Я уже рассказал всё, что мог. Родители и Эллис знают вдвое меньше.
– А Эрдон? Он знает?
– Да. Я открылся ему. Он меня поддержал. Керен, цени его, он для тебя станет настоящей опорой.
Я вернулась к себе. Было около четырёх часов вечера. Вещи мои были разложены Гриди по местам. Оставалось определить литературу, которую я приобрела в Турре. Я принялась расставлять книги по полкам. Шон и Аманда всё ещё не выходили из моей головы. Беседа с братом огорчила меня. Я ощущала усталость. Погода на улице изменилась. Небо затянулось тучами, и в комнате стемнело. Казалось, что вот-вот пойдёт снег, и все утренние старания солнца окажутся напрасными. С книгой в руках я засмотрелась в окно. Мысли мои унеслись к Эриху и к нашей завтрашней встрече. Не знаю, как долго я пребывала в задумчивости. Помню только, что постучалась Гриди и сказала, что отец желает меня видеть. Я медленно положила книгу на кровать и пошла к папиному кабинету. Спустившись по лестнице в гостиную, остановилась. Входная дверь распахнулась, и в дом, смеясь, вошла Эллис. Следом за сестрой появился незнакомый молодой мужчина. Вошедшие были веселы, от них веяло прохладой и свежестью вечера.
Сестра радостно подбежала ко мне:
– Ты уже дома!
– И довольно давно, – я обнялась с ней.
Действительно, Эллис изменилась. Она превратилась в красавицу. Её серые глаза стали выразительными, лицо белоснежным, с лёгким румянцем. Завитки её золотистых волос выбились из-под капюшона, делая её очень милой. Эллис коснулась меня своими замёрзшими ладонями и подвела к незнакомцу.
Надеюсь, ты поймёшь меня, моя дорогая Мэдл, когда прочтёшь всё ниже написанное. Со мной произошла простая вещь – мне очень понравился этот человек, как только я обратила на него своё внимание. Я смотрела на него и видела только его глаза. Большие, чёрные, по-мужски красивые. Я в них потерялась и не понимала, как он разглядывал меня – с интересом или безразличием, с уважением или бесцеремонно. Мне казалось, что в его взоре промелькнуло всё. Я растерялась. От моего такого же долгого встречного взгляда смутился и он. Тут прозвучали слова сестры:
– Позволь представить тебе нашего гостя – мистер Кларк Морен. Моя сестра Керен.
– Рад познакомиться, – произнёс молодой человек, слегка склонив голову в поклоне.
– Взаимно, – ответила я.
– Кларк гостит у нас вторую неделю, – сказала Эллис. – Мне безумно нравится его общество. Он приятный собеседник. Я много рассказывала мистеру Морену о тебе, о том, как мне было без тебя скучно. Наконец-то я смогу с тобой наговориться, и мистер Морен отдохнёт от меня.
– Вы к себе несправедливы, мисс Эллис, – произнёс Кларк. – Мой отдых в последнее время заключается только в общении с Вами.
Сестра с улыбкой посмотрела на Морена и обратилась ко мне:
– Кларк не позволяет мне чувствовать себя в чём-то виноватой.
Мистер Морен собрался было возразить, но не успел, так как мой отец, выйдя из своего кабинета, опередил его:
– Вот и все дома, – сказал он. – Наверное, на улице стало прохладней?
– Да, немного, – ответила Эллис.
– Как прогулялись? Не напрасно?
– Нет, всё получилось, – Эллис посмотрела на меня. – Мы ходили в деревню. Я кое-что принесла.
– Мистера Морена уже представили? – спросил отец.
– Да, – ответил Кларк.
Я перехватила его взгляд. Его глаза на мне не задержались. В этот момент мне показалось, что мистер Морен – гордец. Его брови, напоминавшие целеустремлённый взмах крыла, хорошо гармонировали с его прямым носом. Морен повернулся ко мне профилем, продолжая разговор с моим отцом. Я перестала на него смотреть. Папа спросил, не видел ли он сегодня их общего знакомого. Кларк ответил, что нет. Эллис шепнула мне на ухо, что зайдёт ко мне перед сном. Я кивнула в ответ.
Часы в гостиной пробили шесть вечера.
– Удивительно быстро идёт время, – сказал папа. – Керен, дочка, нам нужно поговорить.
– Увидимся за ужином, – сказала Эллис.
Мистер Морен нам поклонился и ушёл вслед за сестрой. Отец вернулся со мной в свой кабинет. Он усадил меня на стул рядом с рабочим столом и спросил, не изменилось ли моё отношение к Эрдону.
– Я понимаю, что ты только сегодня вернулась и, может быть, ещё не совсем уверена в своих чувствах… Но мне необходимо знать, интересен ли он тебе после вашей сегодняшней встречи?
Слова отца мне показались странными.
– Да, интересен, – ответила я, не медля.
– Хорошо… – папа волнительно хрустнул пальцами. – Не думай, что я хочу отговорить тебя выйти за него замуж. Дело в другом. Мне неудобно об этом говорить, но я обязан, – он остановился.
Я замерла в ожидании его следующих слов.
– В общем, я прошу тебя отложить вашу свадьбу на осень.
Я молчала.
– Дело в том, что я позволил себе распорядиться той денежной суммой, которая полагается тебе при браке. Иными словами, дочка, если выйдешь замуж весной или летом, ты не сможешь воспользоваться этими сбережениями. Я окажусь перед Эрдоном в невыгодном свете, не говоря уже о том, как будешь себя чувствовать ты. Ведь мы не бедны.
– Мы разорены? – поднялась я со стула.
– Нет, нет, – отец положил свои руки мне на плечи. – Мы не разорены. Просто мне потребовалась большая сумма, чтобы мы не разорились. Я пустил твои деньги в оборот. Весь этот капитал должен вернуться ко мне в самом конце лета. Ты могла бы задать справедливый вопрос, почему я не воспользовался своими средствами или денежным приданным твоей сестры. Всё дело в том, что со своими финансами у меня вышла большая проблема, а деньги Эллис я уже заложил. Они возвращаются ко мне небольшими частями. Просить в долг у Шона я не мог, у него на тот момент были семейные трудности. Он рассказал тебе?
– Да, рассказал.
– Так вот, – отец погладил свой подбородок. – Я на свой страх и риск обратился к приданому дочерей.
– А мама? Как же её деньги?
– Она ничего не знает. Не говори ей. Ты не представляешь, в какой она будет панике, если услышит про разорение. Но дело не в этом. Дочка, всё будет хорошо, не волнуйся. Твои средства вернутся в срок. Прошу только повременить с торжеством.
Я видела, как переживал отец, пытаясь объяснить мне ситуацию. Он поступил так, как считал нужным. Я не имела права его осуждать. Брак, взлелеянный моими мечтами, медленно от меня отдалялся. Приходилось с этим мириться.
– Я решил переговорить с тобой сегодня, так как слышал, что завтра приедет Эрих. Зная его, я предполагаю, что на днях он непременно спросит о дате свадьбы. Можешь назначить её на первые числа сентября, – отец быстро подошёл к столу, перелистал откидной календарь и остановил свой палец. – Третье сентября – суббота. Подходит?
Я тоже подошла к столу.
– Когда должны вернуться деньги? – уточнила я.
– Двадцать восьмого августа.
– Не слишком ли маленький промежуток между числами?
– Достаточный. Средства будут в срок.
– Папа, скажи мне честно, всё настолько плохо, как я думаю?
– Нет. Это временное затруднение.
Мы молча посмотрели друг на друга. Мне казалось, что он пытается меня успокоить.
– Ты мне не веришь?.. – спросил он.
– Верю. Чем я объясню перенос свадьбы Эрдону?
– Вот это для меня задача. Нужна веская причина.
Я задумчиво опустилась на стул. И откладывавшаяся свадьба, и пошатнувшееся финансовое положение, всё это приводило меня в расстройство.
– Сначала я подумал, что ты на всё лето можешь уехать к тёте Сельме, и это будет выход. Но потом решил, что так поступать нельзя. Вы с Эрихом соскучились друг по другу, и снова вас разлучать было бы эгоистично, – продолжил отец.
– …Я просто сообщу ему, что хочу провести эту весну и лето в кругу своей семьи, – предложила я. – Это будет похоже на правду. Выдумывать причину я не могу. Эрих не заслуживает обмана. Я попытаюсь объяснить, что мне трудно расстаться с Кеннетом. Он меня поймёт и согласится.
– Прости меня, что заставляю тебя так поступать. Я знаю по себе, как молодым влюблённым хочется быть вместе. Вам трудно ждать, я всё понимаю.
– Не надо, папа! – я встала и обняла отца. – За что тебе просить прощения?! Ты сделал это для семьи. Я не сержусь на тебя. Обещай, что всё наладится и не будет денежных затруднений. Я же, став миссис Эрдон, окажу вам любую поддержку.
– Спасибо, Керен, я надеялся на твоё понимание!
– Папа!.. – я поцеловала его в щёку. – Но ты всё равно должен поставить в известность Шона.
– Я скажу ему, скажу.
Я тяжело вздохнула. Две неприятные новости за один день подействовали на меня удручающе. Усталость моя усилилась, настроение омрачилось, а впереди ещё ждал семейный ужин в присутствии гостя. Несмотря на то, что этот человек понравился мне внешне, первое общение с ним нельзя было назвать приятным. Мне хотелось, чтобы день на сегодня окончился, и я ушла к себе, но мы с папой, выйдя из его кабинета, пошли к столовой. Там ждали только нас.
– Дилон, дорогой, неужели у тебя к дочери появился столь серьёзный разговор, что нельзя было отложить его на завтра? – спросила мама, перекладывая свою салфетку. – Девочке нужно отдохнуть. Присаживайся, Керен, рядом со мной.
Мамино приглашение меня смутило – она сидела напротив Морена, но я всё же не стала искать другого места. Слева от меня оказался Шон, напротив – Эллис и Кларк.
– Я слышала, тебя уже познакомили с мистером Мореном? – спросила мама.
– Да, – ответила я, не посмотрев на него.
– Вот и хорошо, – продолжала мама. – Отец Кларка, мистер Орнел Морен – давний знакомый вашего отца. Кларк приехал в наш город по заданию. Он военный. Мы пригласили его пожить у нас. Кларк, Вы не против того, что я рассказываю о вас?
– Нисколько.
Мама довольно улыбнулась и снова спросила его:
– Вы знаете, что через два дня бал?
– Да, мисс Эллис мне об этом сообщила.
– Вы можете поехать на него вместе с нами.
– Спасибо, но я не уверен, что у меня найдётся на это время.
– Кларк, я Вас умоляю… – протянула Эллис. – Вы должны там быть. Не заставляйте меня уговаривать Вас.
– Действительно, – вступил отец. – Вам будет интересно. В Лануане самое большое количество красивых девушек! Сможете подыскать себе будущую жену.
– Я знаю всех своих ровесниц и познакомлю Вас с любой, – жарко подхватила Эллис.
– Искренне благодарен, но не стоит.
– Возможно, Вы ещё передумаете, – сказала мама.
– Возможно, – согласился Кларк.
– Советую Вам держаться моего общества, – сказал Шон. – Здесь, в Кеннете, Эллис для Вас прекрасная компания, но на балу она становится ветреной и непременно растворится в компании молодых людей.
– Шон!.. – возмутилась Эллис. – Не слушайте его, Кларк. Брат всегда преувеличивает на мой счёт. Шон, как тебе не стыдно!
– Прости меня, дорогая.
Пока брат и сестра выясняли отношения, наши глаза с Мореном встретились. Но он снова не удостоил меня долгим взглядом. Словно вместо меня видел портьеру за моей спиной. Конечно, он не мог смотреть на меня так же открыто, как на мою сестру, и легко общаться со мной, ведь мы были знакомы всего лишь час. Но всё равно его внимание ко мне было чересчур скупым. Кажется, между нами возникла неприязнь. Моё отношение к нему обрело отрицательный оттенок. Но, привыкшая к своей неотразимости, я не собиралась закрывать глаза на поведение Морена и решила намеренно заострить его внимание на себе. Для этого мне нужно было с ним заговорить.
– Позвольте поинтересоваться, мистер Морен, Вы стали военным по своему желанию? – возможно, мой тон был не из лучших. – Ваши родители отнеслись к этому спокойно?
– Да, – ответил он кратко, бросив на меня свой высокомерный взгляд.
Я же, посмотрев на него незаинтересованно, продолжала:
– Ваш долг опасен, офицера могут отправить в любое место сражений. Неужели Вашей маме не всё равно? Хотя… у нас в стране пока тихо…
Наверное, своими последними словами я перешла черту, указывая на то, что быть военным в данный момент не такая уж отвага. По-моему, Кларк усмотрел в этом насмешку.
Он одарил меня долгим испепеляющим взглядом. Морен мог бы ответить мне достаточно грубо, не будь я девушкой, но сдержанно произнёс:
– Мои родители не против, а сам я по службе долго не задерживаюсь в одном месте.
– Это так романтично! – вырвалось у Эллис. – Шон, почему ты станешь врачом, почему не как Кларк?
– Потому что я есть я.
– У Шона отличная профессия, – вступил папа. – Я горжусь им так же, как Кларком гордятся его родители.
– У Кларка есть младший брат, – сказала мне Эллис. – Только я всё время забываю, как его зовут… Его имя для меня необычно.
Она виновато посмотрела на Морена.
Шон слегка усмехнулся.
– Его зовут Рон, – сказал Кларк, глядя на меня. – Вам тоже кажется его имя необычным?
– Нисколько. Простите за любопытство, но я ещё не услышала, где живут Ваши родители?
– Они живут в Рикарсе, но летом часто перебираются в Женноку. У нас там небольшой домик недалеко от океана.
– Значит, ваш климат отличен от нашего. У вас намного теплее?
– Нет, не намного, но природа другая. Растительность более сочная.
– Не потому ли, что там ваш дом? Вы ведь не видели здешнее лето, приехали в зиму.
– В прошлом году мы с отцом заезжали в Лануан на один день. Было лето.
Мама и отец окончили свой ужин и встали из-за стола.
– Мы оставляем вас, – сказал отец.
– Спокойной ночи, – подхватила мама. – Я уже не выйду сегодня из своей комнаты.
Мы пожелали им спокойной ночи.
Кларк продолжал на меня смотреть. И как бы он ни был красив, моя враждебность к нему не ослабевала. Он был готов к продолжению разговора, и я тоже.
– Насколько же близок ваш домик к океану? – спросила я.
– Меньше часа ходьбы.
– Наверное, океан виден из окон?
– Нет, наш дом не на возвышении. Но когда выходишь на берег, то открывается необыкновенный вид. Берег длинный, практически прямой, и создаётся впечатление, что вы на острове. Думаю, для Вас эти слова не новость, Вы видели океан?
– Нет, но считаю, что не много потеряла.
– Вам нужно его увидеть. Он Вас покорит. Уверяю, что здешние озёра, реки и пруды далеки от его величия.
– Может быть, но даже в малом есть своя великая неповторимость, не так ли? Реки и пруды хороши на своём месте, а моря и океаны – на своём.
Кларк улыбнулся.
– Да, Вы, конечно же, правы.
Эллис устало вздохнула, отставляя от себя кружку чая:
– Пожалуй, и я пойду к себе. Прогулка до деревни и обратно израсходовала все мои силы. Керен, я не буду к тебе заходить. Мы поговорим с тобой завтра.
– Хорошо.
Эллис со скрипом отставила свой стул.
– Всем спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – ответила я.
– Спокойной ночи, – сказал Шон.
– Доброй ночи, – сказал Кларк.
Эллис вышла.
– А я с удовольствием проведу ещё пару минут в вашей компании, – сказал брат. – Мне очень интересно, Кларк, заставит ли Вас моя сестра согласиться только с её точкой зрения и в других вопросах.
– Вовсе на этом не настаиваю, – возразила я. – И если мистер Морен не против, мне бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю беседу.
– Как Вам будет угодно, – ответил Кларк и встал, провожая меня из-за стола.
Теперь я пожелала им спокойной ночи и ушла.
Только оказавшись в своей комнате в полном одиночестве, я могла действительно отдохнуть. Определив книгу, оставленную мной на кровати, на полку, я переоделась ко сну. И хотя легла, но сон ко мне не спешил. Мысли о Шоне и его жене, о финансовых затруднениях отца, переносе свадьбы с начала лета на осень и о персоне мистера Морена не давали уснуть. Думы эти одолевали меня на протяжении двух часов…
– Может быть, ты и права… – протянул Шон. – Но я почти уверен, что она меня больше не любит. Так зачем же мне пытаться её вернуть? Чувствам нужна взаимность. Лучше будет, если всё останется, как есть. Жаль, что в период нашего разлада тебя здесь не было. Возможно, ты подсказала бы мне правильное решение… Пока я вспомнил: поговори с Эллис, узнай, что с ней происходит. Наверное, уже полгода, как она не хочет со мной откровенничать, когда я интересуюсь её жизнью. По-видимому, она влюбилась и носит эту тайну в себе. Думаю, тебе она откроется.
– Хорошо, – я сделала шаг к двери.
Шон остановил меня:
– И прошу тебя больше не говорить со мной об Аманде. Я уже рассказал всё, что мог. Родители и Эллис знают вдвое меньше.
– А Эрдон? Он знает?
– Да. Я открылся ему. Он меня поддержал. Керен, цени его, он для тебя станет настоящей опорой.
Я вернулась к себе. Было около четырёх часов вечера. Вещи мои были разложены Гриди по местам. Оставалось определить литературу, которую я приобрела в Турре. Я принялась расставлять книги по полкам. Шон и Аманда всё ещё не выходили из моей головы. Беседа с братом огорчила меня. Я ощущала усталость. Погода на улице изменилась. Небо затянулось тучами, и в комнате стемнело. Казалось, что вот-вот пойдёт снег, и все утренние старания солнца окажутся напрасными. С книгой в руках я засмотрелась в окно. Мысли мои унеслись к Эриху и к нашей завтрашней встрече. Не знаю, как долго я пребывала в задумчивости. Помню только, что постучалась Гриди и сказала, что отец желает меня видеть. Я медленно положила книгу на кровать и пошла к папиному кабинету. Спустившись по лестнице в гостиную, остановилась. Входная дверь распахнулась, и в дом, смеясь, вошла Эллис. Следом за сестрой появился незнакомый молодой мужчина. Вошедшие были веселы, от них веяло прохладой и свежестью вечера.
Сестра радостно подбежала ко мне:
– Ты уже дома!
– И довольно давно, – я обнялась с ней.
Действительно, Эллис изменилась. Она превратилась в красавицу. Её серые глаза стали выразительными, лицо белоснежным, с лёгким румянцем. Завитки её золотистых волос выбились из-под капюшона, делая её очень милой. Эллис коснулась меня своими замёрзшими ладонями и подвела к незнакомцу.
Надеюсь, ты поймёшь меня, моя дорогая Мэдл, когда прочтёшь всё ниже написанное. Со мной произошла простая вещь – мне очень понравился этот человек, как только я обратила на него своё внимание. Я смотрела на него и видела только его глаза. Большие, чёрные, по-мужски красивые. Я в них потерялась и не понимала, как он разглядывал меня – с интересом или безразличием, с уважением или бесцеремонно. Мне казалось, что в его взоре промелькнуло всё. Я растерялась. От моего такого же долгого встречного взгляда смутился и он. Тут прозвучали слова сестры:
– Позволь представить тебе нашего гостя – мистер Кларк Морен. Моя сестра Керен.
– Рад познакомиться, – произнёс молодой человек, слегка склонив голову в поклоне.
– Взаимно, – ответила я.
– Кларк гостит у нас вторую неделю, – сказала Эллис. – Мне безумно нравится его общество. Он приятный собеседник. Я много рассказывала мистеру Морену о тебе, о том, как мне было без тебя скучно. Наконец-то я смогу с тобой наговориться, и мистер Морен отдохнёт от меня.
– Вы к себе несправедливы, мисс Эллис, – произнёс Кларк. – Мой отдых в последнее время заключается только в общении с Вами.
Сестра с улыбкой посмотрела на Морена и обратилась ко мне:
– Кларк не позволяет мне чувствовать себя в чём-то виноватой.
Мистер Морен собрался было возразить, но не успел, так как мой отец, выйдя из своего кабинета, опередил его:
– Вот и все дома, – сказал он. – Наверное, на улице стало прохладней?
– Да, немного, – ответила Эллис.
– Как прогулялись? Не напрасно?
– Нет, всё получилось, – Эллис посмотрела на меня. – Мы ходили в деревню. Я кое-что принесла.
– Мистера Морена уже представили? – спросил отец.
– Да, – ответил Кларк.
Я перехватила его взгляд. Его глаза на мне не задержались. В этот момент мне показалось, что мистер Морен – гордец. Его брови, напоминавшие целеустремлённый взмах крыла, хорошо гармонировали с его прямым носом. Морен повернулся ко мне профилем, продолжая разговор с моим отцом. Я перестала на него смотреть. Папа спросил, не видел ли он сегодня их общего знакомого. Кларк ответил, что нет. Эллис шепнула мне на ухо, что зайдёт ко мне перед сном. Я кивнула в ответ.
Часы в гостиной пробили шесть вечера.
– Удивительно быстро идёт время, – сказал папа. – Керен, дочка, нам нужно поговорить.
– Увидимся за ужином, – сказала Эллис.
Мистер Морен нам поклонился и ушёл вслед за сестрой. Отец вернулся со мной в свой кабинет. Он усадил меня на стул рядом с рабочим столом и спросил, не изменилось ли моё отношение к Эрдону.
– Я понимаю, что ты только сегодня вернулась и, может быть, ещё не совсем уверена в своих чувствах… Но мне необходимо знать, интересен ли он тебе после вашей сегодняшней встречи?
Слова отца мне показались странными.
– Да, интересен, – ответила я, не медля.
– Хорошо… – папа волнительно хрустнул пальцами. – Не думай, что я хочу отговорить тебя выйти за него замуж. Дело в другом. Мне неудобно об этом говорить, но я обязан, – он остановился.
Я замерла в ожидании его следующих слов.
– В общем, я прошу тебя отложить вашу свадьбу на осень.
Я молчала.
– Дело в том, что я позволил себе распорядиться той денежной суммой, которая полагается тебе при браке. Иными словами, дочка, если выйдешь замуж весной или летом, ты не сможешь воспользоваться этими сбережениями. Я окажусь перед Эрдоном в невыгодном свете, не говоря уже о том, как будешь себя чувствовать ты. Ведь мы не бедны.
– Мы разорены? – поднялась я со стула.
– Нет, нет, – отец положил свои руки мне на плечи. – Мы не разорены. Просто мне потребовалась большая сумма, чтобы мы не разорились. Я пустил твои деньги в оборот. Весь этот капитал должен вернуться ко мне в самом конце лета. Ты могла бы задать справедливый вопрос, почему я не воспользовался своими средствами или денежным приданным твоей сестры. Всё дело в том, что со своими финансами у меня вышла большая проблема, а деньги Эллис я уже заложил. Они возвращаются ко мне небольшими частями. Просить в долг у Шона я не мог, у него на тот момент были семейные трудности. Он рассказал тебе?
– Да, рассказал.
– Так вот, – отец погладил свой подбородок. – Я на свой страх и риск обратился к приданому дочерей.
– А мама? Как же её деньги?
– Она ничего не знает. Не говори ей. Ты не представляешь, в какой она будет панике, если услышит про разорение. Но дело не в этом. Дочка, всё будет хорошо, не волнуйся. Твои средства вернутся в срок. Прошу только повременить с торжеством.
Я видела, как переживал отец, пытаясь объяснить мне ситуацию. Он поступил так, как считал нужным. Я не имела права его осуждать. Брак, взлелеянный моими мечтами, медленно от меня отдалялся. Приходилось с этим мириться.
– Я решил переговорить с тобой сегодня, так как слышал, что завтра приедет Эрих. Зная его, я предполагаю, что на днях он непременно спросит о дате свадьбы. Можешь назначить её на первые числа сентября, – отец быстро подошёл к столу, перелистал откидной календарь и остановил свой палец. – Третье сентября – суббота. Подходит?
Я тоже подошла к столу.
– Когда должны вернуться деньги? – уточнила я.
– Двадцать восьмого августа.
– Не слишком ли маленький промежуток между числами?
– Достаточный. Средства будут в срок.
– Папа, скажи мне честно, всё настолько плохо, как я думаю?
– Нет. Это временное затруднение.
Мы молча посмотрели друг на друга. Мне казалось, что он пытается меня успокоить.
– Ты мне не веришь?.. – спросил он.
– Верю. Чем я объясню перенос свадьбы Эрдону?
– Вот это для меня задача. Нужна веская причина.
Я задумчиво опустилась на стул. И откладывавшаяся свадьба, и пошатнувшееся финансовое положение, всё это приводило меня в расстройство.
– Сначала я подумал, что ты на всё лето можешь уехать к тёте Сельме, и это будет выход. Но потом решил, что так поступать нельзя. Вы с Эрихом соскучились друг по другу, и снова вас разлучать было бы эгоистично, – продолжил отец.
– …Я просто сообщу ему, что хочу провести эту весну и лето в кругу своей семьи, – предложила я. – Это будет похоже на правду. Выдумывать причину я не могу. Эрих не заслуживает обмана. Я попытаюсь объяснить, что мне трудно расстаться с Кеннетом. Он меня поймёт и согласится.
– Прости меня, что заставляю тебя так поступать. Я знаю по себе, как молодым влюблённым хочется быть вместе. Вам трудно ждать, я всё понимаю.
– Не надо, папа! – я встала и обняла отца. – За что тебе просить прощения?! Ты сделал это для семьи. Я не сержусь на тебя. Обещай, что всё наладится и не будет денежных затруднений. Я же, став миссис Эрдон, окажу вам любую поддержку.
– Спасибо, Керен, я надеялся на твоё понимание!
– Папа!.. – я поцеловала его в щёку. – Но ты всё равно должен поставить в известность Шона.
– Я скажу ему, скажу.
Я тяжело вздохнула. Две неприятные новости за один день подействовали на меня удручающе. Усталость моя усилилась, настроение омрачилось, а впереди ещё ждал семейный ужин в присутствии гостя. Несмотря на то, что этот человек понравился мне внешне, первое общение с ним нельзя было назвать приятным. Мне хотелось, чтобы день на сегодня окончился, и я ушла к себе, но мы с папой, выйдя из его кабинета, пошли к столовой. Там ждали только нас.
– Дилон, дорогой, неужели у тебя к дочери появился столь серьёзный разговор, что нельзя было отложить его на завтра? – спросила мама, перекладывая свою салфетку. – Девочке нужно отдохнуть. Присаживайся, Керен, рядом со мной.
Мамино приглашение меня смутило – она сидела напротив Морена, но я всё же не стала искать другого места. Слева от меня оказался Шон, напротив – Эллис и Кларк.
– Я слышала, тебя уже познакомили с мистером Мореном? – спросила мама.
– Да, – ответила я, не посмотрев на него.
– Вот и хорошо, – продолжала мама. – Отец Кларка, мистер Орнел Морен – давний знакомый вашего отца. Кларк приехал в наш город по заданию. Он военный. Мы пригласили его пожить у нас. Кларк, Вы не против того, что я рассказываю о вас?
– Нисколько.
Мама довольно улыбнулась и снова спросила его:
– Вы знаете, что через два дня бал?
– Да, мисс Эллис мне об этом сообщила.
– Вы можете поехать на него вместе с нами.
– Спасибо, но я не уверен, что у меня найдётся на это время.
– Кларк, я Вас умоляю… – протянула Эллис. – Вы должны там быть. Не заставляйте меня уговаривать Вас.
– Действительно, – вступил отец. – Вам будет интересно. В Лануане самое большое количество красивых девушек! Сможете подыскать себе будущую жену.
– Я знаю всех своих ровесниц и познакомлю Вас с любой, – жарко подхватила Эллис.
– Искренне благодарен, но не стоит.
– Возможно, Вы ещё передумаете, – сказала мама.
– Возможно, – согласился Кларк.
– Советую Вам держаться моего общества, – сказал Шон. – Здесь, в Кеннете, Эллис для Вас прекрасная компания, но на балу она становится ветреной и непременно растворится в компании молодых людей.
– Шон!.. – возмутилась Эллис. – Не слушайте его, Кларк. Брат всегда преувеличивает на мой счёт. Шон, как тебе не стыдно!
– Прости меня, дорогая.
Пока брат и сестра выясняли отношения, наши глаза с Мореном встретились. Но он снова не удостоил меня долгим взглядом. Словно вместо меня видел портьеру за моей спиной. Конечно, он не мог смотреть на меня так же открыто, как на мою сестру, и легко общаться со мной, ведь мы были знакомы всего лишь час. Но всё равно его внимание ко мне было чересчур скупым. Кажется, между нами возникла неприязнь. Моё отношение к нему обрело отрицательный оттенок. Но, привыкшая к своей неотразимости, я не собиралась закрывать глаза на поведение Морена и решила намеренно заострить его внимание на себе. Для этого мне нужно было с ним заговорить.
– Позвольте поинтересоваться, мистер Морен, Вы стали военным по своему желанию? – возможно, мой тон был не из лучших. – Ваши родители отнеслись к этому спокойно?
– Да, – ответил он кратко, бросив на меня свой высокомерный взгляд.
Я же, посмотрев на него незаинтересованно, продолжала:
– Ваш долг опасен, офицера могут отправить в любое место сражений. Неужели Вашей маме не всё равно? Хотя… у нас в стране пока тихо…
Наверное, своими последними словами я перешла черту, указывая на то, что быть военным в данный момент не такая уж отвага. По-моему, Кларк усмотрел в этом насмешку.
Он одарил меня долгим испепеляющим взглядом. Морен мог бы ответить мне достаточно грубо, не будь я девушкой, но сдержанно произнёс:
– Мои родители не против, а сам я по службе долго не задерживаюсь в одном месте.
– Это так романтично! – вырвалось у Эллис. – Шон, почему ты станешь врачом, почему не как Кларк?
– Потому что я есть я.
– У Шона отличная профессия, – вступил папа. – Я горжусь им так же, как Кларком гордятся его родители.
– У Кларка есть младший брат, – сказала мне Эллис. – Только я всё время забываю, как его зовут… Его имя для меня необычно.
Она виновато посмотрела на Морена.
Шон слегка усмехнулся.
– Его зовут Рон, – сказал Кларк, глядя на меня. – Вам тоже кажется его имя необычным?
– Нисколько. Простите за любопытство, но я ещё не услышала, где живут Ваши родители?
– Они живут в Рикарсе, но летом часто перебираются в Женноку. У нас там небольшой домик недалеко от океана.
– Значит, ваш климат отличен от нашего. У вас намного теплее?
– Нет, не намного, но природа другая. Растительность более сочная.
– Не потому ли, что там ваш дом? Вы ведь не видели здешнее лето, приехали в зиму.
– В прошлом году мы с отцом заезжали в Лануан на один день. Было лето.
Мама и отец окончили свой ужин и встали из-за стола.
– Мы оставляем вас, – сказал отец.
– Спокойной ночи, – подхватила мама. – Я уже не выйду сегодня из своей комнаты.
Мы пожелали им спокойной ночи.
Кларк продолжал на меня смотреть. И как бы он ни был красив, моя враждебность к нему не ослабевала. Он был готов к продолжению разговора, и я тоже.
– Насколько же близок ваш домик к океану? – спросила я.
– Меньше часа ходьбы.
– Наверное, океан виден из окон?
– Нет, наш дом не на возвышении. Но когда выходишь на берег, то открывается необыкновенный вид. Берег длинный, практически прямой, и создаётся впечатление, что вы на острове. Думаю, для Вас эти слова не новость, Вы видели океан?
– Нет, но считаю, что не много потеряла.
– Вам нужно его увидеть. Он Вас покорит. Уверяю, что здешние озёра, реки и пруды далеки от его величия.
– Может быть, но даже в малом есть своя великая неповторимость, не так ли? Реки и пруды хороши на своём месте, а моря и океаны – на своём.
Кларк улыбнулся.
– Да, Вы, конечно же, правы.
Эллис устало вздохнула, отставляя от себя кружку чая:
– Пожалуй, и я пойду к себе. Прогулка до деревни и обратно израсходовала все мои силы. Керен, я не буду к тебе заходить. Мы поговорим с тобой завтра.
– Хорошо.
Эллис со скрипом отставила свой стул.
– Всем спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – ответила я.
– Спокойной ночи, – сказал Шон.
– Доброй ночи, – сказал Кларк.
Эллис вышла.
– А я с удовольствием проведу ещё пару минут в вашей компании, – сказал брат. – Мне очень интересно, Кларк, заставит ли Вас моя сестра согласиться только с её точкой зрения и в других вопросах.
– Вовсе на этом не настаиваю, – возразила я. – И если мистер Морен не против, мне бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю беседу.
– Как Вам будет угодно, – ответил Кларк и встал, провожая меня из-за стола.
Теперь я пожелала им спокойной ночи и ушла.
Только оказавшись в своей комнате в полном одиночестве, я могла действительно отдохнуть. Определив книгу, оставленную мной на кровати, на полку, я переоделась ко сну. И хотя легла, но сон ко мне не спешил. Мысли о Шоне и его жене, о финансовых затруднениях отца, переносе свадьбы с начала лета на осень и о персоне мистера Морена не давали уснуть. Думы эти одолевали меня на протяжении двух часов…

Егор ИВАНОВ
Извлечение смыслов из своего сознания путем оформления их в слова – моя профессия. Я – юрист. А размышления – моя страсть. Вот прямо так: страсть размышлять. Обо всем – о людях, о себе, о мире во всем его разнообразии и непостижимости. И прислушиваться – к отклику в своей душе, к тихому голосу, который начинает эти ощущения собирать в слова, озвучивать. Многие годы этот неслышный монолог поднимался и угасал в голове. Но однажды не написать все то, что он говорил, о чем стонал, стало катастрофически, физически невозможно. И так родился первый рассказ. Вот так я начал писать в 42 года, неожиданно, но, как я сейчас понимаю, совершенно неизбежно. Пару лет рассказ полежал «в столе». Набрал себе компанию из других черновиков, набросков и практически завершенных работ. И стал требовать выход в свет. Поэтому публиковаться я стал только в 2024 году. Ну что ж, начнем.
Извлечение смыслов из своего сознания путем оформления их в слова – моя профессия. Я – юрист. А размышления – моя страсть. Вот прямо так: страсть размышлять. Обо всем – о людях, о себе, о мире во всем его разнообразии и непостижимости. И прислушиваться – к отклику в своей душе, к тихому голосу, который начинает эти ощущения собирать в слова, озвучивать. Многие годы этот неслышный монолог поднимался и угасал в голове. Но однажды не написать все то, что он говорил, о чем стонал, стало катастрофически, физически невозможно. И так родился первый рассказ. Вот так я начал писать в 42 года, неожиданно, но, как я сейчас понимаю, совершенно неизбежно. Пару лет рассказ полежал «в столе». Набрал себе компанию из других черновиков, набросков и практически завершенных работ. И стал требовать выход в свет. Поэтому публиковаться я стал только в 2024 году. Ну что ж, начнем.
ТРУДНО БЫТЬ
Такого тумана еще никогда не было. Город поднырнул под его пелену, и с моста было видно, как верхние этажи девятиэтажек торчали сквозь это непрозрачное одеяло. В городе не было домов выше 24 этажей, и туманы, ранее окутывавшие город, всегда прятали их целиком. Но этот был, как тонкая непрозрачная пелерина, которую проткнули даже небольшие домики советской постройки. Все, что было ниже этой пелены, утонуло в чем-то сумрачном и вязком.
Сегодняшний туман действительно не походил на прежние молочно-белые облака, нежно растворявшие в себе дома и дороги. Он был совершенно асфальтового цвета. Фары едва могли прогрызть кусок дороги метров пятнадцати перед машиной. От этого вида становилось жутковато. Но вопреки ожиданиям, аварий по пути не было. И даже прежде сложные перекрёстки и развязки были почти свободны, а другие машины проявляли вежливость и аккуратность, словно водители чувствовали в этом свинцовом сумраке потаенную угрозу и ехали домой крадучись и на ощупь.
Приехав домой, он обнаружил, что туман имеет еще одно удивительное свойство – запах. Возле дома он пах лежалыми листьями и уставшим к зиме полем. Хотя отъезжая от офиса, он явственно чувствовал кислый запах выхлопов двигателей и истертой о дорожное полотно резины. Если бы туман начал говорить или транслировать свои мысли напрямую ему в мозг, это не стало бы неожиданностью. Что и говорить, необычно. Особенно для 31 декабря.
В этой предновогодней асфальтовой дымке собралось все, что копилось весь год: тяжесть – невыносимая, вязнущая на всех чреслах тяжесть. К концу года принято подводить его итоги, но в этот раз ничего не хотелось. Ни подводить итоги, ни провожать. Хотелось забыться на несколько дней и вернуться в мир уже другим человеком, и чтобы мир тоже был другим. В общем, хотелось стать куколкой и превратиться в бабочку, видящую мир сплошь из цветов и нектара. И этот туман заворачивал весь мир в непрозрачный кокон.
Его семьи не было несколько месяцев, в течение которых он стоял вахту, как смотритель маяка. Ежедневная рутина, повторяющиеся события и действия. Встал, умылся, приготовил завтрак. Можно даже не смотреть на часы – все сделано вовремя, можно садиться в машину и ехать в офис.
Офис предсказуемо хаотичен и ожидаемо безумен. Если воспринимать все серьезно, но образно, то каждую минуту в офисе взрывалась очередная граната или врывался торнадо. Могло произойти что угодно, как угодно, когда угодно. Но в этом бушующем и клокочущем котле событий он чувствовал себя спокойно и почти счастливо. Он был ловок и изобретателен. Берег своих людей и не щадил врагов. Прикрывал своих и неожиданно атаковал чужих. Видел беспринципность и обман соперников, но сохранял себя в рамках ему понятной порядочности.
«Хаос – это нормальное положение вещей в нашей жизни. Это надо принять», – говорил он своим молодым сотрудникам. «Если не справляешься, бери катану поострее и размахивай быстрее!» – другая поговорка. Ребята смотрели на него, понимающе кивали и потихоньку превращались в роботов. Они отключались от каких-либо споров и обсуждений в курилке. Не перемывали кости коллегам, не жаловались, не просили, не ждали. Просто работали без остановок, как он сам. Работал без остановок, без ненужной трепотни и без лишних эмоций. Встречал каждый шторм так, как будто он здесь всегда стоял ради встречи этой бури, словно маяк на одиноком острове среди беснующегося океана. В конечном итоге все сводилось к тому, что нужно делать все от себя зависящее и не тратить время и силы на попытки понять, когда же настанет конец шторма.
Конец наступал каждый день в 18.00. Не потому что ему было все равно. А потому что он себя заставлял ставить свой боевой дредноут к пирсу, крепкими вантами швартовать к кнехтам и списывать команду на берег. До завтрашнего дня. До девяти утра, когда надо будет вновь врываться в грозу, в бой, в мясорубку.
Но если раньше дома его ждала душа, то теперь просто сменялась работа на дежурство. Дома ничего не взрывалось, не ухало и не падало. Дома было пусто. В витринном манекене было больше жизни и души, чем в его прекрасном, но пустом доме.
Дочки уехали в другой город учиться. Особая программа для одаренных детей, редкий из оставшихся социальных лифтов, в котором еще работали кнопки, и можно было доехать до верхнего этажа сразу, без изнурительной борьбы на каждой ступени лестницы.
Да, чтобы добраться до самого лифта, тоже нужно было пройти изрядный путь по той самой лестнице. Не раз споткнуться и упасть, снова подняться, снова карабкаться. Доказывать, терпеть, набираться сил.
Предавать и делать подлости он не умел, поэтому за свой путь по лестнице ему не было стыдно. Но вот он добрался до заветного лифта, который может вынести наверх, туда, где все по-другому. Но уже не его самого, а его детей.
В общем, это был осознанный и правильный выбор, сделанный вместе с женой. И они уехали все вместе, даже кошка уехала с ними. Чтобы быть вместе и поддерживать друг друга. Чтобы можно было после многочасовых занятий поиграть с пушистой и игривой зверюшкой, ласковой и пугливой. Чтоб можно было обнять маму, помолчать с бабушкой. Чтобы кто-то был рядом, чтобы не все под ответственность этих 14-летних девочек.
Они уехали и увезли с собой его душу. Он даже не сразу это понял. Неся каждодневную вахту по проживанию дней, заполняя время мыслями, он не сразу понял, что он остался пустым. Нет, он мог улыбаться и разговаривать с коллегами, есть, пить, водить машину. Мог работать (работать он мог всегда, в любой степени усталости и при любом напряжении).
Мог много чего. Не мог испытывать теплоту внутри. Ту особую теплоту, которую он раньше не оформлял словами, но неизменно ощущал при взгляде на свою семью: жену и дочек. Она проникала в каждый уголок его души, заглядывала в самые замученные постоянным прокручиванием мысли и потаенные страхи, и они растворялись от этой теплоты.
Эта теплота его меняла. Он чувствовал себя бессмертным. Потому что такое не может умереть. Ведь никогда не может умереть абсолютный свет, абсолютное добро. В такие вещи ему не нужно было верить – он их испытывал.
…И вот тепло ушло. По его согласию и даже по его воле. И не с кем спорить про то, насколько это правильно. Не о чем говорить. Так было надо для них. Второй раз в жизни он сам отрезал от себя кусок души. Своими руками. Потому что так было надо.
Когда-то давно он так сильно чувствовал своих дочек, что затмил собой маму. Вот как-то неожиданно для него самого. Он физически ощущал их мысли и чувства лучше всех на свете. Щемящее счастье в груди само вибрировало в такт с их настроением, мыслями, с их первыми открытиями и зарождавшимся сознанием. Он мог бы общаться с ними без слов и говорил больше для того, чтобы они учились говорить. Он мог в темноте по дыханию, по неуловимому шороху точно знать, кто из них улыбается. Не было на свете ничего важнее близняшек. Не было на свете ничего вообще, кроме его дочек.
Но это было неправильно. Он заслонил собой маму. Стал для них всем, а мама потеряла то право, которое ей было дано с момента их рождения. У него были дети, но не стало жены. У детей был он, но не было мамы. У жены не было ничего.
Надо было что-то делать. Надо. У девочек должна быть мама. А папа у них будет всегда. Он станет другим – не богом, а наставником, не солнцем, а ориентиром, звездой, указывающей путь. И он своими руками перерезал те невидимые нити, которые связывали его с дочками, и отступил. Так – правильно. Но очень больно.
И случилось чудо. Отказавшись от самого важного в своей жизни, он получил еще больше. Это вернуло ему жену, вернуло детям маму. Это сделало его семью семьей. Он научился видеть детей глазами его жены, через нее. Теперь он не просто любил свою жену, он жил ею, так же, как жил детьми. Она была продолжением его души, его сердцем. Она наполняла смыслом его жизнь. С ней он не становился лучшей версией себя, он становился собой, целым и наполненным, безмятежным и уверенным, веселым и звонким, сильным и добрым.
А дети не потеряли папу. Они вернули себе маму. Так что это было правильное слово «надо». И он никогда не жалел об этом. Просто не любил вспоминать.
Сейчас его снова догнало это слово – «надо». Обычно он просто к нему относился: надо – значит, надо. И ничего в этом нет. Просто задача, которая поставлена жизнью, на которую он найдет силы и ресурсы, придумает способ и сделает. Просто очередной подход к спортивному снаряду. Как всегда, на зачет, иногда – на оценку. Просто выложится и сделает так, как надо. Потому что надо.
Но в этот раз слово «надо» оказалось подлым и изворотливым. Поймав в ловушку логических доводов, исключив из уравнения какие-либо неизвестные, оно привело к единственному возможному выводу: он остается, чтобы работать, они уезжают, чтобы учиться. Всё.
В правильности этого решения он убеждал жену, нежно и трогательно переживавшую за то, что он будет есть и как будет стирать свою одежду. Он убеждал детей, которые смотрели на него бездонным глазами маленьких птенцов, не понимающих призыв родителей расправить крылья и вылететь из милого гнезда. Он убедил себя легко, быстро и технично, как проходит апперкот матерого боксера в поединке с новичком.
Он погрузил их в машину и привез в другой город, поселил в новую квартиру и… уехал.
А потом были дни, каждый тяжелее другого. Они знали, что будет непросто. Но никто не предполагал, что будет так. Новые знания не хлынули на его детей, а обрушились, как лавина, требуя принять гигабайты информации, впитать и дать им новую жизнь. Новые непонятные слова и смыслы разрывали мозг отсутствием понимания и связанности с прошлым опытом. Работа по двенадцать часов в день, выматывающий график без отдыха. Требования сделать все и вчера прилетали отовсюду, наслаивались друг на друга, перемешивались и давили. Всегда очень жестко давили временем, которого не хватало ни на что.
Его дети и жена захлебывались, но выкарабкивались, проваливались, но вытягивали себя каким-то невероятным усилием воли и труда. Они бились с неизвестностью и новым миром с отчаянностью и упорством самураев. Они сообщали ему об очередных битвах не в паузах между ними, а в паузах между вздохами. Им не было тяжело. Он вообще не понимал, как они выживают.
Его сердце разрывалось от жалости и боли, но они с женой договорились, что не будут говорить с детьми про то, насколько это сложно, не будут допускать мысль о жалости к себе или о невозможности выбранного пути. И они не говорили об этом даже друг с другом. Напоминали о том, что все делается правильно, что количество перейдёт в качество, и эта страшная лавина станет сначала быстрой, но понятной рекой, а потом любимым озером или бухтой. Но каждый день давался ему очередным шрамом на сердце, кровоточащей раной, ощущением беспомощной обреченности оттого, что этот тяжелый бой приходится вести им, а ему досталось тяжкое бремя смотреть и не иметь возможности принять удар на себя. Трудно быть отцом.
Каждые две недели он прилетал к ним. Вроде на два дня, но по факту видел детей пару часов, а потом они ныряли в омут учебы и пропадали там. В эти два часа он старался влить в них эликсир жизни, энергию и страсть, любовь и добро. Они разговаривали, шутили, обнимались. А потом они вставали и убегали делать очередную работу, запредельно сложную для этих маленьких детей.
Они с женой о чем-то говорили, еще больше о чем-то молчали. Он чувствовал, как тяжело жене оттого, что тяжело детям. А потом, уже перед самым самолетом вспоминали, как много они не успели друг другу сказать.
И он снова улетал, а они втроем бились где-то далеко на севере с новой и неизвестной жизнью за право остаться.
Так продолжалось несколько месяцев. А потом они неожиданно прилетели аж на две недели. Счастье обнять любимых омрачалось только этим сроком, громко и четко отсчитывавшим секунды до неминуемого расставания. И эти две недели прошли мгновенно, как пролетает восторг, когда спрыгиваешь с тарзанки на самом верху и летишь в реку, невесомый и стремительный, и врезаешься в воду, и она бьет тебя по ушам и заливается в нос.
Когда настала пора расставаться вновь, он уже знал, как это все будет. Говорят, прыгать с парашютом гораздо страшнее во второй раз. Вот и сейчас он знал, какой будет звенящая пустота, какой будет гулкой тишина, как им будет тяжело.
Они вернулись за две недели до Нового года, и дом наполнился щебетом и смехом. Началась предновогодняя суета, дом украсили гирлянды и игрушки.
…но ощущения праздника не было и в помине. Он долго не мог понять, что же произошло: ведь и любимая семья была рядом, и самый лучший и добрый праздник приближался.
Но вязкий и тяжелый асфальтовый туман, сковавший все на свете в предновогодний вечер, лучше всего отражал его душу в этот день. Как фары его автомобиля едва могли нащупать расстояние, которое он проезжал за секунду, так и он давал себе команду прожить очередную секунду, не ожидая ничего. Огни елки не разгоняли эту тьму. Глядя на уличный фонарь, он подумал: «Ну и что с того, что Земля сделала очередной круг по своей орбите? Что в этой космологии заставляет надеяться, что загаданные желания сбудутся, а жизнь будет лучше?» Контрольным выстрелом в затылок эта мысль убила его окончательно.
...Утром в доме стоял нежный запах мандаринов и еловых ветвей, напоминавший о незвано прошедшем праздновании. Он мучился последние несколько дней от головной боли и пустоты внутри.
Но сегодня разум был чист. За чашкой чая он вдруг все понял. Он понял, почему его накрыл, связал и поработил темно-сизый сумрак. Во всем был виновен он: календарь! Бессловесно, беззвучно, невидимо этот листок напоминал, что они снова уедут. В каждодневную битву без отдыха, в которой ему уготована участь бессловесного наблюдателя, лишенного права даже на слезы.
Но в тот же миг его пронзил свет осознания, что это больше не тяготит его. Ему больше не страшно! Он видит ясно и четко: они справились! Его девочки справились! За последние дни он увидел своими глазами, что они уже не барахтаются в той ужасной лавине, а уверенно плывут по стремительной реке, лавируя между водоворотам и камнями, и ловкими, точными движениями движутся к большому озеру. У них получилось! Они смогли!
Беспомощное созерцание со стороны осталось в прошлом. Его больше не наполняли тревога, страх, не душили слезы и боль. Его наполняла… радость. Радость, черт возьми! В глазах его девочек не было тревоги или усталости, только веселый азарт и готовность сразиться с будущим за свое место. Чудо, которого он ждал, случилось.
И он улыбнулся. Не губами и даже не глазами. Он впервые за несколько месяцев улыбнулся душой. А впереди еще и Рождество, светлое и доброе. Все же чудеса случаются от простого оборота Земли по своей орбите.
Такого тумана еще никогда не было. Город поднырнул под его пелену, и с моста было видно, как верхние этажи девятиэтажек торчали сквозь это непрозрачное одеяло. В городе не было домов выше 24 этажей, и туманы, ранее окутывавшие город, всегда прятали их целиком. Но этот был, как тонкая непрозрачная пелерина, которую проткнули даже небольшие домики советской постройки. Все, что было ниже этой пелены, утонуло в чем-то сумрачном и вязком.
Сегодняшний туман действительно не походил на прежние молочно-белые облака, нежно растворявшие в себе дома и дороги. Он был совершенно асфальтового цвета. Фары едва могли прогрызть кусок дороги метров пятнадцати перед машиной. От этого вида становилось жутковато. Но вопреки ожиданиям, аварий по пути не было. И даже прежде сложные перекрёстки и развязки были почти свободны, а другие машины проявляли вежливость и аккуратность, словно водители чувствовали в этом свинцовом сумраке потаенную угрозу и ехали домой крадучись и на ощупь.
Приехав домой, он обнаружил, что туман имеет еще одно удивительное свойство – запах. Возле дома он пах лежалыми листьями и уставшим к зиме полем. Хотя отъезжая от офиса, он явственно чувствовал кислый запах выхлопов двигателей и истертой о дорожное полотно резины. Если бы туман начал говорить или транслировать свои мысли напрямую ему в мозг, это не стало бы неожиданностью. Что и говорить, необычно. Особенно для 31 декабря.
В этой предновогодней асфальтовой дымке собралось все, что копилось весь год: тяжесть – невыносимая, вязнущая на всех чреслах тяжесть. К концу года принято подводить его итоги, но в этот раз ничего не хотелось. Ни подводить итоги, ни провожать. Хотелось забыться на несколько дней и вернуться в мир уже другим человеком, и чтобы мир тоже был другим. В общем, хотелось стать куколкой и превратиться в бабочку, видящую мир сплошь из цветов и нектара. И этот туман заворачивал весь мир в непрозрачный кокон.
Его семьи не было несколько месяцев, в течение которых он стоял вахту, как смотритель маяка. Ежедневная рутина, повторяющиеся события и действия. Встал, умылся, приготовил завтрак. Можно даже не смотреть на часы – все сделано вовремя, можно садиться в машину и ехать в офис.
Офис предсказуемо хаотичен и ожидаемо безумен. Если воспринимать все серьезно, но образно, то каждую минуту в офисе взрывалась очередная граната или врывался торнадо. Могло произойти что угодно, как угодно, когда угодно. Но в этом бушующем и клокочущем котле событий он чувствовал себя спокойно и почти счастливо. Он был ловок и изобретателен. Берег своих людей и не щадил врагов. Прикрывал своих и неожиданно атаковал чужих. Видел беспринципность и обман соперников, но сохранял себя в рамках ему понятной порядочности.
«Хаос – это нормальное положение вещей в нашей жизни. Это надо принять», – говорил он своим молодым сотрудникам. «Если не справляешься, бери катану поострее и размахивай быстрее!» – другая поговорка. Ребята смотрели на него, понимающе кивали и потихоньку превращались в роботов. Они отключались от каких-либо споров и обсуждений в курилке. Не перемывали кости коллегам, не жаловались, не просили, не ждали. Просто работали без остановок, как он сам. Работал без остановок, без ненужной трепотни и без лишних эмоций. Встречал каждый шторм так, как будто он здесь всегда стоял ради встречи этой бури, словно маяк на одиноком острове среди беснующегося океана. В конечном итоге все сводилось к тому, что нужно делать все от себя зависящее и не тратить время и силы на попытки понять, когда же настанет конец шторма.
Конец наступал каждый день в 18.00. Не потому что ему было все равно. А потому что он себя заставлял ставить свой боевой дредноут к пирсу, крепкими вантами швартовать к кнехтам и списывать команду на берег. До завтрашнего дня. До девяти утра, когда надо будет вновь врываться в грозу, в бой, в мясорубку.
Но если раньше дома его ждала душа, то теперь просто сменялась работа на дежурство. Дома ничего не взрывалось, не ухало и не падало. Дома было пусто. В витринном манекене было больше жизни и души, чем в его прекрасном, но пустом доме.
Дочки уехали в другой город учиться. Особая программа для одаренных детей, редкий из оставшихся социальных лифтов, в котором еще работали кнопки, и можно было доехать до верхнего этажа сразу, без изнурительной борьбы на каждой ступени лестницы.
Да, чтобы добраться до самого лифта, тоже нужно было пройти изрядный путь по той самой лестнице. Не раз споткнуться и упасть, снова подняться, снова карабкаться. Доказывать, терпеть, набираться сил.
Предавать и делать подлости он не умел, поэтому за свой путь по лестнице ему не было стыдно. Но вот он добрался до заветного лифта, который может вынести наверх, туда, где все по-другому. Но уже не его самого, а его детей.
В общем, это был осознанный и правильный выбор, сделанный вместе с женой. И они уехали все вместе, даже кошка уехала с ними. Чтобы быть вместе и поддерживать друг друга. Чтобы можно было после многочасовых занятий поиграть с пушистой и игривой зверюшкой, ласковой и пугливой. Чтоб можно было обнять маму, помолчать с бабушкой. Чтобы кто-то был рядом, чтобы не все под ответственность этих 14-летних девочек.
Они уехали и увезли с собой его душу. Он даже не сразу это понял. Неся каждодневную вахту по проживанию дней, заполняя время мыслями, он не сразу понял, что он остался пустым. Нет, он мог улыбаться и разговаривать с коллегами, есть, пить, водить машину. Мог работать (работать он мог всегда, в любой степени усталости и при любом напряжении).
Мог много чего. Не мог испытывать теплоту внутри. Ту особую теплоту, которую он раньше не оформлял словами, но неизменно ощущал при взгляде на свою семью: жену и дочек. Она проникала в каждый уголок его души, заглядывала в самые замученные постоянным прокручиванием мысли и потаенные страхи, и они растворялись от этой теплоты.
Эта теплота его меняла. Он чувствовал себя бессмертным. Потому что такое не может умереть. Ведь никогда не может умереть абсолютный свет, абсолютное добро. В такие вещи ему не нужно было верить – он их испытывал.
…И вот тепло ушло. По его согласию и даже по его воле. И не с кем спорить про то, насколько это правильно. Не о чем говорить. Так было надо для них. Второй раз в жизни он сам отрезал от себя кусок души. Своими руками. Потому что так было надо.
Когда-то давно он так сильно чувствовал своих дочек, что затмил собой маму. Вот как-то неожиданно для него самого. Он физически ощущал их мысли и чувства лучше всех на свете. Щемящее счастье в груди само вибрировало в такт с их настроением, мыслями, с их первыми открытиями и зарождавшимся сознанием. Он мог бы общаться с ними без слов и говорил больше для того, чтобы они учились говорить. Он мог в темноте по дыханию, по неуловимому шороху точно знать, кто из них улыбается. Не было на свете ничего важнее близняшек. Не было на свете ничего вообще, кроме его дочек.
Но это было неправильно. Он заслонил собой маму. Стал для них всем, а мама потеряла то право, которое ей было дано с момента их рождения. У него были дети, но не стало жены. У детей был он, но не было мамы. У жены не было ничего.
Надо было что-то делать. Надо. У девочек должна быть мама. А папа у них будет всегда. Он станет другим – не богом, а наставником, не солнцем, а ориентиром, звездой, указывающей путь. И он своими руками перерезал те невидимые нити, которые связывали его с дочками, и отступил. Так – правильно. Но очень больно.
И случилось чудо. Отказавшись от самого важного в своей жизни, он получил еще больше. Это вернуло ему жену, вернуло детям маму. Это сделало его семью семьей. Он научился видеть детей глазами его жены, через нее. Теперь он не просто любил свою жену, он жил ею, так же, как жил детьми. Она была продолжением его души, его сердцем. Она наполняла смыслом его жизнь. С ней он не становился лучшей версией себя, он становился собой, целым и наполненным, безмятежным и уверенным, веселым и звонким, сильным и добрым.
А дети не потеряли папу. Они вернули себе маму. Так что это было правильное слово «надо». И он никогда не жалел об этом. Просто не любил вспоминать.
Сейчас его снова догнало это слово – «надо». Обычно он просто к нему относился: надо – значит, надо. И ничего в этом нет. Просто задача, которая поставлена жизнью, на которую он найдет силы и ресурсы, придумает способ и сделает. Просто очередной подход к спортивному снаряду. Как всегда, на зачет, иногда – на оценку. Просто выложится и сделает так, как надо. Потому что надо.
Но в этот раз слово «надо» оказалось подлым и изворотливым. Поймав в ловушку логических доводов, исключив из уравнения какие-либо неизвестные, оно привело к единственному возможному выводу: он остается, чтобы работать, они уезжают, чтобы учиться. Всё.
В правильности этого решения он убеждал жену, нежно и трогательно переживавшую за то, что он будет есть и как будет стирать свою одежду. Он убеждал детей, которые смотрели на него бездонным глазами маленьких птенцов, не понимающих призыв родителей расправить крылья и вылететь из милого гнезда. Он убедил себя легко, быстро и технично, как проходит апперкот матерого боксера в поединке с новичком.
Он погрузил их в машину и привез в другой город, поселил в новую квартиру и… уехал.
А потом были дни, каждый тяжелее другого. Они знали, что будет непросто. Но никто не предполагал, что будет так. Новые знания не хлынули на его детей, а обрушились, как лавина, требуя принять гигабайты информации, впитать и дать им новую жизнь. Новые непонятные слова и смыслы разрывали мозг отсутствием понимания и связанности с прошлым опытом. Работа по двенадцать часов в день, выматывающий график без отдыха. Требования сделать все и вчера прилетали отовсюду, наслаивались друг на друга, перемешивались и давили. Всегда очень жестко давили временем, которого не хватало ни на что.
Его дети и жена захлебывались, но выкарабкивались, проваливались, но вытягивали себя каким-то невероятным усилием воли и труда. Они бились с неизвестностью и новым миром с отчаянностью и упорством самураев. Они сообщали ему об очередных битвах не в паузах между ними, а в паузах между вздохами. Им не было тяжело. Он вообще не понимал, как они выживают.
Его сердце разрывалось от жалости и боли, но они с женой договорились, что не будут говорить с детьми про то, насколько это сложно, не будут допускать мысль о жалости к себе или о невозможности выбранного пути. И они не говорили об этом даже друг с другом. Напоминали о том, что все делается правильно, что количество перейдёт в качество, и эта страшная лавина станет сначала быстрой, но понятной рекой, а потом любимым озером или бухтой. Но каждый день давался ему очередным шрамом на сердце, кровоточащей раной, ощущением беспомощной обреченности оттого, что этот тяжелый бой приходится вести им, а ему досталось тяжкое бремя смотреть и не иметь возможности принять удар на себя. Трудно быть отцом.
Каждые две недели он прилетал к ним. Вроде на два дня, но по факту видел детей пару часов, а потом они ныряли в омут учебы и пропадали там. В эти два часа он старался влить в них эликсир жизни, энергию и страсть, любовь и добро. Они разговаривали, шутили, обнимались. А потом они вставали и убегали делать очередную работу, запредельно сложную для этих маленьких детей.
Они с женой о чем-то говорили, еще больше о чем-то молчали. Он чувствовал, как тяжело жене оттого, что тяжело детям. А потом, уже перед самым самолетом вспоминали, как много они не успели друг другу сказать.
И он снова улетал, а они втроем бились где-то далеко на севере с новой и неизвестной жизнью за право остаться.
Так продолжалось несколько месяцев. А потом они неожиданно прилетели аж на две недели. Счастье обнять любимых омрачалось только этим сроком, громко и четко отсчитывавшим секунды до неминуемого расставания. И эти две недели прошли мгновенно, как пролетает восторг, когда спрыгиваешь с тарзанки на самом верху и летишь в реку, невесомый и стремительный, и врезаешься в воду, и она бьет тебя по ушам и заливается в нос.
Когда настала пора расставаться вновь, он уже знал, как это все будет. Говорят, прыгать с парашютом гораздо страшнее во второй раз. Вот и сейчас он знал, какой будет звенящая пустота, какой будет гулкой тишина, как им будет тяжело.
Они вернулись за две недели до Нового года, и дом наполнился щебетом и смехом. Началась предновогодняя суета, дом украсили гирлянды и игрушки.
…но ощущения праздника не было и в помине. Он долго не мог понять, что же произошло: ведь и любимая семья была рядом, и самый лучший и добрый праздник приближался.
Но вязкий и тяжелый асфальтовый туман, сковавший все на свете в предновогодний вечер, лучше всего отражал его душу в этот день. Как фары его автомобиля едва могли нащупать расстояние, которое он проезжал за секунду, так и он давал себе команду прожить очередную секунду, не ожидая ничего. Огни елки не разгоняли эту тьму. Глядя на уличный фонарь, он подумал: «Ну и что с того, что Земля сделала очередной круг по своей орбите? Что в этой космологии заставляет надеяться, что загаданные желания сбудутся, а жизнь будет лучше?» Контрольным выстрелом в затылок эта мысль убила его окончательно.
...Утром в доме стоял нежный запах мандаринов и еловых ветвей, напоминавший о незвано прошедшем праздновании. Он мучился последние несколько дней от головной боли и пустоты внутри.
Но сегодня разум был чист. За чашкой чая он вдруг все понял. Он понял, почему его накрыл, связал и поработил темно-сизый сумрак. Во всем был виновен он: календарь! Бессловесно, беззвучно, невидимо этот листок напоминал, что они снова уедут. В каждодневную битву без отдыха, в которой ему уготована участь бессловесного наблюдателя, лишенного права даже на слезы.
Но в тот же миг его пронзил свет осознания, что это больше не тяготит его. Ему больше не страшно! Он видит ясно и четко: они справились! Его девочки справились! За последние дни он увидел своими глазами, что они уже не барахтаются в той ужасной лавине, а уверенно плывут по стремительной реке, лавируя между водоворотам и камнями, и ловкими, точными движениями движутся к большому озеру. У них получилось! Они смогли!
Беспомощное созерцание со стороны осталось в прошлом. Его больше не наполняли тревога, страх, не душили слезы и боль. Его наполняла… радость. Радость, черт возьми! В глазах его девочек не было тревоги или усталости, только веселый азарт и готовность сразиться с будущим за свое место. Чудо, которого он ждал, случилось.
И он улыбнулся. Не губами и даже не глазами. Он впервые за несколько месяцев улыбнулся душой. А впереди еще и Рождество, светлое и доброе. Все же чудеса случаются от простого оборота Земли по своей орбите.

Наталья КАЛИНИНА
Родилась и живу в Вологде. По образованию экономист. Работала в банковской сфере с 1996 г. и завершила карьеру в апреле 2024 г. в должности заместителя управляющего. Свой первый роман «Только вперёд» написала в 2006 г. В 2007-2009 гг. появились на свет ещё два: «Ну, почему так?», «Может, это любовь?». В мае 2023 г. участвовала на площадке Литрес в конкурсе «Любовь между строк» с новым романом «На перекрёстке миров», который попал в лонг-лист. В августе 2023 г. закончила работу над романом «Будущее впереди». В октябре 2023 г. принимала участие в конкурсе «КНИГАсветное путешествие» в номинации «Курортный роман-любовный роман» с романом «В жизни случается всё» на площадке Литрес. Роман вошёл в шорт-лист. В марте 2024 г. завершен роман с азиатским сеттингом «Закрой дверь в прошлое, и наступит будущее». Был опубликован в июле 2024 г. через издательство «Четыре» на Литрес. Сейчас активно принимаю участие в различных проектах, конкурсах и сборниках.
Родилась и живу в Вологде. По образованию экономист. Работала в банковской сфере с 1996 г. и завершила карьеру в апреле 2024 г. в должности заместителя управляющего. Свой первый роман «Только вперёд» написала в 2006 г. В 2007-2009 гг. появились на свет ещё два: «Ну, почему так?», «Может, это любовь?». В мае 2023 г. участвовала на площадке Литрес в конкурсе «Любовь между строк» с новым романом «На перекрёстке миров», который попал в лонг-лист. В августе 2023 г. закончила работу над романом «Будущее впереди». В октябре 2023 г. принимала участие в конкурсе «КНИГАсветное путешествие» в номинации «Курортный роман-любовный роман» с романом «В жизни случается всё» на площадке Литрес. Роман вошёл в шорт-лист. В марте 2024 г. завершен роман с азиатским сеттингом «Закрой дверь в прошлое, и наступит будущее». Был опубликован в июле 2024 г. через издательство «Четыре» на Литрес. Сейчас активно принимаю участие в различных проектах, конкурсах и сборниках.
ЗАБОР
– У нас украли забор! – сообщила я бухгалтерам, входя в офис.
По вытянутым лицам подчиненных поняла, что они были не в курсе, и поэтому я сделала вывод, что случилось это недавно. А точнее, в промежутке между нашими приходами на работу с разницей примерно минут двадцать.
Здание находилось рядом с опасным перекрестком, где часто происходили аварии. К нам часто обращались за помощью, но помочь полиции мы не могли, так как все видеозаписи хранились у арендодателя. И от него знали, что часть камер на здании – просто муляжи, поэтому попались ли злоумышленники в объектив какой-нибудь камеры, уверенности не было.
С вызовом полиции повременила, решив разобраться самостоятельно.
Я вышла к цветнику, еще раз оглядев его со всех сторон. От забора осталась лишь пара щепок, покрытых бирюзовой краской. Этот цвет ни с каким другим не перепутаю, потому что лично выбирала и утверждала его в момент заказа.
Семь лет назад мы арендовали офис в этом здании и переехали сюда всей своей дружной командой. Здание находилось в исторической части города, где собственников обязывали соблюдать архитектуру и придерживаться деревянного зодчества. Наше здание было новоделом, но фасад обшит блок-хаусом, поэтому из общего архитектурного стиля не выделялось.
Я, как любитель-цветовод, сразу обратила внимание, что перед зданием есть небольшой газончик. Но в марте, когда мы переехали, на нем возвышалась гора грязного снега, образовавшаяся от чистки тротуара.
К концу мая газончик порос лопухами, лебедой и колючками, да еще был забросан окурками и всяким мусором. Собственник отказался заниматься благоустройством прилегающей к зданию территории, поэтому за дело взялась я.
Перекопала поросшую сорняками землю. Заказала газель плодородной земли и своими руками растаскала ее по будущему цветнику. Привезла с дачи цветы и оформила цветник в стиле «Постоянно цветущий». Чтобы его не топтали проходящие мимо не слишком трезвые посетители из ресторана по соседству, требовалось поставить забор. А чтоб не нарушать архитектурную гармонию, это должен был быть резной палисад.
На размещенное объявление в течение полутора месяцев никто не откликался. Обзвон объявлений тоже не давал результатов: для бригады такой объем слишком мал, для одного человека – слишком велик.
К концу июня цветник разросся и заиграл разноцветными красками. Но из-за отсутствия забора цветы частенько были переломаны, потому что в них валялись пьяные посетители из ближайшего ресторана.
С помощью знакомых нашла специалиста по дереву, который нам все-таки сделал аккуратный деревянный заборчик. Весь офис участвовал в его установке, потому что забор был составной. Мы даже торжественно отметили это событие.
Радость наша длилась недолго, через пару дней забор сломали. По оставленным опечаткам подошв на краске цвета бирюзы было понятно, что баловались подростки.
Через неделю специалист, который нам делал забор, отремонтировал его. А я со спокойной душой ушла в двухнедельный отпуск.
В первое послеотпускное утро села в автобус, предвкушая увидеть плоды своего труда. Сейчас время цветения лилий, лилейников и ромашек. Весной специально отщипнула деленки от сортовых цветов, чтобы было пооригинальнее, а не как у всех.
На полпути мне позвонила бухгалтер.
– Галя, привет.
– Привет, Лен, – ответила я, думая, что она сейчас отпросится по своим делам.
– Ты на работу едешь? – уточнила она.
– Да, – удивилась я ее вопросу, глянув в телефоне на календарь, дабы убедиться, что ничего не перепутала.
– В автобусе?
– Ага.
– Стоишь или сидишь?
Этот вопрос меня насторожил, так как нутром чуяла, что дальше последует неприятная новость.
– Сижу.
– В обморок только не упади. Но твоего цветника больше нет.
– В смысле? – после небольшой паузы уточнила я. Мне сложно было представить: как пятиметровый в длину и полутораметровый в ширину газон исчез? В асфальт что ли закатали?
– Я пришла на работу. Возле здания – гора земли, а в том месте, где был цветник, все разрыто и зияет дыра. Забор вон, валяется по всей округе...
«Очень интересное кино. И кто такое посмел сделать?» – пронеслось в голове.
Подойдя к зданию, воочию увидела картину, описанную бухгалтером.
Пока фиксировала ущерб на телефон, ко мне вышел Владимир – руководитель учебного центра, раньше нас на пару лет арендовавший свой офис на втором этаже. Мужчине было в районе пятидесяти. Он любил эстетику и красоту, но не располагал знаниями по цветоводству. В тот период, когда я создавала цветник, был в отъезде, а когда вернулся и увидел, что там наведен порядок, подошел и предложил свою помощь. Он был одним из тех, кто помог выхаживать саженцы в аномальную жару, поливая их каждый день.
После приветствия друг друга, он мне сообщил, что в субботу был на работе. В районе обеда услышал звук работающей техники и вышел узнать, в чем дело. Пока спускался, гастарбайтеры уже успели сломать забор и частично выкопать цветы.
– Эй! – окликнул он рабочих, варварским способом уничтожавших то, что было посажено в начале лета. – Это же люди сажали, ухаживали. Что ж вы делаете?!
На ломаном русском те сообщили, что их нанял арендодатель для прокладки ливневки, так как организация, ютившаяся в цоколе, после сильных ливней затапливалась.
Владимир принес картонные коробки и те цветы, которые еще можно было спасти, переложил в них. Он провел меня под лестницу и показал, куда их спрятал. Мое сердце облилось кровью, глядя на поникшие головы, ломаные стволы и оголенные корни.
Работы по обустройству дренажа велись почти месяц. За это время еще некоторая часть цветов не выдержала испытание и сгинула.
Забор в это время был отправлен в ремонт, так как рабочие с ним не церемонились, сломав все, что можно было сломать.
К концу августа яма была закопана, остатки цветов, переживших апокалипсис, вернулись в цветник, забор поставлен на место.
Все семь зим забор обязательно с какой-нибудь стороны ломала снегоуборочная машина. Наш заборчик ну такой маленький, аккуратненький, никому не мешает и, тем не менее, даже под толстым сугробом машина все равно умудрялась задеть его. Каждую весну во время субботника и наведения марафета в цветнике я заменяла поломанные доски, выправляла погнутые крепления-держатели и полностью красила, чтоб выглядел, «как новый».
Фотографии нашего цветника часто мелькали на страницах различных местных публикаций. Четыре года подряд цветник с заборчиком выигрывал конкурс «Городской цветник» в номинации «Самый лучший». Начали с третьего места и закончили первым. Сертификат об участии, один на двоих, вручали мне и арендодателю. Позже арендодателя я приглашала в офис на чаепитие.
Этой зимой снега было очень много. По заданию администрации города снегоуборочная машина ездила часто, поэтому забору досталось особенно сильно – был сломан целый пролет и две несущие палки.
Весну и лето я опять была в поиске человека для ремонта забора. Подумывала даже заменить его на железный. Одна из компаний, куда я обратилась, выставила смету, сумма которой составила половину дохода нашего офиса за два месяца. Мою идею заменить забор в складчину ни арендодатель, ни другие офисы не поддержали, поэтому от идеи отказалась.
И вот сегодня утром наш бирюзовый бедолага бесследно исчез.
Я проверила мусорные контейнеры и выдвинутую подчиненными гипотезу, что его унесли бомжи на костер. На улице стояла 30-градусная жара, какой костер? На всякий случай прошлась вдоль берега реки – ни бомжей, ни забора.
В ресторане человека, который заведует записями камер видеонаблюдения, до обеда не будет.
Прошлась по другим офисам и ближайшим зданиям с вопросом: «Не видел ли кто-то кого-нибудь, уносящего забор?» Но все пожимали плечами и удивленно переспрашивали: «А там был забор?» Как будто этого забора и в помине не было.
Собралась уже заявлять в полицию, но перед этим позвонила контактному лицу арендодателя, который раз в месяц заносил нам счета для оплаты аренды.
– Сергей, добрый день. Это Галина Самойлова, директор ООО «Парус» с Кузина, пять. Подскажите, пожалуйста: камеры, выходящие на Кузина, рабочие?
– Добрый день. А что случилось?
– Нам бы посмотреть запись, кто забор украл.
– Никто его не украл. Нам вчера, как собственникам, позвонили из администрации города и погрозили пальцем, что в исторической части города вид прилегающей территории в ненадлежащем состоянии, и мы сегодня утром забор разобрали и увезли.
– Ну а нам сказать об этом? Так-то это наше имущество…
– Вы его установили по собственной инициативе и без согласования с собственником, а значит, незаконно.
Я только развела руками – вот и твори добро, и создавай красоту, тебя еще и пинком под зад за это.
– У нас украли забор! – сообщила я бухгалтерам, входя в офис.
По вытянутым лицам подчиненных поняла, что они были не в курсе, и поэтому я сделала вывод, что случилось это недавно. А точнее, в промежутке между нашими приходами на работу с разницей примерно минут двадцать.
Здание находилось рядом с опасным перекрестком, где часто происходили аварии. К нам часто обращались за помощью, но помочь полиции мы не могли, так как все видеозаписи хранились у арендодателя. И от него знали, что часть камер на здании – просто муляжи, поэтому попались ли злоумышленники в объектив какой-нибудь камеры, уверенности не было.
С вызовом полиции повременила, решив разобраться самостоятельно.
Я вышла к цветнику, еще раз оглядев его со всех сторон. От забора осталась лишь пара щепок, покрытых бирюзовой краской. Этот цвет ни с каким другим не перепутаю, потому что лично выбирала и утверждала его в момент заказа.
Семь лет назад мы арендовали офис в этом здании и переехали сюда всей своей дружной командой. Здание находилось в исторической части города, где собственников обязывали соблюдать архитектуру и придерживаться деревянного зодчества. Наше здание было новоделом, но фасад обшит блок-хаусом, поэтому из общего архитектурного стиля не выделялось.
Я, как любитель-цветовод, сразу обратила внимание, что перед зданием есть небольшой газончик. Но в марте, когда мы переехали, на нем возвышалась гора грязного снега, образовавшаяся от чистки тротуара.
К концу мая газончик порос лопухами, лебедой и колючками, да еще был забросан окурками и всяким мусором. Собственник отказался заниматься благоустройством прилегающей к зданию территории, поэтому за дело взялась я.
Перекопала поросшую сорняками землю. Заказала газель плодородной земли и своими руками растаскала ее по будущему цветнику. Привезла с дачи цветы и оформила цветник в стиле «Постоянно цветущий». Чтобы его не топтали проходящие мимо не слишком трезвые посетители из ресторана по соседству, требовалось поставить забор. А чтоб не нарушать архитектурную гармонию, это должен был быть резной палисад.
На размещенное объявление в течение полутора месяцев никто не откликался. Обзвон объявлений тоже не давал результатов: для бригады такой объем слишком мал, для одного человека – слишком велик.
К концу июня цветник разросся и заиграл разноцветными красками. Но из-за отсутствия забора цветы частенько были переломаны, потому что в них валялись пьяные посетители из ближайшего ресторана.
С помощью знакомых нашла специалиста по дереву, который нам все-таки сделал аккуратный деревянный заборчик. Весь офис участвовал в его установке, потому что забор был составной. Мы даже торжественно отметили это событие.
Радость наша длилась недолго, через пару дней забор сломали. По оставленным опечаткам подошв на краске цвета бирюзы было понятно, что баловались подростки.
Через неделю специалист, который нам делал забор, отремонтировал его. А я со спокойной душой ушла в двухнедельный отпуск.
В первое послеотпускное утро села в автобус, предвкушая увидеть плоды своего труда. Сейчас время цветения лилий, лилейников и ромашек. Весной специально отщипнула деленки от сортовых цветов, чтобы было пооригинальнее, а не как у всех.
На полпути мне позвонила бухгалтер.
– Галя, привет.
– Привет, Лен, – ответила я, думая, что она сейчас отпросится по своим делам.
– Ты на работу едешь? – уточнила она.
– Да, – удивилась я ее вопросу, глянув в телефоне на календарь, дабы убедиться, что ничего не перепутала.
– В автобусе?
– Ага.
– Стоишь или сидишь?
Этот вопрос меня насторожил, так как нутром чуяла, что дальше последует неприятная новость.
– Сижу.
– В обморок только не упади. Но твоего цветника больше нет.
– В смысле? – после небольшой паузы уточнила я. Мне сложно было представить: как пятиметровый в длину и полутораметровый в ширину газон исчез? В асфальт что ли закатали?
– Я пришла на работу. Возле здания – гора земли, а в том месте, где был цветник, все разрыто и зияет дыра. Забор вон, валяется по всей округе...
«Очень интересное кино. И кто такое посмел сделать?» – пронеслось в голове.
Подойдя к зданию, воочию увидела картину, описанную бухгалтером.
Пока фиксировала ущерб на телефон, ко мне вышел Владимир – руководитель учебного центра, раньше нас на пару лет арендовавший свой офис на втором этаже. Мужчине было в районе пятидесяти. Он любил эстетику и красоту, но не располагал знаниями по цветоводству. В тот период, когда я создавала цветник, был в отъезде, а когда вернулся и увидел, что там наведен порядок, подошел и предложил свою помощь. Он был одним из тех, кто помог выхаживать саженцы в аномальную жару, поливая их каждый день.
После приветствия друг друга, он мне сообщил, что в субботу был на работе. В районе обеда услышал звук работающей техники и вышел узнать, в чем дело. Пока спускался, гастарбайтеры уже успели сломать забор и частично выкопать цветы.
– Эй! – окликнул он рабочих, варварским способом уничтожавших то, что было посажено в начале лета. – Это же люди сажали, ухаживали. Что ж вы делаете?!
На ломаном русском те сообщили, что их нанял арендодатель для прокладки ливневки, так как организация, ютившаяся в цоколе, после сильных ливней затапливалась.
Владимир принес картонные коробки и те цветы, которые еще можно было спасти, переложил в них. Он провел меня под лестницу и показал, куда их спрятал. Мое сердце облилось кровью, глядя на поникшие головы, ломаные стволы и оголенные корни.
Работы по обустройству дренажа велись почти месяц. За это время еще некоторая часть цветов не выдержала испытание и сгинула.
Забор в это время был отправлен в ремонт, так как рабочие с ним не церемонились, сломав все, что можно было сломать.
К концу августа яма была закопана, остатки цветов, переживших апокалипсис, вернулись в цветник, забор поставлен на место.
Все семь зим забор обязательно с какой-нибудь стороны ломала снегоуборочная машина. Наш заборчик ну такой маленький, аккуратненький, никому не мешает и, тем не менее, даже под толстым сугробом машина все равно умудрялась задеть его. Каждую весну во время субботника и наведения марафета в цветнике я заменяла поломанные доски, выправляла погнутые крепления-держатели и полностью красила, чтоб выглядел, «как новый».
Фотографии нашего цветника часто мелькали на страницах различных местных публикаций. Четыре года подряд цветник с заборчиком выигрывал конкурс «Городской цветник» в номинации «Самый лучший». Начали с третьего места и закончили первым. Сертификат об участии, один на двоих, вручали мне и арендодателю. Позже арендодателя я приглашала в офис на чаепитие.
Этой зимой снега было очень много. По заданию администрации города снегоуборочная машина ездила часто, поэтому забору досталось особенно сильно – был сломан целый пролет и две несущие палки.
Весну и лето я опять была в поиске человека для ремонта забора. Подумывала даже заменить его на железный. Одна из компаний, куда я обратилась, выставила смету, сумма которой составила половину дохода нашего офиса за два месяца. Мою идею заменить забор в складчину ни арендодатель, ни другие офисы не поддержали, поэтому от идеи отказалась.
И вот сегодня утром наш бирюзовый бедолага бесследно исчез.
Я проверила мусорные контейнеры и выдвинутую подчиненными гипотезу, что его унесли бомжи на костер. На улице стояла 30-градусная жара, какой костер? На всякий случай прошлась вдоль берега реки – ни бомжей, ни забора.
В ресторане человека, который заведует записями камер видеонаблюдения, до обеда не будет.
Прошлась по другим офисам и ближайшим зданиям с вопросом: «Не видел ли кто-то кого-нибудь, уносящего забор?» Но все пожимали плечами и удивленно переспрашивали: «А там был забор?» Как будто этого забора и в помине не было.
Собралась уже заявлять в полицию, но перед этим позвонила контактному лицу арендодателя, который раз в месяц заносил нам счета для оплаты аренды.
– Сергей, добрый день. Это Галина Самойлова, директор ООО «Парус» с Кузина, пять. Подскажите, пожалуйста: камеры, выходящие на Кузина, рабочие?
– Добрый день. А что случилось?
– Нам бы посмотреть запись, кто забор украл.
– Никто его не украл. Нам вчера, как собственникам, позвонили из администрации города и погрозили пальцем, что в исторической части города вид прилегающей территории в ненадлежащем состоянии, и мы сегодня утром забор разобрали и увезли.
– Ну а нам сказать об этом? Так-то это наше имущество…
– Вы его установили по собственной инициативе и без согласования с собственником, а значит, незаконно.
Я только развела руками – вот и твори добро, и создавай красоту, тебя еще и пинком под зад за это.
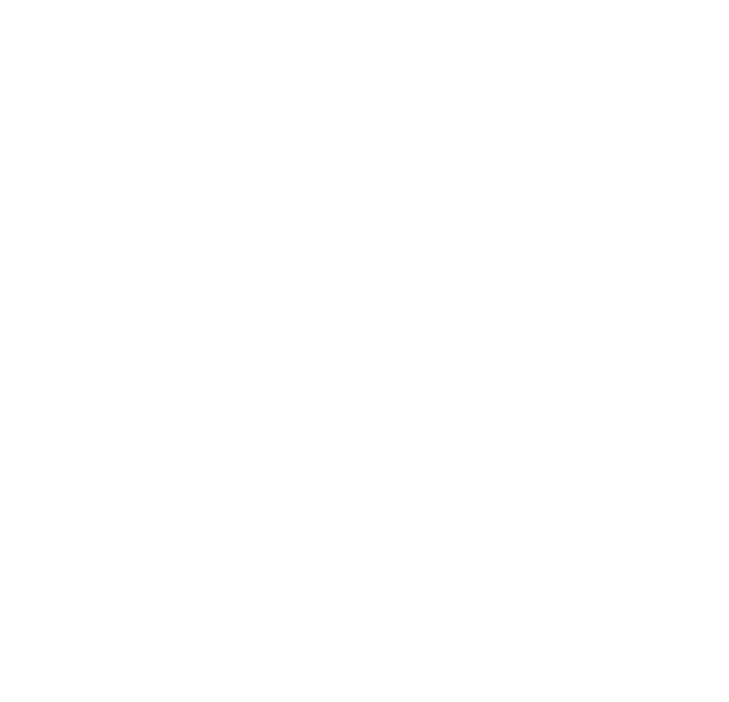
Дмитрий ЖДАНОВ
Родился в городе Фурманов Ивановской области в 1997 году. Как автор дебютировал в 2020 году с книгой «Слабый пол». В 2024 году опубликовал рассказ «Как Жорик храбрым стал» в ежегодном альманахе «Против шерсти».
Родился в городе Фурманов Ивановской области в 1997 году. Как автор дебютировал в 2020 году с книгой «Слабый пол». В 2024 году опубликовал рассказ «Как Жорик храбрым стал» в ежегодном альманахе «Против шерсти».
НОВОСЕЛЬЕ*
*«Новоселье» – одна глава (отрывок) из рассказа «В Фурманове +25°»
Истомин прошел по Новому мосту и оказался на Социалистической улице. Она представляла собой хоть и не крутой, но очень затяжной подъем, восхождение на который осложнялось пекущим солнцем и июльской жарой.
Слева по улице стоял Дом Торговли. За двадцать семь лет, сколько себя помнил Истомин, это здание абсолютно не изменилось. Справа по улице тянулся красный отвал фабричного здания, точнее, нескольких зданий, склеенных между собой. За ними стоял памятник Фурманову, обгаженный голубями, но даже в таком виде излучающий уверенность и гордость! Проходя мимо него, Истомин спросил себя: «Какую нужно прожить жизнь, каким нужно быть человеком, что бы в честь тебя назвали город?»
Истомин поднялся выше по улице мимо отделения полиции, паспортного стола и огромного здания администрации, построенного в характерной советской архитектуре. Наконец он добрался до центральной аллеи! Истомин любил эту аллею и считал ее символом города.
Стройные ряды тополей, создающие своей пышной листвой прохладный островок тени, уходили куда-то за линию горизонта. Дорожка, выложенная плиткой, цветы в клумбах, убранные газоны, отсутствие мусора и, самое главное, людей вселяли в Истомина чувство спокойствия и удовлетворения!
Он сел на лавку. Осмотрелся вокруг, чтобы убедиться в своем одиночестве и только после этого позволил себе закурить. Истомин откинулся на спинку скамейки. Сделал первый затяг и выдохнул облако дыма. Ветер, нежно играя листьями деревьев, тут же унес от лица Истомина ядовитые пары, позволив ему наслаждаться свежим воздухом.
Истомин просидел на скамейке тридцать минут. Он опаздывал на так называемое новоселье, но не испытывал никакого чувства вины. Истомин неспешно поднялся с лавочки и устремился мимо здания центрального отделения почты в жилой двор, состоявший из трех четырехэтажек.
Двор сильно отличался от аллеи. Тут не было цветов и красивой тротуарной плитки. Несмотря на жару и отсутствие дождей, на утоптанной земле в углу одного из домов лежала сырая грязь. Как будто из отстойника вычерпали всю воду, оставив только влажное месиво из пыли, глины и перегнивших отходов. У Истомина промелькнула мысль, что сюда сливают воду из помойных ведер. Он тут же отверг ее. «Какие помойные ведра? Сейчас везде есть канализация! И даже тут!» – сказал он сам себе.
Дома были построены в тридцатые годы прошлого столетия из того же красного кирпича, что и фабрика, мимо стен которой совсем недавно проходил Истомин. Ему почему-то казалось, что эти довоенные хижины похожи на стариков при смерти. Деревянные окна с битыми стеклами и серой древесиной, проявляющейся сквозь белую, грязную, треснувшую краску, напоминали глаза старой бабушки, такие же морщинистые и уставшие от жизни. Из открытых сквозных подъездов несло мочой и пивом, а еще прелым запахом сырости и плесени. Таким запахом наполняется маршрутка, когда в нее заходит еле передвигающийся старик с тростью.
Над козырьком подъезда, в который зашел Истомин, красовалась надпись: «Алена из 7 школы бл...»; дальше – неразборчиво. «Бедная Алена из 7 школы», – подумал он.
* * *
В подъезде перегорели лампочки, а окна были настолько грязные, что практически не пропускали естественного света. В темноте между первым и вторым этажами Истомин наступил на что-то липкое. Посветив вспышкой телефона, он обнаружил лужу крепкого алкоголя и рассыпанные отсыревшие чипсы.
Наконец он добрался до нужной ему квартиры. Тяжелая массивная железная дверь, откосы которой украшала свежая монтажная пена, не могла полностью заглушить звуки музыки, доносившиеся из-за нее. Он дернул ручку, потянул на себя, дверь поддалась. Истомин на носочках перешагнул через гору обуви, стоявшую в проходе. Разулся, кроссовки постарался затолкнуть как можно дальше в угол, чтобы никто не видел, как сильно у него изодрана внутренняя прокладка на пятках.
Тут в проходе появилась Ника. «Привет! Что опаздываешь? – сказала она, пытаясь перекричать музыку. – Давай, проходи за стол!.. Антон, Никита пришел! Иди, встреть гостя!» В проходе появился крупный парень на голову выше Истомина в спортивном трико с растянутыми коленками и майке, натянутой поверх живота, придававшего фигуре Антона некую женственность, что, впрочем, вполне компенсировалось под ноль подстриженным черепом и огромными кулаками.
– Здорова, друже! – сказал Антон и, обняв Истомина, слегка приподнял его над полом.
– Здорова! Подарочек тебе на карту перевел!
– Спасибо! Видел, даже открыточку прикрепил! Раньше мне только мать всякие картинки присылала, а теперь вот и ты начал! – засмеялся Антон. – Ну пойдем, что ли, штрафную бахнем!
Они зашли в комнату, где толпа людей встретила их одобрительными возгласами. Штрафную Истомина поддержали все, после чего начался разговор о ремонте.
Комната, в которой проходило застолье, не была в ужасном состоянии, но уже требовала ремонта. Отклеивающиеся в некоторых местах обои, стертый рисунок линолеума и грязь на стенах резко контрастировали с новой блестящей кухней и ванной комнатой. На пластиковых табуретках, купленных в супермаркете по акции, на старом пружинном диване и кресле расположилось восемь человек, не считая двух маленьких детей.
* * *
Духота битком забитой комнаты ударила по вискам сильнее, чем алкоголь, выпитый на голодный желудок. Истомин резко ощутил пот, который накапливался на его теле все это время и теперь, как будто бы из лейки полившийся по спине. Тело в секунду стало липким. Чувство, что на шее висят комья грязи и вот-вот отвалятся огромными кусками, заставляло Истомина вытирать пот ладонью, после рассматривая жирные пальцы на предмет грязи. Пальцы были чистыми. Выпили еще по стопке. Ника поставила чистую тарелку перед Истоминым, но есть в такой духоте было невыносимо.
– Пошли покурим! – предложил Денис, ткнув Истомина в плечо. Для Никиты это было спасение. Даже тридцатиградусная жара улицы в тот момент была освежающей прохладой. Он тут же соскочил с табуретки и направился к выходу; часы, висящие на стене, показывали три часа двадцать минут.
Они вышли из подъезда с другой стороны дома в отреставрированный сквер, тянувшийся от памятника Горбунову к центральному рынку. Сквер был уложен точно такой же плиткой, как и аллея, наверное, был ее продолжением или ответвлением. Он идеально вписывался в тон старых домов, стоявших по обе его стороны с одной лишь оговоркой: сами дома были слишком неухоженными для него. Здания стояли как будто слегка пристыженные за свой хоть и аристократический, но явно неряшливый вид. Они напоминали героя русской классики, одетого в красивый дворянский фрак, рукава которого были так сильно засалены, что блестели.
Как только молодые люди вышли из подъезда, сразу свернули направо и, пройдя вдоль стены дома, спрятались за углом. В кустах уже отцветшей сирени стояла неприметная лавка, они сели. Каждый достал свои сигареты.
– Ты сегодня как? У Наташи? – спросил Истомин Дениса.
– Нет, у нее сегодня корпоратив. Поехали своим змеиным отрядом на зеленую.
– А ты что не с ними? Или там без семьи?
– Ты че, издеваешься? Я ей какая, на хрен, семья? Ты что-то путаешь!
– Ну да, наверно.
В этот момент появился Антон:
– Ну что, мы сегодня в «Рай» идем? Мы долго у меня все равно не просидим! Нике завтра на работу, первый день после декрета! Надо выспаться!
– Я – минус! Сразу говорю. У меня еще планы на вечер! – сказал Истомин.
– Ну, понятно! Этот как всегда! К своей любимой, подальше от глаз друзей-алкашей! – завыл Антон.
Истомин не стал отвечать, делая вид, что не расслышал претензию. Злоба, резко вспыхнувшая внутри него, подобралась к горлу и давила на кадык.
– Ты почем кабинку-то душевую брал? – вдруг включился в разговор возникший из ниоткуда Сергей.
– За сорок с небольшим, – ответил Антон.
– Блин, а че раньше-то не мог сказать мне, я бы тебе, блин, лучше нашел бы! Вот, на ВБ за тридцатку есть: тут и массаж, и, смотри, гидроизоляция…Или вот эта! Ну да, пятьдесят две тысячи, но зато…
Все это Сергей говорил, тыкая в экран телефона и судорожно водя пальцами по гаджету, пытаясь вызвать заинтересованность Антона. Хотя самому Антону было абсолютно наплевать. Он уже купил кабинку и не понимал, к чему все эти рассуждения. Истомин, докуривший свою сигарету, пытался вспомнить хоть одну покупку в жизни, аналог которой, только лучшего качества, тут же не предложил бы Сергей. На ум не пришло ни одной!
Антона от мучительной пытки показа ненужных товаров спас Денис, спросивший его о дальнейших планах:
– У вас что-то осталось по деньгам, будете дальше ремонт делать или как?
– Ты что, шутишь – какие деньги? Нам маткапитала на кухню-то не хватило, а ты говоришь – ремонт! Пришлось еще кредит брать, чтобы это доделать.
– А сколько сейчас маткапитал?
– Грубо говоря, шестьсот тысяч. Но ты не забывай, что нам его помогла вывести подружка Истомина: и ей пришлось еще двадцатку отстегнуть.
– Она мне не подружка! Хотя раньше она на маткапитал всяких пьяниц разводила, и как вы с ней связались, я не знаю!
– Нам ее посоветовали, чтобы самим не заморачиваться!
– Это вообще законно? – спросил Денис
– Хрен его знает! – ответил Антон.
* * *
К семи часам вечера все были в сильнейшем опьянении. Сергей с Антоном сидели в кресле в обнимку. Сергей твердил Антону:
– И все-таки ты дурак! Ты дурак! Ты мог четыре года назад взять в нормальном доме трешку и жить припеваючи! А ты купил себе эту вонючую Шкоду! На кой она тебе нужна была? Мотор ты на ней поменял, коробку поменял!
– Ничего, что ты мне сам ту Шкоду тогда нашел?!
– Так Шкода-то хорошая была, что ты? Ты меня слушаешь? Я тебе говорю, что машину тебе тогда в принципе брать не надо было! Надо было брать квартиру, была бы своя квартира в нормальном доме, а тут что? Одни алкаши, а Денис вон, сейчас ногами под доски в подъезде провалился!
– Эти алкаши скоро все сдохнут или в стариков превратятся, и все будет нормально, а квартира эта уже официально моя. Я ее купил на маткапитал! Кстати, на который я и ремонт сделал, так-то!
– Ремонт? Кухня и душевая – это не ремонт всей квартиры! А, да: вы еще дверь поставили! Конечно, мамка Никина вам хорошо помогла! Считай, подарила! То, что вы сделали ремонт после того как хату переписали, это правильно, а то выгнала бы она вас из новой квартиры!
– Ты что такое про мою мать говоришь? – включилась Ника. – Она нам подарила квартиру! Могла бы и свою долю с маткапитала попросить! А она нам и квартиру переписала, и деньги помогла вывести! Не купи мы эту квартиру, жили бы в ней до самой старости, и никогда бы она нас не выгнала! Мама бы так не поступила.
– Да я же не говорю, что она бы так поступила, я говорю, что могла бы так сделать.
– Твоя мамаша та еще… – включился Антон. К этому моменту он уже двадцать минут держал стопку в руке, не решаясь ее выпить. Голова его была опущена к полу, поднять ее ему стоило бы всех оставшихся сил.
– А ты не офигел ли, Баранов, так про мою мать говорить? Ты бы на свою посмотрел!
– Ты мою мать не трогай, а то я за себя не ручаюсь!
– Да пошел ты … придурок.
– Вообще, конечно, мать моя – это полный… – спустя время обратился Антон к сидевшему рядом с ними Денису. – Мы ей Кристинку на днях привезли, оставили посидеть, так она напилась при ней. Нет, я понимаю, я мелкий был, она квасила, мужиков в дом водила. Но внучка! Тебе доверили чужого ребенка, твою внучку: ну не побухай день! Или скажи, что не возьмешь, что хочешь выпить. Так нет! Она наобещает, что пить не будет, а вечером нажрется, а нам вот что делать? Она и сейчас, сука, в запое.
– Так у вас ребенок-то у Никиных что ли? – спросил Истомин, сидевший за столом напротив.
– Хрен! Эти на морях отдыхают, им не до внучки. С моей мамкой она. Я уж так сказал, что она в запое. Неделю уже не пьет. Мужик этот ее новый (тоже, сука, алконавт!) уехал на вахту; она вроде просыхает, пока его нет. Лишь бы нового не привела никого, а то и с ним в загул уйдет.
* * *
К девяти вечера в квартире играла «Ария», и абсолютно все пытались попасть в ноты, подпевая Кипелову. Малыши отдалились от пьяных взрослых, сели в самом дальнем углу комнаты и собирали конструктор, стараясь не привлекать к себе внимание. Это были дети Юли и Сергея.
У Антона зазвонил телефон, он взял трубку, ничего не произнося. После встал и вышел на улицу. Во дворе его ждал младший брат с ребенком на руках.
– Ты что, с Кристиной? – спросил его Антон.
– Мать напилась! Я заезжал к ней за деньгами, а там опять притон какой-то! Крис одна лежала, я ее забрал. Бери, короче, а то я дозвониться не мог тебе целый час, а там тоже не оставить.
– Подожди, куда я ее возьму! У нас праздник, там все пьют. Куда я ее?
– Ты говорил, что Нике завтра на работу! – начиная злиться, ответил Рома.
– Да она уже тоже в дрова, она, вон, с девками собирается в Белые Росы гулять.
– Ну, она пусть гуляет, ты ребенка забери!
– Бл…! Ты видишь, я какой? Я еле стою, забери к себе ребенка, что ты фигней страдаешь. Что, твоя не может посидеть?
– Она может, только с хрена ли должна это делать?
Голос Ромы задрожал от злости. Ладони сжались в кулаки. Он с детства привык отстаивать свою правоту физической силой, но поднять руку на брата не решался. Рома понимал, что разговаривать с Антоном бесполезно, но слова неконтролируемым потоком вырывались из его рта.
– Она вам че, нянька? Постоянно такая фигня. Вы что творите, вам ребенка не жалко? Я ее сегодня забираю последний раз, больше меня об этом не проси! У меня тоже есть своя жизнь, я тоже хочу заняться своими делами, а не бегать от тебя к матери и следить, у кого из алкашей ребенок сейчас обсирается-сидит. Уроды вы, бл…!
Рома сел на переднее пассажирское сиденье машины, ожидавшей его с заведенным двигателем, громко хлопнул дверью. Маленькая двухлетняя девочка ловко перепрыгнула с заднего ряда ему на руки. Как ни странно, она не тянулась к отцу. Кристина повисла на дяде. Она была словно кукла в руках этого молодого 21-летнего парня. За рулем старой десятки сидела молодая девушка, явно негативно настроенная к Антону и всем к нему причастным лицам.
Все это происходило у входа в подъезд, поэтому Истомин, уходивший в этот момент на еще вчера назначенную встречу, стал невольным свидетелем семейной драмы. В тени подъезда он дослушал разговор до конца, а после вынырнул в сквер с другой стороны дома и направился в сторону аллеи.
Антон сплюнул в подъезде и вполголоса сказал: «Урод!»
*«Новоселье» – одна глава (отрывок) из рассказа «В Фурманове +25°»
Истомин прошел по Новому мосту и оказался на Социалистической улице. Она представляла собой хоть и не крутой, но очень затяжной подъем, восхождение на который осложнялось пекущим солнцем и июльской жарой.
Слева по улице стоял Дом Торговли. За двадцать семь лет, сколько себя помнил Истомин, это здание абсолютно не изменилось. Справа по улице тянулся красный отвал фабричного здания, точнее, нескольких зданий, склеенных между собой. За ними стоял памятник Фурманову, обгаженный голубями, но даже в таком виде излучающий уверенность и гордость! Проходя мимо него, Истомин спросил себя: «Какую нужно прожить жизнь, каким нужно быть человеком, что бы в честь тебя назвали город?»
Истомин поднялся выше по улице мимо отделения полиции, паспортного стола и огромного здания администрации, построенного в характерной советской архитектуре. Наконец он добрался до центральной аллеи! Истомин любил эту аллею и считал ее символом города.
Стройные ряды тополей, создающие своей пышной листвой прохладный островок тени, уходили куда-то за линию горизонта. Дорожка, выложенная плиткой, цветы в клумбах, убранные газоны, отсутствие мусора и, самое главное, людей вселяли в Истомина чувство спокойствия и удовлетворения!
Он сел на лавку. Осмотрелся вокруг, чтобы убедиться в своем одиночестве и только после этого позволил себе закурить. Истомин откинулся на спинку скамейки. Сделал первый затяг и выдохнул облако дыма. Ветер, нежно играя листьями деревьев, тут же унес от лица Истомина ядовитые пары, позволив ему наслаждаться свежим воздухом.
Истомин просидел на скамейке тридцать минут. Он опаздывал на так называемое новоселье, но не испытывал никакого чувства вины. Истомин неспешно поднялся с лавочки и устремился мимо здания центрального отделения почты в жилой двор, состоявший из трех четырехэтажек.
Двор сильно отличался от аллеи. Тут не было цветов и красивой тротуарной плитки. Несмотря на жару и отсутствие дождей, на утоптанной земле в углу одного из домов лежала сырая грязь. Как будто из отстойника вычерпали всю воду, оставив только влажное месиво из пыли, глины и перегнивших отходов. У Истомина промелькнула мысль, что сюда сливают воду из помойных ведер. Он тут же отверг ее. «Какие помойные ведра? Сейчас везде есть канализация! И даже тут!» – сказал он сам себе.
Дома были построены в тридцатые годы прошлого столетия из того же красного кирпича, что и фабрика, мимо стен которой совсем недавно проходил Истомин. Ему почему-то казалось, что эти довоенные хижины похожи на стариков при смерти. Деревянные окна с битыми стеклами и серой древесиной, проявляющейся сквозь белую, грязную, треснувшую краску, напоминали глаза старой бабушки, такие же морщинистые и уставшие от жизни. Из открытых сквозных подъездов несло мочой и пивом, а еще прелым запахом сырости и плесени. Таким запахом наполняется маршрутка, когда в нее заходит еле передвигающийся старик с тростью.
Над козырьком подъезда, в который зашел Истомин, красовалась надпись: «Алена из 7 школы бл...»; дальше – неразборчиво. «Бедная Алена из 7 школы», – подумал он.
* * *
В подъезде перегорели лампочки, а окна были настолько грязные, что практически не пропускали естественного света. В темноте между первым и вторым этажами Истомин наступил на что-то липкое. Посветив вспышкой телефона, он обнаружил лужу крепкого алкоголя и рассыпанные отсыревшие чипсы.
Наконец он добрался до нужной ему квартиры. Тяжелая массивная железная дверь, откосы которой украшала свежая монтажная пена, не могла полностью заглушить звуки музыки, доносившиеся из-за нее. Он дернул ручку, потянул на себя, дверь поддалась. Истомин на носочках перешагнул через гору обуви, стоявшую в проходе. Разулся, кроссовки постарался затолкнуть как можно дальше в угол, чтобы никто не видел, как сильно у него изодрана внутренняя прокладка на пятках.
Тут в проходе появилась Ника. «Привет! Что опаздываешь? – сказала она, пытаясь перекричать музыку. – Давай, проходи за стол!.. Антон, Никита пришел! Иди, встреть гостя!» В проходе появился крупный парень на голову выше Истомина в спортивном трико с растянутыми коленками и майке, натянутой поверх живота, придававшего фигуре Антона некую женственность, что, впрочем, вполне компенсировалось под ноль подстриженным черепом и огромными кулаками.
– Здорова, друже! – сказал Антон и, обняв Истомина, слегка приподнял его над полом.
– Здорова! Подарочек тебе на карту перевел!
– Спасибо! Видел, даже открыточку прикрепил! Раньше мне только мать всякие картинки присылала, а теперь вот и ты начал! – засмеялся Антон. – Ну пойдем, что ли, штрафную бахнем!
Они зашли в комнату, где толпа людей встретила их одобрительными возгласами. Штрафную Истомина поддержали все, после чего начался разговор о ремонте.
Комната, в которой проходило застолье, не была в ужасном состоянии, но уже требовала ремонта. Отклеивающиеся в некоторых местах обои, стертый рисунок линолеума и грязь на стенах резко контрастировали с новой блестящей кухней и ванной комнатой. На пластиковых табуретках, купленных в супермаркете по акции, на старом пружинном диване и кресле расположилось восемь человек, не считая двух маленьких детей.
* * *
Духота битком забитой комнаты ударила по вискам сильнее, чем алкоголь, выпитый на голодный желудок. Истомин резко ощутил пот, который накапливался на его теле все это время и теперь, как будто бы из лейки полившийся по спине. Тело в секунду стало липким. Чувство, что на шее висят комья грязи и вот-вот отвалятся огромными кусками, заставляло Истомина вытирать пот ладонью, после рассматривая жирные пальцы на предмет грязи. Пальцы были чистыми. Выпили еще по стопке. Ника поставила чистую тарелку перед Истоминым, но есть в такой духоте было невыносимо.
– Пошли покурим! – предложил Денис, ткнув Истомина в плечо. Для Никиты это было спасение. Даже тридцатиградусная жара улицы в тот момент была освежающей прохладой. Он тут же соскочил с табуретки и направился к выходу; часы, висящие на стене, показывали три часа двадцать минут.
Они вышли из подъезда с другой стороны дома в отреставрированный сквер, тянувшийся от памятника Горбунову к центральному рынку. Сквер был уложен точно такой же плиткой, как и аллея, наверное, был ее продолжением или ответвлением. Он идеально вписывался в тон старых домов, стоявших по обе его стороны с одной лишь оговоркой: сами дома были слишком неухоженными для него. Здания стояли как будто слегка пристыженные за свой хоть и аристократический, но явно неряшливый вид. Они напоминали героя русской классики, одетого в красивый дворянский фрак, рукава которого были так сильно засалены, что блестели.
Как только молодые люди вышли из подъезда, сразу свернули направо и, пройдя вдоль стены дома, спрятались за углом. В кустах уже отцветшей сирени стояла неприметная лавка, они сели. Каждый достал свои сигареты.
– Ты сегодня как? У Наташи? – спросил Истомин Дениса.
– Нет, у нее сегодня корпоратив. Поехали своим змеиным отрядом на зеленую.
– А ты что не с ними? Или там без семьи?
– Ты че, издеваешься? Я ей какая, на хрен, семья? Ты что-то путаешь!
– Ну да, наверно.
В этот момент появился Антон:
– Ну что, мы сегодня в «Рай» идем? Мы долго у меня все равно не просидим! Нике завтра на работу, первый день после декрета! Надо выспаться!
– Я – минус! Сразу говорю. У меня еще планы на вечер! – сказал Истомин.
– Ну, понятно! Этот как всегда! К своей любимой, подальше от глаз друзей-алкашей! – завыл Антон.
Истомин не стал отвечать, делая вид, что не расслышал претензию. Злоба, резко вспыхнувшая внутри него, подобралась к горлу и давила на кадык.
– Ты почем кабинку-то душевую брал? – вдруг включился в разговор возникший из ниоткуда Сергей.
– За сорок с небольшим, – ответил Антон.
– Блин, а че раньше-то не мог сказать мне, я бы тебе, блин, лучше нашел бы! Вот, на ВБ за тридцатку есть: тут и массаж, и, смотри, гидроизоляция…Или вот эта! Ну да, пятьдесят две тысячи, но зато…
Все это Сергей говорил, тыкая в экран телефона и судорожно водя пальцами по гаджету, пытаясь вызвать заинтересованность Антона. Хотя самому Антону было абсолютно наплевать. Он уже купил кабинку и не понимал, к чему все эти рассуждения. Истомин, докуривший свою сигарету, пытался вспомнить хоть одну покупку в жизни, аналог которой, только лучшего качества, тут же не предложил бы Сергей. На ум не пришло ни одной!
Антона от мучительной пытки показа ненужных товаров спас Денис, спросивший его о дальнейших планах:
– У вас что-то осталось по деньгам, будете дальше ремонт делать или как?
– Ты что, шутишь – какие деньги? Нам маткапитала на кухню-то не хватило, а ты говоришь – ремонт! Пришлось еще кредит брать, чтобы это доделать.
– А сколько сейчас маткапитал?
– Грубо говоря, шестьсот тысяч. Но ты не забывай, что нам его помогла вывести подружка Истомина: и ей пришлось еще двадцатку отстегнуть.
– Она мне не подружка! Хотя раньше она на маткапитал всяких пьяниц разводила, и как вы с ней связались, я не знаю!
– Нам ее посоветовали, чтобы самим не заморачиваться!
– Это вообще законно? – спросил Денис
– Хрен его знает! – ответил Антон.
* * *
К семи часам вечера все были в сильнейшем опьянении. Сергей с Антоном сидели в кресле в обнимку. Сергей твердил Антону:
– И все-таки ты дурак! Ты дурак! Ты мог четыре года назад взять в нормальном доме трешку и жить припеваючи! А ты купил себе эту вонючую Шкоду! На кой она тебе нужна была? Мотор ты на ней поменял, коробку поменял!
– Ничего, что ты мне сам ту Шкоду тогда нашел?!
– Так Шкода-то хорошая была, что ты? Ты меня слушаешь? Я тебе говорю, что машину тебе тогда в принципе брать не надо было! Надо было брать квартиру, была бы своя квартира в нормальном доме, а тут что? Одни алкаши, а Денис вон, сейчас ногами под доски в подъезде провалился!
– Эти алкаши скоро все сдохнут или в стариков превратятся, и все будет нормально, а квартира эта уже официально моя. Я ее купил на маткапитал! Кстати, на который я и ремонт сделал, так-то!
– Ремонт? Кухня и душевая – это не ремонт всей квартиры! А, да: вы еще дверь поставили! Конечно, мамка Никина вам хорошо помогла! Считай, подарила! То, что вы сделали ремонт после того как хату переписали, это правильно, а то выгнала бы она вас из новой квартиры!
– Ты что такое про мою мать говоришь? – включилась Ника. – Она нам подарила квартиру! Могла бы и свою долю с маткапитала попросить! А она нам и квартиру переписала, и деньги помогла вывести! Не купи мы эту квартиру, жили бы в ней до самой старости, и никогда бы она нас не выгнала! Мама бы так не поступила.
– Да я же не говорю, что она бы так поступила, я говорю, что могла бы так сделать.
– Твоя мамаша та еще… – включился Антон. К этому моменту он уже двадцать минут держал стопку в руке, не решаясь ее выпить. Голова его была опущена к полу, поднять ее ему стоило бы всех оставшихся сил.
– А ты не офигел ли, Баранов, так про мою мать говорить? Ты бы на свою посмотрел!
– Ты мою мать не трогай, а то я за себя не ручаюсь!
– Да пошел ты … придурок.
– Вообще, конечно, мать моя – это полный… – спустя время обратился Антон к сидевшему рядом с ними Денису. – Мы ей Кристинку на днях привезли, оставили посидеть, так она напилась при ней. Нет, я понимаю, я мелкий был, она квасила, мужиков в дом водила. Но внучка! Тебе доверили чужого ребенка, твою внучку: ну не побухай день! Или скажи, что не возьмешь, что хочешь выпить. Так нет! Она наобещает, что пить не будет, а вечером нажрется, а нам вот что делать? Она и сейчас, сука, в запое.
– Так у вас ребенок-то у Никиных что ли? – спросил Истомин, сидевший за столом напротив.
– Хрен! Эти на морях отдыхают, им не до внучки. С моей мамкой она. Я уж так сказал, что она в запое. Неделю уже не пьет. Мужик этот ее новый (тоже, сука, алконавт!) уехал на вахту; она вроде просыхает, пока его нет. Лишь бы нового не привела никого, а то и с ним в загул уйдет.
* * *
К девяти вечера в квартире играла «Ария», и абсолютно все пытались попасть в ноты, подпевая Кипелову. Малыши отдалились от пьяных взрослых, сели в самом дальнем углу комнаты и собирали конструктор, стараясь не привлекать к себе внимание. Это были дети Юли и Сергея.
У Антона зазвонил телефон, он взял трубку, ничего не произнося. После встал и вышел на улицу. Во дворе его ждал младший брат с ребенком на руках.
– Ты что, с Кристиной? – спросил его Антон.
– Мать напилась! Я заезжал к ней за деньгами, а там опять притон какой-то! Крис одна лежала, я ее забрал. Бери, короче, а то я дозвониться не мог тебе целый час, а там тоже не оставить.
– Подожди, куда я ее возьму! У нас праздник, там все пьют. Куда я ее?
– Ты говорил, что Нике завтра на работу! – начиная злиться, ответил Рома.
– Да она уже тоже в дрова, она, вон, с девками собирается в Белые Росы гулять.
– Ну, она пусть гуляет, ты ребенка забери!
– Бл…! Ты видишь, я какой? Я еле стою, забери к себе ребенка, что ты фигней страдаешь. Что, твоя не может посидеть?
– Она может, только с хрена ли должна это делать?
Голос Ромы задрожал от злости. Ладони сжались в кулаки. Он с детства привык отстаивать свою правоту физической силой, но поднять руку на брата не решался. Рома понимал, что разговаривать с Антоном бесполезно, но слова неконтролируемым потоком вырывались из его рта.
– Она вам че, нянька? Постоянно такая фигня. Вы что творите, вам ребенка не жалко? Я ее сегодня забираю последний раз, больше меня об этом не проси! У меня тоже есть своя жизнь, я тоже хочу заняться своими делами, а не бегать от тебя к матери и следить, у кого из алкашей ребенок сейчас обсирается-сидит. Уроды вы, бл…!
Рома сел на переднее пассажирское сиденье машины, ожидавшей его с заведенным двигателем, громко хлопнул дверью. Маленькая двухлетняя девочка ловко перепрыгнула с заднего ряда ему на руки. Как ни странно, она не тянулась к отцу. Кристина повисла на дяде. Она была словно кукла в руках этого молодого 21-летнего парня. За рулем старой десятки сидела молодая девушка, явно негативно настроенная к Антону и всем к нему причастным лицам.
Все это происходило у входа в подъезд, поэтому Истомин, уходивший в этот момент на еще вчера назначенную встречу, стал невольным свидетелем семейной драмы. В тени подъезда он дослушал разговор до конца, а после вынырнул в сквер с другой стороны дома и направился в сторону аллеи.
Антон сплюнул в подъезде и вполголоса сказал: «Урод!»

Николай НИБУР
Автор десятка книг самой различной направленности: политический детектив, пост-апокалиптические фантазии, историко-краеведческие изыскания, рассказы о нелегком периоде экономических реформ в России и о простом человеческом общежитии в согласии с окружающей природой. Все эти произведения объединяет тема извечной борьбы Добра и Зла. Член Союза писателей с 2018 года.
Автор десятка книг самой различной направленности: политический детектив, пост-апокалиптические фантазии, историко-краеведческие изыскания, рассказы о нелегком периоде экономических реформ в России и о простом человеческом общежитии в согласии с окружающей природой. Все эти произведения объединяет тема извечной борьбы Добра и Зла. Член Союза писателей с 2018 года.
РОКОВОЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК*
*Отрывок из книги «Para bellum»
1. Долгожданный ребенок
В не такие уж давние времена Великой Отечественной войны, сразу же после долгожданной победы прямо в Германии образовалась обычная семья Антоновых.
Главой новой ячейки советского общества стал боевой гвардейский офицер Иван Антонов, который, несмотря на свою молодость, успел пройти от начала до конца всю войну и потому, можно смело сказать, многое успел повидать в суровых буднях непростой фронтовой жизни.
В первый же месяц войны он восемнадцатилетним пареньком был призван на фронт. Новобранец начал военную службу с подготовки в качестве минометчика и уже в июле сорок первого года вступил в первый бой.
Война – это не только опасность, но еще и тяжелый физический труд.
Полковой 120-миллиметровый миномет ПМ-38 весом более полутонны только на поле битвы доставляется механической или конной тягой. А далее боевому расчету приходится перекатывать его вручную с помощью крепкого словца. И чтобы произвести выстрел, попробуй-ка подтащить к стволу мину весом в один пуд! И не одну – две. Во время огневой подготовки к сражению расчет должен постараться обеспечить заявленную в техническом паспорте скорострельность до 15 выстрелов в минуту!
Уже в августе рядовой Иван Антонов получил ранение. В его красноармейской книжке оно было записано как легкое: «…задеты мягкие ткани 1/3 предплечья левой руки». Восстановление прошло прямо в полевом госпитале, и менее, чем через месяц он продолжил службу в том же стрелковом полку.
А осенью опытный минометчик снова получил ранение, теперь – другой руки, квалифицированное уже как тяжелое («закрытый перелом плечевой кости»). На этот раз лечение проходило в прифронтовом госпитале. Через два с лишним месяца и эта рана успешно зажила. И уже зимой он снова попал на фронт, в другую воинскую часть, выдвигающуюся на защиту столицы нашей Родины.
Ивану Антонову, несмотря на юный возраст, считавшемуся уже опытным воином, было присвоено звание сержанта, и он был определен командиром отделения во взвод батальонной разведки. Вместе со своими товарищами он принял участие в долгожданном наступлении под Москвой.
А в разведке – особый образ военной жизни. За всю холодную зиму сорок первого-сорок второго годов им ни разу не довелось ночевать в доме. В стогу, в амбаре, а чаще – у костра, в лесу на еловом лапнике.
Здесь в сорок втором году Антонов снова был ранен. На сей раз тяжело: «Пулевое ранение правого бедра и правой стороны живота». Самым страшным оказалось то, что разрывная пуля иссекла все внутренние органы.
К счастью, в это время беспорядочное отступление Красной Армии закончилось. Наши войска перешли к наступлению, и стала налаживаться размеренная военная жизнь. Поэтому раненого сержанта Антонова вовремя вывезли с передовой, затем без задержки перевезли в хорошо обустроенный тыловой госпиталь, развернувшийся прямо в Москве. Однако, несмотря на эти благоприятные обстоятельства, надежды на спасение все равно были небольшими. И лишь крепкое природное здоровье помогло тяжелораненому бойцу выжить.
Лечение проходило долго. Только через полгода, уже в сорок третьем году Иван Антонов был готов вернуться в боевой строй. Его направили в дивизию, находившуюся на переформировании. В недавнем наступлении это воинская часть всего за несколько дней ожесточенных боев потеряла более трех четвертей своего состава и была отведена в тыл для комплектования людьми и техникой. Особенно не хватало младшего командного состава. Известно, что в ожесточенной лобовой атаке противник в первую очередь выбивал лейтенантов. Требовалось немедленное обновление.
Фронтовик-ветеран, участвовавший в боях и минометчиком, и разведчиком, выделялся среди остальных неопытных новобранцев поступившего пополнения. К тому же за плечами у Ивана была семилетка! И командование дивизии решило направить боевого сержанта в офицерское училище.
Здесь курсант Иван Антонов прошел ускоренный десятимесячный курс подготовки, и уже в сорок четвертом году новоиспеченный младший лейтенант вернулся в часть, где был назначен командиром взвода.
Он снова воевал. Много раз смерть была рядом, но все-таки лейтенант Антонов снова одним из немногих остался в живых. Он встретил Победу в самом Берлине.
Вот здесь Иван и повстречал свое счастье – девушку Наташу. Она только что окончила московское педагогическое училище и по распределению была направлена в Германию на обучение детей из семей офицерского состава, прибывших к своим мужьям, задержавшимся здесь для восстановления хозяйства побежденной страны. Молодые люди полюбили друг друга и, не откладывая дел в долгий ящик, поженились.
В том же сорок пятом году, когда в Германии еще только начиналась первая волна демобилизации рядового личного состава, фронтовому офицеру Ивану Антонову выпала судьба для прохождения дальнейшей службы вернуться в Советский Союз. А его молодую жену отпустили вместе с мужем.
На прощанье командование наградило героя краткосрочным отпуском. И по пути на новое место службы Антоновы заехали к родителям Ивана – в рабочий уральский поселок. Здесь отец и мать все пять лет неустанно трудились на эвакуированном из Москвы оборонном механическом заводе: отец – в строительном цеху, а мать работала сборщицей оптических приборов.
Сын с орденами и медалями на офицерском кителе навестил своих родителей, порадовал их своим бравым видом и красотою молодой офицерской жены Наташи.
И всем жителям поселка он принес свежий ветер долгожданных перемен. В те послевоенные годы советские люди не могли нарадоваться наступившей мирной жизни и легко переносили неизбежные трудности. Верили, что впереди их всех ждет счастливая судьба.
И не беда, что память о недавней войне еще долго не будет отпускать мысли и дела людей, ее приметы будут проявляться во всем. Отец Ивана еще много лет будет донашивать старую, добротную сержантскую военную форму своего сына. А его мама не скоро переоденется в положенные молодой женщине демисезонное пальто и модные туфли, так и продолжит ходить на завод в телогрейке и тяжелых валенках с резиновыми галошами.
И дети на уроках будут рисовать картины боевых сражений, в которых наши танки и самолеты со звездами на башнях и крыльях неизменно побеждают фашистскую технику со свастикой.
Короткий отпуск закончился быстро, и вскоре Иван Антонов с женой благополучно отбыл к новому месту своей службы, на далекий Крайний Север, оставив землякам смелые надежды и добрые воспоминания.
Жизнь военного человека беспокойная. Переводы, переезды. Долго на одном месте никогда не задерживаешься.
За время прохождения службы офицеру Антонову пришлось несколько раз сменить место своего пребывания. Довелось послужить в самых разных краях нашей необъятной страны. Выпало и на снежных просторах пронизывающим ветрам противостоять, и в пустынях сухой песок с потрескавшихся от жары губ стряхивать. И сквозь заросли густых лесов случалось продираться, и по скалистым горным склонам отчаянно скользить. И везде его сопровождала верная боевая подруга Наталья Алексеевна. Их брак оказался на редкость удачным.
Известно, что в семьях военных всякие неурядицы случаются. И неизбежные ссоры, и скандалы, и супружеские размолвки вплоть до разводов. А причины всегда найдутся. Действительно, в стрессовых условиях армейской жизни не каждый офицер способен удержаться от губительного пьянства. И не каждая жена военнослужащего, мать его детей, может спокойно переносить трудности кочевой неустроенной жизни.
Все не так было у супругов Антоновых. Они ни разу не то что не поссорились, грубого или обидного слова друг другу никогда не сказали. В их семье царили прочный мир и взаимное согласие!
Почему так? Дело заключалось в том, что у Ивана был на удивление покладистый характер. И Наталья – всегда мягкая и уступчивая! А еще, наверное, потому что они просто-напросто сильно любили друг друга.
На каждом новом месте дислокации Иван Антонов заново впрягался в лямку армейской службы. А Наталья Алексеевна приступала к своей неизменной работе школьной учительницей младших классов. Это хорошая профессия для жены офицера, она всегда востребована.
Одна беда преследовала счастливое супружество Антоновых: у них не было детей. То ли Всевышний, пути которого неисповедимы, по какой-то причине не давал им родительской радости. А, может быть, материнское подсознание охраняло Наталью Алексеевну и не позволяло ей заводить ребенка в такой неблагоприятной обстановке.
Долго ли, коротко ли, так прошло почти два десятилетия. И Антоновы в очередной раз прибыли на новое месторасположение. На этот раз офицера перевели в небольшой научный городок. Здесь находилась атомная электростанция – градообразующее предприятие.
Наукоград располагался рядом с большим областным центром Центральной России. Неплохой вариант. Тем более, что срок положенного выхода в отставку был уже не так далек, и скорее всего, этот городок станет последним местом его службы. И тогда после демобилизации семья Антоновых без препятствий сможет остаться здесь на всю оставшуюся жизнь.
И здесь случилось чудо! На радость супругов Антоновых у них наконец-то родился долгожданный сын. Ему дали красивое русское имя Владимир.
Вова, Вовочка, Вовунчик! Так любовно счастливые родители звали своего любимца. Мальчик рос здоровым, веселым и умненьким. Единственный ребенок – безграничное душевное богатство для мамы с папой!
Вечером мама-учительница брала малыша на руки и, покачивая, на память читала стихи:
Не́где, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон...
Малышу эти сказки очень нравились, он изо всех сил старался не уснуть, чтобы слушать и слушать ласковый голос мамочки.
Полноту семейного счастья ограничивало лишь то, что глава семьи много времени вынужден был проводить на службе. Каждый вечер Вовочка упорно ждал возвращения домой своего любимого папы. Но такая радость перепадала ему нечасто. По большей части отец приходил уже за полночь, после отбоя в воинской части. И рано утром он снова спешил в военный городок – к утреннему разводу личного состава.
А если отцу все-таки выпадала редкая возможность вернуться пораньше со службы, он тихо напевал на ушко засыпающему сыну добрые военные песни:
Шел отряд по бережку, шёл издалека,
Шёл под красным знаменем командир полка.
Когда Вовочка немного подрос, он удивлял соседку тетю Катю, по-своему повторяя папины песни:
Три танкиста, три веселых друга,
Эх!.. Кипаж машины боевой!
Родители знали и исполняли все пристрастия мальчика. Так, он любил очень сладкий чай: в чашку просил положить пять ложек сахара! И макароны есть он не соглашался, подавай ему только картошку! И все исполнялось. Ну как не порадовать своего драгоценного сыночка, радость и счастье всей их жизни!
Так в семейной идиллии прошло несколько лет. Вовочка подрос и уже пошел в школу.
А вскоре двадцать пять лет честной службы офицера Антонова закончились. И он, как полагается, вышел в отставку. И, как и ожидалось, семья навсегда поселилась в этом ставшем им родным научном городке.
За годы честной службы офицер Антонов больших звезд на погоны нахватать не сподобился, высоких званий не заслужил и больших командирских должностей не добился. Мягкий характер не позволял ему усердно выслуживаться перед начальством и без оглядки идти по головам своих сослуживцев.
Другой причиной карьерной неудачи был недостаток военного образования. За плечами у Антонова – всего лишь семилетка и ускоренное во время войны обучение в офицерском училище. Поэтому к концу срока службы он оставался лишь капитаном. И только перед самым выходом в отставку ему по негласной армейской традиции присвоили следующее воинское звание: он стал майором.
Полный сил отставник Иван Анатольевич не стал сидеть дома. Он устроился на работу в службу охраны на находящуюся близ городка атомную электростанцию.
Работа на гражданке – это тебе не военная служба! Продолжительность рабочего дня фиксированная, нет никаких длительных учений, сборов. И сейчас у бывшего офицера появилось много свободного времени. И всё его, без остатка счастливый немолодой отец посвящал своей семье! Теперь все вечера и выходные дни он проводил с сыном. Чем они только не занимались!
По выходным дням Антоновы всей семьей гуляли. Летом ходили за грибами-ягодами. Зимой вставали на лыжи. По возвращении домой мама на кухне готовила ужин, а отец с Володей принимались что-нибудь мастерить на балконе. Здесь у мужчин было оборудовано рабочее место: верстак, тиски, набор инструментов. И еще неизвестно, кому больше радости доставляло их совместное творчество!
Например, однажды они взялись сделать деревянную лопату для расчистки снега. Ручку-черенок изготовили из круглой березовой палки (этот сорт древесины очень крепкий). Для лотка выбрали лист не слишком толстой четырехслойной фанеры. Штыковую часть лопаты защитили полоской оцинкованного железа, которую прикрепили к фанерному лотку заклепками.
В качестве деревянного держателя, соединяющего черенок и лоток, подготовили планку-основу из той же прочной березы. Ее закруглили с одной стороны так, чтобы фанера при креплении к ней изогнулась, и лоток получился ёмким. Затем все детали собрали в одно изделие, дополнительно скрепив все места соединения металлическими болтами.
Отец с сыном работали долго, чуть ли не весь выходной день. И старались, прежде всего, всё сделать надежно. В результате их лопата получилась не тяжелой и на редкость удобной. Она была прочной и потом долго служила Вовочке на хоккейном катке.
Так они и жили. Иван Анатольевич работал. Наталья Алексеевна все так же учительствовала. А Вовочка ходил в школу. Учеба давалась ему легко. Особенно арифметика.
2. Школа
В школе у Володи появились товарищи. Среди них попадались и завзятые тихони, и настоящие задиры.
Главным хулиганом в их классе был Сергей Сопелкин. Странная фамилия, вызывающая насмешку. И хотя учителя объясняли, что она, наоборот, почетная, поскольку произошла от названия старинного народного духового музыкального инструмента, одноклассники над ней посмеивались. Но втихомолку, поскольку Серега был сильнее остальных ребят – он пошел в школу с восьми лет, и чуть что не так, запросто мог накостылять по шее!
По этой необычной фамилии, а, может быть, еще и в подтверждение известной мальчишеской привычки ковыряться в носу, одноклассники дали Сереге прозвище Сопля. Конечно, в глаза ему никто не решался произнести это слово. Но в общении одноклассников между собой эта кликуха закрепилась за ним прочно.
Сопля был задирой, он имел привычку обижать девчонок. И лет-то им было немного – что, по большому счету, они понимали в различии между мальчиками и девочками?! Но общающийся в среде старших хулиганов Сопля явно был осведомлен больше других. И в разговорах с одноклассниками-мальчишками он небрежно козырял этими запретными знаниями, а на переменах старался затесаться в девчоночью компанию, чтобы, как он говорил, «лапать» их.
На удивление ребят, сами девчонки на эти бесстыдные посягательства реагировали по-разному. Так, полненькая, курносенькая, вся кругленькая Ира бурно протестовала в ответ на притязания Сереги. Однако было хорошо заметно, что все ее возмущение – явно картинное, и на самом деле перед подругами она не скрывала гордости за то, что ее будущие женские прелести вызывают особый интерес Сереги, уже подающего первые признаки мужчины.
По-другому вела себя ее подруга Анжела Баженова. Она не позволяла Сопле прикасаться к себе.
На голове у Анжелы – пышная шапка русых кудрявых волос. Длинные ресницы и ярко выраженные брови окаймляют большие серые выразительные глаза. Взгляд быстрый, внимательный. Движения рук плавные, округлые. А походка, наоборот, пружинистая, так что юбка школьного платья при ходьбе подпрыгивает.
Еще не понимая, что очень скоро эта девчонка станет первой красавицей в классе, Володя, находясь рядом с ней, испытывал какое-то волнение, смущался. Но Анжела, к счастью, никакого внимания на него не обращала.
Известно, что запретный плод особенно сладок. И Сопля настойчиво стремился добраться до недотроги Анжелы. И однажды она чуть не оказалась жертвой его домогательства. Случайно или капризом непостижимого провидения помехой на пути Сереги в это время оказался Володя.
– Ну-ка, Вовчик, отвали! – самоуверенный дебошир пренебрежительно оттолкнул помешавшего ему, заведомо более слабого одноклассника.
– Что ты сказал?! – Володя не сдержался.
– А чем ты недоволен? – отъявленный задира повернулся и стал бесцеремонно напирать на скромного тихоню, посмевшего ему перечить.
– На, Сопля! Получи! – стиснув зубы, Володя изо всех сил ударил наглеца «под дых»!
Видимо, его удар пришелся вскользь еще и по ребрам и потому оказался особенно болезненным. Он мгновенно охладил пыл Сергея. А в глазах впервые появившегося перед ним противника горел такой яростный огонь решимости, что наглец потерял всю свою развязность. Он понял, что этот псих будет биться до конца!
Но, конечно, так просто сдаться заведомо более слабому однокласснику Сопля не мог.
– Ну, ты, Вовчик, крутой! – снисходительно похлопал он Володю по плечу, таким образом пытаясь свести стычку к шутке.
У него, кажется, неплохо получилось достойно выйти из этого постыдного положения.
Правда, кислая улыбка выдавала Серегу. Было заметно, что на самом деле он здорово струсил. И ему пришлось проглотить явное оскорбление. Никто еще не решался в открытую назвать его этой обидной кличкой. Да и удар был убедительным.
Поэтому для пущего самоутверждения в глазах одноклассников Сопля погрозил увернувшейся от него девчонке.
– А ты, Анжелка, смотри у меня! Я тебя все равно залапаю!
И уже совсем уверенно Сергей отошел в сторону.
– Спасибо, Вова! – Анжела поблагодарила смелого мальчика. – Ты – надежный товарищ, защитил меня.
Володя смутился. Во-первых, вот так, домашним именем «Вовой», его в школе еще никто не называл. А во-вторых, он вовсе даже не собирался заступаться за Анжелу. Он защищал себя, свою мальчишескую честь. Это само собой как-то так получилось, что он выступил в роли отважного спасителя. И, в-третьих, в их классе вообще-то было не принято вести такие высокопарные разговоры между мальчишками и девчонками.
– Я… просто…
Ну как тут не растеряться!
С той поры Анжела стала дружелюбно относиться к нему. Она даже попросила учительницу, чтобы их посадили за одну парту. И Володе поневоле пришлось соблюдать с ней товарищеские отношения. Впрочем, если честно самому себе признаться, это ему очень нравилось. Рядом с девочкой он чувствовал себя повзрослевшим. Как парни-старшеклассники, которые (он видел на перемене) вполне себе уверенно общаются с девушками.
И теперь в разговоре с деликатной умницей вместо сплошного употребления междометий и распространенных словечек общепринятого мальчишеского жаргона Володе приходилось подбирать правильные слова, выстраивать их в гладкие предложения. И неожиданно это ему тоже пришлось по душе: он стал представлять себя скачущим на коне королевичем Елисеем – героем сказки, которую в детстве читала мама-учительница.
Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты…
Здесь Володя подставлял имя своей соседки по парте:
Ты Анжелы молодой?
Я жених ей.
Конечно, в этих своих романтических мыслях он никогда никому не признался бы! Но постепенно Володя становился смелее, переставал смущаться от взглядов Анжелы, невольных прикосновений ее ладоней.
В знакомстве с круглой отличницей было и еще приобретение: оно заключалось в том, что Анжела была очень исполнительной и внимательной ученицей, она и сама очень ответственно относилась к занятиям, а теперь еще стала зорко следить за своим новым товарищем Вовой. Вслед за ней и он невольно стал более аккуратно исполнять все школьные задания.
Глядя на их неожиданно возникшую дружбу, мальчишки класса растерялись. Но, помня безусловную победу Вовчика над главным хулиганом Соплей, они не решались дразнить их женихом и невестой. Подружки Анжелы, казалось бы, тоже должны были дать волю девчачьим пересудам. Но и они оценили рыцарский поступок мальчика и тоже стали охотно с ним общаться.
А Ира, глядя на подругу, с этого дня прекратила вульгарное кокетничество с Сергеем Сопелкиным. И чтобы еще больше подлизаться к Анжеле, она тоже села за одну парту с мальчиком – с Димой Красавиным, которого все в открытую звали Красавчиком. Кроме того, у Иры был еще один расчет: она заранее подготовила себе победу в будущем девичьем соревновании за его внимание.
Вслед за Анжелой и Ирой и другие девчонки тоже стали активнее общаться с мальчиками. Таким образом, в классе установилась необычная атмосфера дружбы и товарищества. Весь учительский коллектив школы приходил в изумление. Их педагогический опыт трещал по швам! Такого они еще не видали!
А Сопля после этого случая пытался продолжить свои нахальные заигрывания с другими девчонками. Но задирать Анжелу он больше не решался. Нет, он, конечно, не боялся Вовчика. Что и говорить, Серега точно был сильнее его. Но, видимо, хулигана удерживала отчаянная неустрашимость этого отличника.
Годы шли, и в шестом классе дети начали взрослеть. В первую очередь девочки – они, как известно, в своем физическом развитии опережают мальчиков. Только более старший Сопля, в отличие от остальных мальчишек, вдруг вытянулся и в плечах стал намного шире отстающих от него мелких ребят. Он забасил, и у него стали пробиваться усики.
К своим одноклассникам – как к девчонкам, так и к мальчишкам – Сергей потерял всякий интерес. Он все глубже завязал в хулиганской уличной компании своих более взрослых «наставников». А в школе совсем перестал учиться. И учителя ничего не могли с ним поделать. Повзрослевший разгильдяй никого не хотел слушать. На уроках за партой сидел, вызывающе развалившись, и даже не открывал тетради и учебники.
В таких трудных случаях педагоги обычно обращаются к помощи родителей нерадивого ученика. Но отец Сергея Сопелкина в это время отбывал очередной тюремный срок. А мать в его отсутствие вела разгульную жизнь, и заполучить ее в школу оказалось делом невозможным. Родительский комитет, осуществляющий надзор за неблагополучными семьями, никак не мог разобраться, как вообще подросток жил без надлежащего пригляда взрослых, и чем, в конце концов, он питался.
Неудивительно, что по результатам года почти по всем предметам Сопля получил двойки и решением педагогического совета школы был оставлен на второй год в шестом классе. На следующий год, когда бывшие одноклассники Сергея перешли в седьмой класс, по ходившим слухам, Сопля совсем перестал ходить в школу. А вскоре Сопелкин в составе взрослой компании оказался вовлеченным в настоящее уголовное преступление и по приговору суда был направлен в детскую исправительную колонию.
*Отрывок из книги «Para bellum»
1. Долгожданный ребенок
В не такие уж давние времена Великой Отечественной войны, сразу же после долгожданной победы прямо в Германии образовалась обычная семья Антоновых.
Главой новой ячейки советского общества стал боевой гвардейский офицер Иван Антонов, который, несмотря на свою молодость, успел пройти от начала до конца всю войну и потому, можно смело сказать, многое успел повидать в суровых буднях непростой фронтовой жизни.
В первый же месяц войны он восемнадцатилетним пареньком был призван на фронт. Новобранец начал военную службу с подготовки в качестве минометчика и уже в июле сорок первого года вступил в первый бой.
Война – это не только опасность, но еще и тяжелый физический труд.
Полковой 120-миллиметровый миномет ПМ-38 весом более полутонны только на поле битвы доставляется механической или конной тягой. А далее боевому расчету приходится перекатывать его вручную с помощью крепкого словца. И чтобы произвести выстрел, попробуй-ка подтащить к стволу мину весом в один пуд! И не одну – две. Во время огневой подготовки к сражению расчет должен постараться обеспечить заявленную в техническом паспорте скорострельность до 15 выстрелов в минуту!
Уже в августе рядовой Иван Антонов получил ранение. В его красноармейской книжке оно было записано как легкое: «…задеты мягкие ткани 1/3 предплечья левой руки». Восстановление прошло прямо в полевом госпитале, и менее, чем через месяц он продолжил службу в том же стрелковом полку.
А осенью опытный минометчик снова получил ранение, теперь – другой руки, квалифицированное уже как тяжелое («закрытый перелом плечевой кости»). На этот раз лечение проходило в прифронтовом госпитале. Через два с лишним месяца и эта рана успешно зажила. И уже зимой он снова попал на фронт, в другую воинскую часть, выдвигающуюся на защиту столицы нашей Родины.
Ивану Антонову, несмотря на юный возраст, считавшемуся уже опытным воином, было присвоено звание сержанта, и он был определен командиром отделения во взвод батальонной разведки. Вместе со своими товарищами он принял участие в долгожданном наступлении под Москвой.
А в разведке – особый образ военной жизни. За всю холодную зиму сорок первого-сорок второго годов им ни разу не довелось ночевать в доме. В стогу, в амбаре, а чаще – у костра, в лесу на еловом лапнике.
Здесь в сорок втором году Антонов снова был ранен. На сей раз тяжело: «Пулевое ранение правого бедра и правой стороны живота». Самым страшным оказалось то, что разрывная пуля иссекла все внутренние органы.
К счастью, в это время беспорядочное отступление Красной Армии закончилось. Наши войска перешли к наступлению, и стала налаживаться размеренная военная жизнь. Поэтому раненого сержанта Антонова вовремя вывезли с передовой, затем без задержки перевезли в хорошо обустроенный тыловой госпиталь, развернувшийся прямо в Москве. Однако, несмотря на эти благоприятные обстоятельства, надежды на спасение все равно были небольшими. И лишь крепкое природное здоровье помогло тяжелораненому бойцу выжить.
Лечение проходило долго. Только через полгода, уже в сорок третьем году Иван Антонов был готов вернуться в боевой строй. Его направили в дивизию, находившуюся на переформировании. В недавнем наступлении это воинская часть всего за несколько дней ожесточенных боев потеряла более трех четвертей своего состава и была отведена в тыл для комплектования людьми и техникой. Особенно не хватало младшего командного состава. Известно, что в ожесточенной лобовой атаке противник в первую очередь выбивал лейтенантов. Требовалось немедленное обновление.
Фронтовик-ветеран, участвовавший в боях и минометчиком, и разведчиком, выделялся среди остальных неопытных новобранцев поступившего пополнения. К тому же за плечами у Ивана была семилетка! И командование дивизии решило направить боевого сержанта в офицерское училище.
Здесь курсант Иван Антонов прошел ускоренный десятимесячный курс подготовки, и уже в сорок четвертом году новоиспеченный младший лейтенант вернулся в часть, где был назначен командиром взвода.
Он снова воевал. Много раз смерть была рядом, но все-таки лейтенант Антонов снова одним из немногих остался в живых. Он встретил Победу в самом Берлине.
Вот здесь Иван и повстречал свое счастье – девушку Наташу. Она только что окончила московское педагогическое училище и по распределению была направлена в Германию на обучение детей из семей офицерского состава, прибывших к своим мужьям, задержавшимся здесь для восстановления хозяйства побежденной страны. Молодые люди полюбили друг друга и, не откладывая дел в долгий ящик, поженились.
В том же сорок пятом году, когда в Германии еще только начиналась первая волна демобилизации рядового личного состава, фронтовому офицеру Ивану Антонову выпала судьба для прохождения дальнейшей службы вернуться в Советский Союз. А его молодую жену отпустили вместе с мужем.
На прощанье командование наградило героя краткосрочным отпуском. И по пути на новое место службы Антоновы заехали к родителям Ивана – в рабочий уральский поселок. Здесь отец и мать все пять лет неустанно трудились на эвакуированном из Москвы оборонном механическом заводе: отец – в строительном цеху, а мать работала сборщицей оптических приборов.
Сын с орденами и медалями на офицерском кителе навестил своих родителей, порадовал их своим бравым видом и красотою молодой офицерской жены Наташи.
И всем жителям поселка он принес свежий ветер долгожданных перемен. В те послевоенные годы советские люди не могли нарадоваться наступившей мирной жизни и легко переносили неизбежные трудности. Верили, что впереди их всех ждет счастливая судьба.
И не беда, что память о недавней войне еще долго не будет отпускать мысли и дела людей, ее приметы будут проявляться во всем. Отец Ивана еще много лет будет донашивать старую, добротную сержантскую военную форму своего сына. А его мама не скоро переоденется в положенные молодой женщине демисезонное пальто и модные туфли, так и продолжит ходить на завод в телогрейке и тяжелых валенках с резиновыми галошами.
И дети на уроках будут рисовать картины боевых сражений, в которых наши танки и самолеты со звездами на башнях и крыльях неизменно побеждают фашистскую технику со свастикой.
Короткий отпуск закончился быстро, и вскоре Иван Антонов с женой благополучно отбыл к новому месту своей службы, на далекий Крайний Север, оставив землякам смелые надежды и добрые воспоминания.
Жизнь военного человека беспокойная. Переводы, переезды. Долго на одном месте никогда не задерживаешься.
За время прохождения службы офицеру Антонову пришлось несколько раз сменить место своего пребывания. Довелось послужить в самых разных краях нашей необъятной страны. Выпало и на снежных просторах пронизывающим ветрам противостоять, и в пустынях сухой песок с потрескавшихся от жары губ стряхивать. И сквозь заросли густых лесов случалось продираться, и по скалистым горным склонам отчаянно скользить. И везде его сопровождала верная боевая подруга Наталья Алексеевна. Их брак оказался на редкость удачным.
Известно, что в семьях военных всякие неурядицы случаются. И неизбежные ссоры, и скандалы, и супружеские размолвки вплоть до разводов. А причины всегда найдутся. Действительно, в стрессовых условиях армейской жизни не каждый офицер способен удержаться от губительного пьянства. И не каждая жена военнослужащего, мать его детей, может спокойно переносить трудности кочевой неустроенной жизни.
Все не так было у супругов Антоновых. Они ни разу не то что не поссорились, грубого или обидного слова друг другу никогда не сказали. В их семье царили прочный мир и взаимное согласие!
Почему так? Дело заключалось в том, что у Ивана был на удивление покладистый характер. И Наталья – всегда мягкая и уступчивая! А еще, наверное, потому что они просто-напросто сильно любили друг друга.
На каждом новом месте дислокации Иван Антонов заново впрягался в лямку армейской службы. А Наталья Алексеевна приступала к своей неизменной работе школьной учительницей младших классов. Это хорошая профессия для жены офицера, она всегда востребована.
Одна беда преследовала счастливое супружество Антоновых: у них не было детей. То ли Всевышний, пути которого неисповедимы, по какой-то причине не давал им родительской радости. А, может быть, материнское подсознание охраняло Наталью Алексеевну и не позволяло ей заводить ребенка в такой неблагоприятной обстановке.
Долго ли, коротко ли, так прошло почти два десятилетия. И Антоновы в очередной раз прибыли на новое месторасположение. На этот раз офицера перевели в небольшой научный городок. Здесь находилась атомная электростанция – градообразующее предприятие.
Наукоград располагался рядом с большим областным центром Центральной России. Неплохой вариант. Тем более, что срок положенного выхода в отставку был уже не так далек, и скорее всего, этот городок станет последним местом его службы. И тогда после демобилизации семья Антоновых без препятствий сможет остаться здесь на всю оставшуюся жизнь.
И здесь случилось чудо! На радость супругов Антоновых у них наконец-то родился долгожданный сын. Ему дали красивое русское имя Владимир.
Вова, Вовочка, Вовунчик! Так любовно счастливые родители звали своего любимца. Мальчик рос здоровым, веселым и умненьким. Единственный ребенок – безграничное душевное богатство для мамы с папой!
Вечером мама-учительница брала малыша на руки и, покачивая, на память читала стихи:
Не́где, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон...
Малышу эти сказки очень нравились, он изо всех сил старался не уснуть, чтобы слушать и слушать ласковый голос мамочки.
Полноту семейного счастья ограничивало лишь то, что глава семьи много времени вынужден был проводить на службе. Каждый вечер Вовочка упорно ждал возвращения домой своего любимого папы. Но такая радость перепадала ему нечасто. По большей части отец приходил уже за полночь, после отбоя в воинской части. И рано утром он снова спешил в военный городок – к утреннему разводу личного состава.
А если отцу все-таки выпадала редкая возможность вернуться пораньше со службы, он тихо напевал на ушко засыпающему сыну добрые военные песни:
Шел отряд по бережку, шёл издалека,
Шёл под красным знаменем командир полка.
Когда Вовочка немного подрос, он удивлял соседку тетю Катю, по-своему повторяя папины песни:
Три танкиста, три веселых друга,
Эх!.. Кипаж машины боевой!
Родители знали и исполняли все пристрастия мальчика. Так, он любил очень сладкий чай: в чашку просил положить пять ложек сахара! И макароны есть он не соглашался, подавай ему только картошку! И все исполнялось. Ну как не порадовать своего драгоценного сыночка, радость и счастье всей их жизни!
Так в семейной идиллии прошло несколько лет. Вовочка подрос и уже пошел в школу.
А вскоре двадцать пять лет честной службы офицера Антонова закончились. И он, как полагается, вышел в отставку. И, как и ожидалось, семья навсегда поселилась в этом ставшем им родным научном городке.
За годы честной службы офицер Антонов больших звезд на погоны нахватать не сподобился, высоких званий не заслужил и больших командирских должностей не добился. Мягкий характер не позволял ему усердно выслуживаться перед начальством и без оглядки идти по головам своих сослуживцев.
Другой причиной карьерной неудачи был недостаток военного образования. За плечами у Антонова – всего лишь семилетка и ускоренное во время войны обучение в офицерском училище. Поэтому к концу срока службы он оставался лишь капитаном. И только перед самым выходом в отставку ему по негласной армейской традиции присвоили следующее воинское звание: он стал майором.
Полный сил отставник Иван Анатольевич не стал сидеть дома. Он устроился на работу в службу охраны на находящуюся близ городка атомную электростанцию.
Работа на гражданке – это тебе не военная служба! Продолжительность рабочего дня фиксированная, нет никаких длительных учений, сборов. И сейчас у бывшего офицера появилось много свободного времени. И всё его, без остатка счастливый немолодой отец посвящал своей семье! Теперь все вечера и выходные дни он проводил с сыном. Чем они только не занимались!
По выходным дням Антоновы всей семьей гуляли. Летом ходили за грибами-ягодами. Зимой вставали на лыжи. По возвращении домой мама на кухне готовила ужин, а отец с Володей принимались что-нибудь мастерить на балконе. Здесь у мужчин было оборудовано рабочее место: верстак, тиски, набор инструментов. И еще неизвестно, кому больше радости доставляло их совместное творчество!
Например, однажды они взялись сделать деревянную лопату для расчистки снега. Ручку-черенок изготовили из круглой березовой палки (этот сорт древесины очень крепкий). Для лотка выбрали лист не слишком толстой четырехслойной фанеры. Штыковую часть лопаты защитили полоской оцинкованного железа, которую прикрепили к фанерному лотку заклепками.
В качестве деревянного держателя, соединяющего черенок и лоток, подготовили планку-основу из той же прочной березы. Ее закруглили с одной стороны так, чтобы фанера при креплении к ней изогнулась, и лоток получился ёмким. Затем все детали собрали в одно изделие, дополнительно скрепив все места соединения металлическими болтами.
Отец с сыном работали долго, чуть ли не весь выходной день. И старались, прежде всего, всё сделать надежно. В результате их лопата получилась не тяжелой и на редкость удобной. Она была прочной и потом долго служила Вовочке на хоккейном катке.
Так они и жили. Иван Анатольевич работал. Наталья Алексеевна все так же учительствовала. А Вовочка ходил в школу. Учеба давалась ему легко. Особенно арифметика.
2. Школа
В школе у Володи появились товарищи. Среди них попадались и завзятые тихони, и настоящие задиры.
Главным хулиганом в их классе был Сергей Сопелкин. Странная фамилия, вызывающая насмешку. И хотя учителя объясняли, что она, наоборот, почетная, поскольку произошла от названия старинного народного духового музыкального инструмента, одноклассники над ней посмеивались. Но втихомолку, поскольку Серега был сильнее остальных ребят – он пошел в школу с восьми лет, и чуть что не так, запросто мог накостылять по шее!
По этой необычной фамилии, а, может быть, еще и в подтверждение известной мальчишеской привычки ковыряться в носу, одноклассники дали Сереге прозвище Сопля. Конечно, в глаза ему никто не решался произнести это слово. Но в общении одноклассников между собой эта кликуха закрепилась за ним прочно.
Сопля был задирой, он имел привычку обижать девчонок. И лет-то им было немного – что, по большому счету, они понимали в различии между мальчиками и девочками?! Но общающийся в среде старших хулиганов Сопля явно был осведомлен больше других. И в разговорах с одноклассниками-мальчишками он небрежно козырял этими запретными знаниями, а на переменах старался затесаться в девчоночью компанию, чтобы, как он говорил, «лапать» их.
На удивление ребят, сами девчонки на эти бесстыдные посягательства реагировали по-разному. Так, полненькая, курносенькая, вся кругленькая Ира бурно протестовала в ответ на притязания Сереги. Однако было хорошо заметно, что все ее возмущение – явно картинное, и на самом деле перед подругами она не скрывала гордости за то, что ее будущие женские прелести вызывают особый интерес Сереги, уже подающего первые признаки мужчины.
По-другому вела себя ее подруга Анжела Баженова. Она не позволяла Сопле прикасаться к себе.
На голове у Анжелы – пышная шапка русых кудрявых волос. Длинные ресницы и ярко выраженные брови окаймляют большие серые выразительные глаза. Взгляд быстрый, внимательный. Движения рук плавные, округлые. А походка, наоборот, пружинистая, так что юбка школьного платья при ходьбе подпрыгивает.
Еще не понимая, что очень скоро эта девчонка станет первой красавицей в классе, Володя, находясь рядом с ней, испытывал какое-то волнение, смущался. Но Анжела, к счастью, никакого внимания на него не обращала.
Известно, что запретный плод особенно сладок. И Сопля настойчиво стремился добраться до недотроги Анжелы. И однажды она чуть не оказалась жертвой его домогательства. Случайно или капризом непостижимого провидения помехой на пути Сереги в это время оказался Володя.
– Ну-ка, Вовчик, отвали! – самоуверенный дебошир пренебрежительно оттолкнул помешавшего ему, заведомо более слабого одноклассника.
– Что ты сказал?! – Володя не сдержался.
– А чем ты недоволен? – отъявленный задира повернулся и стал бесцеремонно напирать на скромного тихоню, посмевшего ему перечить.
– На, Сопля! Получи! – стиснув зубы, Володя изо всех сил ударил наглеца «под дых»!
Видимо, его удар пришелся вскользь еще и по ребрам и потому оказался особенно болезненным. Он мгновенно охладил пыл Сергея. А в глазах впервые появившегося перед ним противника горел такой яростный огонь решимости, что наглец потерял всю свою развязность. Он понял, что этот псих будет биться до конца!
Но, конечно, так просто сдаться заведомо более слабому однокласснику Сопля не мог.
– Ну, ты, Вовчик, крутой! – снисходительно похлопал он Володю по плечу, таким образом пытаясь свести стычку к шутке.
У него, кажется, неплохо получилось достойно выйти из этого постыдного положения.
Правда, кислая улыбка выдавала Серегу. Было заметно, что на самом деле он здорово струсил. И ему пришлось проглотить явное оскорбление. Никто еще не решался в открытую назвать его этой обидной кличкой. Да и удар был убедительным.
Поэтому для пущего самоутверждения в глазах одноклассников Сопля погрозил увернувшейся от него девчонке.
– А ты, Анжелка, смотри у меня! Я тебя все равно залапаю!
И уже совсем уверенно Сергей отошел в сторону.
– Спасибо, Вова! – Анжела поблагодарила смелого мальчика. – Ты – надежный товарищ, защитил меня.
Володя смутился. Во-первых, вот так, домашним именем «Вовой», его в школе еще никто не называл. А во-вторых, он вовсе даже не собирался заступаться за Анжелу. Он защищал себя, свою мальчишескую честь. Это само собой как-то так получилось, что он выступил в роли отважного спасителя. И, в-третьих, в их классе вообще-то было не принято вести такие высокопарные разговоры между мальчишками и девчонками.
– Я… просто…
Ну как тут не растеряться!
С той поры Анжела стала дружелюбно относиться к нему. Она даже попросила учительницу, чтобы их посадили за одну парту. И Володе поневоле пришлось соблюдать с ней товарищеские отношения. Впрочем, если честно самому себе признаться, это ему очень нравилось. Рядом с девочкой он чувствовал себя повзрослевшим. Как парни-старшеклассники, которые (он видел на перемене) вполне себе уверенно общаются с девушками.
И теперь в разговоре с деликатной умницей вместо сплошного употребления междометий и распространенных словечек общепринятого мальчишеского жаргона Володе приходилось подбирать правильные слова, выстраивать их в гладкие предложения. И неожиданно это ему тоже пришлось по душе: он стал представлять себя скачущим на коне королевичем Елисеем – героем сказки, которую в детстве читала мама-учительница.
Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты…
Здесь Володя подставлял имя своей соседки по парте:
Ты Анжелы молодой?
Я жених ей.
Конечно, в этих своих романтических мыслях он никогда никому не признался бы! Но постепенно Володя становился смелее, переставал смущаться от взглядов Анжелы, невольных прикосновений ее ладоней.
В знакомстве с круглой отличницей было и еще приобретение: оно заключалось в том, что Анжела была очень исполнительной и внимательной ученицей, она и сама очень ответственно относилась к занятиям, а теперь еще стала зорко следить за своим новым товарищем Вовой. Вслед за ней и он невольно стал более аккуратно исполнять все школьные задания.
Глядя на их неожиданно возникшую дружбу, мальчишки класса растерялись. Но, помня безусловную победу Вовчика над главным хулиганом Соплей, они не решались дразнить их женихом и невестой. Подружки Анжелы, казалось бы, тоже должны были дать волю девчачьим пересудам. Но и они оценили рыцарский поступок мальчика и тоже стали охотно с ним общаться.
А Ира, глядя на подругу, с этого дня прекратила вульгарное кокетничество с Сергеем Сопелкиным. И чтобы еще больше подлизаться к Анжеле, она тоже села за одну парту с мальчиком – с Димой Красавиным, которого все в открытую звали Красавчиком. Кроме того, у Иры был еще один расчет: она заранее подготовила себе победу в будущем девичьем соревновании за его внимание.
Вслед за Анжелой и Ирой и другие девчонки тоже стали активнее общаться с мальчиками. Таким образом, в классе установилась необычная атмосфера дружбы и товарищества. Весь учительский коллектив школы приходил в изумление. Их педагогический опыт трещал по швам! Такого они еще не видали!
А Сопля после этого случая пытался продолжить свои нахальные заигрывания с другими девчонками. Но задирать Анжелу он больше не решался. Нет, он, конечно, не боялся Вовчика. Что и говорить, Серега точно был сильнее его. Но, видимо, хулигана удерживала отчаянная неустрашимость этого отличника.
Годы шли, и в шестом классе дети начали взрослеть. В первую очередь девочки – они, как известно, в своем физическом развитии опережают мальчиков. Только более старший Сопля, в отличие от остальных мальчишек, вдруг вытянулся и в плечах стал намного шире отстающих от него мелких ребят. Он забасил, и у него стали пробиваться усики.
К своим одноклассникам – как к девчонкам, так и к мальчишкам – Сергей потерял всякий интерес. Он все глубже завязал в хулиганской уличной компании своих более взрослых «наставников». А в школе совсем перестал учиться. И учителя ничего не могли с ним поделать. Повзрослевший разгильдяй никого не хотел слушать. На уроках за партой сидел, вызывающе развалившись, и даже не открывал тетради и учебники.
В таких трудных случаях педагоги обычно обращаются к помощи родителей нерадивого ученика. Но отец Сергея Сопелкина в это время отбывал очередной тюремный срок. А мать в его отсутствие вела разгульную жизнь, и заполучить ее в школу оказалось делом невозможным. Родительский комитет, осуществляющий надзор за неблагополучными семьями, никак не мог разобраться, как вообще подросток жил без надлежащего пригляда взрослых, и чем, в конце концов, он питался.
Неудивительно, что по результатам года почти по всем предметам Сопля получил двойки и решением педагогического совета школы был оставлен на второй год в шестом классе. На следующий год, когда бывшие одноклассники Сергея перешли в седьмой класс, по ходившим слухам, Сопля совсем перестал ходить в школу. А вскоре Сопелкин в составе взрослой компании оказался вовлеченным в настоящее уголовное преступление и по приговору суда был направлен в детскую исправительную колонию.
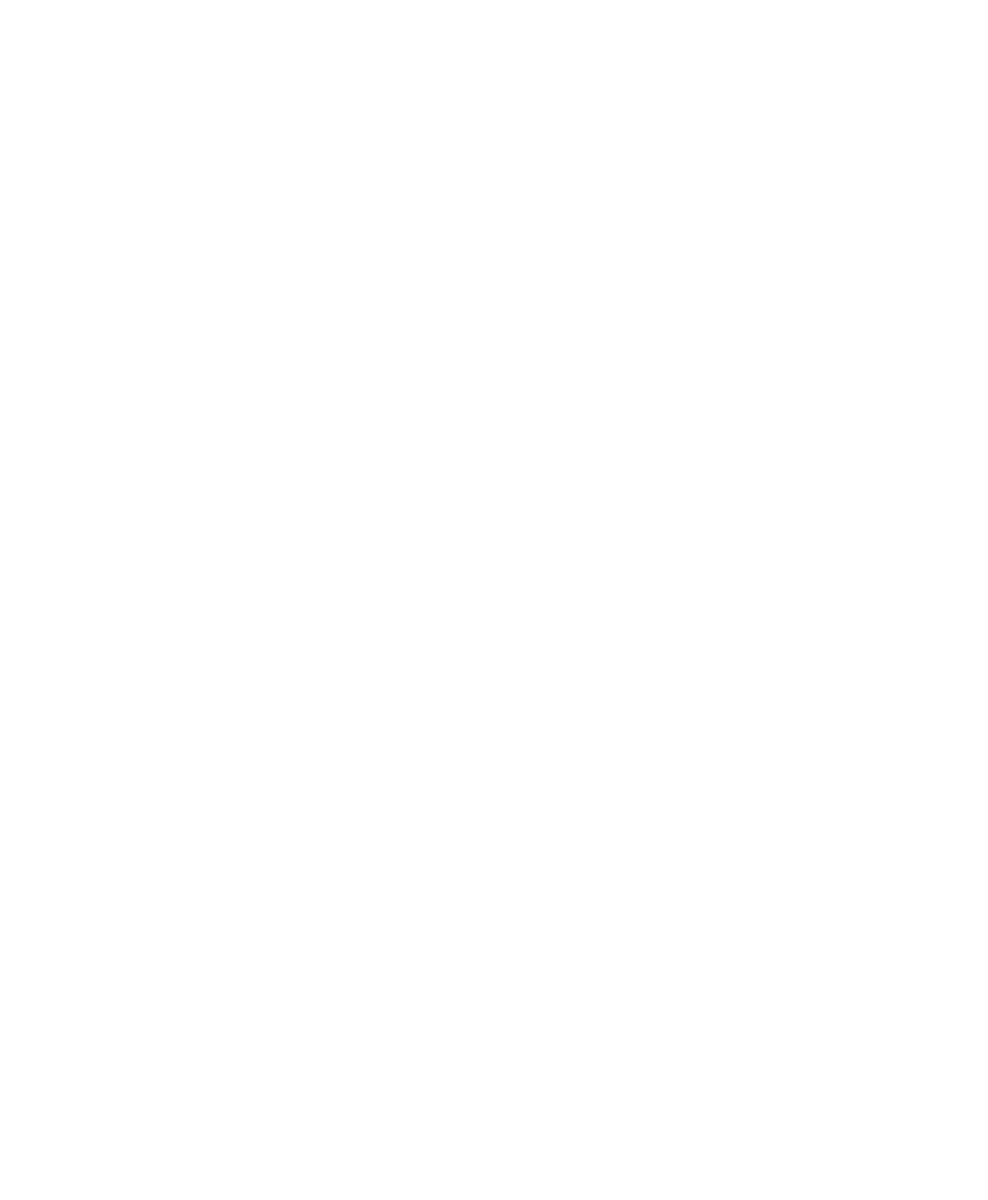
Татьяна КОВАЛЁВА
Инвестиционный аналитик, доверенный эксперт НТИ, работаю с инновационными стартапами, помогаю им развивать проекты. Публикаций у меня очень немного, только по научной части (я к.ю.н, автор ряда учебных пособий).
Инвестиционный аналитик, доверенный эксперт НТИ, работаю с инновационными стартапами, помогаю им развивать проекты. Публикаций у меня очень немного, только по научной части (я к.ю.н, автор ряда учебных пособий).
КУКЛЫ И ЗАБОТЫ
Рассказ о Наташе и ее дочери Свете, которые сталкиваются с конфликтом между мечтами Светы о создании кукольного театра и заботами Наташи о будущем дочери. Наташа стремится обеспечить Свете успех, но не понимает, что ее вмешательство и давление гасят мечту девочки. В конечном итоге они делают шаг к тому, чтобы найти общий язык, учась уважать личность и мечты друг друга.
Наташа всегда мечтала о счастье своей дочери Светланы. Она представляла, как та, красивая, здоровая, успешная и окружённая верными друзьями, с улыбкой на лице будет заниматься любимым делом, а потом, когда подрастёт, найдёт любимое дело, которая принесёт радость, достаток и новые возможности. В её воображении Света была не просто «дочей», а воплощением всех ее, Наташиных, надежд и мечтаний. Наташа искренне верила: она должна сделать все возможное, чтобы жизнь Светланы была безоблачной и успешной, такой, как она себе представляет.
Однако реальность её очень огорчала, оказалась иной. Почти всю себя, все своё время Наташа посвятила дочке: репетиторы, музыкальная школа, тренировки, проверка школьной «домашки», все это отнимало огромное количество времени. А Света, увлечённая идеей создания кукольного театра, мечтала мастерить куклы, придавая им жизнь и характер. Она часами сидела за столом, рисуя эскизы, вырезая детали из картона и ткани. Для неё это было не просто хобби — это была целая Вселенная, разные миры, куда она могла погрузиться, забыв о заботах и строгих требованиях окружающего мира.
Наташу это увлечение сначала умиляло, пока Светочка была совсем крошкой, но с каждым годом это бесполезное на её взгляд времяпровождение Наташу раздражало все больше и больше, начинало злить. Полная тревог и забот о будущем дочери, не могла позволить себе расслабиться и не давала расслабиться дочке. Каждый раз, когда Света начинала мастерить свои куколки и декорации, Наташа с лёгкой улыбкой говорила: «Светочка, а ты не забыла про уроки? Не пора ли на тренировку?» В её глазах мелькала забота, но для Светы это выглядело как тень, нависшая над её мечтами.
— Мама, — пыталась объяснить Света с нежностью и отчаянием в голосе, — я хочу сделать куклы для своего театра. Это важно для меня!
— Дорогая моя, — отвечала Наташа с доброй настойчивостью, — куклы не накормят тебя в будущем. Учёба, занятия намного, намного важнее! Нужно учиться, тянуться к знаниям. Ты должна быть сильной и уверенной! Всегда и во всем добиваться лучших результатов, быть лучше всех!
С каждым днём Света чувствовала, как её мечты гаснут, ускользают от неё. Она начала таиться, мастерить тайком, стараясь не попадаться на глаза матери, чтобы избежать ругани и упрёков. Уроки превращались в рутину, а тренировки — в обязательства. График уроков и тренировок был такой плотный, что ни на что другое, даже на общение с одноклассниками, не оставалось ни времени, ни сил. В школе друзья весело обсуждали свои планы прогулок, каникул. Вместо этого ей приходилось слушать постоянные напоминания матери о том, как важно не отставать от сверстников.
В один из вечеров, когда Наташа снова напомнила о предстоящей тренировке, Света не выдержала:
— Мама! Я не хочу идти на тренировку! Я хочу делать куклы!
Наташа остановилась, как будто её поразил гром среди ясного неба. Она не могла понять, почему дочь не ценит тех усилий, которые она прикладывает ради её блага. Для неё это было проявление лени и непослушания.
— Света, ты занимаешься фигней. Перестань сейчас же, убирай весь этот мусор и одевайся.
— Нет! Ты меня заставляешь делать то, что мне не нужно. Ты меня мучаешь!
— Света, это ты себя мучаешь ленью и всякими глупостями. А я все делаю только для тебя! Я хочу, чтобы ты была счастливой!
— Ты думаешь только о себе, а на других тебе наплевать! — крикнула Света.
Наташа не удержалась и влепила дочери пощечину.
Света замолчала и пошла одеваться, а душу разрывало от чувства обиды. Она не могла понять: как же так? Почему мама не понимает и не хочет её понять? Почему её мечты не были важны для матери? Почему нужно выбирать между желанием быть собой и угождением маме?
После того случая Света стала избегать общения с Наташей. Она начала проводить время в своей комнате, пряча от матери свои эскизы и материалы для кукол. Внутри неё боролись два чувства: любовь к матери и обида, ненависть к её постоянным вмешательствам и давлению.
Вскоре Наташа заметила изменения в поведении дочери. Света стала более замкнутой и молчаливой, не делилась своими мечтами о кукольном театре, не показывала свои куколки. Вместо этого говорила лишь о школе и тренировках.
Однажды вечером Наташа решила подойти к дочери и обсудить все открыто. Она села рядом с ней на кровати и сказала:
— Света, я вижу, что ты чем-то недовольна. Я просто хочу для тебя лучшего…
Света посмотрела на мать с грустью:
— Мама, я знаю, что ты хочешь мне добра. Но я тоже хочу быть счастливой по-своему. Я хочу делать то, что люблю.
Наташа замерла. Ей стало страшно осознать: она разрушает доверие, сама строит преграды между собой и дочерью. Она задумалась о своих мечтах о будущем дочки и желаниями самой девочки.
— Может быть… — тихо произнесла Наташа, — может быть, ты права. Я просто боюсь за тебя. Очень боюсь. Кроме тебя у меня никого нет.
Света обняла мать:
— Я тоже тебя люблю. Но дай мне шанс быть собой.
И хотя путь к пониманию был ещё долгим и тернистым, Наташа и Света, самые близкие и родные друг другу люди, начали двигаться навстречу друг другу, к тому счастью, которое было важно для каждой из них.
Рассказ о Наташе и ее дочери Свете, которые сталкиваются с конфликтом между мечтами Светы о создании кукольного театра и заботами Наташи о будущем дочери. Наташа стремится обеспечить Свете успех, но не понимает, что ее вмешательство и давление гасят мечту девочки. В конечном итоге они делают шаг к тому, чтобы найти общий язык, учась уважать личность и мечты друг друга.
Наташа всегда мечтала о счастье своей дочери Светланы. Она представляла, как та, красивая, здоровая, успешная и окружённая верными друзьями, с улыбкой на лице будет заниматься любимым делом, а потом, когда подрастёт, найдёт любимое дело, которая принесёт радость, достаток и новые возможности. В её воображении Света была не просто «дочей», а воплощением всех ее, Наташиных, надежд и мечтаний. Наташа искренне верила: она должна сделать все возможное, чтобы жизнь Светланы была безоблачной и успешной, такой, как она себе представляет.
Однако реальность её очень огорчала, оказалась иной. Почти всю себя, все своё время Наташа посвятила дочке: репетиторы, музыкальная школа, тренировки, проверка школьной «домашки», все это отнимало огромное количество времени. А Света, увлечённая идеей создания кукольного театра, мечтала мастерить куклы, придавая им жизнь и характер. Она часами сидела за столом, рисуя эскизы, вырезая детали из картона и ткани. Для неё это было не просто хобби — это была целая Вселенная, разные миры, куда она могла погрузиться, забыв о заботах и строгих требованиях окружающего мира.
Наташу это увлечение сначала умиляло, пока Светочка была совсем крошкой, но с каждым годом это бесполезное на её взгляд времяпровождение Наташу раздражало все больше и больше, начинало злить. Полная тревог и забот о будущем дочери, не могла позволить себе расслабиться и не давала расслабиться дочке. Каждый раз, когда Света начинала мастерить свои куколки и декорации, Наташа с лёгкой улыбкой говорила: «Светочка, а ты не забыла про уроки? Не пора ли на тренировку?» В её глазах мелькала забота, но для Светы это выглядело как тень, нависшая над её мечтами.
— Мама, — пыталась объяснить Света с нежностью и отчаянием в голосе, — я хочу сделать куклы для своего театра. Это важно для меня!
— Дорогая моя, — отвечала Наташа с доброй настойчивостью, — куклы не накормят тебя в будущем. Учёба, занятия намного, намного важнее! Нужно учиться, тянуться к знаниям. Ты должна быть сильной и уверенной! Всегда и во всем добиваться лучших результатов, быть лучше всех!
С каждым днём Света чувствовала, как её мечты гаснут, ускользают от неё. Она начала таиться, мастерить тайком, стараясь не попадаться на глаза матери, чтобы избежать ругани и упрёков. Уроки превращались в рутину, а тренировки — в обязательства. График уроков и тренировок был такой плотный, что ни на что другое, даже на общение с одноклассниками, не оставалось ни времени, ни сил. В школе друзья весело обсуждали свои планы прогулок, каникул. Вместо этого ей приходилось слушать постоянные напоминания матери о том, как важно не отставать от сверстников.
В один из вечеров, когда Наташа снова напомнила о предстоящей тренировке, Света не выдержала:
— Мама! Я не хочу идти на тренировку! Я хочу делать куклы!
Наташа остановилась, как будто её поразил гром среди ясного неба. Она не могла понять, почему дочь не ценит тех усилий, которые она прикладывает ради её блага. Для неё это было проявление лени и непослушания.
— Света, ты занимаешься фигней. Перестань сейчас же, убирай весь этот мусор и одевайся.
— Нет! Ты меня заставляешь делать то, что мне не нужно. Ты меня мучаешь!
— Света, это ты себя мучаешь ленью и всякими глупостями. А я все делаю только для тебя! Я хочу, чтобы ты была счастливой!
— Ты думаешь только о себе, а на других тебе наплевать! — крикнула Света.
Наташа не удержалась и влепила дочери пощечину.
Света замолчала и пошла одеваться, а душу разрывало от чувства обиды. Она не могла понять: как же так? Почему мама не понимает и не хочет её понять? Почему её мечты не были важны для матери? Почему нужно выбирать между желанием быть собой и угождением маме?
После того случая Света стала избегать общения с Наташей. Она начала проводить время в своей комнате, пряча от матери свои эскизы и материалы для кукол. Внутри неё боролись два чувства: любовь к матери и обида, ненависть к её постоянным вмешательствам и давлению.
Вскоре Наташа заметила изменения в поведении дочери. Света стала более замкнутой и молчаливой, не делилась своими мечтами о кукольном театре, не показывала свои куколки. Вместо этого говорила лишь о школе и тренировках.
Однажды вечером Наташа решила подойти к дочери и обсудить все открыто. Она села рядом с ней на кровати и сказала:
— Света, я вижу, что ты чем-то недовольна. Я просто хочу для тебя лучшего…
Света посмотрела на мать с грустью:
— Мама, я знаю, что ты хочешь мне добра. Но я тоже хочу быть счастливой по-своему. Я хочу делать то, что люблю.
Наташа замерла. Ей стало страшно осознать: она разрушает доверие, сама строит преграды между собой и дочерью. Она задумалась о своих мечтах о будущем дочки и желаниями самой девочки.
— Может быть… — тихо произнесла Наташа, — может быть, ты права. Я просто боюсь за тебя. Очень боюсь. Кроме тебя у меня никого нет.
Света обняла мать:
— Я тоже тебя люблю. Но дай мне шанс быть собой.
И хотя путь к пониманию был ещё долгим и тернистым, Наташа и Света, самые близкие и родные друг другу люди, начали двигаться навстречу друг другу, к тому счастью, которое было важно для каждой из них.

Ольга БУРУКИНА
Профессор российских и зарубежных университетов, кандидат филологических наук, доцент. Любимое хобби – творчество: с детства пишет стихи, а сейчас завершает работу над циклом романов в жанре «фэнтези» и циклом детективных романов, готовит к печати сборник сказок «Одуванчик» и научно-популярную книгу «Я не могу овладеть иностранным». Супружеский стаж – 34 года, счастливая мама пяти сыновей. Победитель (1 место) конкурса «Созвездие-2024» издательского проекта «Избранное» творческой фирмы «Авторское содружество», победитель (2 место) литературного конкурса «Лето – это маленькая жизнь» МСРП, победитель (3 место) литературного конкурса «Весеннее настроение» МСРП, лауреат VI Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2024», дипломант международного конкурса «Стихотворение по заданной строке».
Профессор российских и зарубежных университетов, кандидат филологических наук, доцент. Любимое хобби – творчество: с детства пишет стихи, а сейчас завершает работу над циклом романов в жанре «фэнтези» и циклом детективных романов, готовит к печати сборник сказок «Одуванчик» и научно-популярную книгу «Я не могу овладеть иностранным». Супружеский стаж – 34 года, счастливая мама пяти сыновей. Победитель (1 место) конкурса «Созвездие-2024» издательского проекта «Избранное» творческой фирмы «Авторское содружество», победитель (2 место) литературного конкурса «Лето – это маленькая жизнь» МСРП, победитель (3 место) литературного конкурса «Весеннее настроение» МСРП, лауреат VI Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2024», дипломант международного конкурса «Стихотворение по заданной строке».
МИР ГРИБОВ
Светит яркое доброе солнце, и лучи его просачиваются сквозь листву деревьев в лесу. Тихо-важно шумит ветер, перебирая ветви могучих деревьев – стройных сосен и пышных елей, могучих дубов и кудрявых клёнов; и покачиваются исполины, неспешно переговариваясь о былом, настоящем и грядущем. А то вдруг затянет небосклон облаками, выползет вперёд гневливая туча да сама и расстроится, что не может свой гнев объяснить и сдержать, и зальётся она горькими слезами, омывая листву и иглы деревьев, ягодные кустики и траву-цветы в добром русском лесу.
В этом щедром лесу в изобилии растут и грибы, и каждый из них играет свою собственную роль, проживает, как может, свою единственную жизнь. Добрые, съедобные грибы, дающие пропитание животным и любителям «тихой охоты», похожи на щедрых добросердечных людей, неизменно готовых помочь, поддержать, услужить. «Берите нас, ешьте нас, насыщайтесь и будьте счастливы», – выглядывая из густой травы или из-под еловых лап, кажется, радушно зовут-приглашают они добрый люд и исконных обитателей леса.
Ах, как же много в русском лесу хороших грибов! Рады зверям и грибникам боровики-цари леса, твёрдо стоящие на крепких толстых ножках и гордо несущие свои бархатные, почти собольи, шапки Мономаха; и царевичи-подберёзовики в широкополых коричневых шляпах, и дружные желтоватые маслята, охочие водить хороводы под маленькими сосенками, и красавцы-рыжики, живущие большими дружными семьями, и похожие на них волнушки-веселушки, после хорошего засола радующие-ненарадующие глаза и рот с зелёным лучком, постным маслицем и горячей картошечкой.
Сияют, как золотые монетки, на солнышке кокетливые лисички, придающие изысканный аромат жареной картошке, гордо глядят на высокие ели крепкие солдаты-грузди, что рады хрустеть и в пряном рассоле, и радуют глаз неравнодушных прохожих дружные семейки опят, дающие вторую жизнь умирающим пням.
А на границе сосново-елового бора под трепещущими на ветру круглыми листьями осин доблестно несут службу подосиновики в бордовых беретах. И, конечно, разноцветные сыроежки вносят свой важный вклад в щедрое грибное изобилие русского леса, скромно предлагая свою нежную плоть голодным ртам.
А ещё в русском лесу есть добрые моховики и шампиньоны, вешенки и синеножки, мокруха еловая да синяк, поплавки-толкачики да вороночники, колпаки кольчатые да зонтики пёстрые, гладыши да горькушки, а по весне – сморчки со строчками.
Эти добрые грибы – столпы русского леса – щедро делятся своей жизнью со всеми, кто ищет утешения и пропитания. Они напоминают бескорыстных людей, живущих, чтобы служить и питать окружающих своей добротой. В тенистых ложбинках и на солнечных полянках их добрый свет, как маяк, привлекает голодных и страждущих, и они рады их всех одарить, отдавая себя без остатка.
Но в славном русском лесу, как и во всех других лесах на белом свете, растут и недобрые да и просто злые грибы: одни лишь временно огорчают, вызывая недомогание и непродолжительное несварение желудка; другие пытаются обидеть посильнее, вызвать жгучую боль, а то и свести с ума; третьи же несут смерть любому, кто имел слабость поддаться их чарам. Злых грибов намного, намного меньше, чем добрых, но одной-единственной встречи с ядовитым грибом хватит до конца дней: жизнь никогда уже не будет прежней, а то и вовсе оборвётся раз и навсегда.
Злые грибы любят называться красивыми именами и наряжаться в яркие наряды. Есть среди них красавцы-мухоморы в блестящих алых шляпах с весёлыми белыми точками: они похожи на добрых смешливых клоунов, но как злые паяцы готовы свести с ума и оленя, и человека. «Посмотри на моё великолепие! Отведай меня, безрассудный», – зазывают мухоморы; «И ты познаешь истинный ужас ада», – гнусно хихикая, добавляют они.
С тонкой хитростью расставила ловушку и старшая сестра мухомора – говорушка-рядовка, что действует осторожнее, но быстрее и жёстче, чем её дурашливый братец в красной шляпке, стремясь навсегда свести с ума доверчивых зверей и грибников.
С ними в сговоре и красавица лепиота, чьи розовые и красновато-коричневые платья радуют глаз и приманивают к себе доверчивых людей и животных. Здесь и галерина окаймлённая, и паутинник красивейший – такие имена прекрасные, такие одеяния изысканные и такая ядовитая сущность: отведаешь их и не заметишь подвоха, лишь почувствуешь жажду и легкий озноб да и то не сразу, а лишь полдня или день спустя.
Но потом прибавится ломота в суставах, станет трудно дышать, а когда догадаешься о том, что в жизнь твою вошло зло, тут и конец близок: уже отмирают клетки печени, и отказывают почки…
Эти злобные грибы – полная противоположность своим заботливым, добрым собратьям, ибо ими движет лишь одно стремление – вредить и разрушать. Их ядовитая природа сродни сущности самых злых из людей, которые получают удовольствие, причиняя боль и страдания невинным. В тени русского леса чувствуется их смертоносное присутствие, молчаливая угроза всем, кто осмелится неосторожно подойти слишком близко, польстившись на их мнимую красоту.
Да, много ещё зла на земле… Хватает его и в русском лесу. Но подлее всех даже не ядовитые грибы, а грибы ложные, притворяющиеся добрыми-съедобными: ложные белые, ложные подберёзовики да подосиновики, ложные рыжики да опята, ложные лисички, грузди и даже сыроежки. «Я всего лишь скромный добрый гриб», – лгут они, скрывая цианиды, таящиеся в их ножках и шляпках. Но любой, принимавший этих лгунов за их безобидных собратьев, вскоре вступал в отчаянную гонку со временем, ведь яд опустошал его тело и разъедал его душу. Эти хитрые самозванцы – настоящие волки в овечьей шкуре, их цель – не что иное, как безжалостное убийство всех неосторожных.
Добрыми грибами прикидываются и желчный гриб или горчак, и сатанинский гриб, а с ними и бледная поганка. Желчный да сатанинский грибы легко спутать с царями-боровиками, а бледные поганки – с невинными шампиньонами.
Горчаки, авторитетно выглядывая из травы, излучают доброту и заверяют в своей преданности идеалам добра и ценностям русского леса. Бледные поганки, скрывая свою смертоносную природу, скромно смотрят на грибников из-под кружевной вуали и сладко призывают: «Не бойся, друг мой, попробуй меня!» А про себя беззвучно добавляют: «Приди в мои смертельные объятья! И успокойся навеки!», готовые лишить жизни всех неосторожных, ведь довольно откусить маленький кусочек, чтобы умереть – как Белоснежке хватило кусочка яблока, отравленного мачехой-ведьмой.
Поддаться зову этих безжалостных лесных сирен означало бы накликать быструю и мучительную кончину. Те, кто пал жертвой их обмана, терпели дни мучительной боли, их внутренние органы отключались один за другим, пока милосердная смерть наконец не забирала их, остановив измученное сердце.
Но мир грибов на этом не исчерпан: в тёмных уголках леса да и на светлых прогалинах за большие и сильные деревья мёртвой хваткой цепляются грибы-паразиты, медленно высасывая из них жизнь.
Трутовик раскинул свои чёрные сети-ризомы в белом теле дородной русской берёзы, постепенно расширяя своё жизненное пространство и лишая надежды на будущее и самóй жизни пригревшее его дерево.
Чага, глубоко зарывшись в кору стройного клёна, похищает его питательные соки ради собственной выгоды. «Твоя жизненная сила будет нашей», – не сомневаясь в своей правоте, шепчут её чёрные шишковатые наросты. Год за годом чага не ослабляет свои тиски, медленно высасывая жизнь из гостеприимного хозяина. Красавец-клён слабеет, в его стволе появляются дупла, ветки легко ломаются от прикосновения ветра и налипшего снега, пока он, наконец, не падёт на землю, поверженный неумолимым натиском безжалостного паразита.
«Я заберу то, что принадлежит тебе», – горячо шепчет трутовик, пока его прожорливый мицелий жадно поглощает жизненную силу могучего дуба, широко раскинувшего свои сильные ветви. Медленно, но верно трутовики и чага ползут вверх, перекрывая поток питательных веществ и воды, пока сильное красивое дерево не станет обнажённым и безжизненным – пустой оболочкой некогда полного жизненных сил могучего исполина, поддавшегося неутолимому голоду грибов-паразитов.
Грибы-паразиты – жалкие, но жестокие живоглоты, процветающие за счёт своих добрых, гостеприимных хозяев. Там, где съедобные грибы предлагают пропитание, грибы-паразиты стремятся лишь потреблять, разрушать, уничтожать. В тенистых уголках леса они, ни на секунду не ослабляя смертельных объятий, ведут свою молчаливую войну, постепенно гася жизненный свет могучих деревьев, и всё это во имя единственной извращенной цели – собственного беззаботного процветания.
Возможно, мир грибов станет понятнее и его связь с миром людей проявится чётче в коротком рассказе о семилетнем мальчике Серёже, чьё искреннее стремление угодить любимой бабушке столкнуло его лицом к лицу с добротой и щедростью, лживыми обещаниями и опасностями мира грибов.
Серёжина бабушка не спала всю ночь в горькой тревоге о своих сыновьях и потому, когда внучек Серёженька проснулся поутру, она только-только прикорнула и не услышала его тихих шагов по дому.
Серёжа удивился, что бабушка Клава ещё спит, а не ждёт его, как обычно, на веранде с тарелкой тёплых толстых блинов или пышных оладий с вареньем или редкой на их столе вкусной жирной сметаной, но не огорчился: мальчик знал, что бабуля часто бродит по их маленькому домику по ночам, поддавшись внезапно нахлынувшей скорби и грусти, – он и сам не раз видел её, когда вставал ночью по зову природы.
Поддавшись порыву внезапно нахлынувшей нежности, Серёжа решил порадовать бабушку и, натянув куртку и схватив корзинку, поспешил в густой тенистый лес, что закрывал своей тёмной громадой горизонт. Они много раз ходили в лес вместе, два верных друга: бабушка Клава и Серёжа, и бабушка показывала ему грибы – учила отличать добрые от зловредных. Но зло так коварно: оно принимает разные личины и чаще всего надевает маску добра.
Серёжа внимательно вглядывался в подлесок, стараясь отыскать добрые грибы, чтобы наполнить ими корзинку и порадовать бабушку возможностью сварить грибной суп или нажарить их с молодой картошкой с их маленького огородика.
Но увы, коварные грибы оказывались хитрее юного грибника. Снова и снова Серёжа тянулся за грибом, представлявшимся ему съедобным, с тем только, чтобы отшатнуться при виде зловещего облика гадкой поганки.
Охваченный сомнениями, Серёжа разуверился в своих способностях и расстроился, что вернётся в старенький, но уютный бабушкин домик с пустыми руками. Но в тот момент, когда он почти готов был уже сдаться, расписавшись в собственной несостоятельности, его взгляд упал на три прекрасных больших гриба (один был прямо великан, и два грибочка – поменьше), в которых он безошибочно узнал боровиков-царей русского леса: их твёрдые губчатые шляпки и толстые, крепкие ножки бесспорно свидетельствовали об их доброте и съедобности.
Полный новых надежд на успех, мальчик осторожно выкрутил из земли (как бабушка научила) бесценные белые грибы, бережно положил их в корзинку и поспешил домой, где его с нетерпением ждала старенькая бабушка Клава.
Но по дороге домой Серёжа вдруг случайно встретил двух неровно остриженных конопатых подростков – братьев Гошку и Антошку, не упустивших возможности придраться к мальчику:
– Эй, ты, Серый, привет! – перегородили ему дорогу подростки.
– Здравствуйте! – робко ответил Серёжа.
– Ну чё, как? Откуда топаешь? «Из леса, вестимо»? – вставил цитату Антошка, и Гошка с одобрением захохотал.
– Да, за грибами ходил.
– И чё набрал? Дай-ка сюда! – Гошка с Антошкой схватили Серёжину корзинку и сунули туда свои носы, едва не стукнувшись лбами. – Э, да это ж поганки! Неси-неси их к бабке Клаве, вместе траванётесь, малахольные!..
Серёжа не сумел им ответить: к горлу подступил тугой комок, и мальчик закусил губу, чтобы сдержать слезинки, что готовы уже были навернуться на глаза.
– Ну, чё? Язык проглотил? Ну, бывай! Топай до дому со своими ядовитыми грибочками!
Серёжа, огорчённый сверх меры, поспешил домой, уговаривая себя, что Гошка с Антошкой ошибаются: не могут же все грибы, что он набрал этим утром в лесу, быть ядовитыми. Вот уж и крыша бабушкиного дома видна: пять минут, и он будет в благой безопасности родной обители.
Серёжа повеселел и зашагал быстрее, но тут вдруг перед ним, как чёрт из табакерки, выросла тётка Наталья – коротконогая, плотно сбитая вдова неопределённого возраста.
– Серёжа, утро добренькое! Ты откуда путь держишь? Никак за грибами ходил? Дай посмотреть! – елейным голоском пропела она, кривовато улыбаясь.
– Ой, да ты с хорошими и ядовитых грибов набрал! Дай-ка я уберу их из корзинки-то!
Тётка Наталья запустила руку в Серёжину корзинку и почти ухватила три больших боровика, но Серёжа оступился – камешек выскочил из-под ноги – и взмахнул корзинкой, чтоб не упасть.
– Да нет, спасибо, тётя Наталья! Я их домой отнесу, там бабушка разберётся, – заторопился мальчик. – До свиданья!
– До свиданья! – скрипучим голосом повторила тётка Наталья, раздосадованная тем, что сорвался её хитроумный план поесть жареных грибов из Сёрежиной корзинки: самой-то бродить по лесу не хотелось…
Серёжа почти бежал в сторону дома, торопясь к своей бабушке.
Когда мальчик, запыхавшись, прибежал наконец домой с корзинкой, надёжно сохранившей нелепое смешение добрых-вкусных и опасных-ядовитых грибов, бабушка встретила его с тёплой, ободряющей улыбкой. Она увидела обеспокоенное выражение Серёжиного лица, заранее огорчившегося, что он, вероятно, не справился со своей задачей. Но вместо того, чтобы отругать его за ядовитые грибы, которые он невольно положил в корзинку, бабушка нежно положила руку внуку на плечо.
– Мой дорогой внучек, мой любимый мальчик, – обратилась она к Серёже мягким успокаивающим голосом и поцеловала его в светлую макушку, – ты прекрасно справился, мне бы не удалось сделать лучше.
Глаза мальчика расширились от удивления: ведь он ожидал получить строгий выговор за свои ошибки. Но лицо его бабушки светилось искренней гордостью и неподдельной радостью.
– Смотри-ка, – продолжила она, внимательно изучая содержимое корзины. – Ты нашёл чудесные боровики! Целых три – такая добрая семейка! Я так надеялась, что ты их принесёшь.
Левой рукой она подняла большой белый гриб на твёрдой толстенькой ножке, любуясь насыщенным оттенком его шоколадной шляпки, а правой – два боровика поменьше.
– Из них получится восхитительный суп, которым мы сегодня пообедаем с тобой, мой ненаглядный.
Лицо мальчика озарилось радостью, беспокойство растаяло: он наслаждался одобрением своей бабушки. Она, конечно, понимала, что он всё ещё учится, но уже начинает понимать, что лесные тропинки могут быть обманчивыми, и мир грибов таит в себе не только доброту и щедрость, но и подлость, и вероломное предательство.
– Что же касается этих, других, – продолжала бабушка, осторожно откладывая ядовитые грибы, – мы не будем их есть: они ядовиты, но я рада, что теперь ты точно знаешь, как они выглядят, и что они представляют смертельную опасность. Этот урок, я верю, ты хорошо усвоил, он непременно пригодится тебе в будущем. Мой дорогой, ты добрый мальчик, сердечный и доверчивый, и я горжусь тобой, но помни: ты не должен быть настолько наивным, чтобы ядовитые и ложные грибы сумели ввести тебя в заблуждение и навредить тебе.
Бабушка притянула юного грибника в свои тёплые объятия, её глаза светились любовью и мудростью.
– Ты принёс мне самый драгоценный дар из всех – твоё благополучное возвращение и радость оттого, что ты у меня есть. Это всё, о чём я могла просить Господа Бога. О чём я прошу Его каждую минуту.
В этот момент Серёжа почувствовал, как на него нахлынула тёплая волна счастья вперемешку с признательностью за доброту и поддержку своей мудрой и понимающей бабушки. И тогда он понял, что не потерпел неудачу, а, напротив, доказал, что достоин её неизменной поддержки и любви. Ведь он очень старался порадовать бабушку, и ему это удалось! А ошибки, что ж, без них прожить нельзя: ведь ошибки – наш главный способ познания этого большого и изумительно разнообразного мира, включающего в себя и мир грибов.
Вместе бабушка Клава и Серёжа сварганили вкусный наваристый суп, в котором добрый аромат боровиков смешался с теплом неподдельной любви и мудрой поддержки любящей бабушки и искренней радости её маленького внука.
В этот важный момент мальчик усвоил бесценный урок: даже в мире грибов истинная награда заключается не в самих грибах, а в крепких семейных узах и радости совместного бытия.
Много лет прошло с того дня; Серёжа вырос, бабушки Клавы не стало. Но и сегодня мир грибов во всём своём великолепии не устаёт бросать нам вызов и приглашение исследовать глубины нашей собственной человечности.
Добрым грибам, питающим и поддерживающим всех, кто ищет их щедрости и заботы, не устают противопоставлять себя ядовитые виды – и открыто вероломные, и хитроумно обманчивые. И орды паразитов, неизменно жаждущих господства, медленно душат жизнь в возвышающихся над миром деревьях, ведь их собственное процветание строится на бесконечном потреблении и бессмысленном разрушении этого мира.
В этой сложной мозаике русского леса, сочетающей в себе игру света и тени, жизни и смерти, мир грибов, как маленькое зеркальце в маминой пудренице, отражает мир людей во всей его сложности и многообразии. Ведь разве люди не способны и на великое бескорыстие, и на самоотречение, и на невыразимую и необъяснимую жестокость? Разве мы не надеваем иногда маску доброты, даже если в сердце закралось зло, захватив наши помыслы? И разве мы не эксплуатируем порой бездумно ресурсы нашего мира, не обращая внимания на жизнь вокруг, не задумываясь о последствиях, ослеплённые корыстью, в погоне за собственной выгодой?
Грибы в своем молчаливом свидетельстве задают нам простой вопрос: решимся ли мы подражать добрым, дающим жизнь грибам или поддадимся ядовитому обману вероломных поганок или беспощадному натиску безжалостных паразитов, подстерегающих нас в самых неожиданных местах? Выбор остаётся за нами: и судьба русского леса, и нашего собственного мира неотвратимо зависят от нашего с вами решения.
Ведь мы все вместе и есть этот мир грибов – от самых добрых и щедрых до самых злобных, подлых и эгоистичных. Вопрос только в том, под шляпкой какого гриба ты решишься прожить свою долгую и, надеюсь, счастливую жизнь?!
Светит яркое доброе солнце, и лучи его просачиваются сквозь листву деревьев в лесу. Тихо-важно шумит ветер, перебирая ветви могучих деревьев – стройных сосен и пышных елей, могучих дубов и кудрявых клёнов; и покачиваются исполины, неспешно переговариваясь о былом, настоящем и грядущем. А то вдруг затянет небосклон облаками, выползет вперёд гневливая туча да сама и расстроится, что не может свой гнев объяснить и сдержать, и зальётся она горькими слезами, омывая листву и иглы деревьев, ягодные кустики и траву-цветы в добром русском лесу.
В этом щедром лесу в изобилии растут и грибы, и каждый из них играет свою собственную роль, проживает, как может, свою единственную жизнь. Добрые, съедобные грибы, дающие пропитание животным и любителям «тихой охоты», похожи на щедрых добросердечных людей, неизменно готовых помочь, поддержать, услужить. «Берите нас, ешьте нас, насыщайтесь и будьте счастливы», – выглядывая из густой травы или из-под еловых лап, кажется, радушно зовут-приглашают они добрый люд и исконных обитателей леса.
Ах, как же много в русском лесу хороших грибов! Рады зверям и грибникам боровики-цари леса, твёрдо стоящие на крепких толстых ножках и гордо несущие свои бархатные, почти собольи, шапки Мономаха; и царевичи-подберёзовики в широкополых коричневых шляпах, и дружные желтоватые маслята, охочие водить хороводы под маленькими сосенками, и красавцы-рыжики, живущие большими дружными семьями, и похожие на них волнушки-веселушки, после хорошего засола радующие-ненарадующие глаза и рот с зелёным лучком, постным маслицем и горячей картошечкой.
Сияют, как золотые монетки, на солнышке кокетливые лисички, придающие изысканный аромат жареной картошке, гордо глядят на высокие ели крепкие солдаты-грузди, что рады хрустеть и в пряном рассоле, и радуют глаз неравнодушных прохожих дружные семейки опят, дающие вторую жизнь умирающим пням.
А на границе сосново-елового бора под трепещущими на ветру круглыми листьями осин доблестно несут службу подосиновики в бордовых беретах. И, конечно, разноцветные сыроежки вносят свой важный вклад в щедрое грибное изобилие русского леса, скромно предлагая свою нежную плоть голодным ртам.
А ещё в русском лесу есть добрые моховики и шампиньоны, вешенки и синеножки, мокруха еловая да синяк, поплавки-толкачики да вороночники, колпаки кольчатые да зонтики пёстрые, гладыши да горькушки, а по весне – сморчки со строчками.
Эти добрые грибы – столпы русского леса – щедро делятся своей жизнью со всеми, кто ищет утешения и пропитания. Они напоминают бескорыстных людей, живущих, чтобы служить и питать окружающих своей добротой. В тенистых ложбинках и на солнечных полянках их добрый свет, как маяк, привлекает голодных и страждущих, и они рады их всех одарить, отдавая себя без остатка.
Но в славном русском лесу, как и во всех других лесах на белом свете, растут и недобрые да и просто злые грибы: одни лишь временно огорчают, вызывая недомогание и непродолжительное несварение желудка; другие пытаются обидеть посильнее, вызвать жгучую боль, а то и свести с ума; третьи же несут смерть любому, кто имел слабость поддаться их чарам. Злых грибов намного, намного меньше, чем добрых, но одной-единственной встречи с ядовитым грибом хватит до конца дней: жизнь никогда уже не будет прежней, а то и вовсе оборвётся раз и навсегда.
Злые грибы любят называться красивыми именами и наряжаться в яркие наряды. Есть среди них красавцы-мухоморы в блестящих алых шляпах с весёлыми белыми точками: они похожи на добрых смешливых клоунов, но как злые паяцы готовы свести с ума и оленя, и человека. «Посмотри на моё великолепие! Отведай меня, безрассудный», – зазывают мухоморы; «И ты познаешь истинный ужас ада», – гнусно хихикая, добавляют они.
С тонкой хитростью расставила ловушку и старшая сестра мухомора – говорушка-рядовка, что действует осторожнее, но быстрее и жёстче, чем её дурашливый братец в красной шляпке, стремясь навсегда свести с ума доверчивых зверей и грибников.
С ними в сговоре и красавица лепиота, чьи розовые и красновато-коричневые платья радуют глаз и приманивают к себе доверчивых людей и животных. Здесь и галерина окаймлённая, и паутинник красивейший – такие имена прекрасные, такие одеяния изысканные и такая ядовитая сущность: отведаешь их и не заметишь подвоха, лишь почувствуешь жажду и легкий озноб да и то не сразу, а лишь полдня или день спустя.
Но потом прибавится ломота в суставах, станет трудно дышать, а когда догадаешься о том, что в жизнь твою вошло зло, тут и конец близок: уже отмирают клетки печени, и отказывают почки…
Эти злобные грибы – полная противоположность своим заботливым, добрым собратьям, ибо ими движет лишь одно стремление – вредить и разрушать. Их ядовитая природа сродни сущности самых злых из людей, которые получают удовольствие, причиняя боль и страдания невинным. В тени русского леса чувствуется их смертоносное присутствие, молчаливая угроза всем, кто осмелится неосторожно подойти слишком близко, польстившись на их мнимую красоту.
Да, много ещё зла на земле… Хватает его и в русском лесу. Но подлее всех даже не ядовитые грибы, а грибы ложные, притворяющиеся добрыми-съедобными: ложные белые, ложные подберёзовики да подосиновики, ложные рыжики да опята, ложные лисички, грузди и даже сыроежки. «Я всего лишь скромный добрый гриб», – лгут они, скрывая цианиды, таящиеся в их ножках и шляпках. Но любой, принимавший этих лгунов за их безобидных собратьев, вскоре вступал в отчаянную гонку со временем, ведь яд опустошал его тело и разъедал его душу. Эти хитрые самозванцы – настоящие волки в овечьей шкуре, их цель – не что иное, как безжалостное убийство всех неосторожных.
Добрыми грибами прикидываются и желчный гриб или горчак, и сатанинский гриб, а с ними и бледная поганка. Желчный да сатанинский грибы легко спутать с царями-боровиками, а бледные поганки – с невинными шампиньонами.
Горчаки, авторитетно выглядывая из травы, излучают доброту и заверяют в своей преданности идеалам добра и ценностям русского леса. Бледные поганки, скрывая свою смертоносную природу, скромно смотрят на грибников из-под кружевной вуали и сладко призывают: «Не бойся, друг мой, попробуй меня!» А про себя беззвучно добавляют: «Приди в мои смертельные объятья! И успокойся навеки!», готовые лишить жизни всех неосторожных, ведь довольно откусить маленький кусочек, чтобы умереть – как Белоснежке хватило кусочка яблока, отравленного мачехой-ведьмой.
Поддаться зову этих безжалостных лесных сирен означало бы накликать быструю и мучительную кончину. Те, кто пал жертвой их обмана, терпели дни мучительной боли, их внутренние органы отключались один за другим, пока милосердная смерть наконец не забирала их, остановив измученное сердце.
Но мир грибов на этом не исчерпан: в тёмных уголках леса да и на светлых прогалинах за большие и сильные деревья мёртвой хваткой цепляются грибы-паразиты, медленно высасывая из них жизнь.
Трутовик раскинул свои чёрные сети-ризомы в белом теле дородной русской берёзы, постепенно расширяя своё жизненное пространство и лишая надежды на будущее и самóй жизни пригревшее его дерево.
Чага, глубоко зарывшись в кору стройного клёна, похищает его питательные соки ради собственной выгоды. «Твоя жизненная сила будет нашей», – не сомневаясь в своей правоте, шепчут её чёрные шишковатые наросты. Год за годом чага не ослабляет свои тиски, медленно высасывая жизнь из гостеприимного хозяина. Красавец-клён слабеет, в его стволе появляются дупла, ветки легко ломаются от прикосновения ветра и налипшего снега, пока он, наконец, не падёт на землю, поверженный неумолимым натиском безжалостного паразита.
«Я заберу то, что принадлежит тебе», – горячо шепчет трутовик, пока его прожорливый мицелий жадно поглощает жизненную силу могучего дуба, широко раскинувшего свои сильные ветви. Медленно, но верно трутовики и чага ползут вверх, перекрывая поток питательных веществ и воды, пока сильное красивое дерево не станет обнажённым и безжизненным – пустой оболочкой некогда полного жизненных сил могучего исполина, поддавшегося неутолимому голоду грибов-паразитов.
Грибы-паразиты – жалкие, но жестокие живоглоты, процветающие за счёт своих добрых, гостеприимных хозяев. Там, где съедобные грибы предлагают пропитание, грибы-паразиты стремятся лишь потреблять, разрушать, уничтожать. В тенистых уголках леса они, ни на секунду не ослабляя смертельных объятий, ведут свою молчаливую войну, постепенно гася жизненный свет могучих деревьев, и всё это во имя единственной извращенной цели – собственного беззаботного процветания.
Возможно, мир грибов станет понятнее и его связь с миром людей проявится чётче в коротком рассказе о семилетнем мальчике Серёже, чьё искреннее стремление угодить любимой бабушке столкнуло его лицом к лицу с добротой и щедростью, лживыми обещаниями и опасностями мира грибов.
Серёжина бабушка не спала всю ночь в горькой тревоге о своих сыновьях и потому, когда внучек Серёженька проснулся поутру, она только-только прикорнула и не услышала его тихих шагов по дому.
Серёжа удивился, что бабушка Клава ещё спит, а не ждёт его, как обычно, на веранде с тарелкой тёплых толстых блинов или пышных оладий с вареньем или редкой на их столе вкусной жирной сметаной, но не огорчился: мальчик знал, что бабуля часто бродит по их маленькому домику по ночам, поддавшись внезапно нахлынувшей скорби и грусти, – он и сам не раз видел её, когда вставал ночью по зову природы.
Поддавшись порыву внезапно нахлынувшей нежности, Серёжа решил порадовать бабушку и, натянув куртку и схватив корзинку, поспешил в густой тенистый лес, что закрывал своей тёмной громадой горизонт. Они много раз ходили в лес вместе, два верных друга: бабушка Клава и Серёжа, и бабушка показывала ему грибы – учила отличать добрые от зловредных. Но зло так коварно: оно принимает разные личины и чаще всего надевает маску добра.
Серёжа внимательно вглядывался в подлесок, стараясь отыскать добрые грибы, чтобы наполнить ими корзинку и порадовать бабушку возможностью сварить грибной суп или нажарить их с молодой картошкой с их маленького огородика.
Но увы, коварные грибы оказывались хитрее юного грибника. Снова и снова Серёжа тянулся за грибом, представлявшимся ему съедобным, с тем только, чтобы отшатнуться при виде зловещего облика гадкой поганки.
Охваченный сомнениями, Серёжа разуверился в своих способностях и расстроился, что вернётся в старенький, но уютный бабушкин домик с пустыми руками. Но в тот момент, когда он почти готов был уже сдаться, расписавшись в собственной несостоятельности, его взгляд упал на три прекрасных больших гриба (один был прямо великан, и два грибочка – поменьше), в которых он безошибочно узнал боровиков-царей русского леса: их твёрдые губчатые шляпки и толстые, крепкие ножки бесспорно свидетельствовали об их доброте и съедобности.
Полный новых надежд на успех, мальчик осторожно выкрутил из земли (как бабушка научила) бесценные белые грибы, бережно положил их в корзинку и поспешил домой, где его с нетерпением ждала старенькая бабушка Клава.
Но по дороге домой Серёжа вдруг случайно встретил двух неровно остриженных конопатых подростков – братьев Гошку и Антошку, не упустивших возможности придраться к мальчику:
– Эй, ты, Серый, привет! – перегородили ему дорогу подростки.
– Здравствуйте! – робко ответил Серёжа.
– Ну чё, как? Откуда топаешь? «Из леса, вестимо»? – вставил цитату Антошка, и Гошка с одобрением захохотал.
– Да, за грибами ходил.
– И чё набрал? Дай-ка сюда! – Гошка с Антошкой схватили Серёжину корзинку и сунули туда свои носы, едва не стукнувшись лбами. – Э, да это ж поганки! Неси-неси их к бабке Клаве, вместе траванётесь, малахольные!..
Серёжа не сумел им ответить: к горлу подступил тугой комок, и мальчик закусил губу, чтобы сдержать слезинки, что готовы уже были навернуться на глаза.
– Ну, чё? Язык проглотил? Ну, бывай! Топай до дому со своими ядовитыми грибочками!
Серёжа, огорчённый сверх меры, поспешил домой, уговаривая себя, что Гошка с Антошкой ошибаются: не могут же все грибы, что он набрал этим утром в лесу, быть ядовитыми. Вот уж и крыша бабушкиного дома видна: пять минут, и он будет в благой безопасности родной обители.
Серёжа повеселел и зашагал быстрее, но тут вдруг перед ним, как чёрт из табакерки, выросла тётка Наталья – коротконогая, плотно сбитая вдова неопределённого возраста.
– Серёжа, утро добренькое! Ты откуда путь держишь? Никак за грибами ходил? Дай посмотреть! – елейным голоском пропела она, кривовато улыбаясь.
– Ой, да ты с хорошими и ядовитых грибов набрал! Дай-ка я уберу их из корзинки-то!
Тётка Наталья запустила руку в Серёжину корзинку и почти ухватила три больших боровика, но Серёжа оступился – камешек выскочил из-под ноги – и взмахнул корзинкой, чтоб не упасть.
– Да нет, спасибо, тётя Наталья! Я их домой отнесу, там бабушка разберётся, – заторопился мальчик. – До свиданья!
– До свиданья! – скрипучим голосом повторила тётка Наталья, раздосадованная тем, что сорвался её хитроумный план поесть жареных грибов из Сёрежиной корзинки: самой-то бродить по лесу не хотелось…
Серёжа почти бежал в сторону дома, торопясь к своей бабушке.
Когда мальчик, запыхавшись, прибежал наконец домой с корзинкой, надёжно сохранившей нелепое смешение добрых-вкусных и опасных-ядовитых грибов, бабушка встретила его с тёплой, ободряющей улыбкой. Она увидела обеспокоенное выражение Серёжиного лица, заранее огорчившегося, что он, вероятно, не справился со своей задачей. Но вместо того, чтобы отругать его за ядовитые грибы, которые он невольно положил в корзинку, бабушка нежно положила руку внуку на плечо.
– Мой дорогой внучек, мой любимый мальчик, – обратилась она к Серёже мягким успокаивающим голосом и поцеловала его в светлую макушку, – ты прекрасно справился, мне бы не удалось сделать лучше.
Глаза мальчика расширились от удивления: ведь он ожидал получить строгий выговор за свои ошибки. Но лицо его бабушки светилось искренней гордостью и неподдельной радостью.
– Смотри-ка, – продолжила она, внимательно изучая содержимое корзины. – Ты нашёл чудесные боровики! Целых три – такая добрая семейка! Я так надеялась, что ты их принесёшь.
Левой рукой она подняла большой белый гриб на твёрдой толстенькой ножке, любуясь насыщенным оттенком его шоколадной шляпки, а правой – два боровика поменьше.
– Из них получится восхитительный суп, которым мы сегодня пообедаем с тобой, мой ненаглядный.
Лицо мальчика озарилось радостью, беспокойство растаяло: он наслаждался одобрением своей бабушки. Она, конечно, понимала, что он всё ещё учится, но уже начинает понимать, что лесные тропинки могут быть обманчивыми, и мир грибов таит в себе не только доброту и щедрость, но и подлость, и вероломное предательство.
– Что же касается этих, других, – продолжала бабушка, осторожно откладывая ядовитые грибы, – мы не будем их есть: они ядовиты, но я рада, что теперь ты точно знаешь, как они выглядят, и что они представляют смертельную опасность. Этот урок, я верю, ты хорошо усвоил, он непременно пригодится тебе в будущем. Мой дорогой, ты добрый мальчик, сердечный и доверчивый, и я горжусь тобой, но помни: ты не должен быть настолько наивным, чтобы ядовитые и ложные грибы сумели ввести тебя в заблуждение и навредить тебе.
Бабушка притянула юного грибника в свои тёплые объятия, её глаза светились любовью и мудростью.
– Ты принёс мне самый драгоценный дар из всех – твоё благополучное возвращение и радость оттого, что ты у меня есть. Это всё, о чём я могла просить Господа Бога. О чём я прошу Его каждую минуту.
В этот момент Серёжа почувствовал, как на него нахлынула тёплая волна счастья вперемешку с признательностью за доброту и поддержку своей мудрой и понимающей бабушки. И тогда он понял, что не потерпел неудачу, а, напротив, доказал, что достоин её неизменной поддержки и любви. Ведь он очень старался порадовать бабушку, и ему это удалось! А ошибки, что ж, без них прожить нельзя: ведь ошибки – наш главный способ познания этого большого и изумительно разнообразного мира, включающего в себя и мир грибов.
Вместе бабушка Клава и Серёжа сварганили вкусный наваристый суп, в котором добрый аромат боровиков смешался с теплом неподдельной любви и мудрой поддержки любящей бабушки и искренней радости её маленького внука.
В этот важный момент мальчик усвоил бесценный урок: даже в мире грибов истинная награда заключается не в самих грибах, а в крепких семейных узах и радости совместного бытия.
Много лет прошло с того дня; Серёжа вырос, бабушки Клавы не стало. Но и сегодня мир грибов во всём своём великолепии не устаёт бросать нам вызов и приглашение исследовать глубины нашей собственной человечности.
Добрым грибам, питающим и поддерживающим всех, кто ищет их щедрости и заботы, не устают противопоставлять себя ядовитые виды – и открыто вероломные, и хитроумно обманчивые. И орды паразитов, неизменно жаждущих господства, медленно душат жизнь в возвышающихся над миром деревьях, ведь их собственное процветание строится на бесконечном потреблении и бессмысленном разрушении этого мира.
В этой сложной мозаике русского леса, сочетающей в себе игру света и тени, жизни и смерти, мир грибов, как маленькое зеркальце в маминой пудренице, отражает мир людей во всей его сложности и многообразии. Ведь разве люди не способны и на великое бескорыстие, и на самоотречение, и на невыразимую и необъяснимую жестокость? Разве мы не надеваем иногда маску доброты, даже если в сердце закралось зло, захватив наши помыслы? И разве мы не эксплуатируем порой бездумно ресурсы нашего мира, не обращая внимания на жизнь вокруг, не задумываясь о последствиях, ослеплённые корыстью, в погоне за собственной выгодой?
Грибы в своем молчаливом свидетельстве задают нам простой вопрос: решимся ли мы подражать добрым, дающим жизнь грибам или поддадимся ядовитому обману вероломных поганок или беспощадному натиску безжалостных паразитов, подстерегающих нас в самых неожиданных местах? Выбор остаётся за нами: и судьба русского леса, и нашего собственного мира неотвратимо зависят от нашего с вами решения.
Ведь мы все вместе и есть этот мир грибов – от самых добрых и щедрых до самых злобных, подлых и эгоистичных. Вопрос только в том, под шляпкой какого гриба ты решишься прожить свою долгую и, надеюсь, счастливую жизнь?!
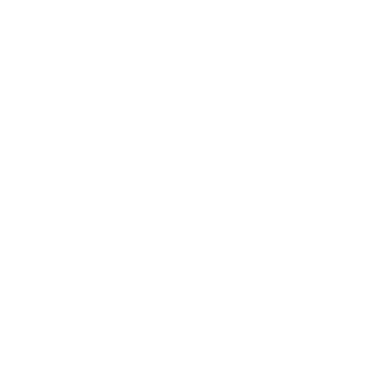
Елена НЕВЕСЕНКО
Родилась в Санкт-Петербурге. Закончила СПбГУСЭ по специальности «Специалист по связям с общественностью». Являюсь кандидатом социологических наук. Работаю маркетологом-аналитиком. Пишу в эпическом жанре, а также в жанрах фантастики, мистики, хоррора.
Родилась в Санкт-Петербурге. Закончила СПбГУСЭ по специальности «Специалист по связям с общественностью». Являюсь кандидатом социологических наук. Работаю маркетологом-аналитиком. Пишу в эпическом жанре, а также в жанрах фантастики, мистики, хоррора.
ЯМА
День не задался с самого утра. Сначала Надин обрызгала проезжавшая мимо машина, испачкав новые джинсы. Затем, приехав на завод и заступив на ночное дежурство, она с прискорбием обнаружила, что сменщики истребили весь сахар в комнате отдыха, и кофе придётся пить горьким. Последней каплей стала новость о том, что сегодня ей предстоит работать в паре с ненавистной Люсьеной.
Люсьена, как всегда, появилась на посту охраны с опозданием на двадцать минут. Разя вонючим запахом табака, напарница обозрела комнату высокомерным взглядом и бухнулась в кресло перед мониторами. Надин подмывало бросить ей пару неласковых слов, но она сдержалась. Собачиться в самом начале рабочей смены – не самое лучшее дело. Впереди еще целая ночь. Успеется.
Во втором часу Люсьена, кряхтя, встала с насиженного места и направилась на обход заводской территории. Когда за напарницей закрылась дверь, Надин выдохнула с облегчением, так как её трясло от одного присутствия этой вульгарной женщины. Теперь хотя бы полчаса она могла посидеть в одиночестве и помедитировать, чтобы успокоить нервы.
Однако наслаждаться тишиной у Надин получилось дольше, чем она рассчитывала. Прошло пятьдесят минут, а Люсьена так и не вернулась. Вскипая от ярости, Надин стала вызывать напарницу по рации. Та не отвечала.
– Закурилась она, что ли? – бурчала взбешенная женщина.
После третьей безуспешной попытки связаться с Люсьеной Надин, громко хлопнув дверью, выскочила с поста охраны и бросилась по маршруту обхода. «Я ей сейчас покажу! – с ожесточением думала Надин. – Она у меня попляшет, курилка картонная!»
Долетев до цеха №14, женщина едва успела затормозить перед утоптанной в темноте ямой. Посветив фонариком в её недра, она разглядела распростёртую внизу фигуру.
– Эй, ты там как? Жива? – сложив ладони рупором, крикнула Надин.
– Жива, – раздался снизу хриплый голос Люсьены.
– Ну, вылезай тогда! – рявкнула Надин. – Что развалилась?
– Не могу, блин, – огрызнулась Люсьена и добавила. – Я правую ногу не чувствую.
– Твою же дивизию! – всплеснула руками Надин. – И что прикажешь с тобой делать?
– Не знаю, – ответила Люсьена. – Но лучше тебе поторопиться. Тут у меня потоп. Походу, трубу прорвало.
Надин прислушалась. Действительно, снизу раздавался звук льющейся воды. Громко матерясь, женщина пошла по периметру ямы, высвечивая фонариком её стены, чтобы найти спуск. Вскоре она обнаружила ржавую канализационную лестницу. Пыхтя от злобы, Надин, осторожно ступая, стала спускаться. До дна, где сидела Люсьена, оставалось немного. Однако, наступив на скользкую ступеньку, нога сорвалась. Не удержавшись, Надин плюхнулась вниз.
Очнулась Надин от того, что кто-то бесцеремонно бил её по щекам. Придя в себя, женщина сразу почувствовала ноющую боль в затылке и шее. Еще было невыносимо холодно. Мокрая одежда как будто высасывала из тела тепло.
– Очухивайся быстрее! – крикнула в самое ухо Люсьена. – Вода прибывает!
Надин села и поняла, что находится на каменистой возвышенности. Перед ней по пояс в воде стоит её напарница.
– Давай выбираться отсюда, – прокашлявшись, проговорила Люсьена. – Ой, чувствую после такого дежурства ангины не избежать или того хуже.
Надин слегка похлопала напарницу по спине и почувствовала, как ту трясёт в ознобе. Ни слова не говоря, она полезла в ледяную воду.
Взявшись за руки, женщины двинулись в направлении места, где упала Надин. Там находилась канализационная лестница, ведущая наверх. Люсьена, подволакивая ногу, всем весом опиралась на плечо напарницы, больно оттягивая ей плечо.
На фоне плеска воды они услышали странный рокот, который всё нарастал и нарастал, а вскоре перерос в трубный вой. Обернувшись, женщины увидели, как на них несётся, сметая всё на своём пути, водный поток. Через мгновение мир закружился в бешеном водовороте. Надин, чудом вынырнув, успела глубоко вздохнуть. Потом вода вновь затянула её и поволокла вперёд, в темноту.
Сознание возвращалось к Надин постепенно. Сначала, открыв глаза, она увидела розовевшее небо, затем, повернув голову налево, разглядела большую крысу. Громко взвизгнув, Надин вскочила. От её вопля сновавшие вокруг грызуны разбежались в стороны. Оглядевшись, женщина поняла, что находится на берегу реки, в которую сливали техническую воду с завода. Чуть поодаль лежала Люсьена.
Надин с опаской подошла к напарнице. Лицо лежавшей на земле женщины было бледным, расплывшимся. Трясущейся рукой Надин прощупала пульс на её запястье. Почувствовала тонкую вибрацию жилки. С облегчением выдохнула. Люсьена была жива. Она повернула напарницу на бок. Та закашляла и застонала.
Окончательно выбившись из сил, Надин легла на размокшую землю рядом с Люсьеной. Они лежали и молчали. По небу мирно плыли белые пушистые облака. Вдалеке раздавался вой сирен.
– Спасибо, – прохрипела Люсьена.
– И тебе спасибо, – ответила Надин.
– Ещё полежим или пойдем? – спросила Люсьена.
Взяв прихрамывавшую напарницу под руку, Надин направилась к заводу.
День не задался с самого утра. Сначала Надин обрызгала проезжавшая мимо машина, испачкав новые джинсы. Затем, приехав на завод и заступив на ночное дежурство, она с прискорбием обнаружила, что сменщики истребили весь сахар в комнате отдыха, и кофе придётся пить горьким. Последней каплей стала новость о том, что сегодня ей предстоит работать в паре с ненавистной Люсьеной.
Люсьена, как всегда, появилась на посту охраны с опозданием на двадцать минут. Разя вонючим запахом табака, напарница обозрела комнату высокомерным взглядом и бухнулась в кресло перед мониторами. Надин подмывало бросить ей пару неласковых слов, но она сдержалась. Собачиться в самом начале рабочей смены – не самое лучшее дело. Впереди еще целая ночь. Успеется.
Во втором часу Люсьена, кряхтя, встала с насиженного места и направилась на обход заводской территории. Когда за напарницей закрылась дверь, Надин выдохнула с облегчением, так как её трясло от одного присутствия этой вульгарной женщины. Теперь хотя бы полчаса она могла посидеть в одиночестве и помедитировать, чтобы успокоить нервы.
Однако наслаждаться тишиной у Надин получилось дольше, чем она рассчитывала. Прошло пятьдесят минут, а Люсьена так и не вернулась. Вскипая от ярости, Надин стала вызывать напарницу по рации. Та не отвечала.
– Закурилась она, что ли? – бурчала взбешенная женщина.
После третьей безуспешной попытки связаться с Люсьеной Надин, громко хлопнув дверью, выскочила с поста охраны и бросилась по маршруту обхода. «Я ей сейчас покажу! – с ожесточением думала Надин. – Она у меня попляшет, курилка картонная!»
Долетев до цеха №14, женщина едва успела затормозить перед утоптанной в темноте ямой. Посветив фонариком в её недра, она разглядела распростёртую внизу фигуру.
– Эй, ты там как? Жива? – сложив ладони рупором, крикнула Надин.
– Жива, – раздался снизу хриплый голос Люсьены.
– Ну, вылезай тогда! – рявкнула Надин. – Что развалилась?
– Не могу, блин, – огрызнулась Люсьена и добавила. – Я правую ногу не чувствую.
– Твою же дивизию! – всплеснула руками Надин. – И что прикажешь с тобой делать?
– Не знаю, – ответила Люсьена. – Но лучше тебе поторопиться. Тут у меня потоп. Походу, трубу прорвало.
Надин прислушалась. Действительно, снизу раздавался звук льющейся воды. Громко матерясь, женщина пошла по периметру ямы, высвечивая фонариком её стены, чтобы найти спуск. Вскоре она обнаружила ржавую канализационную лестницу. Пыхтя от злобы, Надин, осторожно ступая, стала спускаться. До дна, где сидела Люсьена, оставалось немного. Однако, наступив на скользкую ступеньку, нога сорвалась. Не удержавшись, Надин плюхнулась вниз.
Очнулась Надин от того, что кто-то бесцеремонно бил её по щекам. Придя в себя, женщина сразу почувствовала ноющую боль в затылке и шее. Еще было невыносимо холодно. Мокрая одежда как будто высасывала из тела тепло.
– Очухивайся быстрее! – крикнула в самое ухо Люсьена. – Вода прибывает!
Надин села и поняла, что находится на каменистой возвышенности. Перед ней по пояс в воде стоит её напарница.
– Давай выбираться отсюда, – прокашлявшись, проговорила Люсьена. – Ой, чувствую после такого дежурства ангины не избежать или того хуже.
Надин слегка похлопала напарницу по спине и почувствовала, как ту трясёт в ознобе. Ни слова не говоря, она полезла в ледяную воду.
Взявшись за руки, женщины двинулись в направлении места, где упала Надин. Там находилась канализационная лестница, ведущая наверх. Люсьена, подволакивая ногу, всем весом опиралась на плечо напарницы, больно оттягивая ей плечо.
На фоне плеска воды они услышали странный рокот, который всё нарастал и нарастал, а вскоре перерос в трубный вой. Обернувшись, женщины увидели, как на них несётся, сметая всё на своём пути, водный поток. Через мгновение мир закружился в бешеном водовороте. Надин, чудом вынырнув, успела глубоко вздохнуть. Потом вода вновь затянула её и поволокла вперёд, в темноту.
Сознание возвращалось к Надин постепенно. Сначала, открыв глаза, она увидела розовевшее небо, затем, повернув голову налево, разглядела большую крысу. Громко взвизгнув, Надин вскочила. От её вопля сновавшие вокруг грызуны разбежались в стороны. Оглядевшись, женщина поняла, что находится на берегу реки, в которую сливали техническую воду с завода. Чуть поодаль лежала Люсьена.
Надин с опаской подошла к напарнице. Лицо лежавшей на земле женщины было бледным, расплывшимся. Трясущейся рукой Надин прощупала пульс на её запястье. Почувствовала тонкую вибрацию жилки. С облегчением выдохнула. Люсьена была жива. Она повернула напарницу на бок. Та закашляла и застонала.
Окончательно выбившись из сил, Надин легла на размокшую землю рядом с Люсьеной. Они лежали и молчали. По небу мирно плыли белые пушистые облака. Вдалеке раздавался вой сирен.
– Спасибо, – прохрипела Люсьена.
– И тебе спасибо, – ответила Надин.
– Ещё полежим или пойдем? – спросила Люсьена.
Взяв прихрамывавшую напарницу под руку, Надин направилась к заводу.
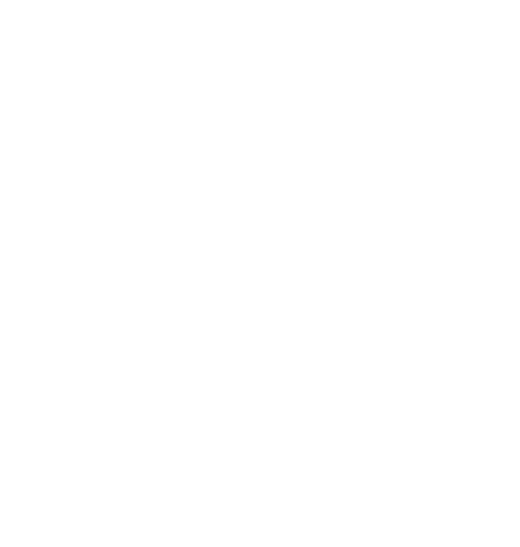
Анна ДАНИЛОВА
Родилась в 2003 году в г. Новосибирске. В настоящее время – студентка Томского государственного университета, обучается на направлении «Литературное творчество» (литературная мастерская А. Н. Губайдуллиной). Работает над сборником «локальных» сибирских текстов, публикуется в факультетском журнале «Речь».
Родилась в 2003 году в г. Новосибирске. В настоящее время – студентка Томского государственного университета, обучается на направлении «Литературное творчество» (литературная мастерская А. Н. Губайдуллиной). Работает над сборником «локальных» сибирских текстов, публикуется в факультетском журнале «Речь».
ИМЯ КАМНЯ
Он впервые задумался над этим, когда корчевал пихту на производство. В последние годы эта мысль стала для него главной. Завод всегда требовал много дерева, и часто они вырубали целые купы. Сложнее всего было, повалив ствол, корчевать корень: те лежали в земле, сцепившись, как множество рук, – семейные деревья. И мужики говорили об этих деревьях с каким-то чувством вины, будто и вправду, рубя, разлучали семью.
А вот одинокие деревья, хоть они и казались мощнее, корчевались легче. Их корни вгрызались в твёрдую землю вширь, выходили из неё с ошмётками глины. И вот однажды, работая, он выпрямился от неожиданной мысли: он и сам был одиноким деревом. Повали его, и никого не останется, кто бы вспомнил о нём или кто бы погоревал.
Это было ещё до пенсии. На пенсию он вышел около шестидесяти по вредности производства. Тело стало слабее; мысли – сильнее. И тогда, в поисках, чем заняться, он пошёл по тайге, по огромной древесной семье. Однажды он видел такое месторождение, дно которого уже начинало затапливать грунтовой водой. Скоро оно стало озером. Земельная рана затянулась. Всё в конце концов возвращается в землю. Так он задумался о смерти.
* * *
Имя его было Пётр. Фамилия – Бесфамильный.
Сначала он был ошибочно записан как колхозник, а не как рабочий, а колхозникам паспорта не полагались. Потом, когда документ стали давать всем, уже перемерли семейные, которые могли бы подтвердить, что он по фамилии действительно «такой-то». И всё как-то завертелось: вписали Бесфамильным. А потом и паспорт дали как Бесфамильному. Он походил по кабинетам, поругался, но так ничего и не добился.
Так забыли устную фамилию. И если старики ещё её помнили, то молодые смотрели с недоверием, звали только Бесфамильным. Старики всё помнили, но они уходили, как уходил, осыпаясь, затапливаемый карьер, и постепенно он становился Бесфамильным не только на словах, но и на деле.
Он думал: прежняя фамилия была старинная, знаменитая. Прапрадед резал по мрамору профиль Александра Освободителя. Зовётся камея. До сих пор лежит в музее. Царь там в железной шапке с пёрышками, каждое – такой тонюсенькой резьбы, что все нынешние мастера разводят руками, не в силах повторить. А вот дед тестя вазочку делал самому брату царя, Пётр не помнил, как он, царь, по имени-отчеству. Вазочку увезли в Петербург, в какой-то дворец; один колыванский ездил посмотреть: и в самом деле, она там стоит, обделанная лазурными пластинками, да так, что они идут от светлого к тёмному снизу вверх, как ледостав на реке.
А вот ещё прапрадед стругал полотенце самой Царице ваз, главной вазе во всём свете. Камень для неё тащили на своём горбу и мастера, и крестьяне, и каторжные. То был особый камень: чистой ревнёвской яшмы многотонный монолит, тёмная зелень с жёлтой песочной жилкой. Двадцать лет стругали, долбили, точили чашу, отделывали лиственное узорочье по краю, римский орнамент – по низу, обручи – на ножке и основании. Получили за это по десять золотников на брата – по рублю за два года труда. Но из-за несчастной паспортной фамилии все эти гордости как будто отвалились.
Пётр Бесфамильный раздумывал об этом и ещё о многом, когда вернулся со своего судьбоносного похода. Он чувствовал смерть и потому больше не мог заниматься обычными делами, выделенными ему по пенсии. Он не мог копаться в огороде или сидеть на пеньке и смотреть на то, как облака кочуют по небу, и как соседка подвязывает тяжёлые чёрные мальвы.
Он бросил всё это и пошёл дальше по земле искать особый камень: не для производства, а себе на могилу.
Копылов, доктор из райцентра, говорил, выписывая ему витамины:
– Дядь Петь, это, простите, дурость. Вы, простите, образованный человек, а мыслите, как тёмный старик. Ну как человек может предугадать свою смерть? Бросьте. Вам ведь всего, простите, шестьдесят… Шестьдесят семь лет?
Пётр не помнил, сколько ему лет. Он не ответил.
Витамины, конечно, не помогли. Смерть продолжала дышать в спину, а он продолжал искать.
Он много что увидел, пока ходил, много того, чего не замечал, пока искал камень по молодости. Он увидел огромную черновую тайгу с её драгоценной пихтой, все её потайные ручьи и звериные тропы. Он увидел брошенные карьеры, жёлтые и вонючие от серы. Но нужного камня он не увидел, хоть кругом Колывани и лежали самые богатые в мире земли.
Пётр хорошо знал их старинную историю, все старики в Колывани знали, и он вспоминал её, пока шёл: сперва этими землями кормилась чудь. Триста годов спустя по их затерянному следу, подбирая наконечники монгольских копий, пришли царские рудознатцы. Потом, конечно, советская власть. Здесь было на чём разжиться. Золото, медь, железо и ещё яшма разных видов, малахит, лазурит и мрамор, и порфир, и гранит, и агат, и кварц, и разные серы, шпаты, все виды руды и самоцветов на все нужды человека. Много раз думали, что земля истощилась, но она всё возрождалась, и в войну из Колывани шла красная медь, и на неё плавили даже чудный малахит с узором и шишечками. И сейчас режут из камня шкатулочки, вазочки, фигурки. Не так, как раньше, конечно.
На заводе сделали новый цех, заведует им бригадир Парщикова, отбирает к себе только девчонок и делает мозаику – ломоносовскую! В школы делает, в сады, в спортзалы, а в новосибирское метро сделала десять панно всяких цветов и зверья. Порфирное дело поставлено на автомат, на него в складах свалены груды гладкого чёрного камня. Из него гонят надгробия. Гонят – это из-за автоматов. Работает всё вот так: одно цепляло с зажимами тащит этот камень на попил, а пилы стоят механические и шлифовальные машины механические; потом машина же гравирует по глади портрет, имя-фамилию и даты жизни. Так дело ставить нельзя. Камень – не железка, которую сто раз нужно переплавить из изначального вида, чтоб превратить в изделие, железка не обидится. Камень обижается запросто. Пётр ещё пока работал, видел: порфир уходит под землю, не выманить. Пригоняли геологов с динамитом, машины с ковшами, но если камень уходит, это всё бесполезно, его не отыщешь. И сейчас они живут последним месторождением, а после него порфир выйдет совсем. А заменить его – чёрный, благородный, в мелкую белую точку – нечем.
И вот в такое время он решил умирать и в такое время пошёл искать себе камень на надгробие, а когда понял, что просто выкопать его невозможно, придумал искать по старым следам.
Однажды утром, отправляясь на свой промысел, он зашёл на завод. Завод строила тоже знаменитая фамилия, Демидовы. Они шли вглубь Сибири и ставили подле каждого рудного места заводик, а в Колывани был ещё Стрижов, сделавший камнерезный цех, а при нём – дамбу на речке Белой и колесо водяной мельницы. Это тоже помнили все деревенские, особенно старики, а он уже был, пожалуй, больше стариком.
Пётр шёл на завод узнавать про старый след.
За распахнутыми воротами он увидел всё знакомые места: дамбу, останки стрижовского колеса, новый распильный цех, старый цех, времянку на том месте, где полтора века тому назад лежал камень для царь-вазы. Он вошёл в мозаичный цех. Там было влажно, по цементному полу струилась вода, визжали камнерезные пилы. Парщикова вышла к нему навстречу в платке, очках и респираторе.
– Дед, я ховорила тебе, чтобы ты не ходил, когда работаем, – сказала она, слегка приподняв свои очки. – У нас производство, а ты пылью надышишься и опять кашлять. Давай отсюда. Потом поговорим.
– Скажи, Ирина, где твой старик искал камень? В какой стороне?
– Ты опять со своим камнем? Ты всё помирать собираешься? Брось, дед, ты меня переживёшь и ещё на поминках загуляешь (тьфу-тьфу-тьфу). А камень – хосударственный весь, и всё, что в земле, тоже хосударственное. Даже если найдёшь порфир, тебе его и вывезти будет нельзя, придётся платить, как всем. А стольких рублёв у тебя нет.
Они постояли под звуки камнерезных пил.
– Ну-у, на поминках… – сказал Бесфамильный.
– Да я тебя утешить пытаюсь, старый. Не то и в самом деле отсохнешь. Всё, иди, гуляй.
– Ирина! – крикнула из цеха какая-то из парщиковских девчонок. – Эскиз надо посмотреть.
– Иду, – ответила бригадир и вдруг, как будто сжалившись, добавила. – Батя искал вниз по старому руслу, в сторону Лазурного. Ты поищи тоже, но смотри, помни, что я сказала. Камень весь хосударственный. Не воруй, дед, не зови греха. Если что найдёшь, сразу в дирехторий…
– Ирина, эскизы!
– Да хоспади! – и она побежала назад, в цех.
* * *
И снова началось хождение.
Поиск камня нельзя сравнить ни с каким другим состоянием. Мир внутри него двоится, как бы распадается на части. Всё знакомое: вот маленькие травки, вот пихты, но видишь не столько их, сколько то, что они скрывают под собой. Все приметы земли обретают особый смысл. Каждый камень сияет и тянет к себе обещанием находки.
Пётр шёл по высохшему руслу походкой геолога – носом к земле. Он не сразу увидел, как лес редеет, обращаясь в опушку. Русло, указанное Ириной, здесь сворачивало направо и сужалось, а камня всё не было. Он замер, не зная, куда дальше. Кругом было тихо, пусто, нагнетённая солнцем жара лилась с чёрных лап и от земли. Вдруг какая-то горлица сорвалась с дерева, упала камнем чуть ли не до земли, захлопала крыльями и полетела к опушке. Пётр пошёл по её следу, решив, что ему легла примета.
Лес кончился, началась степь. Наступило время, когда поиск опротивел. Захотелось поднять голову, размять шею, расслабить ищущие глаза, но Пётр этого себе не позволил. Он шёл дальше и дальше, пока не понял, что взбирается на холм. Когда-то похожий холм взорвали приезжие геологи. Взорвали удачно, и с тех пор там добывали хороший мрамор.
Он взобрался на горб холма и только тогда поднял голову. Сразу же исчезло поисковое настроение, и он как впервые увидел всё окружающее. Было небо, огромное, какое бывает только в степях, и жёлтая от солнца трава на диких холмах. Невдалеке лежал лес, который он прошёл, чёрный, полный потайных трясин и птичьих гнёзд. Пётр поднял взгляд выше и увидел: почти что на горизонте реяло облако заводской пыли. Он что-то чувствовал. Может, близость камня, может, что-то ещё.
Нужно было идти дальше. Пётр сделал несколько шагов назад, ещё не опустив головы и не приклеившись взглядом к земле, и вдруг запнулся о какой-то стебель, покатился по склону. И тогда, среди жёлтой пыли, забивающей глаза, и прыгающего горизонта, он яснее почувствовал смерть. Она стояла вверху, прозрачная, и тянула ему руку, хотела помочь. Пётр не дал ей руки, остановился сам, уцепившись за траву.
– Не раньше, чем добуду камень, – сказал он, лёжа на животе под огромным степным небом.
Потом он увидел глыбу.
Пётр не сразу встал. Сначала лежал, восстанавливал дыхание. Потом сел и осмотрел глыбу: камень вырастал из-под земли одним плоским боком в желтоватой глине с продольными царапинами.
Он подошёл, плюнул на рукав и потёр его влагой, и тогда вдруг на секунду проступила чернота, вся в белых крапинках.
Это был порфир.
У самого почти завода – одинокий, неглубоко залегающий порфир. Такого не могло случиться. Он снова протёр камень, и для него снова сверкнуло чёрным. Пётр поплевал на руки, взялся за лопату и окопал камень; дальше почва стала глинистой, жёсткой, и он начал работать кайлом. Глыба всё не кончалась, всё её огромное тело залегало под землёй. Такой хватит не на один памятник, а на десять.
Он остановился, задыхаясь от натуги и радости, но что-то его тревожило. Он задумался и понял, что тревожили слова Ирины; хотел отмахнуться, но не смог. Земля вроде и своя, но была государственная. Богатства – тоже государственные. Да и не выволочь такую глыбу в одиночку. Попросить помощи? Тогда новость разлетится, и камень отберут.
Он задумчиво сел возле глыбы. Скоро умирать. Пётр это чувствовал. Без могилки его не оставят, сделают общими средствами какой-нибудь обелиск. Но не хотелось этого дурацкого камня без души и без истории. Родичи бы сделали с душой, но родичей не было, как и фамилии.
Пётр рассердился, встал, бросил кайло и лопату и побрёл домой.
* * *
Он вернулся на свой пенёк. Соседи посмеялись над его ободранной рожей и забыли. Парщикова тоже вроде забыла об их разговоре. Про камень так никто и не узнал.
Лето было жаркое, но он ничего не посеял и не ждал урожая, и ему только и оставалось, что смотреть на облака и на мальвы, и на коз. Вниз по склону шли стада, жуя сухую траву и тревожно поворачивая головы. Это были единственные развлечения, но и среди стад он иногда видел смерть; та шла и похлопывала скот по спине: если похлопывала, на следующий день коза падала от жарового мора.
Духота нарастала, копясь в воздухе, высушивала лес до корней и выпивала колодцы. Воду стали привозить из райцентра. Время сгустилось, словно ожидая чего-то, и это что-то произошло мгновенно, как быстрая искра, возжигающая сухую траву.
Настали лесные пожары. Солнце в небе стояло красное, как железная окись, и со стоячего безветренного неба падал дым. В воздухе была тревога, смог. Ястреба, изгнанные из гнёзд огнём, кружили над полями. Пётр снова забеспокоился, сначала не зная, из-за чего, потом понял, что боится, что камень погорит и затеряется на обугленной земле. К тому же стало жалко брошенный инструмент.
Он собрался рано утром и пошёл.
Даже с утра была духота – нехорошая, предвещающая новый пожар. Пётр не узнавал лес, который до того был зелёным и чёрным: теперь он притих и окрасился пыльной охрой. Он следовал за старым руслом, где окончательно пересох тонкий ручей, и ждал хоть белки или мыши, хоть воробья, хоть чего-то, что нарушило бы страшную тишину, но лес замер, как мёртвый. В этом было что-то до того неправильное в самом корне, что Пётр пошёл совсем тихо, оглядываясь и запинаясь. Он не сразу заметил, что кружится голова, и не сразу понял, что идёт как-то неправильно, хотя русло было одно, и заблудиться было сложно. Он не понимал, где ошибся в направлении. Остановившись, он зачем-то ждал горлицы, но вместо неё из-за дерева выглянула смерть.
Вдруг остро запахло гарью. Он вышел в степь. Небо – жёлтое, безоблачное – стояло в странной дымке: вблизи она казалась прозрачной, но вдалеке как бы ложилась занавесь на занавесь и становилась непроницаемой – Пётр не видел далёких холмов и оттого не мог понять направления. Вроде бы он был в нужном месте, а может, и нет. Всё было одинаково и дымно. Степь ничто не закрывало от солнца, и Пётр шёл, обливаясь потом. Жёлтый смог стоял в небе, солнце красным воспалённым глазом смотрело на него с неба – это был глаз смерти. Он не мог понять, где идёт, кружилась голова, и жгло горло. Среди холмов он никак не мог найти нужный. Ему показалось, что впереди – чернота, и вьётся низкий степной пожар, и в нём зародился ужас, и страх перед тишиной разросся до большого древнего страха перед огнём…
Пётр вдруг начал метаться, сам не зная, откуда такой страх, и заблудился окончательно. Но вдруг из-за дымки выглянул знакомый холм. Он побежал по нему, чувствуя, что только там спасётся от огня.
Вдруг Пётр увидел разрытое место и понял, что камень выдрали из земли и забрали. Он сел на землю и тупо поводил рукой по глине, отвердевшей от жара. Всё было пусто. Камня больше не было.
Он не помнил, как пришёл домой, но помнил, что долго сидел в горнице, словно в бреду, и пил ледяную воду, чтобы промыть горло, впитавшее пыль: всё, как в странном жёлтом сне, где никогда не заходило воспалённое солнце, и всё вгрызались в землю пожары, как смерть, пришедшая поглотить весь мир и весь камень.
* * *
– Вы лучше поберегите его, Ирина Анатольевна, – сказал Копылов, выходя в коридор. – По всей области было предупреждение, говорили из дому не выходить, чтобы, простите, не травить организм. А он, простите, не послушался и пошёл.
– Да, пошёл, конечно, – с неудовольствием кивала Парщикова, видя, как Пётр Бесфамильный сидит в кабинете: глаза воспалённые, дыхание странное, спина согбенная. – Но я теперь за ним прослежу. Он у меня ещё похуляет, холубчик.
– Вот я ему выпишу капли и таблетки. Загляните в аптеку, как пойдёте на автобус.
Они вернулись в Колывань. Пётр не стал пить капли. Пожары уже кончились, глаза у него излечились, горло изошло чёрной, гарной слизью, и дышать стало легче. Одно не излечилось: он чувствовал смерть и иногда видел её. Прозрачная. Непонятная. Глаз – красный. То ли есть она, то ли нет. Стояла у окна и смотрела, смотрела…
Пётр не выдержал, когда вспомнил про надгробие. Ему уже ничего не хотелось. Хотелось только надгробие, чтобы сработанное человеческой рукой.
Он вышел из дома с рассветом, когда небо наполовину скрывали низкие облака, и долго шёл, сверяя каждый шаг, боялся снова потерять дорогу. В лесу было влажно: после пожара земля требовала дождя, и дожди шли всю прошедшую неделю, как нарочно. В пихтовых лапах лежали капли. Бледная кислица разрасталась в грязи там, где деревья не скрывали почву от ливня. Он видел это всё и не видел, шёл, приклеившись взглядом к земле, – жидкой, жирной, камненосной.
Там, где русло сворачивало вправо, он постоял, ожидая неизвестно чего. Может, знака, но знака не было, и Пётр пошёл наугад. Вскоре были степи – тёмно-зелёные, повторно зацветшие на короткое время, пока солнце не выжгло их снова до сухостоя. Где-то ещё были следы пожара, курящиеся от дождевой прохлады чёрные пропалины. Но страшной тишины не было: шелестела трава, и в высоте тонко кричал возвратившийся домой ястреб.
Дымку смыло ливнем, и в чистом влажном воздухе холмы были видны издалека. Пётр увидел нужный и долгое время шёл, как бы ища камень, с опущенным взглядом – боялся посмотреть выше и увидеть разрытую яму. Медленно переводя взгляд от низу к верху, он увидел суслика, сидящего на его лопате, потом – кайло, всё покрытое мокрой пылью, потом – полосу травы, потом… камень.
Пётр подошёл. Суслик перебирал короткими лапами и смотрел в небо, когда увидел человека, то сорвался и скрылся в траве.
Глыба порфира была на месте, как будто метания в дыму ему почудились. Пётр машинально окопал её ещё глубже. Он вспомнил про слова Ирины, но копать не перестал. Ему вдруг пришла в голову такая мысль: всё равно на деревенском кладбище лежать неловко, там предки, а он – Бесфамильный, и под такой фамилией будет захоронен. Может, обточить камень здесь, а потом завещать похоронить себя под ним? Не осмелятся же нарушить последнюю просьбу?
От облегчения, принесённого этой мыслью, затряслись ноги. Пётр присел на камень отдохнуть и посмотреть кругом, как в прошлый раз. После дождя всё ожило. Ястребов стало двое, они неслись в небе и победно кричали. Далеко за горизонтом стоял завод. Там были люди. От этой мысли Бесфамильному вдруг вспомнилось его одиночество и захотелось поговорить.
Он похлопал порфир по нагретому боку:
– Вот ты и будешь Бесфамильный-младший. Поздний сын. Порфирий Петрович Бесфамильный! Так и запишем.
После этих слов странное чувство в нём достигло предела. Одиночества не стало, хоть на много километров кругом не было ни одной человеческой души. Но был хор оживших трав, на мгновение он заглушил даже ястребов. Был лес вниз по склону. И был завод, а с ним были люди. И был камень.
– Порфирий Петрович Бесфамильный… – задумчиво повторил Пётр, потом подобрал лопату с кайлом и пошёл домой.
Дома он вытащил свой ящик с камнерезными инструментами и долго смотрел на них. Ему больше не хотелось надгробия. Ему хотелось сделать чудную фигурку из порфира. Пётр прикинул форму и размер глыбы и хрустнул суставами, подотвыкшими от работы.
– Ничего. Сдюжим, – сказал себе и понял, что впервые за лето смерть не смотрит на него в окно.
На следующий день он исчез из Колывани, но никто не заметил – Пётр исчез в степях и провёл там недели под дождём и солнцем. Он вернулся, покрытый травой и каменной пылью, и на его плечах больше не висела смерть. Вскоре уже привычно копался в огороде, засевая позднюю репу. На завод он перестал ходить, хоть иногда и бродил ещё по лесу, искал камень и, возможно, строгал фигурки («дирехторий» закрывал на это глаза, пока камень был мал). Он не рассказал этого никому, но на отдалённом склоне теперь лежала не просто глыба – там была фигурка, поднимающаяся из земли, сделанная с удивительной точностью и умением.
Фигурка была похожа на ребёнка, застывшего, как будто только на секунду, чтобы посмотреть на зажатого в кулачке жука.
Он впервые задумался над этим, когда корчевал пихту на производство. В последние годы эта мысль стала для него главной. Завод всегда требовал много дерева, и часто они вырубали целые купы. Сложнее всего было, повалив ствол, корчевать корень: те лежали в земле, сцепившись, как множество рук, – семейные деревья. И мужики говорили об этих деревьях с каким-то чувством вины, будто и вправду, рубя, разлучали семью.
А вот одинокие деревья, хоть они и казались мощнее, корчевались легче. Их корни вгрызались в твёрдую землю вширь, выходили из неё с ошмётками глины. И вот однажды, работая, он выпрямился от неожиданной мысли: он и сам был одиноким деревом. Повали его, и никого не останется, кто бы вспомнил о нём или кто бы погоревал.
Это было ещё до пенсии. На пенсию он вышел около шестидесяти по вредности производства. Тело стало слабее; мысли – сильнее. И тогда, в поисках, чем заняться, он пошёл по тайге, по огромной древесной семье. Однажды он видел такое месторождение, дно которого уже начинало затапливать грунтовой водой. Скоро оно стало озером. Земельная рана затянулась. Всё в конце концов возвращается в землю. Так он задумался о смерти.
* * *
Имя его было Пётр. Фамилия – Бесфамильный.
Сначала он был ошибочно записан как колхозник, а не как рабочий, а колхозникам паспорта не полагались. Потом, когда документ стали давать всем, уже перемерли семейные, которые могли бы подтвердить, что он по фамилии действительно «такой-то». И всё как-то завертелось: вписали Бесфамильным. А потом и паспорт дали как Бесфамильному. Он походил по кабинетам, поругался, но так ничего и не добился.
Так забыли устную фамилию. И если старики ещё её помнили, то молодые смотрели с недоверием, звали только Бесфамильным. Старики всё помнили, но они уходили, как уходил, осыпаясь, затапливаемый карьер, и постепенно он становился Бесфамильным не только на словах, но и на деле.
Он думал: прежняя фамилия была старинная, знаменитая. Прапрадед резал по мрамору профиль Александра Освободителя. Зовётся камея. До сих пор лежит в музее. Царь там в железной шапке с пёрышками, каждое – такой тонюсенькой резьбы, что все нынешние мастера разводят руками, не в силах повторить. А вот дед тестя вазочку делал самому брату царя, Пётр не помнил, как он, царь, по имени-отчеству. Вазочку увезли в Петербург, в какой-то дворец; один колыванский ездил посмотреть: и в самом деле, она там стоит, обделанная лазурными пластинками, да так, что они идут от светлого к тёмному снизу вверх, как ледостав на реке.
А вот ещё прапрадед стругал полотенце самой Царице ваз, главной вазе во всём свете. Камень для неё тащили на своём горбу и мастера, и крестьяне, и каторжные. То был особый камень: чистой ревнёвской яшмы многотонный монолит, тёмная зелень с жёлтой песочной жилкой. Двадцать лет стругали, долбили, точили чашу, отделывали лиственное узорочье по краю, римский орнамент – по низу, обручи – на ножке и основании. Получили за это по десять золотников на брата – по рублю за два года труда. Но из-за несчастной паспортной фамилии все эти гордости как будто отвалились.
Пётр Бесфамильный раздумывал об этом и ещё о многом, когда вернулся со своего судьбоносного похода. Он чувствовал смерть и потому больше не мог заниматься обычными делами, выделенными ему по пенсии. Он не мог копаться в огороде или сидеть на пеньке и смотреть на то, как облака кочуют по небу, и как соседка подвязывает тяжёлые чёрные мальвы.
Он бросил всё это и пошёл дальше по земле искать особый камень: не для производства, а себе на могилу.
Копылов, доктор из райцентра, говорил, выписывая ему витамины:
– Дядь Петь, это, простите, дурость. Вы, простите, образованный человек, а мыслите, как тёмный старик. Ну как человек может предугадать свою смерть? Бросьте. Вам ведь всего, простите, шестьдесят… Шестьдесят семь лет?
Пётр не помнил, сколько ему лет. Он не ответил.
Витамины, конечно, не помогли. Смерть продолжала дышать в спину, а он продолжал искать.
Он много что увидел, пока ходил, много того, чего не замечал, пока искал камень по молодости. Он увидел огромную черновую тайгу с её драгоценной пихтой, все её потайные ручьи и звериные тропы. Он увидел брошенные карьеры, жёлтые и вонючие от серы. Но нужного камня он не увидел, хоть кругом Колывани и лежали самые богатые в мире земли.
Пётр хорошо знал их старинную историю, все старики в Колывани знали, и он вспоминал её, пока шёл: сперва этими землями кормилась чудь. Триста годов спустя по их затерянному следу, подбирая наконечники монгольских копий, пришли царские рудознатцы. Потом, конечно, советская власть. Здесь было на чём разжиться. Золото, медь, железо и ещё яшма разных видов, малахит, лазурит и мрамор, и порфир, и гранит, и агат, и кварц, и разные серы, шпаты, все виды руды и самоцветов на все нужды человека. Много раз думали, что земля истощилась, но она всё возрождалась, и в войну из Колывани шла красная медь, и на неё плавили даже чудный малахит с узором и шишечками. И сейчас режут из камня шкатулочки, вазочки, фигурки. Не так, как раньше, конечно.
На заводе сделали новый цех, заведует им бригадир Парщикова, отбирает к себе только девчонок и делает мозаику – ломоносовскую! В школы делает, в сады, в спортзалы, а в новосибирское метро сделала десять панно всяких цветов и зверья. Порфирное дело поставлено на автомат, на него в складах свалены груды гладкого чёрного камня. Из него гонят надгробия. Гонят – это из-за автоматов. Работает всё вот так: одно цепляло с зажимами тащит этот камень на попил, а пилы стоят механические и шлифовальные машины механические; потом машина же гравирует по глади портрет, имя-фамилию и даты жизни. Так дело ставить нельзя. Камень – не железка, которую сто раз нужно переплавить из изначального вида, чтоб превратить в изделие, железка не обидится. Камень обижается запросто. Пётр ещё пока работал, видел: порфир уходит под землю, не выманить. Пригоняли геологов с динамитом, машины с ковшами, но если камень уходит, это всё бесполезно, его не отыщешь. И сейчас они живут последним месторождением, а после него порфир выйдет совсем. А заменить его – чёрный, благородный, в мелкую белую точку – нечем.
И вот в такое время он решил умирать и в такое время пошёл искать себе камень на надгробие, а когда понял, что просто выкопать его невозможно, придумал искать по старым следам.
Однажды утром, отправляясь на свой промысел, он зашёл на завод. Завод строила тоже знаменитая фамилия, Демидовы. Они шли вглубь Сибири и ставили подле каждого рудного места заводик, а в Колывани был ещё Стрижов, сделавший камнерезный цех, а при нём – дамбу на речке Белой и колесо водяной мельницы. Это тоже помнили все деревенские, особенно старики, а он уже был, пожалуй, больше стариком.
Пётр шёл на завод узнавать про старый след.
За распахнутыми воротами он увидел всё знакомые места: дамбу, останки стрижовского колеса, новый распильный цех, старый цех, времянку на том месте, где полтора века тому назад лежал камень для царь-вазы. Он вошёл в мозаичный цех. Там было влажно, по цементному полу струилась вода, визжали камнерезные пилы. Парщикова вышла к нему навстречу в платке, очках и респираторе.
– Дед, я ховорила тебе, чтобы ты не ходил, когда работаем, – сказала она, слегка приподняв свои очки. – У нас производство, а ты пылью надышишься и опять кашлять. Давай отсюда. Потом поговорим.
– Скажи, Ирина, где твой старик искал камень? В какой стороне?
– Ты опять со своим камнем? Ты всё помирать собираешься? Брось, дед, ты меня переживёшь и ещё на поминках загуляешь (тьфу-тьфу-тьфу). А камень – хосударственный весь, и всё, что в земле, тоже хосударственное. Даже если найдёшь порфир, тебе его и вывезти будет нельзя, придётся платить, как всем. А стольких рублёв у тебя нет.
Они постояли под звуки камнерезных пил.
– Ну-у, на поминках… – сказал Бесфамильный.
– Да я тебя утешить пытаюсь, старый. Не то и в самом деле отсохнешь. Всё, иди, гуляй.
– Ирина! – крикнула из цеха какая-то из парщиковских девчонок. – Эскиз надо посмотреть.
– Иду, – ответила бригадир и вдруг, как будто сжалившись, добавила. – Батя искал вниз по старому руслу, в сторону Лазурного. Ты поищи тоже, но смотри, помни, что я сказала. Камень весь хосударственный. Не воруй, дед, не зови греха. Если что найдёшь, сразу в дирехторий…
– Ирина, эскизы!
– Да хоспади! – и она побежала назад, в цех.
* * *
И снова началось хождение.
Поиск камня нельзя сравнить ни с каким другим состоянием. Мир внутри него двоится, как бы распадается на части. Всё знакомое: вот маленькие травки, вот пихты, но видишь не столько их, сколько то, что они скрывают под собой. Все приметы земли обретают особый смысл. Каждый камень сияет и тянет к себе обещанием находки.
Пётр шёл по высохшему руслу походкой геолога – носом к земле. Он не сразу увидел, как лес редеет, обращаясь в опушку. Русло, указанное Ириной, здесь сворачивало направо и сужалось, а камня всё не было. Он замер, не зная, куда дальше. Кругом было тихо, пусто, нагнетённая солнцем жара лилась с чёрных лап и от земли. Вдруг какая-то горлица сорвалась с дерева, упала камнем чуть ли не до земли, захлопала крыльями и полетела к опушке. Пётр пошёл по её следу, решив, что ему легла примета.
Лес кончился, началась степь. Наступило время, когда поиск опротивел. Захотелось поднять голову, размять шею, расслабить ищущие глаза, но Пётр этого себе не позволил. Он шёл дальше и дальше, пока не понял, что взбирается на холм. Когда-то похожий холм взорвали приезжие геологи. Взорвали удачно, и с тех пор там добывали хороший мрамор.
Он взобрался на горб холма и только тогда поднял голову. Сразу же исчезло поисковое настроение, и он как впервые увидел всё окружающее. Было небо, огромное, какое бывает только в степях, и жёлтая от солнца трава на диких холмах. Невдалеке лежал лес, который он прошёл, чёрный, полный потайных трясин и птичьих гнёзд. Пётр поднял взгляд выше и увидел: почти что на горизонте реяло облако заводской пыли. Он что-то чувствовал. Может, близость камня, может, что-то ещё.
Нужно было идти дальше. Пётр сделал несколько шагов назад, ещё не опустив головы и не приклеившись взглядом к земле, и вдруг запнулся о какой-то стебель, покатился по склону. И тогда, среди жёлтой пыли, забивающей глаза, и прыгающего горизонта, он яснее почувствовал смерть. Она стояла вверху, прозрачная, и тянула ему руку, хотела помочь. Пётр не дал ей руки, остановился сам, уцепившись за траву.
– Не раньше, чем добуду камень, – сказал он, лёжа на животе под огромным степным небом.
Потом он увидел глыбу.
Пётр не сразу встал. Сначала лежал, восстанавливал дыхание. Потом сел и осмотрел глыбу: камень вырастал из-под земли одним плоским боком в желтоватой глине с продольными царапинами.
Он подошёл, плюнул на рукав и потёр его влагой, и тогда вдруг на секунду проступила чернота, вся в белых крапинках.
Это был порфир.
У самого почти завода – одинокий, неглубоко залегающий порфир. Такого не могло случиться. Он снова протёр камень, и для него снова сверкнуло чёрным. Пётр поплевал на руки, взялся за лопату и окопал камень; дальше почва стала глинистой, жёсткой, и он начал работать кайлом. Глыба всё не кончалась, всё её огромное тело залегало под землёй. Такой хватит не на один памятник, а на десять.
Он остановился, задыхаясь от натуги и радости, но что-то его тревожило. Он задумался и понял, что тревожили слова Ирины; хотел отмахнуться, но не смог. Земля вроде и своя, но была государственная. Богатства – тоже государственные. Да и не выволочь такую глыбу в одиночку. Попросить помощи? Тогда новость разлетится, и камень отберут.
Он задумчиво сел возле глыбы. Скоро умирать. Пётр это чувствовал. Без могилки его не оставят, сделают общими средствами какой-нибудь обелиск. Но не хотелось этого дурацкого камня без души и без истории. Родичи бы сделали с душой, но родичей не было, как и фамилии.
Пётр рассердился, встал, бросил кайло и лопату и побрёл домой.
* * *
Он вернулся на свой пенёк. Соседи посмеялись над его ободранной рожей и забыли. Парщикова тоже вроде забыла об их разговоре. Про камень так никто и не узнал.
Лето было жаркое, но он ничего не посеял и не ждал урожая, и ему только и оставалось, что смотреть на облака и на мальвы, и на коз. Вниз по склону шли стада, жуя сухую траву и тревожно поворачивая головы. Это были единственные развлечения, но и среди стад он иногда видел смерть; та шла и похлопывала скот по спине: если похлопывала, на следующий день коза падала от жарового мора.
Духота нарастала, копясь в воздухе, высушивала лес до корней и выпивала колодцы. Воду стали привозить из райцентра. Время сгустилось, словно ожидая чего-то, и это что-то произошло мгновенно, как быстрая искра, возжигающая сухую траву.
Настали лесные пожары. Солнце в небе стояло красное, как железная окись, и со стоячего безветренного неба падал дым. В воздухе была тревога, смог. Ястреба, изгнанные из гнёзд огнём, кружили над полями. Пётр снова забеспокоился, сначала не зная, из-за чего, потом понял, что боится, что камень погорит и затеряется на обугленной земле. К тому же стало жалко брошенный инструмент.
Он собрался рано утром и пошёл.
Даже с утра была духота – нехорошая, предвещающая новый пожар. Пётр не узнавал лес, который до того был зелёным и чёрным: теперь он притих и окрасился пыльной охрой. Он следовал за старым руслом, где окончательно пересох тонкий ручей, и ждал хоть белки или мыши, хоть воробья, хоть чего-то, что нарушило бы страшную тишину, но лес замер, как мёртвый. В этом было что-то до того неправильное в самом корне, что Пётр пошёл совсем тихо, оглядываясь и запинаясь. Он не сразу заметил, что кружится голова, и не сразу понял, что идёт как-то неправильно, хотя русло было одно, и заблудиться было сложно. Он не понимал, где ошибся в направлении. Остановившись, он зачем-то ждал горлицы, но вместо неё из-за дерева выглянула смерть.
Вдруг остро запахло гарью. Он вышел в степь. Небо – жёлтое, безоблачное – стояло в странной дымке: вблизи она казалась прозрачной, но вдалеке как бы ложилась занавесь на занавесь и становилась непроницаемой – Пётр не видел далёких холмов и оттого не мог понять направления. Вроде бы он был в нужном месте, а может, и нет. Всё было одинаково и дымно. Степь ничто не закрывало от солнца, и Пётр шёл, обливаясь потом. Жёлтый смог стоял в небе, солнце красным воспалённым глазом смотрело на него с неба – это был глаз смерти. Он не мог понять, где идёт, кружилась голова, и жгло горло. Среди холмов он никак не мог найти нужный. Ему показалось, что впереди – чернота, и вьётся низкий степной пожар, и в нём зародился ужас, и страх перед тишиной разросся до большого древнего страха перед огнём…
Пётр вдруг начал метаться, сам не зная, откуда такой страх, и заблудился окончательно. Но вдруг из-за дымки выглянул знакомый холм. Он побежал по нему, чувствуя, что только там спасётся от огня.
Вдруг Пётр увидел разрытое место и понял, что камень выдрали из земли и забрали. Он сел на землю и тупо поводил рукой по глине, отвердевшей от жара. Всё было пусто. Камня больше не было.
Он не помнил, как пришёл домой, но помнил, что долго сидел в горнице, словно в бреду, и пил ледяную воду, чтобы промыть горло, впитавшее пыль: всё, как в странном жёлтом сне, где никогда не заходило воспалённое солнце, и всё вгрызались в землю пожары, как смерть, пришедшая поглотить весь мир и весь камень.
* * *
– Вы лучше поберегите его, Ирина Анатольевна, – сказал Копылов, выходя в коридор. – По всей области было предупреждение, говорили из дому не выходить, чтобы, простите, не травить организм. А он, простите, не послушался и пошёл.
– Да, пошёл, конечно, – с неудовольствием кивала Парщикова, видя, как Пётр Бесфамильный сидит в кабинете: глаза воспалённые, дыхание странное, спина согбенная. – Но я теперь за ним прослежу. Он у меня ещё похуляет, холубчик.
– Вот я ему выпишу капли и таблетки. Загляните в аптеку, как пойдёте на автобус.
Они вернулись в Колывань. Пётр не стал пить капли. Пожары уже кончились, глаза у него излечились, горло изошло чёрной, гарной слизью, и дышать стало легче. Одно не излечилось: он чувствовал смерть и иногда видел её. Прозрачная. Непонятная. Глаз – красный. То ли есть она, то ли нет. Стояла у окна и смотрела, смотрела…
Пётр не выдержал, когда вспомнил про надгробие. Ему уже ничего не хотелось. Хотелось только надгробие, чтобы сработанное человеческой рукой.
Он вышел из дома с рассветом, когда небо наполовину скрывали низкие облака, и долго шёл, сверяя каждый шаг, боялся снова потерять дорогу. В лесу было влажно: после пожара земля требовала дождя, и дожди шли всю прошедшую неделю, как нарочно. В пихтовых лапах лежали капли. Бледная кислица разрасталась в грязи там, где деревья не скрывали почву от ливня. Он видел это всё и не видел, шёл, приклеившись взглядом к земле, – жидкой, жирной, камненосной.
Там, где русло сворачивало вправо, он постоял, ожидая неизвестно чего. Может, знака, но знака не было, и Пётр пошёл наугад. Вскоре были степи – тёмно-зелёные, повторно зацветшие на короткое время, пока солнце не выжгло их снова до сухостоя. Где-то ещё были следы пожара, курящиеся от дождевой прохлады чёрные пропалины. Но страшной тишины не было: шелестела трава, и в высоте тонко кричал возвратившийся домой ястреб.
Дымку смыло ливнем, и в чистом влажном воздухе холмы были видны издалека. Пётр увидел нужный и долгое время шёл, как бы ища камень, с опущенным взглядом – боялся посмотреть выше и увидеть разрытую яму. Медленно переводя взгляд от низу к верху, он увидел суслика, сидящего на его лопате, потом – кайло, всё покрытое мокрой пылью, потом – полосу травы, потом… камень.
Пётр подошёл. Суслик перебирал короткими лапами и смотрел в небо, когда увидел человека, то сорвался и скрылся в траве.
Глыба порфира была на месте, как будто метания в дыму ему почудились. Пётр машинально окопал её ещё глубже. Он вспомнил про слова Ирины, но копать не перестал. Ему вдруг пришла в голову такая мысль: всё равно на деревенском кладбище лежать неловко, там предки, а он – Бесфамильный, и под такой фамилией будет захоронен. Может, обточить камень здесь, а потом завещать похоронить себя под ним? Не осмелятся же нарушить последнюю просьбу?
От облегчения, принесённого этой мыслью, затряслись ноги. Пётр присел на камень отдохнуть и посмотреть кругом, как в прошлый раз. После дождя всё ожило. Ястребов стало двое, они неслись в небе и победно кричали. Далеко за горизонтом стоял завод. Там были люди. От этой мысли Бесфамильному вдруг вспомнилось его одиночество и захотелось поговорить.
Он похлопал порфир по нагретому боку:
– Вот ты и будешь Бесфамильный-младший. Поздний сын. Порфирий Петрович Бесфамильный! Так и запишем.
После этих слов странное чувство в нём достигло предела. Одиночества не стало, хоть на много километров кругом не было ни одной человеческой души. Но был хор оживших трав, на мгновение он заглушил даже ястребов. Был лес вниз по склону. И был завод, а с ним были люди. И был камень.
– Порфирий Петрович Бесфамильный… – задумчиво повторил Пётр, потом подобрал лопату с кайлом и пошёл домой.
Дома он вытащил свой ящик с камнерезными инструментами и долго смотрел на них. Ему больше не хотелось надгробия. Ему хотелось сделать чудную фигурку из порфира. Пётр прикинул форму и размер глыбы и хрустнул суставами, подотвыкшими от работы.
– Ничего. Сдюжим, – сказал себе и понял, что впервые за лето смерть не смотрит на него в окно.
На следующий день он исчез из Колывани, но никто не заметил – Пётр исчез в степях и провёл там недели под дождём и солнцем. Он вернулся, покрытый травой и каменной пылью, и на его плечах больше не висела смерть. Вскоре уже привычно копался в огороде, засевая позднюю репу. На завод он перестал ходить, хоть иногда и бродил ещё по лесу, искал камень и, возможно, строгал фигурки («дирехторий» закрывал на это глаза, пока камень был мал). Он не рассказал этого никому, но на отдалённом склоне теперь лежала не просто глыба – там была фигурка, поднимающаяся из земли, сделанная с удивительной точностью и умением.
Фигурка была похожа на ребёнка, застывшего, как будто только на секунду, чтобы посмотреть на зажатого в кулачке жука.
