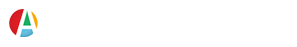Текст альманаха «Новое слово» №15 2025 год
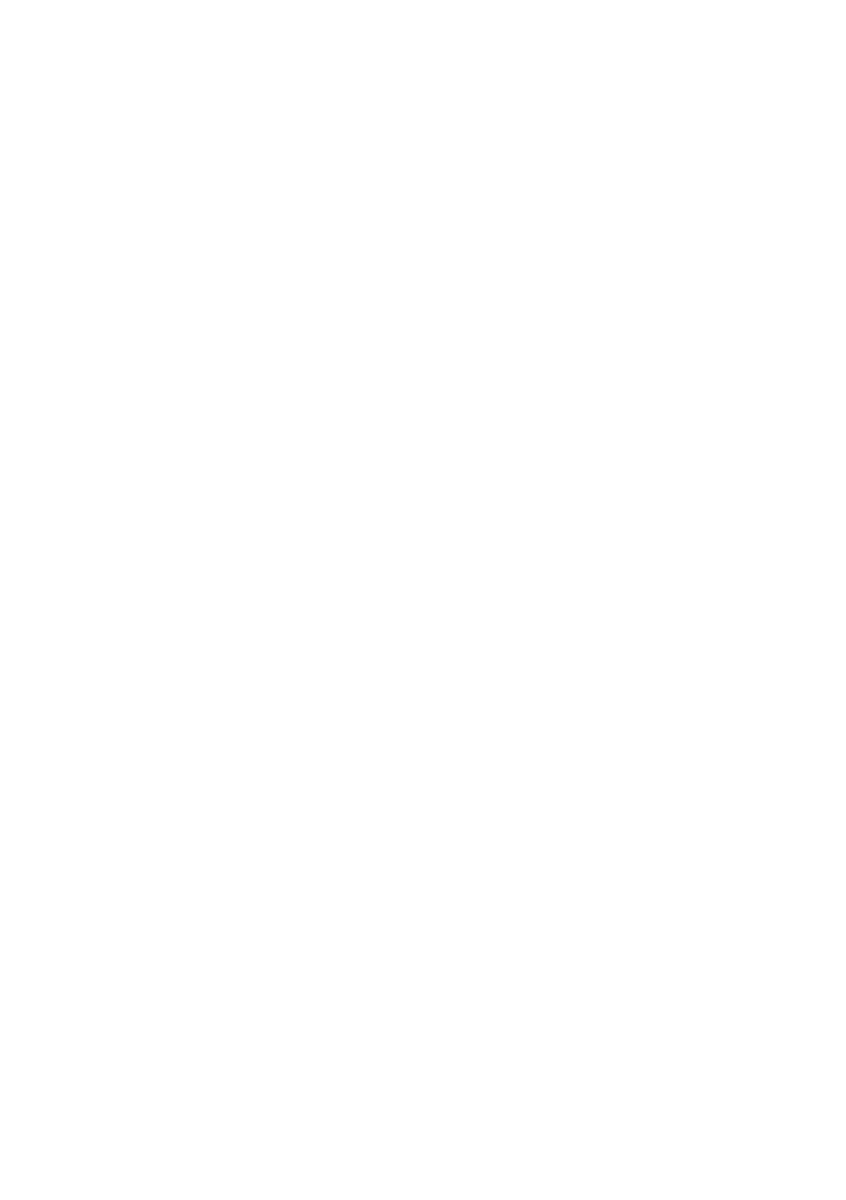
120-летию писателя Михаила Александровича ШОЛОХОВА
посвящается
Содержание:
Диана АСНИНА - «Мы давно блинов не ели», «Все еще впереди»
Юрий ГОРН «Мышеловка», «Записки сумасшедшего», «Здравствуй, незнакомая страна!»
Валерия СИЯНОВА - «Чудо»
Валентина ЧЕРНИКОВА - «Заветная мечта»
Евгения МАРЦИШЕВСКАЯ - «Девичья луда»
Ольга РОГИНСКАЯ - «Чемодан», «Киллер для попугая»
Екатерина ГОЛОВИНА - «Помилуй меня, Боже»
Ольга ГОЛИЦЫНА - «Как мышонок, волк и лев радостью делились»
Екатерина СМИРНОВА - «Трижды ефрейтор», «Как ты жива осталась, мама»
Ольга СЕРГЕЕВА - «Послед»
Станислав БАРЫШНИКОВ - «Решающий момент»
Наталья АНКУДИНОВА - «Азбука моего детства»
Ольга МИНАЕВА - «Став»
Элина КУЛИКОВА - «Подарок Миттерана»
Алина САМОЙЛЕНКО - «Миры», «Великая человеческая сила»
Александр КОРОЛЕВ - «Встречи на дорогах»
А.Виардо - «Шестое окно»
Наталья КУЛАГИНА - «Новеллы»
Аким ТКАЧЕНКО - «Незабываемый опыт»
Анастасия АФОНИНА - «Мир - это эхо»
Юся КАРНОВА - «Проклятье первого шамана (фрагмент)»
Рустем НАБИЕВ - «Бабочка на снегу»
Руслана МАРОЧКИНА - «Подкова»
Екатерина ФИЛЮК - «День без рассвета»
Виталий КУВШИНОВ - «Девочка с седыми волосами»
Любовь ФЕДОСЕЕВА - «Женька»
Маир МАХАЕВ - «Доигрались»
Евгений ПОНОМАРЕВ - «Афонька-юморист»
Ирина КОСТИНА - «День не задался с самого утра»
Арефий КУДРЯШОВ - «Чужая квартира», «Сметана»
Ольга БУРУКИНА - «Сдача»
Антон ЯКОВЛЕВ - «Цена выкупа»
посвящается
Содержание:
Диана АСНИНА - «Мы давно блинов не ели», «Все еще впереди»
Юрий ГОРН «Мышеловка», «Записки сумасшедшего», «Здравствуй, незнакомая страна!»
Валерия СИЯНОВА - «Чудо»
Валентина ЧЕРНИКОВА - «Заветная мечта»
Евгения МАРЦИШЕВСКАЯ - «Девичья луда»
Ольга РОГИНСКАЯ - «Чемодан», «Киллер для попугая»
Екатерина ГОЛОВИНА - «Помилуй меня, Боже»
Ольга ГОЛИЦЫНА - «Как мышонок, волк и лев радостью делились»
Екатерина СМИРНОВА - «Трижды ефрейтор», «Как ты жива осталась, мама»
Ольга СЕРГЕЕВА - «Послед»
Станислав БАРЫШНИКОВ - «Решающий момент»
Наталья АНКУДИНОВА - «Азбука моего детства»
Ольга МИНАЕВА - «Став»
Элина КУЛИКОВА - «Подарок Миттерана»
Алина САМОЙЛЕНКО - «Миры», «Великая человеческая сила»
Александр КОРОЛЕВ - «Встречи на дорогах»
А.Виардо - «Шестое окно»
Наталья КУЛАГИНА - «Новеллы»
Аким ТКАЧЕНКО - «Незабываемый опыт»
Анастасия АФОНИНА - «Мир - это эхо»
Юся КАРНОВА - «Проклятье первого шамана (фрагмент)»
Рустем НАБИЕВ - «Бабочка на снегу»
Руслана МАРОЧКИНА - «Подкова»
Екатерина ФИЛЮК - «День без рассвета»
Виталий КУВШИНОВ - «Девочка с седыми волосами»
Любовь ФЕДОСЕЕВА - «Женька»
Маир МАХАЕВ - «Доигрались»
Евгений ПОНОМАРЕВ - «Афонька-юморист»
Ирина КОСТИНА - «День не задался с самого утра»
Арефий КУДРЯШОВ - «Чужая квартира», «Сметана»
Ольга БУРУКИНА - «Сдача»
Антон ЯКОВЛЕВ - «Цена выкупа»
Отмечая 80-летие Великой Победы, а также 120 лет со дня рождения писателя М.А.Шолохова (1905-1984), мы собрали в этот номер произведения авторов из разных городов нашей необъятной России, но все произведения так или иначе отмечены высокой любовью к собственной стране и её народу. Во всех произведениях красной линией отображается стремление сделать Россию по-настоящему великой, обратить внимание на самое главное достижение – на человека, провести его через все жизненные испытания, и сберечь главное – душу человека, воспитать в нём любовь к Отечеству, дать духовные силы и волевые качества, а также способность защищать свою страну во время великих испытаний, которые снова и снова выпадают на наше поколение.
«ПОБЕДА НА ВЕРШИНЕ...» (М.Шолохов)
«Кто же хранит солдата на войне? Может, Бог? Или судьба? Или любящие сердца родных и близких? А, может, и все сразу...» – так начинается рассказ Екатерины Смирновой в сборнике рассказов «Новое Слово», который вы держите в руках. Эти строки словно перекликаются с цитатой советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова (1905-1984): «Война – это вроде подъема на крутую гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане, главное – добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»
В мае 2025 года вся страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., также, в мае 2025 года, литературная общественность отметит 120-летие писателя Михаила Александровича Шолохова. В годы войны Михаил Шолохов – военный корреспондент Совинформбюро, газет «Правда» и «Красная звезда».
Он публикует фронтовые очерки, рассказ «Наука ненависти», первые главы романа «Они сражались за Родину». Государственную премию, присуждённую за роман «Тихий Дон», Шолохов передаёт в фонд обороны СССР, а затем приобретает на свои собственные средства для фронта четыре новые ракетные установки. За участие в Великой Оте-
чественной войне Шолохов имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне».
Автор двух великих романов, третий роман («Они сражались за Родину») Шолохову так и не удалось закончить, но осталась гениальная экранизация, в которой кинорежиссер Сергей Бондарчук собрал весь цвет советских актёров. По этому фильму (по данным «Советского экрана», фильм посмотрели более 40 миллионов зрителей!) можно и нужно изучать историю нашей страны, как бы через формулу: «история страны – это история людей в самые сложные моменты».
Книги выдающегося русского писателя-гуманиста Михаила Александровича Шолохова переведены на десятки языков мира и изданы многомиллионными тиражами. При вручении Нобелевской премии за роман «Тихий Дон» Шолохов с высокой европейской трибуны говорил о величии исторического пути русского народа и о том, что «всем тем, что я написал и еще напишу, хотел отдать поклон народу-труженику, народу-строителю, народу-герою». Так через великие произведения писателей рождалась история великой страны, её «солдата», её народа.
Сегодня, отмечая юбилейные даты, мы собрали в пятнадцатый номер литературного альманаха произведения разных авторов из разных городов необъятной России, но все произведения так или иначе отмечены высокой любовью к собственной стране и её народу. Во всех произведениях красной линией отображается стремление сделать Россию по-настоящему великой, обратить внимание на самое главное достижение – на Человека, провести его через все жизненные испытания, при этом – сберечь главное: душу человека; воспитать в нём любовь к Отечеству, дать духовные силы и волевые качества, а также способность защищать свою страну во время великих испытаний, которые снова и снова выпадают на наше поколение.
Именно так видели своё призвание великие русские и советские писатели, именно так ставят свою задачу те, кто делает первые шаги в литературном творчестве. Ибо литературная традиция в России была всегда сильнее «потребительских» традиций, которые последние тридцать лет нам усиленно прививали с Запада. В последние времена, начиная с 2022 года, наши соотечественники по-другому стали смотреть на те ценности, которые нам отправляли в качестве «западной гуманитарной помощи» в 90-е годы, вспоминая все чаще и чаще настоящие заветы наших отцов и дедов, которые проливали свою кровь в годы Великой Отечественной войны, тех великих русских и советских писателей, чьё творчество мы вспоминаем в каждом номере литературного сборника «Новое Слово».
В этом году издательство планирует выпустить 10 литературных сборников в разных жанрах, несколько специальных издательских проектов, среди которых – сборник женской прозы, сборник пьес и сценариев «Премьера», второй выпуск аудиодиска «Лучшие рассказы 2025 года», а также планирует принять участие в международной книжной ярмарке на ВДНХ в сентябре. Мы приглашаем всех наших авторов, как новых, так и постоянных, принять участие в наших проектах, в наших альманахах, а также в выпуске авторских книг, которые будут представлены на книжной выставке осенью 2025 года.
«ПОБЕДА НА ВЕРШИНЕ...» (М.Шолохов)
«Кто же хранит солдата на войне? Может, Бог? Или судьба? Или любящие сердца родных и близких? А, может, и все сразу...» – так начинается рассказ Екатерины Смирновой в сборнике рассказов «Новое Слово», который вы держите в руках. Эти строки словно перекликаются с цитатой советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Александровича Шолохова (1905-1984): «Война – это вроде подъема на крутую гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане, главное – добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»
В мае 2025 года вся страна отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., также, в мае 2025 года, литературная общественность отметит 120-летие писателя Михаила Александровича Шолохова. В годы войны Михаил Шолохов – военный корреспондент Совинформбюро, газет «Правда» и «Красная звезда».
Он публикует фронтовые очерки, рассказ «Наука ненависти», первые главы романа «Они сражались за Родину». Государственную премию, присуждённую за роман «Тихий Дон», Шолохов передаёт в фонд обороны СССР, а затем приобретает на свои собственные средства для фронта четыре новые ракетные установки. За участие в Великой Оте-
чественной войне Шолохов имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне».
Автор двух великих романов, третий роман («Они сражались за Родину») Шолохову так и не удалось закончить, но осталась гениальная экранизация, в которой кинорежиссер Сергей Бондарчук собрал весь цвет советских актёров. По этому фильму (по данным «Советского экрана», фильм посмотрели более 40 миллионов зрителей!) можно и нужно изучать историю нашей страны, как бы через формулу: «история страны – это история людей в самые сложные моменты».
Книги выдающегося русского писателя-гуманиста Михаила Александровича Шолохова переведены на десятки языков мира и изданы многомиллионными тиражами. При вручении Нобелевской премии за роман «Тихий Дон» Шолохов с высокой европейской трибуны говорил о величии исторического пути русского народа и о том, что «всем тем, что я написал и еще напишу, хотел отдать поклон народу-труженику, народу-строителю, народу-герою». Так через великие произведения писателей рождалась история великой страны, её «солдата», её народа.
Сегодня, отмечая юбилейные даты, мы собрали в пятнадцатый номер литературного альманаха произведения разных авторов из разных городов необъятной России, но все произведения так или иначе отмечены высокой любовью к собственной стране и её народу. Во всех произведениях красной линией отображается стремление сделать Россию по-настоящему великой, обратить внимание на самое главное достижение – на Человека, провести его через все жизненные испытания, при этом – сберечь главное: душу человека; воспитать в нём любовь к Отечеству, дать духовные силы и волевые качества, а также способность защищать свою страну во время великих испытаний, которые снова и снова выпадают на наше поколение.
Именно так видели своё призвание великие русские и советские писатели, именно так ставят свою задачу те, кто делает первые шаги в литературном творчестве. Ибо литературная традиция в России была всегда сильнее «потребительских» традиций, которые последние тридцать лет нам усиленно прививали с Запада. В последние времена, начиная с 2022 года, наши соотечественники по-другому стали смотреть на те ценности, которые нам отправляли в качестве «западной гуманитарной помощи» в 90-е годы, вспоминая все чаще и чаще настоящие заветы наших отцов и дедов, которые проливали свою кровь в годы Великой Отечественной войны, тех великих русских и советских писателей, чьё творчество мы вспоминаем в каждом номере литературного сборника «Новое Слово».
В этом году издательство планирует выпустить 10 литературных сборников в разных жанрах, несколько специальных издательских проектов, среди которых – сборник женской прозы, сборник пьес и сценариев «Премьера», второй выпуск аудиодиска «Лучшие рассказы 2025 года», а также планирует принять участие в международной книжной ярмарке на ВДНХ в сентябре. Мы приглашаем всех наших авторов, как новых, так и постоянных, принять участие в наших проектах, в наших альманахах, а также в выпуске авторских книг, которые будут представлены на книжной выставке осенью 2025 года.
Максим Федосов,
главный редактор альманаха «Новое Слово»,
член Союза писателей России
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Диана АСНИНА
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение». Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Почётный работник культуры г. Москвы.
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение». Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Почётный работник культуры г. Москвы.
МЫ ДАВНО БЛИНОВ НЕ ЕЛИ...
Скоро веселый, озорной, сытный и любимый всеми праздник прощания с зимой.
– Наконец-то мы наедимся блинов, – радуются, как будто их дома не кормят, дети.
Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горках катаемся,
Блинами объедаемся.
(Русская народная песня)
Вспоминаю свой день рождения, который совпал с Масленицей.
Вот здорово! Устрою своим гостям праздник «с блинами, пирогами да с оладьями».
Я недавно вышла замуж. Настроение у меня тогда было еще хорошее, и я старалась понравиться родне мужа. Решила пригласить новых родственников на блины. Надо постараться «не ударить в грязь лицом».
Тётушка моя вызвалась мне помочь:
– Научу тебя печь блины на дрожжах.
Ну и намучилась я с этими блинами. Пеку, пеку… Уже восемьдесят шесть блинов испекла, а тесто все не убывает! Сама не рада, что затеяла все это.
И тут – звонок в дверь. Сосед забыл ключи и не может попасть в квартиру.
– Что с тобой? – спрашивает.
Услышав мой рассказ, он предложил:
– Давай я тебе помогу. А тесто у тебя не убывает, потому что кастрюля в теплом месте стоит, – объяснил он мне.
Сосед вылил половником тесто на сковородку. Через минуту он подбросил ее вверх. Блин перевернулся в воздухе и плюхнулся в сковородку на свое место. Вот это класс!
День рождения прошел весело и вкусно. Блины с рыбой, красной икрой, сметаной, сгущенкой, вареньем… Вкуснятина! Наелись до отвала. Культурную программу я придумала заранее – пословицы, загадки, игры… Вышли на улицу. В снежки поиграли, с горки покатались. День рождения запомнился надолго. Правда, на следующий день животы у всех болели от переедания, но это уже на следующий день… Как выяснилось потом, животы болели не зря, и блины пошли не впрок: наш брак вскоре распался.
Для себя же я решила, что впредь буду умнее: «Мухи – отдельно, котлеты – отдельно». Если Масленица снова совпадет с моим днем рождения, я поступлю иначе. В парках на центральных площадях города стоят палатки с блинами, кофе, сувенирами. Народ гуляет, веселится. И не надо стоять у плиты. А день рождения последние годы я отмечаю так: покупаю билеты и приглашаю друзей в театр или на художественную выставку, а потом мы заходим в кафе, и я всех угощаю. Все довольны.
Прошло много лет. И вот… В этом году мой день рождения снова совпал с Масленицей. Что бы такое придумать на это раз?
Но долго раздумывать не пришлось. Позвонила подруга:
– Поход в театр, на выставку отменяется – свирепствует грипп, – заявила она. – Мы поступим иначе: в качестве подарка я испеку блинов, сделаю салат, и мы все вместе отметим и твой день рождения, и заодно Масленицу встретим.
Вот подарок так подарок! Спасибо.
Но самый лучший подарок мне сделала внучка Машенька. Я переживала, что ребенок не просится на горшок. И вот утром рано открывается дверь в мою комнату. Входит малышка и со словами «Поздравляю тебя, бабушка, с днем рождения!» протягивает мне полный горшок.
Бабуля счастлива.
– Пойдем есть блины, моя хорошая, – приглашаю я девочку к столу.
Что малышка вытворяет с блинами! Умора! Вырезает дырочки для глаз, прорезь для рта и накладывает блин себе на личико… Полный восторг!
Вот это день рожденья!
ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ…
I
– Всё молодишься, Михайловна? – упрекнула меня соседка. – Коротко постриглась, волосы покрасила, губки намалевала, кофточку яркую, не по возрасту, нацепила на себя. Осталось только туфли на высоком каблуке надеть и...
– Я давно не ношу обувь на высоком каблуке – ноги болят, – вздохнула я.
– Вот-вот… В паспорт свой давно заглядывала? Далеко уже не девочка.
– При чём здесь возраст? – удивилась я. – И молодые старухи бывают: ничего им не нужно, не следят за собой, всем недовольны. Возраст, Мария Ильинична, это состояние души. Сколько бы человеку ни было лет, всегда хочется и красиво одеться, и вкусно поесть, и встретиться с друзьями, и…
– Скажи ещё: влюбиться хочется.
– А почему бы нет? Разве плохо встретить родственную душу, чтобы было с кем поговорить, посоветоваться?
– О чём это ты? В твоём-то возрасте? Тебе что, так уж необходимо ухаживать за каким-то стариком?
– За «каким-то» – нет, а за близким, родным человеком – даже очень приятно.
– Ну-ну…
– «Любви все возрасты покорны», – пропела я.
– Не смеши людей, – возмутилась Мария Ильинична.
– Вот ты всё работаешь и работаешь, хотя давно пора бы на покой, – продолжает она.
– Здоровье мне ещё пока позволяет заниматься любимым делом. Вот доведу до окончания школы ученицу, которая собирается поступать в музыкальное училище, тогда, может быть, оставлю школу. Времени свободного будет больше: похожу на концерты, художественные выставки. Вот в Третьяковке на Крымском валу сейчас чудесная выставка картин Врубеля, а я никак не могу выкроить время, чтобы попасть на неё. Поездить хочу по свету. Так много всего интересного!
– Старость у тебя впереди: болезни, одиночество, чтобы на проживание пенсии хватило, а ты о какой-то ерунде говоришь. Конечно, на одну пенсию трудно прожить, – рассуждает она. – Посмотри, кем заполнены автобусы в дневное время? Пенсионерами. Куда они едут? Думаешь, внуков нянчить? Может, и так. Но чаще всего они едут по магазинам, чтобы купить что-то подешевле.
Это, к сожалению, так. Встречаю я недавно одну знакомую.
– Вы знаете, что в магазины завезли «Атлантику»? – спрашивает она меня. («Атлантика» – это вкусная атлантическая селедка.)
– Отлично! – восхищаюсь я.
– Я сейчас еду, – говорит она, – тут недалеко, всего три остановки. Мне сказали, что там, в рыбном магазине есть настоящая «Атлантика» – на пятьдесят рублей дешевле, чем везде. Представляете?
– Здорово! – заявляю я. – Я попозже непременно заеду в этот магазин.
Конечно, я никуда не поехала, а купила ту же селедку рядом с моим домом, решив, что время и потраченные силы – дороже этих денег. Но я – не образец.
Жизнь стариков вообще сложна и часто мучительна. Потому что кроме своих проблем, они чувствуют обязанность помогать своим детям и внукам. Помогать материально, помогать своим пенсионерским трудом на даче и на кухне. Почему? Дети уже взрослые, самостоятельные. Родители их вырастили, выучили, поставили на ноги. До каких пор их за ручку водить? Дети теперь сами должны, если понадобится, заботиться о родителях, помогать им. Внуки… Говорят, внуков любят больше, чем детей. Это не так. Просто внуков любят острее: маленький, сладенький. И заботимся мы о малышах не потому что чувствуем, что обязаны, а потому что они – наша радость, наше счастье, продолжение нашей жизни.
– Спасибо тебе, бабушка, что ты родила мамочку, а она меня, – говорит мне внучка.
– Бабушка, ну какая же ты старая, тебе ведь нет ещё ста лет! Ты у нас молодая бабушка! Надень свою нарядную кофточку, и мы пойдём с тобой гулять, – просит меня девочка. И бабушка счастлива. Впереди у неё столько радости!
II.
Моя одноклассница Тамара сразу после школы пошла учиться на парикмахера. Освоив профессию, она стала мастером, затем – директором салона красоты, а когда началась приватизация, выкупила парикмахерскую в собственность.
Тамара рано вышла замуж, родила дочь. Жизнь с мужем была не очень веселой: они никуда не могли поехать в отпуск, муж мало зарабатывал, а что получал, по большей части пропивал. Вскоре они расстались. О нем Тамара вспоминала редко. Надо было зарабатывать, покупать квартиру, растить дочь, платить за ее образование.
Дочь выросла, устроилась на хорошую работу, вышла замуж и родила сынишку. И стали они жить-поживать в квартире, купленной на деньги Тамары, так как свои уходили на разные мелочи... Кроме того, у зятя были проблемы с работой. Наконец через кадровое агентство, в котором работала дочь Тамары, он трудоустроился. И все бы ничего, но работа была связана с длительными командировками. Короче говоря, однажды муж уехал и не вернулся. Нашел другую, о чем он так прямо и сказал. Впрочем, жениться на ней он вовсе не собирался, он вообще не хотел больше жениться. Он иногда приезжал, происходили бурные выяснения отношений, а затем уезжал опять.
– С мужчинами нынче плохо, – говорили дочери коллеги по работе. – Твой погуляет и вернется, никуда не денется. У него здесь квартира, и сын растет.
– Зачем они ей это внушают? – возмущается Тамара.
Мы нередко общаемся с Тамарой, и мне нравится она со своим правдивым, реалистичным взглядом на жизнь. А, может, это свойство возраста, и пока такой взгляд просто недоступен людям более молодым? Впрочем, со спины Тамара кажется совсем молодой: белая шапка пушистых волос, белый халатик, который вообще молодит, а руки Тамары! Они быстро двигались в такт ее губам... «Какую Вам стрижку? – обычно спрашивает Тамара. – Простую, дешевую или сложную, но дорогую?» – «Давайте дорогую», – обычно отвечает клиент, и Тамара кивает головой с нарисованными черными бровями...
Я люблю ее рассказы о своей жизни. Она так похожа на мою и вообще на нашу стариковскую жизнь! Впрочем, в кресле Тамары считать себя пожилой женщиной вовсе не хочется. «Подождите, – обычно говорит она, – я постригу сначала эту ДАМУ...» И затем она быстро и ловко стрижет меня, а я слушаю ее рассказ о дочке и вообще о жизни…
А тут и у Тамары начались проблемы с работой. Дом, где располагалась парикмахерская, снесли. Тамаре выплатили компенсацию, но чтобы открыть бизнес в другом месте, надо было взять кредит, отремонтировать помещение, собирать клиентуру и так далее. А Тамаре уже минуло шестьдесят лет...
– Ох, как они мне надоели! – восклицает она. – Зять приезжает иногда, и они с дочерью выясняют отношения. Кричат друг на друга! А внучка-то рядом, все слышит! И я тут же... Он ее упрекает, мол, хозяйка она плохая. А она кричит, что он ей денег не дает. Развод оба не оформляют. Она все надеется, что «этот идиот» к ней вернется, а ему, понятно, это не нужно: зачем ему с алиментами проблемы? И по телефону постоянно отношения выясняют. Как-то раз он над ней поиздевался: вместе со своей дамой ей звонил, и та над ней смеялась! Ужас! Я дочке говорю: чем с таким жить, лучше ни с кем! Вот я-то живу одна уже много лет!
– Да, да, – соглашаюсь я. – Вы совершенно правы. И что же делать?
– Квартиру буду покупать, – говорит Тамара. – Вот расплачусь с этим кредитом и возьму новый. Еще денег заработаю и уйду от них. Смотреть на это я больше не могу!
И тут она смеется:
– А что? Я еще с десяток лет поработаю, а, может, и больше. У меня еще все впереди!
Ох, как Тамара заражает меня своим оптимизмом! Какая же она молодец! И разве только она? У нас у всех, пенсионеров, все еще впереди, и вообще никогда не поздно начинать новую жизнь, ведь правда?
III
В день моего шестидесятилетия родные вместе с подарком торжественно мне вручили «Диплом пожизненной оптимистки». Это такая «корочка», сложенная пополам. Оказывается, в этом году я с отличием окончила Университет Счастливых Людей по специальности «Счастливая победительница жизненных невзгод».
Внизу стоит круглая печать и подписи:
«Доброжелательный П.П., председатель;
Весёлый В.Ф., ректор;
Хохотун Ю.В., секретарь».
Не знаю, хорошо это или плохо, но я действительно оптимистка, как говорят, «до мозга костей». В самые трудные минуты, когда кажется, что жизнь кончилась, небо сейчас рухнет, земля разверзнется, какой-то внутренний голос мне говорит: «Жизнь на этом не кончается. Всё ещё впереди».
Помню свою неудавшуюся первую любовь. Прихожу я домой; тихонько вхожу в квартиру и слышу, как папа говорит маме:
– Она совсем не переживает из-за разрыва с парнем. Улыбка не сходит с её лица. Она развлекается с друзьями – вот на дачу сегодня к подруге поехала. Не понимаю я её.
Вот и хорошо. Зачем им знать, сколько слёз я пролила из-за этой своей любви?
В дальнейшем жизнь доказала, что всё у меня ещё было впереди. Я встретила чудесного парня, который вернул мне веру в себя и сделал меня счастливой.
Встретить свою любовь можно в любом возрасте. Тётушка моя влюбилась и вышла замуж (это был её третий муж) аж в семьдесят лет. Она вся светилась от счастья, говорила, что в молодости не испытывала таких чувств.
Многие люди, выйдя на пенсию, не сидят, как некоторые бабки, на лавочке у подъезда и перемывают всем кости, а стараются начать жизнь заново. Папа мой, бывший инженер-конструктор, увлёкся чеканкой. Моя коллега (ей уже 97 лет) пишет мемуары. Мы с подругой ходим по выставкам, на концерты в консерваторию, перечитываем любимые книги… И таких примеров множество.
Нет, начать новую жизнь никогда не поздно! У нас, пенсионеров, всё ещё впереди! Было бы только здоровье.
Скоро веселый, озорной, сытный и любимый всеми праздник прощания с зимой.
– Наконец-то мы наедимся блинов, – радуются, как будто их дома не кормят, дети.
Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горках катаемся,
Блинами объедаемся.
(Русская народная песня)
Вспоминаю свой день рождения, который совпал с Масленицей.
Вот здорово! Устрою своим гостям праздник «с блинами, пирогами да с оладьями».
Я недавно вышла замуж. Настроение у меня тогда было еще хорошее, и я старалась понравиться родне мужа. Решила пригласить новых родственников на блины. Надо постараться «не ударить в грязь лицом».
Тётушка моя вызвалась мне помочь:
– Научу тебя печь блины на дрожжах.
Ну и намучилась я с этими блинами. Пеку, пеку… Уже восемьдесят шесть блинов испекла, а тесто все не убывает! Сама не рада, что затеяла все это.
И тут – звонок в дверь. Сосед забыл ключи и не может попасть в квартиру.
– Что с тобой? – спрашивает.
Услышав мой рассказ, он предложил:
– Давай я тебе помогу. А тесто у тебя не убывает, потому что кастрюля в теплом месте стоит, – объяснил он мне.
Сосед вылил половником тесто на сковородку. Через минуту он подбросил ее вверх. Блин перевернулся в воздухе и плюхнулся в сковородку на свое место. Вот это класс!
День рождения прошел весело и вкусно. Блины с рыбой, красной икрой, сметаной, сгущенкой, вареньем… Вкуснятина! Наелись до отвала. Культурную программу я придумала заранее – пословицы, загадки, игры… Вышли на улицу. В снежки поиграли, с горки покатались. День рождения запомнился надолго. Правда, на следующий день животы у всех болели от переедания, но это уже на следующий день… Как выяснилось потом, животы болели не зря, и блины пошли не впрок: наш брак вскоре распался.
Для себя же я решила, что впредь буду умнее: «Мухи – отдельно, котлеты – отдельно». Если Масленица снова совпадет с моим днем рождения, я поступлю иначе. В парках на центральных площадях города стоят палатки с блинами, кофе, сувенирами. Народ гуляет, веселится. И не надо стоять у плиты. А день рождения последние годы я отмечаю так: покупаю билеты и приглашаю друзей в театр или на художественную выставку, а потом мы заходим в кафе, и я всех угощаю. Все довольны.
Прошло много лет. И вот… В этом году мой день рождения снова совпал с Масленицей. Что бы такое придумать на это раз?
Но долго раздумывать не пришлось. Позвонила подруга:
– Поход в театр, на выставку отменяется – свирепствует грипп, – заявила она. – Мы поступим иначе: в качестве подарка я испеку блинов, сделаю салат, и мы все вместе отметим и твой день рождения, и заодно Масленицу встретим.
Вот подарок так подарок! Спасибо.
Но самый лучший подарок мне сделала внучка Машенька. Я переживала, что ребенок не просится на горшок. И вот утром рано открывается дверь в мою комнату. Входит малышка и со словами «Поздравляю тебя, бабушка, с днем рождения!» протягивает мне полный горшок.
Бабуля счастлива.
– Пойдем есть блины, моя хорошая, – приглашаю я девочку к столу.
Что малышка вытворяет с блинами! Умора! Вырезает дырочки для глаз, прорезь для рта и накладывает блин себе на личико… Полный восторг!
Вот это день рожденья!
ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ…
I
– Всё молодишься, Михайловна? – упрекнула меня соседка. – Коротко постриглась, волосы покрасила, губки намалевала, кофточку яркую, не по возрасту, нацепила на себя. Осталось только туфли на высоком каблуке надеть и...
– Я давно не ношу обувь на высоком каблуке – ноги болят, – вздохнула я.
– Вот-вот… В паспорт свой давно заглядывала? Далеко уже не девочка.
– При чём здесь возраст? – удивилась я. – И молодые старухи бывают: ничего им не нужно, не следят за собой, всем недовольны. Возраст, Мария Ильинична, это состояние души. Сколько бы человеку ни было лет, всегда хочется и красиво одеться, и вкусно поесть, и встретиться с друзьями, и…
– Скажи ещё: влюбиться хочется.
– А почему бы нет? Разве плохо встретить родственную душу, чтобы было с кем поговорить, посоветоваться?
– О чём это ты? В твоём-то возрасте? Тебе что, так уж необходимо ухаживать за каким-то стариком?
– За «каким-то» – нет, а за близким, родным человеком – даже очень приятно.
– Ну-ну…
– «Любви все возрасты покорны», – пропела я.
– Не смеши людей, – возмутилась Мария Ильинична.
– Вот ты всё работаешь и работаешь, хотя давно пора бы на покой, – продолжает она.
– Здоровье мне ещё пока позволяет заниматься любимым делом. Вот доведу до окончания школы ученицу, которая собирается поступать в музыкальное училище, тогда, может быть, оставлю школу. Времени свободного будет больше: похожу на концерты, художественные выставки. Вот в Третьяковке на Крымском валу сейчас чудесная выставка картин Врубеля, а я никак не могу выкроить время, чтобы попасть на неё. Поездить хочу по свету. Так много всего интересного!
– Старость у тебя впереди: болезни, одиночество, чтобы на проживание пенсии хватило, а ты о какой-то ерунде говоришь. Конечно, на одну пенсию трудно прожить, – рассуждает она. – Посмотри, кем заполнены автобусы в дневное время? Пенсионерами. Куда они едут? Думаешь, внуков нянчить? Может, и так. Но чаще всего они едут по магазинам, чтобы купить что-то подешевле.
Это, к сожалению, так. Встречаю я недавно одну знакомую.
– Вы знаете, что в магазины завезли «Атлантику»? – спрашивает она меня. («Атлантика» – это вкусная атлантическая селедка.)
– Отлично! – восхищаюсь я.
– Я сейчас еду, – говорит она, – тут недалеко, всего три остановки. Мне сказали, что там, в рыбном магазине есть настоящая «Атлантика» – на пятьдесят рублей дешевле, чем везде. Представляете?
– Здорово! – заявляю я. – Я попозже непременно заеду в этот магазин.
Конечно, я никуда не поехала, а купила ту же селедку рядом с моим домом, решив, что время и потраченные силы – дороже этих денег. Но я – не образец.
Жизнь стариков вообще сложна и часто мучительна. Потому что кроме своих проблем, они чувствуют обязанность помогать своим детям и внукам. Помогать материально, помогать своим пенсионерским трудом на даче и на кухне. Почему? Дети уже взрослые, самостоятельные. Родители их вырастили, выучили, поставили на ноги. До каких пор их за ручку водить? Дети теперь сами должны, если понадобится, заботиться о родителях, помогать им. Внуки… Говорят, внуков любят больше, чем детей. Это не так. Просто внуков любят острее: маленький, сладенький. И заботимся мы о малышах не потому что чувствуем, что обязаны, а потому что они – наша радость, наше счастье, продолжение нашей жизни.
– Спасибо тебе, бабушка, что ты родила мамочку, а она меня, – говорит мне внучка.
– Бабушка, ну какая же ты старая, тебе ведь нет ещё ста лет! Ты у нас молодая бабушка! Надень свою нарядную кофточку, и мы пойдём с тобой гулять, – просит меня девочка. И бабушка счастлива. Впереди у неё столько радости!
II.
Моя одноклассница Тамара сразу после школы пошла учиться на парикмахера. Освоив профессию, она стала мастером, затем – директором салона красоты, а когда началась приватизация, выкупила парикмахерскую в собственность.
Тамара рано вышла замуж, родила дочь. Жизнь с мужем была не очень веселой: они никуда не могли поехать в отпуск, муж мало зарабатывал, а что получал, по большей части пропивал. Вскоре они расстались. О нем Тамара вспоминала редко. Надо было зарабатывать, покупать квартиру, растить дочь, платить за ее образование.
Дочь выросла, устроилась на хорошую работу, вышла замуж и родила сынишку. И стали они жить-поживать в квартире, купленной на деньги Тамары, так как свои уходили на разные мелочи... Кроме того, у зятя были проблемы с работой. Наконец через кадровое агентство, в котором работала дочь Тамары, он трудоустроился. И все бы ничего, но работа была связана с длительными командировками. Короче говоря, однажды муж уехал и не вернулся. Нашел другую, о чем он так прямо и сказал. Впрочем, жениться на ней он вовсе не собирался, он вообще не хотел больше жениться. Он иногда приезжал, происходили бурные выяснения отношений, а затем уезжал опять.
– С мужчинами нынче плохо, – говорили дочери коллеги по работе. – Твой погуляет и вернется, никуда не денется. У него здесь квартира, и сын растет.
– Зачем они ей это внушают? – возмущается Тамара.
Мы нередко общаемся с Тамарой, и мне нравится она со своим правдивым, реалистичным взглядом на жизнь. А, может, это свойство возраста, и пока такой взгляд просто недоступен людям более молодым? Впрочем, со спины Тамара кажется совсем молодой: белая шапка пушистых волос, белый халатик, который вообще молодит, а руки Тамары! Они быстро двигались в такт ее губам... «Какую Вам стрижку? – обычно спрашивает Тамара. – Простую, дешевую или сложную, но дорогую?» – «Давайте дорогую», – обычно отвечает клиент, и Тамара кивает головой с нарисованными черными бровями...
Я люблю ее рассказы о своей жизни. Она так похожа на мою и вообще на нашу стариковскую жизнь! Впрочем, в кресле Тамары считать себя пожилой женщиной вовсе не хочется. «Подождите, – обычно говорит она, – я постригу сначала эту ДАМУ...» И затем она быстро и ловко стрижет меня, а я слушаю ее рассказ о дочке и вообще о жизни…
А тут и у Тамары начались проблемы с работой. Дом, где располагалась парикмахерская, снесли. Тамаре выплатили компенсацию, но чтобы открыть бизнес в другом месте, надо было взять кредит, отремонтировать помещение, собирать клиентуру и так далее. А Тамаре уже минуло шестьдесят лет...
– Ох, как они мне надоели! – восклицает она. – Зять приезжает иногда, и они с дочерью выясняют отношения. Кричат друг на друга! А внучка-то рядом, все слышит! И я тут же... Он ее упрекает, мол, хозяйка она плохая. А она кричит, что он ей денег не дает. Развод оба не оформляют. Она все надеется, что «этот идиот» к ней вернется, а ему, понятно, это не нужно: зачем ему с алиментами проблемы? И по телефону постоянно отношения выясняют. Как-то раз он над ней поиздевался: вместе со своей дамой ей звонил, и та над ней смеялась! Ужас! Я дочке говорю: чем с таким жить, лучше ни с кем! Вот я-то живу одна уже много лет!
– Да, да, – соглашаюсь я. – Вы совершенно правы. И что же делать?
– Квартиру буду покупать, – говорит Тамара. – Вот расплачусь с этим кредитом и возьму новый. Еще денег заработаю и уйду от них. Смотреть на это я больше не могу!
И тут она смеется:
– А что? Я еще с десяток лет поработаю, а, может, и больше. У меня еще все впереди!
Ох, как Тамара заражает меня своим оптимизмом! Какая же она молодец! И разве только она? У нас у всех, пенсионеров, все еще впереди, и вообще никогда не поздно начинать новую жизнь, ведь правда?
III
В день моего шестидесятилетия родные вместе с подарком торжественно мне вручили «Диплом пожизненной оптимистки». Это такая «корочка», сложенная пополам. Оказывается, в этом году я с отличием окончила Университет Счастливых Людей по специальности «Счастливая победительница жизненных невзгод».
Внизу стоит круглая печать и подписи:
«Доброжелательный П.П., председатель;
Весёлый В.Ф., ректор;
Хохотун Ю.В., секретарь».
Не знаю, хорошо это или плохо, но я действительно оптимистка, как говорят, «до мозга костей». В самые трудные минуты, когда кажется, что жизнь кончилась, небо сейчас рухнет, земля разверзнется, какой-то внутренний голос мне говорит: «Жизнь на этом не кончается. Всё ещё впереди».
Помню свою неудавшуюся первую любовь. Прихожу я домой; тихонько вхожу в квартиру и слышу, как папа говорит маме:
– Она совсем не переживает из-за разрыва с парнем. Улыбка не сходит с её лица. Она развлекается с друзьями – вот на дачу сегодня к подруге поехала. Не понимаю я её.
Вот и хорошо. Зачем им знать, сколько слёз я пролила из-за этой своей любви?
В дальнейшем жизнь доказала, что всё у меня ещё было впереди. Я встретила чудесного парня, который вернул мне веру в себя и сделал меня счастливой.
Встретить свою любовь можно в любом возрасте. Тётушка моя влюбилась и вышла замуж (это был её третий муж) аж в семьдесят лет. Она вся светилась от счастья, говорила, что в молодости не испытывала таких чувств.
Многие люди, выйдя на пенсию, не сидят, как некоторые бабки, на лавочке у подъезда и перемывают всем кости, а стараются начать жизнь заново. Папа мой, бывший инженер-конструктор, увлёкся чеканкой. Моя коллега (ей уже 97 лет) пишет мемуары. Мы с подругой ходим по выставкам, на концерты в консерваторию, перечитываем любимые книги… И таких примеров множество.
Нет, начать новую жизнь никогда не поздно! У нас, пенсионеров, всё ещё впереди! Было бы только здоровье.
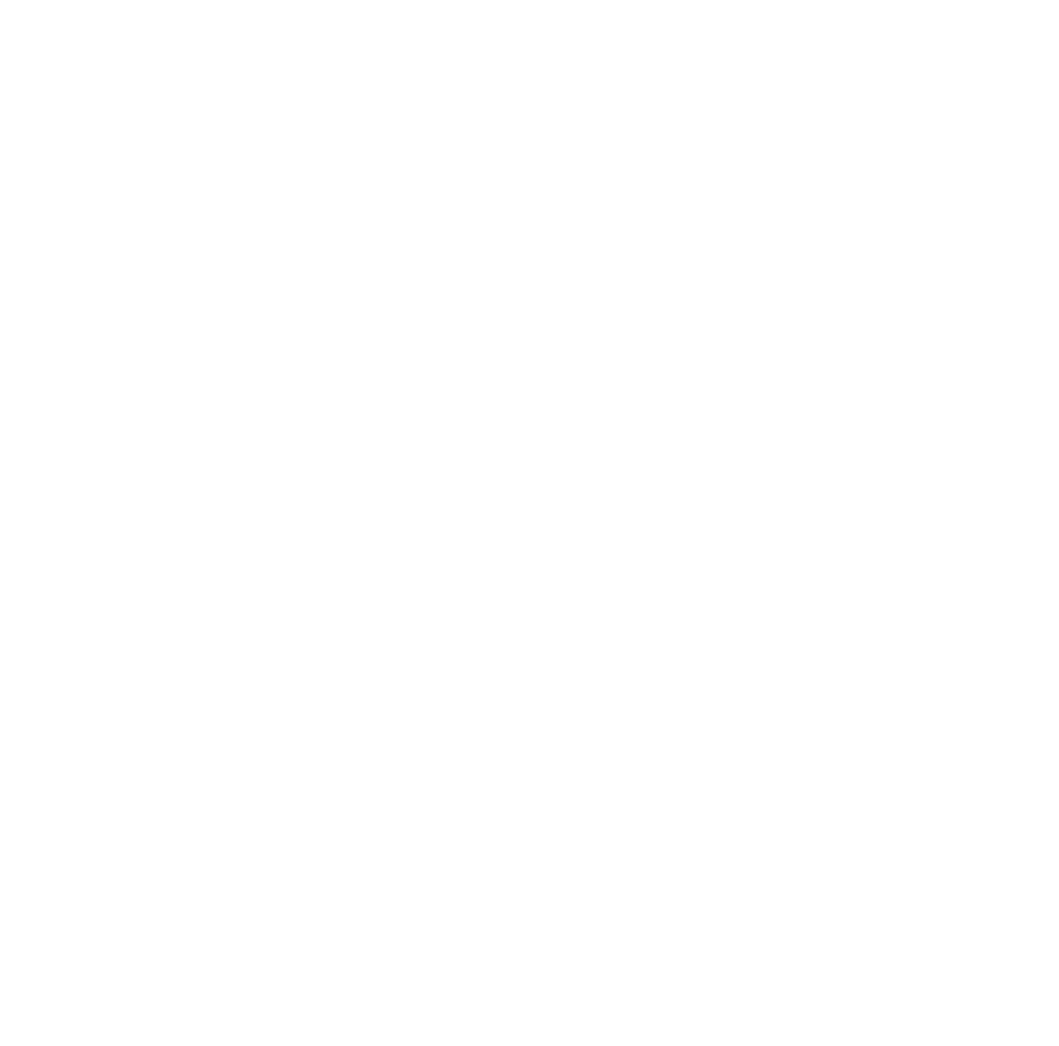
Юрий ГОРН
Родился в Москве в 1970 г. Опубликовал три книги: романы «Внимание… Марш!» (2020), «Стоп-кран» (2024) и детскую повесть-сказку «Приключение Горохового Гномика» (2021). Кроме того, автор ещё одного романа, опубликованного электронно: «Светлые дни и ночи» (1998), а также ряда рассказов, один из которых напечатан в альманахе «Новое слово» (№ 13, 2024), другой – в альманахе «Рассказ 24».
Родился в Москве в 1970 г. Опубликовал три книги: романы «Внимание… Марш!» (2020), «Стоп-кран» (2024) и детскую повесть-сказку «Приключение Горохового Гномика» (2021). Кроме того, автор ещё одного романа, опубликованного электронно: «Светлые дни и ночи» (1998), а также ряда рассказов, один из которых напечатан в альманахе «Новое слово» (№ 13, 2024), другой – в альманахе «Рассказ 24».
МЫШЕЛОВКА
– Сержант Тод, – окликнул молодого полицейского лейтенант Милле, – пересчитай патроны и поезжай на улицу Роз.
– Что ждет меня там? – спросил подчиненный.
– Подвиг, дорогой Тод, и ещё мисс Коллин: о своих несчастиях она расскажет сама.
Полицейский, не мешкая, направился к служебной машине, на ходу размышляя о том, что контакт с женщинами – это всегда подвиг. Скоро он был уже на месте; мисс Коллин сама открыла ему дверь.
– Сержант Тод, – представился полицейский. – С этой минуты, мисс, ваша судьба – в надежных руках.
– С собственной судьбой я справлюсь сама, – с достоинством ответила леди.
– Тогда расскажите, кто украл ваш покой? – спросил сержант, оглядываясь по сторонам.
– Мыши, мистер Тод. Они живут в моём доме, и мне больше не снятся счастливые сны.
– Простите, мисс, – стараясь быть деликатным, объяснял полицейский, – я на службе у занятости, а её строгий устав не позволяет сочувствовать снам.
– Устав не позволяет, а я позволяю, – проявляя твердость, заявила девушка.
– Мисс Коллин, на стенах вашего дома не висят портреты моих строгих начальников. Что я скажу офицеру Милле, когда вернусь? Что ловил в доме полевых мышей? Мой вам совет: купите мышеловку. Если она не музейной ценности, то стоит недорого.
– Музейная ценность здесь – это ваш совет.
– Пусть он спасет вас от всемирного потопа и мышей, а мне, извините, пора идти.
– Очень жаль, что блеск пуговиц вашей формы обманул мои ожидания.
– Мисс, лучше не трогать достоинство моего мундира; осязательная помощь от меня вам ещё нужна?
– Если речь идет о мышеловке, то да.
– Обсуждать пустяки – значит оскорбить честь заряженного пистолета.
– Отказывая мне в помощи, вы оскорбляете милосердие.
– Милосердие может заменить и удав, взятый на прокат: он съест всех ваших мышей.
– А потом и меня. Спасибо.
– Что же вы хотите?
– Чтобы вы установили в моем доме мышеловку.
– Вы считаете вашу просьбу разумной?
– Она разумна, потому что я так хочу.
Какая странная и восхитительная девушка, подумал Тод и даже сравнил её с солнцем. Через мгновение он уже знал, как ему следует поступить. Его голос зазвучал убедительно:
– Мисс Коллин, пусть ваши мечты цветут до заката, а вечером к вам постучат в дверь. Не пугайтесь, это буду я. В руках у меня будет мышеловка как ключ к вашему спокойствию. Заранее прошу быть снисходительной к моему подарку.
– Подарки я люблю, а за доброту Бог отсыплет вам серебра.
– Когда я вооружен, мне не надо и золота, – уходит.
Вечером, когда лунное сияние фонарей бодрило улицы города, сержант Тод поднимался по ступеням к заветной двери. Необъяснимое чувство беспокойства охватило его на крутой лестнице; странным было и то, что последние несколько часов он думал исключительно о девушке, живущей в этом доме. Не зная, что с этим делать, Тод позвонил в дверь. Мисс Коллин встретила его приветливо, как давнего приятеля:
– Ожидание было приятным, – прозвучал её мелодичный голос.
– Я спешил, как на свидание, – в смущении ответил полицейский.
– Напоминаю: перед вашим уходом мы говорили о мышах.
– С этой минуты они обречены. Вот ваша мышеловка.
– Дайте-ка посмотреть... Знаете, кажется, дизайн подкачал.
– Практичность, мисс, часто бросает вызов красоте, зато утром вы проснетесь в доме, где нет грызунов.
– Счастливых снов не надо после ваших слов. Только мне не верится, что мыши добровольно попадут в это ведро.
– Будет лучше, если вместо сомнений ваш взгляд отдохнет рядом с изящной ловушкой. Посмотрите, как убедительно просты её форма и отверстие для любопытных мышек.
– Очень интересно. Кстати, я тоже любопытна, чтоб вы знали.
– Закон это не запрещает. И последнее: к ведру прилагается лестница, по которой нарушители вашего спокойствия будут подниматься. Когда вы выключите в доме свет, то и мрак будет вашим союзником. Не забудьте только на самый верх положить кусочек сыра. Видите, я все учел.
– Кроме моих сомнений.
– Вы опять! Когда блестит значок полицейского, какие могут быть сомнения?
– Сдаюсь! Вы меня убедили..
– Мисс Коллин, будем ли мы устанавливать праздничное освещение и включать музыку, когда мышеловка захлопнется?
– Мистер Тод, ваши таланты обещают многое.
– В этом мире, дорогая Коллин, только обещания не бывают скупы.
– На всякий случай запомню.
– Буду помнить вашу отзывчивость и я, а потому утром, если туман подскажет к вам дорогу, навещу вас.
– Обрадуюсь утреннему солнцу так же, как и вам.
Утром мисс Коллин встретила сержанта Тода взглядом, не обещающим ничего хорошего. Держа в руках подаренную мышеловку, она строго спросила:
– Угадайте, что внутри?
– Долгожданное счастье, что важнее покоя. Я прав?
– Там, обманщик Тод, пу-сто-та! Есть и записка, её написали мыши: «Не скупы бывают только обещания». Не ваши ли это слова?
– Мисс Коллин, вы прочитали не ту записку.
– Неужели?
– Вы должны были догадаться, что в мышеловку эту ...угодил я сам. Теперь мыши в вашем доме – мои лучшие друзья: благодаря им я познакомился с вами.
– Как мне понимать ваши слова?
– Лучше однозначно.
– Я вижу, как губительно на вас действует рассвет.
– Когда я влюбился в вас, был вечер.
– Как я могу возражать, когда у вас заряженный пистолет. Но раз мыши для вас теперь лучшие друзья, обещаю кормить их и дальше сыром.
– Дорогая Коллин! Утро давно развеяло ложные сомнения ночи. Вот уже и новый день, а с ним – иная реальность. Теперь вы о ней знаете, и если вы когда-нибудь позвоните в участок и попросите прислать к вам сержанта Тода, он приедет к вам, чтобы уже никогда не оставлять в беде.
Через неделю лейтенант Милле сообщил Тоду:
– Вот что... звонила мисс Коллин... странная девушка ...Говорит, что у нее украли сердце. Ты не знаешь, кто бы это мог сделать?
– Ни слова более, – воскликнул счастливый Тод и вскоре уже мчался туда, где его ждали.
Позже лейтенант Милле подумал вот о чем: надо бы дать сержанту Тоду лишний выходной.
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО
Проснувшись глубокой ночью, я подошел к решетчатому окну, чтоб поприветствовать воздушное пространство. Но увидев уличный фонарь, тут же вступил с ним в сложные отношения: я поймал на себе его отчужденный взгляд и ложную гордость, заимствованную у Луны. Не желая терпеть уличную надменность, я сделал ему замечание, но фонарь, нарушив устав ночи, коварно погас, соорудив темноту.
– Так вот как ночь таранит любопытство! – воскликнул я, и в тот же миг меня окликнул незнакомый голос. Я огляделся – никого. Зная по опыту, что позднее время полно сюрпризов, а тени в полночь могут оживать, я не удивился, услышав за спиной приказ:
– Ты должен написать письмо; его прочтет народ Кореи; будь терпелив, и пусть тебе задумчивость поможет.
– Чем провинился я пред небом? – прошептал я в страхе. – Зачем загадками меня тревожит полумрак? И почему я должен подчиняться незнакомой воле?..
Вопросы эти остались без ответа, а утром вся палата возбудилась, узнав мой опыт. Решение собравшихся гласило: быть письму! Да здравствует коллективный разум!
ЗДРАВСТВУЙ, НЕЗНАКОМАЯ СТРАНА!
Уважая время и пространство, мы шлем привет корейскому народу. Пусть извинит нас малая страна за наши бесконечные просторы. Наш врач (кто станет спорить с ним?) велел нам называть вас чучхе. Мы это слово заучили, три дня и ночи покоряя смысл. Известно: чувствам передышка не нужна; сомнение не сильнее воли; с трудом Корею мы на глобусе нашли – теперь она научно существует!
Любой, однажды прикурив от знаний, захочет славно процветать. Когда ж в познании мы здесь вершин достигли, играть с умом нам запретили. Науку мы оставили на время; спор с санитарами нам не с руки. Как вдруг для всех нас – озарение: корейцы снова нам близки!
Мы им – платформу отношений; они: давайте лес, руду. Коммюнике: против враждебной силы готовы дуть в одну дуду. Чтобы мечтам не предаваться, листали справочник всю ночь: Пхеньян (представьте!) у них город, ну а столица – лишь село.
Теперь что день, то новость, и это подтверждает ТАСС: в Корее Кимы все свободны! К несчастью, это не про нас.
Но если так, решили мы, то все мы – Кимы. Вы нам пришлите частный самолет. Мы от рожденья – граждане мира, хоть нас в палате наперечет. Разгорячились все; пришлось письмо оставить, другие важные дела нашлись: в ОБСЕ мы ноту сочинили и лишь к утру слегка остыли. Высокого значения слова звучали, но незаметно в комнату вошел наш врач. Письмо внимательно прочел он, улыбнулся. Поблагодарил за гладкий слог, а на прощание пообещал покрасить потолок.
– Для этого, – сказал, – ООН не нужен.
– Сержант Тод, – окликнул молодого полицейского лейтенант Милле, – пересчитай патроны и поезжай на улицу Роз.
– Что ждет меня там? – спросил подчиненный.
– Подвиг, дорогой Тод, и ещё мисс Коллин: о своих несчастиях она расскажет сама.
Полицейский, не мешкая, направился к служебной машине, на ходу размышляя о том, что контакт с женщинами – это всегда подвиг. Скоро он был уже на месте; мисс Коллин сама открыла ему дверь.
– Сержант Тод, – представился полицейский. – С этой минуты, мисс, ваша судьба – в надежных руках.
– С собственной судьбой я справлюсь сама, – с достоинством ответила леди.
– Тогда расскажите, кто украл ваш покой? – спросил сержант, оглядываясь по сторонам.
– Мыши, мистер Тод. Они живут в моём доме, и мне больше не снятся счастливые сны.
– Простите, мисс, – стараясь быть деликатным, объяснял полицейский, – я на службе у занятости, а её строгий устав не позволяет сочувствовать снам.
– Устав не позволяет, а я позволяю, – проявляя твердость, заявила девушка.
– Мисс Коллин, на стенах вашего дома не висят портреты моих строгих начальников. Что я скажу офицеру Милле, когда вернусь? Что ловил в доме полевых мышей? Мой вам совет: купите мышеловку. Если она не музейной ценности, то стоит недорого.
– Музейная ценность здесь – это ваш совет.
– Пусть он спасет вас от всемирного потопа и мышей, а мне, извините, пора идти.
– Очень жаль, что блеск пуговиц вашей формы обманул мои ожидания.
– Мисс, лучше не трогать достоинство моего мундира; осязательная помощь от меня вам ещё нужна?
– Если речь идет о мышеловке, то да.
– Обсуждать пустяки – значит оскорбить честь заряженного пистолета.
– Отказывая мне в помощи, вы оскорбляете милосердие.
– Милосердие может заменить и удав, взятый на прокат: он съест всех ваших мышей.
– А потом и меня. Спасибо.
– Что же вы хотите?
– Чтобы вы установили в моем доме мышеловку.
– Вы считаете вашу просьбу разумной?
– Она разумна, потому что я так хочу.
Какая странная и восхитительная девушка, подумал Тод и даже сравнил её с солнцем. Через мгновение он уже знал, как ему следует поступить. Его голос зазвучал убедительно:
– Мисс Коллин, пусть ваши мечты цветут до заката, а вечером к вам постучат в дверь. Не пугайтесь, это буду я. В руках у меня будет мышеловка как ключ к вашему спокойствию. Заранее прошу быть снисходительной к моему подарку.
– Подарки я люблю, а за доброту Бог отсыплет вам серебра.
– Когда я вооружен, мне не надо и золота, – уходит.
Вечером, когда лунное сияние фонарей бодрило улицы города, сержант Тод поднимался по ступеням к заветной двери. Необъяснимое чувство беспокойства охватило его на крутой лестнице; странным было и то, что последние несколько часов он думал исключительно о девушке, живущей в этом доме. Не зная, что с этим делать, Тод позвонил в дверь. Мисс Коллин встретила его приветливо, как давнего приятеля:
– Ожидание было приятным, – прозвучал её мелодичный голос.
– Я спешил, как на свидание, – в смущении ответил полицейский.
– Напоминаю: перед вашим уходом мы говорили о мышах.
– С этой минуты они обречены. Вот ваша мышеловка.
– Дайте-ка посмотреть... Знаете, кажется, дизайн подкачал.
– Практичность, мисс, часто бросает вызов красоте, зато утром вы проснетесь в доме, где нет грызунов.
– Счастливых снов не надо после ваших слов. Только мне не верится, что мыши добровольно попадут в это ведро.
– Будет лучше, если вместо сомнений ваш взгляд отдохнет рядом с изящной ловушкой. Посмотрите, как убедительно просты её форма и отверстие для любопытных мышек.
– Очень интересно. Кстати, я тоже любопытна, чтоб вы знали.
– Закон это не запрещает. И последнее: к ведру прилагается лестница, по которой нарушители вашего спокойствия будут подниматься. Когда вы выключите в доме свет, то и мрак будет вашим союзником. Не забудьте только на самый верх положить кусочек сыра. Видите, я все учел.
– Кроме моих сомнений.
– Вы опять! Когда блестит значок полицейского, какие могут быть сомнения?
– Сдаюсь! Вы меня убедили..
– Мисс Коллин, будем ли мы устанавливать праздничное освещение и включать музыку, когда мышеловка захлопнется?
– Мистер Тод, ваши таланты обещают многое.
– В этом мире, дорогая Коллин, только обещания не бывают скупы.
– На всякий случай запомню.
– Буду помнить вашу отзывчивость и я, а потому утром, если туман подскажет к вам дорогу, навещу вас.
– Обрадуюсь утреннему солнцу так же, как и вам.
Утром мисс Коллин встретила сержанта Тода взглядом, не обещающим ничего хорошего. Держа в руках подаренную мышеловку, она строго спросила:
– Угадайте, что внутри?
– Долгожданное счастье, что важнее покоя. Я прав?
– Там, обманщик Тод, пу-сто-та! Есть и записка, её написали мыши: «Не скупы бывают только обещания». Не ваши ли это слова?
– Мисс Коллин, вы прочитали не ту записку.
– Неужели?
– Вы должны были догадаться, что в мышеловку эту ...угодил я сам. Теперь мыши в вашем доме – мои лучшие друзья: благодаря им я познакомился с вами.
– Как мне понимать ваши слова?
– Лучше однозначно.
– Я вижу, как губительно на вас действует рассвет.
– Когда я влюбился в вас, был вечер.
– Как я могу возражать, когда у вас заряженный пистолет. Но раз мыши для вас теперь лучшие друзья, обещаю кормить их и дальше сыром.
– Дорогая Коллин! Утро давно развеяло ложные сомнения ночи. Вот уже и новый день, а с ним – иная реальность. Теперь вы о ней знаете, и если вы когда-нибудь позвоните в участок и попросите прислать к вам сержанта Тода, он приедет к вам, чтобы уже никогда не оставлять в беде.
Через неделю лейтенант Милле сообщил Тоду:
– Вот что... звонила мисс Коллин... странная девушка ...Говорит, что у нее украли сердце. Ты не знаешь, кто бы это мог сделать?
– Ни слова более, – воскликнул счастливый Тод и вскоре уже мчался туда, где его ждали.
Позже лейтенант Милле подумал вот о чем: надо бы дать сержанту Тоду лишний выходной.
ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО
Проснувшись глубокой ночью, я подошел к решетчатому окну, чтоб поприветствовать воздушное пространство. Но увидев уличный фонарь, тут же вступил с ним в сложные отношения: я поймал на себе его отчужденный взгляд и ложную гордость, заимствованную у Луны. Не желая терпеть уличную надменность, я сделал ему замечание, но фонарь, нарушив устав ночи, коварно погас, соорудив темноту.
– Так вот как ночь таранит любопытство! – воскликнул я, и в тот же миг меня окликнул незнакомый голос. Я огляделся – никого. Зная по опыту, что позднее время полно сюрпризов, а тени в полночь могут оживать, я не удивился, услышав за спиной приказ:
– Ты должен написать письмо; его прочтет народ Кореи; будь терпелив, и пусть тебе задумчивость поможет.
– Чем провинился я пред небом? – прошептал я в страхе. – Зачем загадками меня тревожит полумрак? И почему я должен подчиняться незнакомой воле?..
Вопросы эти остались без ответа, а утром вся палата возбудилась, узнав мой опыт. Решение собравшихся гласило: быть письму! Да здравствует коллективный разум!
ЗДРАВСТВУЙ, НЕЗНАКОМАЯ СТРАНА!
Уважая время и пространство, мы шлем привет корейскому народу. Пусть извинит нас малая страна за наши бесконечные просторы. Наш врач (кто станет спорить с ним?) велел нам называть вас чучхе. Мы это слово заучили, три дня и ночи покоряя смысл. Известно: чувствам передышка не нужна; сомнение не сильнее воли; с трудом Корею мы на глобусе нашли – теперь она научно существует!
Любой, однажды прикурив от знаний, захочет славно процветать. Когда ж в познании мы здесь вершин достигли, играть с умом нам запретили. Науку мы оставили на время; спор с санитарами нам не с руки. Как вдруг для всех нас – озарение: корейцы снова нам близки!
Мы им – платформу отношений; они: давайте лес, руду. Коммюнике: против враждебной силы готовы дуть в одну дуду. Чтобы мечтам не предаваться, листали справочник всю ночь: Пхеньян (представьте!) у них город, ну а столица – лишь село.
Теперь что день, то новость, и это подтверждает ТАСС: в Корее Кимы все свободны! К несчастью, это не про нас.
Но если так, решили мы, то все мы – Кимы. Вы нам пришлите частный самолет. Мы от рожденья – граждане мира, хоть нас в палате наперечет. Разгорячились все; пришлось письмо оставить, другие важные дела нашлись: в ОБСЕ мы ноту сочинили и лишь к утру слегка остыли. Высокого значения слова звучали, но незаметно в комнату вошел наш врач. Письмо внимательно прочел он, улыбнулся. Поблагодарил за гладкий слог, а на прощание пообещал покрасить потолок.
– Для этого, – сказал, – ООН не нужен.
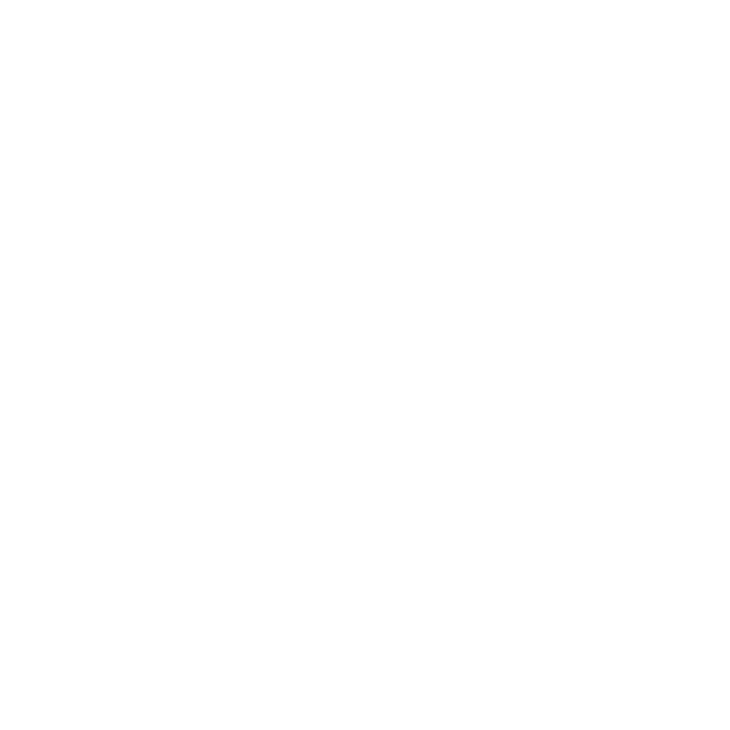
Валерия СИЯНОВА
Родилась в Еврейской автономной области, городе Биробиджан. Появилась на свет в 2003 году. Любовь к литературе окрепла в 2016 году, и с тех пор началось писательство «в стол», исключительно для своих блокнотов и дневников с желанием, чтоб никто и никогда ничего не увидел и не прочитал. Поделиться своими мыслями решила в 2024 году. В 2025 году в журнале «Художественное слово» (в ближайшее время) выйдет выпуск №42, в нём будет опубликовано первое произведение Валерии из раннего творчества под названием «Начало пути».
Родилась в Еврейской автономной области, городе Биробиджан. Появилась на свет в 2003 году. Любовь к литературе окрепла в 2016 году, и с тех пор началось писательство «в стол», исключительно для своих блокнотов и дневников с желанием, чтоб никто и никогда ничего не увидел и не прочитал. Поделиться своими мыслями решила в 2024 году. В 2025 году в журнале «Художественное слово» (в ближайшее время) выйдет выпуск №42, в нём будет опубликовано первое произведение Валерии из раннего творчества под названием «Начало пути».
ЧУДО
Лучший период жизни начинается каждое утро. В это время открывается новая дверца, за которой будет скрываться обязательно то важное и нужное, что не было открыто раньше.
Копаться в причинах и различных вероятностях особого смысла нет: это окажется лишь пустой тратой времени. Значение будет иметь лишь доверие и понимание того, что для каждого события есть свое время, которое зачастую выбирают вовсе не люди. Это – как дар свыше: все обязательно пребудет во благо и ровно в тот час, когда быть тому надлежит. Ты только расслабься и не торопи ничего и никого, ибо в этом тоже смысла нет: на все свой миг расписан. В запечатанной книге прописаны жизненные траектории всех людей, и если не мешать жизни продвигаться по собственной дорожке, то узрим, что всё действительно даётся и происходит лишь во благо.
Эдгар любил больше всего именно утреннее время, особенно в выходные дни, поскольку мало кто способен встать и пробудиться ранним утром.
Был самый разгар августа – самого теплого, радостного летнего месяца, расставаться с которым будет труднее всего. Эдгар смотрел на ослепляющее солнце и был взбодрён осознанием того, что сквер безлюден. Это означало, что можно будет спокойно созерцать новую дверцу жизни, открывшуюся перед ним, – новый день.
Наконец-то покинув свою келью и оказавшись в сквере, Эдгар почувствовал особую связь с окружающим его миром. Природа, внутреннее спокойствие и тишина – ключевые аспекты осознания и ощущения себя целостным творением.
– Куда ведет этот сквер? – Эдгару было интересно следовать за собственными устремлениями, на сей раз направляющими его за пределы сквера.
Тот сквер вёл прямой дорогой в парк, в котором в двенадцать часов дня не оказалось никого, кроме самого Эдгара.
– Это достаточно странно, – размышлял мальчик. – Я думал, что людей будет навалом. Но, выходит, я поспешил думать о будущем и ошибся. Постараюсь в следующий раз, если таковой представится, заранее никаких картин не рисовать, чтобы воспринимать реальность в её истинном свете, без лишних и придуманных прикрас.
Внезапно взгляд Эдгара наткнулся и сосредоточился на атмосферном и отдалённом кафе, расположенном у самой реки, на первый взгляд, скрывающей сие чудесное место. Нет ничего более приятного, как приобрести в таком милом заведении в летний период мороженое со вкусом «Солёная карамель» и вместе с ним сесть на лавочку, глядя на меняющееся поведение реки: то она тиха и спокойна, то вмиг способна зубы показать. И ты сидишь и восхищаешься окружающей природой, чарующей своей естественностью.
– Как же это красиво! – Эдгар любил непосредственно выражать свои мысли и чувства, особенно тогда, когда из людей никого не было рядом. Можно дать волю и позволить эмоциональности выйти наружу, не думая ни о чём, пребывая в состоянии восхищения природой и благодарности за то, что это возможно: быть среди естественного великолепия и быть способным благодарить и радоваться тому, что ты можешь испытывать такие наполняющие чувства.
– Чем ты тут занимаешься? – нежданно-негаданно Эдгар услышал чей-то голос, проявление которого сильно удивило Эдгара, желавшего спокойно отдохнуть в уединении.
– Вы кто? – внезапно появляющиеся в жизни незнакомцы настораживают, и, конечно, с ними откровенничать запретно.
Говоривший за спиной Эдгара сменил свое местоположение, встав прямо перед мальчиком.
Эдгару пришлось задрать голову, устремив её вверх, чтобы увидеть лик этого великана, решившего появиться в его жизни. Встретившись взглядом с незнакомцем, у Эдгара временно пропал дар речи, и он впал в состояние, с которым столкнулся впервые: пропасть. Перед тобой стоит тот, кого человеком назвать не получится, ибо язык не повернется. Эдгар ничего не знал о том, кто стоял перед ним, но видел суть неизвестных сведений в глазах незнакомца. От него веяло холодом, хоть и был он весь огненным, с красно-рыжим оттенком волос и в полностью кровавом одеянии. Смотря в глаза Эдгару, великан молчал и словно мысленно передавал ему свои реплики, осуществляя внутренний диалог с Эдгаром посредством общения вне мира материи, что было в новинку мальчику, ранее никогда не видевшему тех, кто был способен на такое.
На самом деле Эдгару было страшно, только в момент общения с кровавым незнакомцем он того не понимал.
– Поехали со мной! Я покажу тебе все красоты этого мира, – великан так и впивался глазёнками в Эдгара, испуганно смотревшего и не способного что-либо ответить, будто был он загипнотизирован безумным взглядом того, кого человеком не назвать.
– Наблюдаешь за какой-то речкой, – ухмыльнулся. – Я открою перед тобой такие двери, о которых ты и помыслить не мог.
Эдгар чувствовал напор того, кому удалось пробраться в его мысли и вещать свое.
– Всё изменится быстро и разом, ты ни о чём не пожалеешь, – ни разу незнакомец не прервал зрительного контакта с Эдгаром, будто пытаясь сконцентрировать все существо мальчика лишь на нем и его предложении.
Эдгар сидел на лавочке и уже вовсе позабыл о том, что у него в руке находилось мороженое. Вдруг рожок выскользнул из его руки, и зрительный контакт с кровавым нечеловеком прервался. Но Эдгар продолжил сидеть на лавочке, уже не глядя на того, кто рисовал перед ним яркие заманчивые эскизы, но всё же оставаясь на месте, по-прежнему вблизи этого незнакомца, так странно появившегося и именно в тот момент, когда рядом не было никого.
– Нас ждет водитель. Уже сегодня всё исполнится, – тот нечеловек всё так же безумно и неистово продолжал смотреть на Эдгара, который не понимал, как ему следует поступить, но явственно чувствующего, что перед ним – тот, кому верить нельзя. Как дать отпор, когда ты находишься в непонятном состоянии?
Когда незнакомец сделал еще шаг навстречу Эдгару, чтобы стать к нему ещё ближе, внезапно у лавки оказалась женщина с младенцем на руках. Она встревожено обратилась к Эдгару: «Тебе помочь?» И как только Эдгар услышал этот вопрос, он тут же понял, что это обращение – именно к нему, ставшему восковой куклой, не способной ни на что. Все, на что хватило ему сил, был краткий ответ, который стоил ему немалых внутренних трудов, ибо он ощущал борьбу внутри себя с тем, кто не позволял ему выговорить ни слова. Но чудом Эдгар сумел, пускай и безжизненно, но вымолвить тихое: «Да».
Женщина услышала шепот бессильного Эдгара и подошла вплотную к нему, с открытым страхом глядя на кровавого нечеловека. Как только женщина с младенцем оказались рядом с Эдгаром, он почувствовал прилив сил и сумел встать на ноги. Незнакомец не мог ничего сделать, хотя и жаждал схватить мальчонку и увезти того с собой, но не мог. Что-то или кто-то не позволял ему это сделать.
Эдгар вместе с женщиной и ее младенцем уходили прочь от незнакомца, и когда они оказались достаточно далеко от лавочки, вместе обернулись и к своему удивлению обнаружили, что там нет никого. Тот незнакомец не мог за столь краткий промежуток времени уйти, оставшись незамеченным. Он будто испарился.
– Никогда такого не видела прежде, – призналась женщина.
– Я тоже, – Эдгар продолжал глядеть на ту лавочку, которая отныне у него ассоциируется с пропастью и тем несостоявшимся похищением, предотвратить которое помогло только чудо.
Младенец начал плакать, сигнализируя своим криком тот страх, который и он почувствовал в присутствии того незнакомца в кровавом облачении.
Эдгар вместе с женщиной и ее плачущим младенцем продолжили путь навстречу мужчине, при приближении к которому младенец перестал плакать. Женщина улыбнулась мужчине: это был ее супруг.
– Спасибо, что спасли меня, – Эдгар тогда еще толком не понимал, кто захотел его увидеть и заговорить с ним лицом к лицу, но чувствовал, что это – то самое событие, которое является одним из самых страшных. Однако, к счастью, существует Чудо, способное спасти и от беды отворотить.
– Пожалуйста, – по выражению лица женщины было видно, что ей самой тоже страшно, потому что они увидели того, кого человеком не назвать.
Эдгар попрощался с чудесной семьей, так вовремя появившейся в его жизни и сумевшей помочь ему спастись от лап того, у кого благих намерений, к сожалению, не было. Но чудо спасения, произошедшее с Эдгаром, позволило ему вновь поверить в жизнь и в то, что несмотря ни на что, существуют на нашей планете и даже поблизости замечательные люди, способные прийти на помощь и предотвратить плачевные события, даруя веру в вероятность радостных явлений.
Лучший период жизни начинается каждое утро. В это время открывается новая дверца, за которой будет скрываться обязательно то важное и нужное, что не было открыто раньше.
Копаться в причинах и различных вероятностях особого смысла нет: это окажется лишь пустой тратой времени. Значение будет иметь лишь доверие и понимание того, что для каждого события есть свое время, которое зачастую выбирают вовсе не люди. Это – как дар свыше: все обязательно пребудет во благо и ровно в тот час, когда быть тому надлежит. Ты только расслабься и не торопи ничего и никого, ибо в этом тоже смысла нет: на все свой миг расписан. В запечатанной книге прописаны жизненные траектории всех людей, и если не мешать жизни продвигаться по собственной дорожке, то узрим, что всё действительно даётся и происходит лишь во благо.
Эдгар любил больше всего именно утреннее время, особенно в выходные дни, поскольку мало кто способен встать и пробудиться ранним утром.
Был самый разгар августа – самого теплого, радостного летнего месяца, расставаться с которым будет труднее всего. Эдгар смотрел на ослепляющее солнце и был взбодрён осознанием того, что сквер безлюден. Это означало, что можно будет спокойно созерцать новую дверцу жизни, открывшуюся перед ним, – новый день.
Наконец-то покинув свою келью и оказавшись в сквере, Эдгар почувствовал особую связь с окружающим его миром. Природа, внутреннее спокойствие и тишина – ключевые аспекты осознания и ощущения себя целостным творением.
– Куда ведет этот сквер? – Эдгару было интересно следовать за собственными устремлениями, на сей раз направляющими его за пределы сквера.
Тот сквер вёл прямой дорогой в парк, в котором в двенадцать часов дня не оказалось никого, кроме самого Эдгара.
– Это достаточно странно, – размышлял мальчик. – Я думал, что людей будет навалом. Но, выходит, я поспешил думать о будущем и ошибся. Постараюсь в следующий раз, если таковой представится, заранее никаких картин не рисовать, чтобы воспринимать реальность в её истинном свете, без лишних и придуманных прикрас.
Внезапно взгляд Эдгара наткнулся и сосредоточился на атмосферном и отдалённом кафе, расположенном у самой реки, на первый взгляд, скрывающей сие чудесное место. Нет ничего более приятного, как приобрести в таком милом заведении в летний период мороженое со вкусом «Солёная карамель» и вместе с ним сесть на лавочку, глядя на меняющееся поведение реки: то она тиха и спокойна, то вмиг способна зубы показать. И ты сидишь и восхищаешься окружающей природой, чарующей своей естественностью.
– Как же это красиво! – Эдгар любил непосредственно выражать свои мысли и чувства, особенно тогда, когда из людей никого не было рядом. Можно дать волю и позволить эмоциональности выйти наружу, не думая ни о чём, пребывая в состоянии восхищения природой и благодарности за то, что это возможно: быть среди естественного великолепия и быть способным благодарить и радоваться тому, что ты можешь испытывать такие наполняющие чувства.
– Чем ты тут занимаешься? – нежданно-негаданно Эдгар услышал чей-то голос, проявление которого сильно удивило Эдгара, желавшего спокойно отдохнуть в уединении.
– Вы кто? – внезапно появляющиеся в жизни незнакомцы настораживают, и, конечно, с ними откровенничать запретно.
Говоривший за спиной Эдгара сменил свое местоположение, встав прямо перед мальчиком.
Эдгару пришлось задрать голову, устремив её вверх, чтобы увидеть лик этого великана, решившего появиться в его жизни. Встретившись взглядом с незнакомцем, у Эдгара временно пропал дар речи, и он впал в состояние, с которым столкнулся впервые: пропасть. Перед тобой стоит тот, кого человеком назвать не получится, ибо язык не повернется. Эдгар ничего не знал о том, кто стоял перед ним, но видел суть неизвестных сведений в глазах незнакомца. От него веяло холодом, хоть и был он весь огненным, с красно-рыжим оттенком волос и в полностью кровавом одеянии. Смотря в глаза Эдгару, великан молчал и словно мысленно передавал ему свои реплики, осуществляя внутренний диалог с Эдгаром посредством общения вне мира материи, что было в новинку мальчику, ранее никогда не видевшему тех, кто был способен на такое.
На самом деле Эдгару было страшно, только в момент общения с кровавым незнакомцем он того не понимал.
– Поехали со мной! Я покажу тебе все красоты этого мира, – великан так и впивался глазёнками в Эдгара, испуганно смотревшего и не способного что-либо ответить, будто был он загипнотизирован безумным взглядом того, кого человеком не назвать.
– Наблюдаешь за какой-то речкой, – ухмыльнулся. – Я открою перед тобой такие двери, о которых ты и помыслить не мог.
Эдгар чувствовал напор того, кому удалось пробраться в его мысли и вещать свое.
– Всё изменится быстро и разом, ты ни о чём не пожалеешь, – ни разу незнакомец не прервал зрительного контакта с Эдгаром, будто пытаясь сконцентрировать все существо мальчика лишь на нем и его предложении.
Эдгар сидел на лавочке и уже вовсе позабыл о том, что у него в руке находилось мороженое. Вдруг рожок выскользнул из его руки, и зрительный контакт с кровавым нечеловеком прервался. Но Эдгар продолжил сидеть на лавочке, уже не глядя на того, кто рисовал перед ним яркие заманчивые эскизы, но всё же оставаясь на месте, по-прежнему вблизи этого незнакомца, так странно появившегося и именно в тот момент, когда рядом не было никого.
– Нас ждет водитель. Уже сегодня всё исполнится, – тот нечеловек всё так же безумно и неистово продолжал смотреть на Эдгара, который не понимал, как ему следует поступить, но явственно чувствующего, что перед ним – тот, кому верить нельзя. Как дать отпор, когда ты находишься в непонятном состоянии?
Когда незнакомец сделал еще шаг навстречу Эдгару, чтобы стать к нему ещё ближе, внезапно у лавки оказалась женщина с младенцем на руках. Она встревожено обратилась к Эдгару: «Тебе помочь?» И как только Эдгар услышал этот вопрос, он тут же понял, что это обращение – именно к нему, ставшему восковой куклой, не способной ни на что. Все, на что хватило ему сил, был краткий ответ, который стоил ему немалых внутренних трудов, ибо он ощущал борьбу внутри себя с тем, кто не позволял ему выговорить ни слова. Но чудом Эдгар сумел, пускай и безжизненно, но вымолвить тихое: «Да».
Женщина услышала шепот бессильного Эдгара и подошла вплотную к нему, с открытым страхом глядя на кровавого нечеловека. Как только женщина с младенцем оказались рядом с Эдгаром, он почувствовал прилив сил и сумел встать на ноги. Незнакомец не мог ничего сделать, хотя и жаждал схватить мальчонку и увезти того с собой, но не мог. Что-то или кто-то не позволял ему это сделать.
Эдгар вместе с женщиной и ее младенцем уходили прочь от незнакомца, и когда они оказались достаточно далеко от лавочки, вместе обернулись и к своему удивлению обнаружили, что там нет никого. Тот незнакомец не мог за столь краткий промежуток времени уйти, оставшись незамеченным. Он будто испарился.
– Никогда такого не видела прежде, – призналась женщина.
– Я тоже, – Эдгар продолжал глядеть на ту лавочку, которая отныне у него ассоциируется с пропастью и тем несостоявшимся похищением, предотвратить которое помогло только чудо.
Младенец начал плакать, сигнализируя своим криком тот страх, который и он почувствовал в присутствии того незнакомца в кровавом облачении.
Эдгар вместе с женщиной и ее плачущим младенцем продолжили путь навстречу мужчине, при приближении к которому младенец перестал плакать. Женщина улыбнулась мужчине: это был ее супруг.
– Спасибо, что спасли меня, – Эдгар тогда еще толком не понимал, кто захотел его увидеть и заговорить с ним лицом к лицу, но чувствовал, что это – то самое событие, которое является одним из самых страшных. Однако, к счастью, существует Чудо, способное спасти и от беды отворотить.
– Пожалуйста, – по выражению лица женщины было видно, что ей самой тоже страшно, потому что они увидели того, кого человеком не назвать.
Эдгар попрощался с чудесной семьей, так вовремя появившейся в его жизни и сумевшей помочь ему спастись от лап того, у кого благих намерений, к сожалению, не было. Но чудо спасения, произошедшее с Эдгаром, позволило ему вновь поверить в жизнь и в то, что несмотря ни на что, существуют на нашей планете и даже поблизости замечательные люди, способные прийти на помощь и предотвратить плачевные события, даруя веру в вероятность радостных явлений.

Валентина ЧЕРНИКОВА
Родилась в 1926 году. После окончания 1-го Ленинградского медицинского института была направлена молодым специалистом для работы на Крайний Север, где и проработала 35 лет. Заслуженный врач РФ, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Встречи с замечательными людьми – геологами, строителями, дорожниками, коллегами-врачами, аборигенами, любовь к природе оставили интересные и неизгладимые воспоминания, хотелось не один раз взяться за перо. Но писать начала поздно, выйдя на пенсию и закончив свою профессиональную карьеру. Первый рассказ воспоминаний о войне был напечатан в 2016 г. в вестнике «Невские берега». А в 2020 г. стала призером в городском литературном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в ВОВ. Рассказ «Далекое и близкое» включен в книгу «Бессмертный полк Ленинграда».
Родилась в 1926 году. После окончания 1-го Ленинградского медицинского института была направлена молодым специалистом для работы на Крайний Север, где и проработала 35 лет. Заслуженный врач РФ, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Встречи с замечательными людьми – геологами, строителями, дорожниками, коллегами-врачами, аборигенами, любовь к природе оставили интересные и неизгладимые воспоминания, хотелось не один раз взяться за перо. Но писать начала поздно, выйдя на пенсию и закончив свою профессиональную карьеру. Первый рассказ воспоминаний о войне был напечатан в 2016 г. в вестнике «Невские берега». А в 2020 г. стала призером в городском литературном конкурсе, посвященном 75-летию Победы в ВОВ. Рассказ «Далекое и близкое» включен в книгу «Бессмертный полк Ленинграда».
ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Добрые зерна, которые мы посеяли
в душах наших детей, внуков, дают
прекрасные всходы в их жизни в будущем.
Стоял март, удивительно теплый и в то же время зимний. Ежедневно шел снег, и вечером, ночью заснеженные улицы, дворы были красивыми. А северная столица в эти часы напоминала сказочный город.
В один из таких прекрасных дней Алёша и его друзья, Оля и Костя, слепили во дворе из рыхлого снега снежную бабу.
Светило солнышко, и на глазах ребят снежная баба стала подтаивать, снег превращался в тонкие ледяные корочки, сверкающие в солнечных лучах.
Алёша зачарованно смотрел на снежную бабу, а тонкие льдинки на ней казались ему очень вкусными. Ему захотелось их попробовать, что Алёша и сделал. Льдинки действительно оказались вкусными, как любимые им леденцы, только очень холодные.
Вечером Алёша пожаловался бабушке на боль в горле. Елизавета Григорьевна напоила внука горячим молоком и дала лекарство.
На следующий день мальчик почувствовал себя лучше, горло почти не болело. Но к вечеру поднялась температура, и его состояние ухудшилось. Обеспокоенная бабушка вызвала детского врача.
Осмотрев горло Алёши, доктор заподозрила у него дифтерию, вызвала Скорую помощь и отправила его в больницу для уточнения диагноза.
В больнице положили мальчика в отдельный бокс, провели необходимое обследование и назначили лечение. Состояние Алёши было удовлетворительным, и бабушке разрешили передать для него новый альбом и цветные карандаши.
Алёше было восемь лет, он учился во втором классе школы, которая находилась в соседнем дворе. В этой школе его бабушка проработала учителем географии более тридцати лет. Родители Алёши были метеорологами и работали на Крайнем Севере, поэтому он жил с бабушкой.
Елизавета Григорьевна рано научила его читать, рисовать. Она перечитала с ним много сказок, часто выезжали за город, на природу. Алёша очень любил рисовать, особенно море, лодки на нем и домик на берегу, в котором жили его родители.
Папа Алёши, Юрий Олегович, и мама, Татьяна Петровна, после окончания учебы в Ленинграде были направлены на Крайний Север, где проработали уже одиннадцать лет в различных поселках на берегу Северного Ледовитого океана.
За это время они стали не только хорошими специалистами – метеорологами, но и известными полярниками. Когда родился Алёша, мама два года жила в Ленинграде, а Юрий Олегович в это время работал на одной из метеостанций в Арктике. В настоящее время родители Алёши работали в поселке на берегу Северного Ледовитого океана и жили в отдельном маленьком доме на берегу.
В этом доме размещалось много аппаратуры, необходимой для работы, была налажена связь с районным и областным центрами погоды.
Рядом с домом находилась вышка с площадкой, на которой стояли приборы. С них каждый час снимались показания и передавались в метеоцентр. Эта информация играла большую роль в определении прогнозов погоды не только по России, но и для стран Европы.
В поселке жили чукчи, которые занимались оленеводством и рыболовством. Их дети ходили в начальную школу, где в каждом классе было всего по несколько человек. А старшеклассники жили в интернате в районном центре и приезжали к родителям только на каникулы. В каждом доме были собачьи упряжки.
Родители Алёши работали в сложных условиях, но полюбили Север и не представляли жизнь свою и работу по-другому. Они очень скучали по сыну, писали ему письма, которые отправляли с вертолетом, изредка прилетавшим в поселок. Прибытие вертолета всегда было большим событием в жизни поселка. Вертолетом доставлялись продукты и все необходимое для жителей: книги, фильмы и многое другое.
Забирал вертолет письма от жителей, а также школьников, уезжавших в интернат. Иногда Елизавета Григорьевна с Алёшей получали сразу несколько писем, поскольку доставлялись они такой необычной почтой.
В письмах родители подробно рассказывали о своей жизни, о том, что им довелось увидеть, пережить. Когда приходили письма, у Алёши и бабушки был настоящий праздник. В каждом ответном письме мальчик обязательно отправлял родителям свои рисунки.
Олег Юрьевич и Татьяна Петровна заметили, что тема Севера была главной в творчестве сына.
Мама с папой много рассказывали о красотах края, подробно описывали полярную ночь, северное сияние, особенности короткого лета. Они писали о жизни чукчей, о главных событиях, происходивших в поселке.
Местные жители были их друзьями, не раз после пурги откапывали их дом от снега, освобождая метеорологов от снежного плена. А когда наступала рыбная путина, то возвращаясь с уловом, рыбаки угощали их свежей и очень вкусной рыбой.
Однажды к берегу поселка приплыло несколько китов, жители сбежались на берег. Особенно радостным это событие было для детей, увидевших китов живьем, а не на картинках.
Маме нравились большие чайки, которые летали над побережьем и вели между собой громкий, понятный только им разговор. А когда рыбаки, забрав улов, разложив на берегу сети для просушки, уходили в поселок, то на берег слеталось так много чаек, что берег казался живой движущейся полосой. Чайки собирали рыбные остатки от улова и весело перелетали с места на место.
Осенью перед началом Полярной ночи в поселке проводился праздник оленеводов, и маму с папой обязательно на него приглашали. У Алёши есть фотографии, на которых родители стоят рядом с красивыми сказочными оленями. А какие прекрасные фотографии лежбища моржей они ему прислали!
Алёша зачарованно смотрел на них. Там маленькие детеныши моржей лежали под боком у своих мам, мощных морских зверей.
Еще мама писала, что летом в тундре расцветает много разных маленьких цветов, и тундра напоминает красивый ковер огромного размера. Но лето очень короткое, и красота тундры быстро проходит.
Все, о чем писали родители, вызывало у Алёши удивление, радость и желание все это увидеть. Мама обещала в июле прилететь в Ленинград и забрать Алёшу на Север, чтобы он до школы смог пожить с ними, познакомиться с их работой, с жизнью чукчей, увидеть природу Севера. Мальчик с нетерпением ждал приезда мамы.
Находясь в больнице, он чувствовал себя хорошо, ждал результатов анализов и выписки из больницы. Он скучал по бабушке и школе. У него было много свободного времени, и он рисовал, мечтал и фантазировал.
Вечерами, когда он стоял у окна и смотрел на заснеженный двор, он вспоминал героев сказок, и ему казалось, что во дворе происходят интересные события. Заснеженные деревья в свете уличного фонаря были очень красивыми. Алёша представлял, как в безлюдном дворе из-за деревьев выезжает тройка белых коней с санями изо льда, а в санях сидит прекрасная Снежная королева.
В другой вечер он представлял, что по двору идет мужественный Кот в сапогах и машет ему шляпой.
А сегодня бабушка передала ему два письма от родителей. В одном из них была интересная фотография с рассказом.
Мама писала, как она ранним утром с фонариком в руке поднялась на площадку, чтобы снять показания приборов, и услышала непонятные звуки. В темноте, так как стояла еще Полярная ночь, ничего не было видно.
Когда она спускалась с площадки, то звуки, похожие на сопение, усилились. Осветив фонариком пространство вокруг, мама увидела белую медведицу и прижавшихся к ней двух маленьких медвежат, примостившихся под площадкой. От неожиданности и страха мама вскрикнула. Из дома выскочил папа с ружьем и также был поражен увиденным.
Он быстро вернулся в дом за фотоаппаратом и банками сгущенного молока. Банки поставили перед медвежатами, которые дружно потянулись к угощению, а папа успел снять этот эпизод. Вспышка от фотоаппарата не испугала медведей.
Что заставило медведицу с детенышами нарушить свой сон, подойти к человеческому жилью, было непонятно. Такие явления в природе редки и должны иметь свою причину.
Когда незваные гости опустошили банки со сгущенкой, они выползли из-под вышки и спокойно пошли в сторону моря. Папа успел сделать еще один снимок.
Алёше хотелось быстрее поговорить с бабушкой, показать фотографии друзьям, Оле и Косте. Очень хотелось домой! Врач сказал, что Алёша уже здоров, и завтра его выпишут.
Засыпая, Алёша думал, что как только бабушка привезет его домой, он сразу в календаре вычеркнет три дня, проведенные в больнице. И еще в своем сладком сне он видел, что все меньше дней остается до встречи с родителями, и скоро исполнится его заветная мечта: он увидит Север…
Добрые зерна, которые мы посеяли
в душах наших детей, внуков, дают
прекрасные всходы в их жизни в будущем.
Стоял март, удивительно теплый и в то же время зимний. Ежедневно шел снег, и вечером, ночью заснеженные улицы, дворы были красивыми. А северная столица в эти часы напоминала сказочный город.
В один из таких прекрасных дней Алёша и его друзья, Оля и Костя, слепили во дворе из рыхлого снега снежную бабу.
Светило солнышко, и на глазах ребят снежная баба стала подтаивать, снег превращался в тонкие ледяные корочки, сверкающие в солнечных лучах.
Алёша зачарованно смотрел на снежную бабу, а тонкие льдинки на ней казались ему очень вкусными. Ему захотелось их попробовать, что Алёша и сделал. Льдинки действительно оказались вкусными, как любимые им леденцы, только очень холодные.
Вечером Алёша пожаловался бабушке на боль в горле. Елизавета Григорьевна напоила внука горячим молоком и дала лекарство.
На следующий день мальчик почувствовал себя лучше, горло почти не болело. Но к вечеру поднялась температура, и его состояние ухудшилось. Обеспокоенная бабушка вызвала детского врача.
Осмотрев горло Алёши, доктор заподозрила у него дифтерию, вызвала Скорую помощь и отправила его в больницу для уточнения диагноза.
В больнице положили мальчика в отдельный бокс, провели необходимое обследование и назначили лечение. Состояние Алёши было удовлетворительным, и бабушке разрешили передать для него новый альбом и цветные карандаши.
Алёше было восемь лет, он учился во втором классе школы, которая находилась в соседнем дворе. В этой школе его бабушка проработала учителем географии более тридцати лет. Родители Алёши были метеорологами и работали на Крайнем Севере, поэтому он жил с бабушкой.
Елизавета Григорьевна рано научила его читать, рисовать. Она перечитала с ним много сказок, часто выезжали за город, на природу. Алёша очень любил рисовать, особенно море, лодки на нем и домик на берегу, в котором жили его родители.
Папа Алёши, Юрий Олегович, и мама, Татьяна Петровна, после окончания учебы в Ленинграде были направлены на Крайний Север, где проработали уже одиннадцать лет в различных поселках на берегу Северного Ледовитого океана.
За это время они стали не только хорошими специалистами – метеорологами, но и известными полярниками. Когда родился Алёша, мама два года жила в Ленинграде, а Юрий Олегович в это время работал на одной из метеостанций в Арктике. В настоящее время родители Алёши работали в поселке на берегу Северного Ледовитого океана и жили в отдельном маленьком доме на берегу.
В этом доме размещалось много аппаратуры, необходимой для работы, была налажена связь с районным и областным центрами погоды.
Рядом с домом находилась вышка с площадкой, на которой стояли приборы. С них каждый час снимались показания и передавались в метеоцентр. Эта информация играла большую роль в определении прогнозов погоды не только по России, но и для стран Европы.
В поселке жили чукчи, которые занимались оленеводством и рыболовством. Их дети ходили в начальную школу, где в каждом классе было всего по несколько человек. А старшеклассники жили в интернате в районном центре и приезжали к родителям только на каникулы. В каждом доме были собачьи упряжки.
Родители Алёши работали в сложных условиях, но полюбили Север и не представляли жизнь свою и работу по-другому. Они очень скучали по сыну, писали ему письма, которые отправляли с вертолетом, изредка прилетавшим в поселок. Прибытие вертолета всегда было большим событием в жизни поселка. Вертолетом доставлялись продукты и все необходимое для жителей: книги, фильмы и многое другое.
Забирал вертолет письма от жителей, а также школьников, уезжавших в интернат. Иногда Елизавета Григорьевна с Алёшей получали сразу несколько писем, поскольку доставлялись они такой необычной почтой.
В письмах родители подробно рассказывали о своей жизни, о том, что им довелось увидеть, пережить. Когда приходили письма, у Алёши и бабушки был настоящий праздник. В каждом ответном письме мальчик обязательно отправлял родителям свои рисунки.
Олег Юрьевич и Татьяна Петровна заметили, что тема Севера была главной в творчестве сына.
Мама с папой много рассказывали о красотах края, подробно описывали полярную ночь, северное сияние, особенности короткого лета. Они писали о жизни чукчей, о главных событиях, происходивших в поселке.
Местные жители были их друзьями, не раз после пурги откапывали их дом от снега, освобождая метеорологов от снежного плена. А когда наступала рыбная путина, то возвращаясь с уловом, рыбаки угощали их свежей и очень вкусной рыбой.
Однажды к берегу поселка приплыло несколько китов, жители сбежались на берег. Особенно радостным это событие было для детей, увидевших китов живьем, а не на картинках.
Маме нравились большие чайки, которые летали над побережьем и вели между собой громкий, понятный только им разговор. А когда рыбаки, забрав улов, разложив на берегу сети для просушки, уходили в поселок, то на берег слеталось так много чаек, что берег казался живой движущейся полосой. Чайки собирали рыбные остатки от улова и весело перелетали с места на место.
Осенью перед началом Полярной ночи в поселке проводился праздник оленеводов, и маму с папой обязательно на него приглашали. У Алёши есть фотографии, на которых родители стоят рядом с красивыми сказочными оленями. А какие прекрасные фотографии лежбища моржей они ему прислали!
Алёша зачарованно смотрел на них. Там маленькие детеныши моржей лежали под боком у своих мам, мощных морских зверей.
Еще мама писала, что летом в тундре расцветает много разных маленьких цветов, и тундра напоминает красивый ковер огромного размера. Но лето очень короткое, и красота тундры быстро проходит.
Все, о чем писали родители, вызывало у Алёши удивление, радость и желание все это увидеть. Мама обещала в июле прилететь в Ленинград и забрать Алёшу на Север, чтобы он до школы смог пожить с ними, познакомиться с их работой, с жизнью чукчей, увидеть природу Севера. Мальчик с нетерпением ждал приезда мамы.
Находясь в больнице, он чувствовал себя хорошо, ждал результатов анализов и выписки из больницы. Он скучал по бабушке и школе. У него было много свободного времени, и он рисовал, мечтал и фантазировал.
Вечерами, когда он стоял у окна и смотрел на заснеженный двор, он вспоминал героев сказок, и ему казалось, что во дворе происходят интересные события. Заснеженные деревья в свете уличного фонаря были очень красивыми. Алёша представлял, как в безлюдном дворе из-за деревьев выезжает тройка белых коней с санями изо льда, а в санях сидит прекрасная Снежная королева.
В другой вечер он представлял, что по двору идет мужественный Кот в сапогах и машет ему шляпой.
А сегодня бабушка передала ему два письма от родителей. В одном из них была интересная фотография с рассказом.
Мама писала, как она ранним утром с фонариком в руке поднялась на площадку, чтобы снять показания приборов, и услышала непонятные звуки. В темноте, так как стояла еще Полярная ночь, ничего не было видно.
Когда она спускалась с площадки, то звуки, похожие на сопение, усилились. Осветив фонариком пространство вокруг, мама увидела белую медведицу и прижавшихся к ней двух маленьких медвежат, примостившихся под площадкой. От неожиданности и страха мама вскрикнула. Из дома выскочил папа с ружьем и также был поражен увиденным.
Он быстро вернулся в дом за фотоаппаратом и банками сгущенного молока. Банки поставили перед медвежатами, которые дружно потянулись к угощению, а папа успел снять этот эпизод. Вспышка от фотоаппарата не испугала медведей.
Что заставило медведицу с детенышами нарушить свой сон, подойти к человеческому жилью, было непонятно. Такие явления в природе редки и должны иметь свою причину.
Когда незваные гости опустошили банки со сгущенкой, они выползли из-под вышки и спокойно пошли в сторону моря. Папа успел сделать еще один снимок.
Алёше хотелось быстрее поговорить с бабушкой, показать фотографии друзьям, Оле и Косте. Очень хотелось домой! Врач сказал, что Алёша уже здоров, и завтра его выпишут.
Засыпая, Алёша думал, что как только бабушка привезет его домой, он сразу в календаре вычеркнет три дня, проведенные в больнице. И еще в своем сладком сне он видел, что все меньше дней остается до встречи с родителями, и скоро исполнится его заветная мечта: он увидит Север…
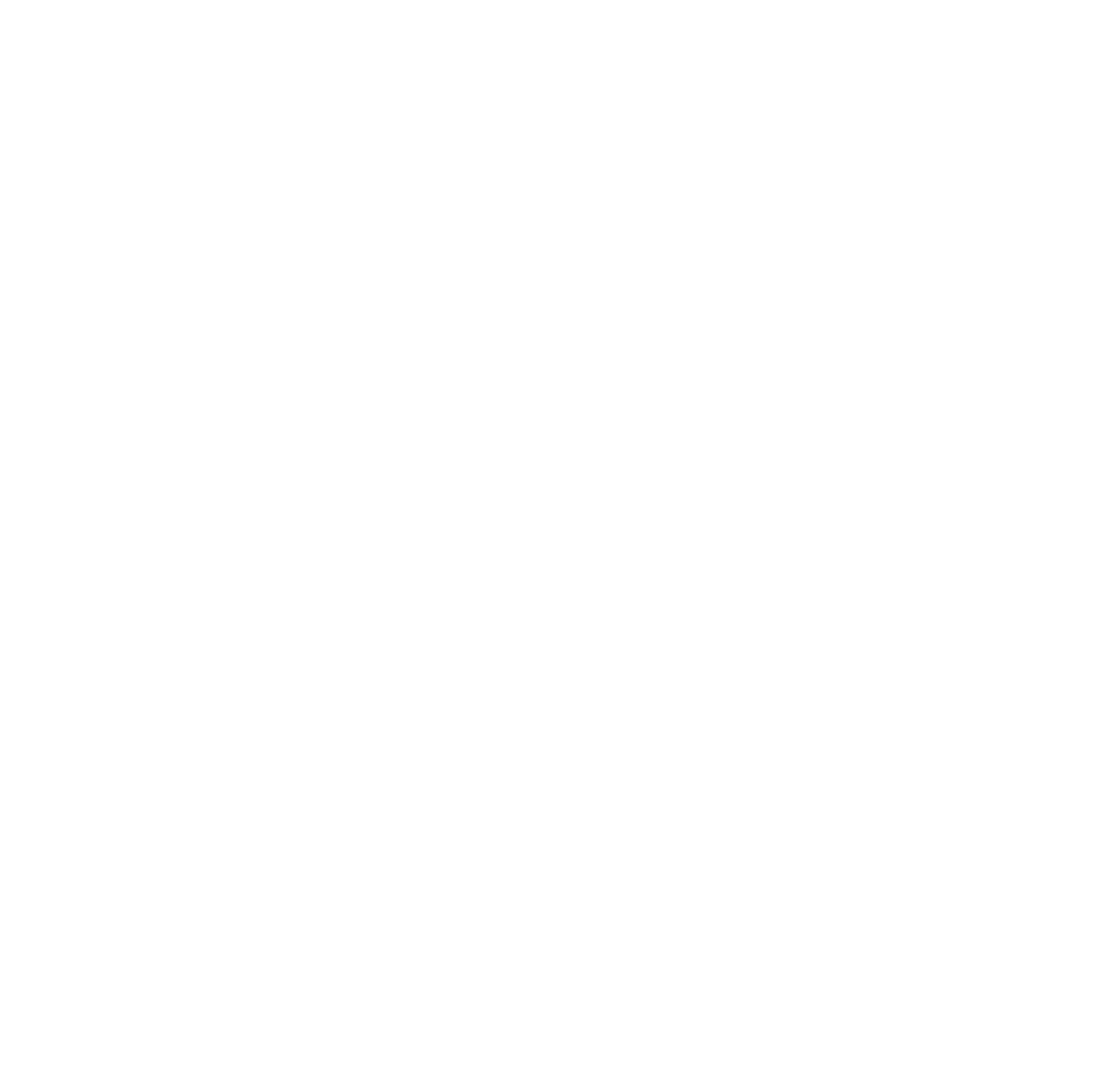
Евгения МАРЦЫШЕВСКАЯ
Член Российского союза писателей, член Союза детских и юношеских писателей, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист. Пишет увлекательные, познавательные сказки и рассказы для детей и их родителей. Первая книга «Никины сказки, или Почти правдивые истории» вышла в 2021г. в издательстве ИТРК. С 2021 по 2024 год издано шесть книг, 16 сказок опубликовано в различных сборниках, 23 рассказа – в журналах и альманахах, записано 3 аудиокниги.
Член Российского союза писателей, член Союза детских и юношеских писателей, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист. Пишет увлекательные, познавательные сказки и рассказы для детей и их родителей. Первая книга «Никины сказки, или Почти правдивые истории» вышла в 2021г. в издательстве ИТРК. С 2021 по 2024 год издано шесть книг, 16 сказок опубликовано в различных сборниках, 23 рассказа – в журналах и альманахах, записано 3 аудиокниги.
ДЕВИЧЬЯ ЛУДА
Сказ про то, как поморы себе жен выбирали.
В Белом море много островов разбросано. Разных размеров они и форм. На которых лес растёт, те – острова, а каменистые без леса – луды. Такое вот поморское название.
Поморами себя величают потомки древних новгородцев и карел, селившихся с давних времён у Белого моря. Недаром юго-западное побережье Поморским берегом называют. Этот вольный народ не знал ни крепостного права, ни татаро-монгольского ига. Название «поморы» происходит то ли от финно-угорского слова «пуома», которое означает «морские люди», то ли от русского слова «по морю». Жизнь этих людей всегда была тесно связана с морем и рыболовством. «Море – наше поле» – любимая их поговорка.
Издавна в семейной жизни поморов было полное равноправие и ценилось взаимное уважение. Когда муж надолго уходил в море, жена становилась главой семьи – большухой. Что должна поморская жонка (так называли поморы женщин)? Мужа ждать верной с моря, да сама на помощь идти, если тот в срок не вернётся. Спускала она карбас и проходила по ближним лудам, смотрела, не потерпело ли судно её супруга крушения. Бывало, что мужа так и спасала. А для этого должна жонка неустрашимой быть, моря и одиночества не бояться. Поэтому прежде, чем свадьбу играть, невесте часто испытание давали.
* * *
В одном большом селе, что на Поморском берегу Белого моря находится, жил молодой рыбак Савелий. Был он белокур, статен и трудолюбив. Многие девицы на него заглядывались, мечтая о таком женихе. А ему по сердцу были сёстры-погодки, что напротив его дома жили – Ираида и Ульяна. Были они внешне похожи, по характеру добры, в делах споры и между собой дружны. Девушкам обеим Савелий нравился. Каждая хотела бы за него замуж пойти, да боялась сестру обидеть. Вот и ходили они на гулянья всегда втроём. Знаки внимания Ираиде и Ульяне парень одинаковые оказывал – никак не мог себе невесту выбрать.
Вот однажды нарядился Савелий в праздничную косоворотку, подпоясался кожаным поясом и пошёл к соседям, где сестры жили. Поклонился он в ноги отцу девушек и сказал:
– Пришёл я к Вам, Тимофей Семёнович, свататься. Полюбил я дочерей Ваших. Хочу жениться. Только на какой – не знаю. Как Вы скажите, так и будет.
Посмотрел на парня Тимофей Семёнович, усмехнулся. Савелий ему давно нравился. Лучше зятя и не сыскать.
– Ну что ж, я согласен за тебя дочь отдать. Но вот какую из них, надобно всё же тебе решить. Ты проверку им устрой. Авось, тогда и поймёшь.
И рассказал он Савелию о старинном обычае, как поморы себе жонок выбирали. Выслушал парень Тимофея Семёновича да решил последовать его совету. Пригласили тогда Ираиду и Ульяну в горницу, и отец объявил им:
– Дочки вы мои любимые, сватается к вам Савелий Никитич. Но, по обычаю нашему, девица должна испытание пройти. Та, что пройдёт его, получит моё отцовское благословение и за Савелия замуж пойдёт. А чтобы решить, кому первой испытание проходить, будете жребий тянуть.
Ираида вытянула жребий первой. На следующий день собрались старики из того села. Благословили девицу. Дали ей в путь кувшин воды (еду с собой брать нельзя было). Посадил Ираиду Савелий на карбас, отвёз на Девичью луду и, оставив её там на три дня, сам домой воротился. Ульяну на это время отец дома закрыл, чтоб она с Савелием не виделась....
Спустя три дня взял Савелий еды, напитков всяких и на Девичью луду отправился. А Ираида, проплакав на том острове всё это время, люто возненавидела парня. Только карбас к берегу причалил, она к нему с диким воем кинулась. Плачет, криком кричит – не справилась со своими страхами девушка. Не годна к супружеству оказалась. Испугалась она одиночества, как дом и детей охранять будет? На море чудовищ нет. Змей и животных на лудах нет. Кого бояться? Вернул Савелий Ираиду в отцовский дом.
На следующий день настала очередь Ульяне испытание проходить. Собрались старики. Благословили девицу. Дали ей в путь кувшин воды. Посадил Ульяну Савелий на карбас, отвёз на Девичью луду и, оставив её там, сам домой воротился.
Через три дня, как оговорено было, отправился парень на Девичью луду. А самому уже беспокойно: что, если и Ульяна, как Ираида, его встретит? Напрасно волновался он. Причалил карбас к острову. Сошёл Савелий на берег и видит: идёт к нему Ульяна, краше прежнего. В косы цветы вплела, песню ему поёт и ведёт луду показать. А там и ложе из мха и травы сделано с балаганом из можжевеловых веток. Подле ложа кувшин, что с водой с собой брала, полный ягод стоит. Видит Савелий, что девушка не кричит, не плачет, а спокойна, весела и его с любовью встречает. Значит, хорошей женой будет, и в доме – порядок.
Обнял он свою суженную, поцеловал крепко. И пробыли они на той луде дольше положенного. А когда в село вернулись, сразу к свадьбе готовиться стали.
* * *
Давно это было. Теперь уж про тот обычай только старики рассказать могут. А вот интересно: Девичья луда и сейчас в Белом море есть, а сможет ли современная девица там три дня одна провести, жениха своего ожидаючи?..
Сказ про то, как поморы себе жен выбирали.
В Белом море много островов разбросано. Разных размеров они и форм. На которых лес растёт, те – острова, а каменистые без леса – луды. Такое вот поморское название.
Поморами себя величают потомки древних новгородцев и карел, селившихся с давних времён у Белого моря. Недаром юго-западное побережье Поморским берегом называют. Этот вольный народ не знал ни крепостного права, ни татаро-монгольского ига. Название «поморы» происходит то ли от финно-угорского слова «пуома», которое означает «морские люди», то ли от русского слова «по морю». Жизнь этих людей всегда была тесно связана с морем и рыболовством. «Море – наше поле» – любимая их поговорка.
Издавна в семейной жизни поморов было полное равноправие и ценилось взаимное уважение. Когда муж надолго уходил в море, жена становилась главой семьи – большухой. Что должна поморская жонка (так называли поморы женщин)? Мужа ждать верной с моря, да сама на помощь идти, если тот в срок не вернётся. Спускала она карбас и проходила по ближним лудам, смотрела, не потерпело ли судно её супруга крушения. Бывало, что мужа так и спасала. А для этого должна жонка неустрашимой быть, моря и одиночества не бояться. Поэтому прежде, чем свадьбу играть, невесте часто испытание давали.
* * *
В одном большом селе, что на Поморском берегу Белого моря находится, жил молодой рыбак Савелий. Был он белокур, статен и трудолюбив. Многие девицы на него заглядывались, мечтая о таком женихе. А ему по сердцу были сёстры-погодки, что напротив его дома жили – Ираида и Ульяна. Были они внешне похожи, по характеру добры, в делах споры и между собой дружны. Девушкам обеим Савелий нравился. Каждая хотела бы за него замуж пойти, да боялась сестру обидеть. Вот и ходили они на гулянья всегда втроём. Знаки внимания Ираиде и Ульяне парень одинаковые оказывал – никак не мог себе невесту выбрать.
Вот однажды нарядился Савелий в праздничную косоворотку, подпоясался кожаным поясом и пошёл к соседям, где сестры жили. Поклонился он в ноги отцу девушек и сказал:
– Пришёл я к Вам, Тимофей Семёнович, свататься. Полюбил я дочерей Ваших. Хочу жениться. Только на какой – не знаю. Как Вы скажите, так и будет.
Посмотрел на парня Тимофей Семёнович, усмехнулся. Савелий ему давно нравился. Лучше зятя и не сыскать.
– Ну что ж, я согласен за тебя дочь отдать. Но вот какую из них, надобно всё же тебе решить. Ты проверку им устрой. Авось, тогда и поймёшь.
И рассказал он Савелию о старинном обычае, как поморы себе жонок выбирали. Выслушал парень Тимофея Семёновича да решил последовать его совету. Пригласили тогда Ираиду и Ульяну в горницу, и отец объявил им:
– Дочки вы мои любимые, сватается к вам Савелий Никитич. Но, по обычаю нашему, девица должна испытание пройти. Та, что пройдёт его, получит моё отцовское благословение и за Савелия замуж пойдёт. А чтобы решить, кому первой испытание проходить, будете жребий тянуть.
Ираида вытянула жребий первой. На следующий день собрались старики из того села. Благословили девицу. Дали ей в путь кувшин воды (еду с собой брать нельзя было). Посадил Ираиду Савелий на карбас, отвёз на Девичью луду и, оставив её там на три дня, сам домой воротился. Ульяну на это время отец дома закрыл, чтоб она с Савелием не виделась....
Спустя три дня взял Савелий еды, напитков всяких и на Девичью луду отправился. А Ираида, проплакав на том острове всё это время, люто возненавидела парня. Только карбас к берегу причалил, она к нему с диким воем кинулась. Плачет, криком кричит – не справилась со своими страхами девушка. Не годна к супружеству оказалась. Испугалась она одиночества, как дом и детей охранять будет? На море чудовищ нет. Змей и животных на лудах нет. Кого бояться? Вернул Савелий Ираиду в отцовский дом.
На следующий день настала очередь Ульяне испытание проходить. Собрались старики. Благословили девицу. Дали ей в путь кувшин воды. Посадил Ульяну Савелий на карбас, отвёз на Девичью луду и, оставив её там, сам домой воротился.
Через три дня, как оговорено было, отправился парень на Девичью луду. А самому уже беспокойно: что, если и Ульяна, как Ираида, его встретит? Напрасно волновался он. Причалил карбас к острову. Сошёл Савелий на берег и видит: идёт к нему Ульяна, краше прежнего. В косы цветы вплела, песню ему поёт и ведёт луду показать. А там и ложе из мха и травы сделано с балаганом из можжевеловых веток. Подле ложа кувшин, что с водой с собой брала, полный ягод стоит. Видит Савелий, что девушка не кричит, не плачет, а спокойна, весела и его с любовью встречает. Значит, хорошей женой будет, и в доме – порядок.
Обнял он свою суженную, поцеловал крепко. И пробыли они на той луде дольше положенного. А когда в село вернулись, сразу к свадьбе готовиться стали.
* * *
Давно это было. Теперь уж про тот обычай только старики рассказать могут. А вот интересно: Девичья луда и сейчас в Белом море есть, а сможет ли современная девица там три дня одна провести, жениха своего ожидаючи?..
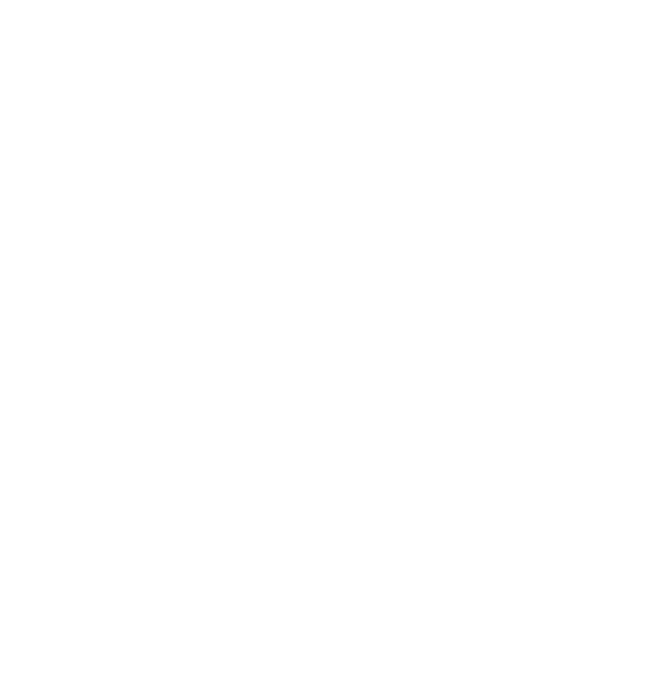
Ольга РОГИНСКАЯ
Родилась в 1972 году в Крыму. Живет в Израиле. Филолог, эмоциональный терапевт, мастер НЛП. Член международного Союза писателей «Новый современник», автор коротких рассказов, а также статей на тему «Эмоциональная терапия с помощью нейролингвистического программирования». Призер литературного конкурса «Золотая пчела» на премию МСП «Новый современник».
Родилась в 1972 году в Крыму. Живет в Израиле. Филолог, эмоциональный терапевт, мастер НЛП. Член международного Союза писателей «Новый современник», автор коротких рассказов, а также статей на тему «Эмоциональная терапия с помощью нейролингвистического программирования». Призер литературного конкурса «Золотая пчела» на премию МСП «Новый современник».
ЧЕМОДАН
В старом бабушки-дедушкином колыбном доме – небольшое пространство, разделенное занавеской, бабушкина «комната».
Пространство полностью захвачено широкой железной кроватью с железной же спинкой и синими резными набалдашниками по краям.
Возможно, кровать и не казалась бы огромным кораблем, застрявшим на жалком островке суши, если бы не огромная перина на ней – «ибэрбет» на идиш ласково называла ее бабуля.
Детскому воображению перина казалась чем-то вроде небесного рая из мягких накрахмаленных облаков. Внутрь рая можно было прыгнуть и, раскинувшись, утонуть в снегу из одеял и подушек...
Нос вдыхает свежесть накрахмаленных простыней, глаза закрываются, и я засыпаю на перине, будто в уютном сугробе.
Пространство за занавеской, именованное бабушкиной комнатой, скрывало от чужого глаза еще один невероятно важный предмет.
Большой старый чемодан из темно-зеленого дерматина беспрестанно нарушал мой детский покой.
Лазить в чемодан было строго запрещено. Дедушка и бабушка загадочно говорили: там документы!
Кто такие эти документы и почему их нельзя видеть, моя тогдашняя голова соображала с трудом. Однажды, случайно издали подсмотрев в нутро чемодана, я разглядела пожелтевшие бумаги, тетради и какие-то фотографии.
«Наверное, документы прячутся между бумажками, чтобы случайный глаз не смог их разглядеть», – подумала я.
Что и говорить, из чемодана пахло тайной. Всякий раз, когда бабушка или дедушка открывали его, я тайком подкрадывалась к занавеске, отделявшей островок суши с периной и чемоданом под ней, и, затаив дыхание, прислушивалась к тому, что происходит внутри. Мне до смерти хотелось увидеть, наконец, документы, понять, как же они выглядят и где прячутся внутри дерматинового великана.
Единственное, что удавалось уловить, это какой-то особенный запах, чем-то напоминавший запах испеченного пирога.
Притаившись за занавеской, я торопливо вдыхала приторный ванильный запах чемоданного нутра. Страх, что чемодан вот-вот захлопнется, в очередной раз оставив с носом неуемное детское любопытство, заставлял меня вдыхать все чаще и чаще, так что начинала кружиться голова.
И голова сделала вывод: так пахнут документы!
Лет через десять, уже хорошо понимая, что такое документы, я однажды попросила у бабушки посмотреть, что лежит в чемодане, и к моему удивлению, разрешение получила практически мгновенно. Бабуля только добавила: «Там важные документы; смотри, не растеряй!»
Я зашла за занавеску и зажгла свет, осветив палубу корабля с белой периной. Потом села на пол, с трудом придвинула к себе неугасающий источник моего детского любопытства.
Защелки на чемодане поддались сразу, и крышка открылась невероятно легко. Как будто и сам чемодан с нетерпением ждал нашего знакомства.
Пахнуло тем самым приторно-сладким запахом, всегда напоминавшим ванильный штрудель и заставлявшим чаще вдыхать.
Теперь про запах в чемодане мне пришла другая мысль: так пахнет прошлое! Так пахнет память! Бабушкина и дедушкина...
Память моей семьи, самое ценное, что оставалось у них двоих от довоенной жизни каждого, что абсолютно случайно сохранилось после всего, что пережили оба, и то, что чудом создавалось после войны.
Все самое-самое важное для них осело в старом чемодане из темно-зеленого дерматина: метрики, волшебным образом уцелевшие довоенные фотографии, удостоверение заслуженного учителя Крымской АССР, Почетные грамоты, медали, письма, удостоверения членов партии, практически пустые сберегательные книжки и предмет особой важности – облигации, которые в их представлении имели невероятную ценность, но так и остались разноцветными «обещаниями» достойной жизни.
Прошло очень много лет с тех пор, как я впервые близко познакомилась с воспоминаниями, которые бабушка с дедушкой называли прозаичным словом «документы».
Темно- зеленый дерматиновый чемодан и бабушкина перина канули в лету. Но иногда мне снится, как я, ребенок, прячусь за занавеской, торопясь надышаться приторным запахом старой бумаги, или сижу перед открытым чемоданом, бережно перекладывая бабушки-дедушкину память, внимательно вглядываясь в каждый ее уголок.
Обычно наутро после этих снов сам собой открывается старый семейный альбом, в котором и теперь тихой размеренной жизнью живут фотографии из старого чемодана.
Я приближаю к ним лицо, вдыхаю ТОТ запах и в очередной раз понимаю: так пахнет память.
КИЛЛЕР ДЛЯ ПОПУГАЯ
Разнузданное поведение абсолютно теряло всякие рамки приличия. Попугай не унимался.
Я только укачала Таю и присела на подлокотник кресла одной половинкой того, на чём сидят.
Голова осмелилась повернуться в сторону кухни, где на столе, абсолютно покинутая, стояла чашка холодного чая.
По моим подсчётам, Тая проспит минут пятнадцать, может, полчаса, если повезёт. А потому одуревшая от тишины осознанность судорожно искала варианты доступных возможностей: допить холодный чай, сделать новый, горячий, закинуть хлеб в тостер, чтоб потом ляпнуть на него кусок сыра, заложить бельё в стиралку… и последний, самый желанный: быстро лечь и закрыть глаза.
Последний был самым обольстительным. Я почти представила, как сейчас свернусь в клубок и метнулась к дивану...я выбрала…
Но тут снова завопил он! Кто-то может мне ответить: почему люди держат попугая на балконе, абсолютно не думая о страданиях окружающих?!
Попугай проживал на втором этаже в доме напротив и, по моим ощущениям, не просто проживал, а кайфовал! Каждое утро, как только с клетки снимали ширму, зелёный горлопан упрямо упражнялся в искусстве оратора, и ему это нравилось! Видимо, за ночь под ширмой в зелёной башке с жёлтым гребешком скапливались претензии и возражения, которые он считал необходимым привнести в этот мир.
Он громко вопил в своей клетке и, по ощущениям, материл на все лады и наше правительство, и ситуацию в стране, и соседей, которые по выходным жарили шашлыки, и пару знакомых кошек с соседних балконов, и ещё нескольких уличных.
Сегодня же, как назло, что-то особенно вдохновило зелёного болтуна: харизма рвалась из пернатого тела наружу и выплёскивалась прямо мне в мозг.
«Рогатку мне, рогатку!!!» – отчётливо произнёс мозг. Думаю, в этот момент сам Понтий Пилат понял бы, о чём я.
Завязался внутренний диалог меня со мной.
– Ты в своём уме?! – говорила мне Я. – Смогла бы выстрелить в птицу из рогатки?!
– Ой, хорошая мысль, – отвечала ей тоже Я, – не знаю, но я хочу вырубиться на пятнадцать минут, пока не начала орать Тая.
– Живое существо! – вопила первая я.
– Блин, так и я ещё живая!!!! – парировала вторая Я. И добавила:
– Боже! Пошли мне избавление в каком-нибудь любом виде!
Между тем, по моим подсчётам, Тае оставалось спать ещё минут десять при самом лучшем раскладе; если попугайские вопли её не разбудят.
Потому я приняла новое решение: поменять план «поспать» на план «сделать новый горячий чай и закинуть в тостер хлеб»; и потащилась на кухню.
Нужно было вскипятить остывший чайник, положить в тостер кусочек хлеба, быстро вылить холодный чай, приунывший в чашке холодной плёночкой, налить горячий, бросить на хлеб кусочек сыра и, желательно, успеть вкусить сей кайф, пока не заорала дочь.
Закончив возиться с чаем, я присела, держа в руке долгожданный тост, и наконец выдохнула. И вот тут до меня дошло, что в воздухе чего-то не хватает.
«Как-то тихо в воздухе», – подумала я.
Тост и горячий чай возвращали способность к адекватности мышления.
«Я больше не слышу попугайского «мата»! Может, его накрыли ширмой?» – с радостью подумала я и подошла к окошку в надежде на чудо.
Вера в то, что мечты сбываются, не иссякала во мне никогда, и да, мысли о том, чтобы кто-то из соседей нанял киллера для зелёного любителя публичных выступлений, признаюсь, приходили в голову в отсутствии ресурсов, но… Похоже, Вселенная решила взяться за дело всерьёз.
Из чистого любопытства выглянув из окошка, я обнаружила себя свидетелем сцены из детской сказки, название которой могло бы продолжить ряд «Трех поросят», «Волка и семерых козлят» или более близкой по сюжету к моей сказки «Петух и Лиса».
Неизвестно каким образом высвободившийся из клетки попугай стоял на краю перил своего балкона и настороженно-критическим взглядом пялился на соседского кота, который неизвестно как и какого хр... на оказался с другой стороны перил балкона попугайского.
«Крылья, ноги и хвосты» – вдруг почему-то вспомнилось мне название мультфильма...
Попугай насторожился, но продолжал стоять на том же месте, как бы прицеливаясь, стоит ли прочитать коту лекцию на свободную тему или всё же лучше воздержаться и потом выступить в прениях.
Соседский кот, который раньше не разгуливал дальше своего балкона, очевидно, понял, чего был лишён, и тоже прицеливался. Мне цель кота была очевидна.
В этот момент я забыла про спящую Таю, которая уже начала ворочаться и кряхтеть в коляске, и про остывший тост со вновь остывшим чаем.
Немая сцена продолжалась до тех пор, пока кот не принял образ нападающего на дичь злобного хищника, при этом издавая нижней челюстью нечто нечленораздельное вроде: «Я-я-я!»
Пришло время действовать. Любое промедление было подобно… Кто бы мог подумать: подобно смерти попугая, к которому я столько раз мысленно подсылала киллера.
Я быстро распахнула окно настежь и изо все сил швырнула в кота то, что первым попалось под руку.
Под руку попался маленький детский мячик размером с теннисный.
В школе я отвратительно метала на расстояние, но выбора не было: я размахнулась и изо всех сил метнула мяч в притаившегося в прыжке охотника.
– Брысь, гад! – истошно заверещала я, на секунду забыв про Таю в коляске, которая и так уже начала звучать.
Мяч ударил по перилам, кот испугался, прыгнул на дерево, которое и было трамплином на родной балкон.
Отмороженный попугай, похоже, так ничего и не понял. Он по-прежнему стоял на перилах, только в этот раз продвинулся на их середину и удивлённо вывернул башку с задиристым гребешком, видимо, недоумевая, куда же вдруг сдуло собеседника. К моему удивлению, харизматик до сих пор молчал, погрузившись в несвойственную себе задумчивость.
Теперь же, на фоне этой тишины окончательно проснувшись, орала Тая. Я взяла на руки голодную бунтующую дочь и отправилась на кухню делать ей бутылку.
На столе с прежней верностью меня ждали вновь слегка начатый холодный чай и откусанный пару раз тост с жёлтой замёрзшей лужей остывшего сыра.
Проголодавшаяся дочь с удовольствием выпила детскую смесь и почти сразу же принялась жаловаться на животик.
Я набрала в лёгкие воздуха, вспомнила мамино обещание про то, что детки растут быстро, и мы с Таечкой принялись вальсировать по комнате. По-видимому, в это самое время зелёный оратор окончательно очнулся от перенесённого унижения потери зрителя. Истошные вопли не заставили себя ждать, и на этот раз мне показалось, что попугай материт всё и всех сразу.
Я выглянула в окно и поняла: горлопана загнали в клетку.
«Давненько они с Таей не орали дуэтом», – подумала я.
Вспомнился кот на перилах в позе киллера, я с сожалением глубоко вздохнула и пошла собирать нас на прогулку.
– Ты крутая, – восхищённо сказала мне одна из моих Я.
А вторая тихо так шепнула:
– А вообще-то неплохая идея – киллер для попугая…
В старом бабушки-дедушкином колыбном доме – небольшое пространство, разделенное занавеской, бабушкина «комната».
Пространство полностью захвачено широкой железной кроватью с железной же спинкой и синими резными набалдашниками по краям.
Возможно, кровать и не казалась бы огромным кораблем, застрявшим на жалком островке суши, если бы не огромная перина на ней – «ибэрбет» на идиш ласково называла ее бабуля.
Детскому воображению перина казалась чем-то вроде небесного рая из мягких накрахмаленных облаков. Внутрь рая можно было прыгнуть и, раскинувшись, утонуть в снегу из одеял и подушек...
Нос вдыхает свежесть накрахмаленных простыней, глаза закрываются, и я засыпаю на перине, будто в уютном сугробе.
Пространство за занавеской, именованное бабушкиной комнатой, скрывало от чужого глаза еще один невероятно важный предмет.
Большой старый чемодан из темно-зеленого дерматина беспрестанно нарушал мой детский покой.
Лазить в чемодан было строго запрещено. Дедушка и бабушка загадочно говорили: там документы!
Кто такие эти документы и почему их нельзя видеть, моя тогдашняя голова соображала с трудом. Однажды, случайно издали подсмотрев в нутро чемодана, я разглядела пожелтевшие бумаги, тетради и какие-то фотографии.
«Наверное, документы прячутся между бумажками, чтобы случайный глаз не смог их разглядеть», – подумала я.
Что и говорить, из чемодана пахло тайной. Всякий раз, когда бабушка или дедушка открывали его, я тайком подкрадывалась к занавеске, отделявшей островок суши с периной и чемоданом под ней, и, затаив дыхание, прислушивалась к тому, что происходит внутри. Мне до смерти хотелось увидеть, наконец, документы, понять, как же они выглядят и где прячутся внутри дерматинового великана.
Единственное, что удавалось уловить, это какой-то особенный запах, чем-то напоминавший запах испеченного пирога.
Притаившись за занавеской, я торопливо вдыхала приторный ванильный запах чемоданного нутра. Страх, что чемодан вот-вот захлопнется, в очередной раз оставив с носом неуемное детское любопытство, заставлял меня вдыхать все чаще и чаще, так что начинала кружиться голова.
И голова сделала вывод: так пахнут документы!
Лет через десять, уже хорошо понимая, что такое документы, я однажды попросила у бабушки посмотреть, что лежит в чемодане, и к моему удивлению, разрешение получила практически мгновенно. Бабуля только добавила: «Там важные документы; смотри, не растеряй!»
Я зашла за занавеску и зажгла свет, осветив палубу корабля с белой периной. Потом села на пол, с трудом придвинула к себе неугасающий источник моего детского любопытства.
Защелки на чемодане поддались сразу, и крышка открылась невероятно легко. Как будто и сам чемодан с нетерпением ждал нашего знакомства.
Пахнуло тем самым приторно-сладким запахом, всегда напоминавшим ванильный штрудель и заставлявшим чаще вдыхать.
Теперь про запах в чемодане мне пришла другая мысль: так пахнет прошлое! Так пахнет память! Бабушкина и дедушкина...
Память моей семьи, самое ценное, что оставалось у них двоих от довоенной жизни каждого, что абсолютно случайно сохранилось после всего, что пережили оба, и то, что чудом создавалось после войны.
Все самое-самое важное для них осело в старом чемодане из темно-зеленого дерматина: метрики, волшебным образом уцелевшие довоенные фотографии, удостоверение заслуженного учителя Крымской АССР, Почетные грамоты, медали, письма, удостоверения членов партии, практически пустые сберегательные книжки и предмет особой важности – облигации, которые в их представлении имели невероятную ценность, но так и остались разноцветными «обещаниями» достойной жизни.
Прошло очень много лет с тех пор, как я впервые близко познакомилась с воспоминаниями, которые бабушка с дедушкой называли прозаичным словом «документы».
Темно- зеленый дерматиновый чемодан и бабушкина перина канули в лету. Но иногда мне снится, как я, ребенок, прячусь за занавеской, торопясь надышаться приторным запахом старой бумаги, или сижу перед открытым чемоданом, бережно перекладывая бабушки-дедушкину память, внимательно вглядываясь в каждый ее уголок.
Обычно наутро после этих снов сам собой открывается старый семейный альбом, в котором и теперь тихой размеренной жизнью живут фотографии из старого чемодана.
Я приближаю к ним лицо, вдыхаю ТОТ запах и в очередной раз понимаю: так пахнет память.
КИЛЛЕР ДЛЯ ПОПУГАЯ
Разнузданное поведение абсолютно теряло всякие рамки приличия. Попугай не унимался.
Я только укачала Таю и присела на подлокотник кресла одной половинкой того, на чём сидят.
Голова осмелилась повернуться в сторону кухни, где на столе, абсолютно покинутая, стояла чашка холодного чая.
По моим подсчётам, Тая проспит минут пятнадцать, может, полчаса, если повезёт. А потому одуревшая от тишины осознанность судорожно искала варианты доступных возможностей: допить холодный чай, сделать новый, горячий, закинуть хлеб в тостер, чтоб потом ляпнуть на него кусок сыра, заложить бельё в стиралку… и последний, самый желанный: быстро лечь и закрыть глаза.
Последний был самым обольстительным. Я почти представила, как сейчас свернусь в клубок и метнулась к дивану...я выбрала…
Но тут снова завопил он! Кто-то может мне ответить: почему люди держат попугая на балконе, абсолютно не думая о страданиях окружающих?!
Попугай проживал на втором этаже в доме напротив и, по моим ощущениям, не просто проживал, а кайфовал! Каждое утро, как только с клетки снимали ширму, зелёный горлопан упрямо упражнялся в искусстве оратора, и ему это нравилось! Видимо, за ночь под ширмой в зелёной башке с жёлтым гребешком скапливались претензии и возражения, которые он считал необходимым привнести в этот мир.
Он громко вопил в своей клетке и, по ощущениям, материл на все лады и наше правительство, и ситуацию в стране, и соседей, которые по выходным жарили шашлыки, и пару знакомых кошек с соседних балконов, и ещё нескольких уличных.
Сегодня же, как назло, что-то особенно вдохновило зелёного болтуна: харизма рвалась из пернатого тела наружу и выплёскивалась прямо мне в мозг.
«Рогатку мне, рогатку!!!» – отчётливо произнёс мозг. Думаю, в этот момент сам Понтий Пилат понял бы, о чём я.
Завязался внутренний диалог меня со мной.
– Ты в своём уме?! – говорила мне Я. – Смогла бы выстрелить в птицу из рогатки?!
– Ой, хорошая мысль, – отвечала ей тоже Я, – не знаю, но я хочу вырубиться на пятнадцать минут, пока не начала орать Тая.
– Живое существо! – вопила первая я.
– Блин, так и я ещё живая!!!! – парировала вторая Я. И добавила:
– Боже! Пошли мне избавление в каком-нибудь любом виде!
Между тем, по моим подсчётам, Тае оставалось спать ещё минут десять при самом лучшем раскладе; если попугайские вопли её не разбудят.
Потому я приняла новое решение: поменять план «поспать» на план «сделать новый горячий чай и закинуть в тостер хлеб»; и потащилась на кухню.
Нужно было вскипятить остывший чайник, положить в тостер кусочек хлеба, быстро вылить холодный чай, приунывший в чашке холодной плёночкой, налить горячий, бросить на хлеб кусочек сыра и, желательно, успеть вкусить сей кайф, пока не заорала дочь.
Закончив возиться с чаем, я присела, держа в руке долгожданный тост, и наконец выдохнула. И вот тут до меня дошло, что в воздухе чего-то не хватает.
«Как-то тихо в воздухе», – подумала я.
Тост и горячий чай возвращали способность к адекватности мышления.
«Я больше не слышу попугайского «мата»! Может, его накрыли ширмой?» – с радостью подумала я и подошла к окошку в надежде на чудо.
Вера в то, что мечты сбываются, не иссякала во мне никогда, и да, мысли о том, чтобы кто-то из соседей нанял киллера для зелёного любителя публичных выступлений, признаюсь, приходили в голову в отсутствии ресурсов, но… Похоже, Вселенная решила взяться за дело всерьёз.
Из чистого любопытства выглянув из окошка, я обнаружила себя свидетелем сцены из детской сказки, название которой могло бы продолжить ряд «Трех поросят», «Волка и семерых козлят» или более близкой по сюжету к моей сказки «Петух и Лиса».
Неизвестно каким образом высвободившийся из клетки попугай стоял на краю перил своего балкона и настороженно-критическим взглядом пялился на соседского кота, который неизвестно как и какого хр... на оказался с другой стороны перил балкона попугайского.
«Крылья, ноги и хвосты» – вдруг почему-то вспомнилось мне название мультфильма...
Попугай насторожился, но продолжал стоять на том же месте, как бы прицеливаясь, стоит ли прочитать коту лекцию на свободную тему или всё же лучше воздержаться и потом выступить в прениях.
Соседский кот, который раньше не разгуливал дальше своего балкона, очевидно, понял, чего был лишён, и тоже прицеливался. Мне цель кота была очевидна.
В этот момент я забыла про спящую Таю, которая уже начала ворочаться и кряхтеть в коляске, и про остывший тост со вновь остывшим чаем.
Немая сцена продолжалась до тех пор, пока кот не принял образ нападающего на дичь злобного хищника, при этом издавая нижней челюстью нечто нечленораздельное вроде: «Я-я-я!»
Пришло время действовать. Любое промедление было подобно… Кто бы мог подумать: подобно смерти попугая, к которому я столько раз мысленно подсылала киллера.
Я быстро распахнула окно настежь и изо все сил швырнула в кота то, что первым попалось под руку.
Под руку попался маленький детский мячик размером с теннисный.
В школе я отвратительно метала на расстояние, но выбора не было: я размахнулась и изо всех сил метнула мяч в притаившегося в прыжке охотника.
– Брысь, гад! – истошно заверещала я, на секунду забыв про Таю в коляске, которая и так уже начала звучать.
Мяч ударил по перилам, кот испугался, прыгнул на дерево, которое и было трамплином на родной балкон.
Отмороженный попугай, похоже, так ничего и не понял. Он по-прежнему стоял на перилах, только в этот раз продвинулся на их середину и удивлённо вывернул башку с задиристым гребешком, видимо, недоумевая, куда же вдруг сдуло собеседника. К моему удивлению, харизматик до сих пор молчал, погрузившись в несвойственную себе задумчивость.
Теперь же, на фоне этой тишины окончательно проснувшись, орала Тая. Я взяла на руки голодную бунтующую дочь и отправилась на кухню делать ей бутылку.
На столе с прежней верностью меня ждали вновь слегка начатый холодный чай и откусанный пару раз тост с жёлтой замёрзшей лужей остывшего сыра.
Проголодавшаяся дочь с удовольствием выпила детскую смесь и почти сразу же принялась жаловаться на животик.
Я набрала в лёгкие воздуха, вспомнила мамино обещание про то, что детки растут быстро, и мы с Таечкой принялись вальсировать по комнате. По-видимому, в это самое время зелёный оратор окончательно очнулся от перенесённого унижения потери зрителя. Истошные вопли не заставили себя ждать, и на этот раз мне показалось, что попугай материт всё и всех сразу.
Я выглянула в окно и поняла: горлопана загнали в клетку.
«Давненько они с Таей не орали дуэтом», – подумала я.
Вспомнился кот на перилах в позе киллера, я с сожалением глубоко вздохнула и пошла собирать нас на прогулку.
– Ты крутая, – восхищённо сказала мне одна из моих Я.
А вторая тихо так шепнула:
– А вообще-то неплохая идея – киллер для попугая…
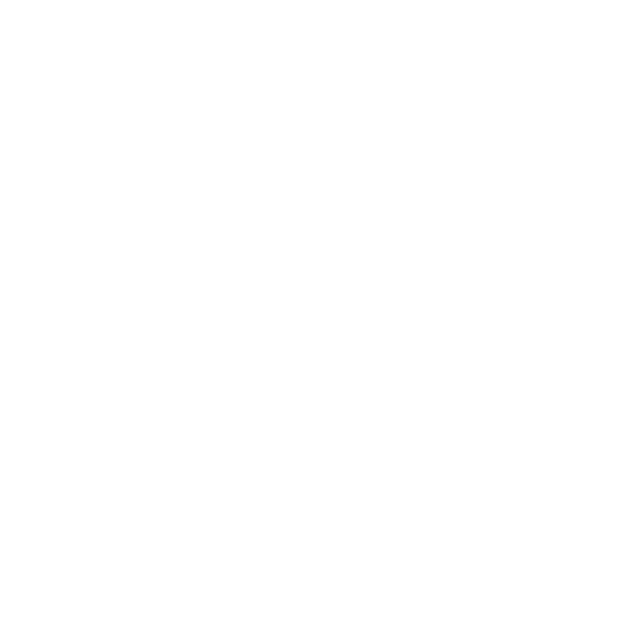
Екатерина ГОЛОВИНА
Молодая писательница и начинающий автор, чьи рассказы и стихотворения можно встретить на различных интернет-платформах, включая Литрес. Участник и победитель нескольких сетевых конкурсов, организованных сайтом «Неизвестный гений». Участница литературного фестиваля Посадский экспресс 2025 в номинации «Проза». Родилась в 2000 году в небольшом тихом городке Тверской области. Интерес к писательству зародился уже в раннем детстве - наивные детские строчки стихотворений, рассказы о волшебных мирах и, конечно же, мечта о собственной книге. С тех пор мечта горит, как путеводная звезда, и не отпускает до сих пор. Уверена, что вдохновение можно найти везде, главное – уметь видеть прекрасное в мелочах.
Молодая писательница и начинающий автор, чьи рассказы и стихотворения можно встретить на различных интернет-платформах, включая Литрес. Участник и победитель нескольких сетевых конкурсов, организованных сайтом «Неизвестный гений». Участница литературного фестиваля Посадский экспресс 2025 в номинации «Проза». Родилась в 2000 году в небольшом тихом городке Тверской области. Интерес к писательству зародился уже в раннем детстве - наивные детские строчки стихотворений, рассказы о волшебных мирах и, конечно же, мечта о собственной книге. С тех пор мечта горит, как путеводная звезда, и не отпускает до сих пор. Уверена, что вдохновение можно найти везде, главное – уметь видеть прекрасное в мелочах.
ПОМИЛУЙ МЕНЯ, БОЖЕ
– Извините, пожалуйста, не хотел беспокоить, но вы напоминаете мне Бога.
Клянусь, услышав эти слова в поезде глубокой ночью, я подумала, что мне причудилось. Наверняка разум сыграл со мной злую шутку. Размеренный стук колес, тихие разговоры в тамбуре, да и я не спала уже… а черт его знает, сколько. Будь проклята эта бессонница. Да, мне определённо это послышалось.
К тому же я никогда не расставалась с наушниками. Музыка помогала убежать от шума жизни, который казался уродливым. Слишком громким и оттого невыносимым. Вот и сейчас я выбирала очередную песню, чтобы снова заглушить реальность, да так и осталась сидеть с телефоном в руках и тишиной в ушах.
Правда, вопрос о божественной сущности был адресован не мне, а соседу по купе. Это был приятный на вид седой старик, что-то около семидесяти лет. С растрепанной бородой и тщательно расчесанными волосами, в потертых брюках и изношенной временем куртке выглядел опрятно. Лицо его было изрезано глубокими морщинами. Мы не разговаривали всю дорогу, с тех пор как сели на одной и той же станции. Словом, идеальный сосед. Он сидел в углу и мирно почитывал старую газетенку, пока его покой не был нарушен.
Мы со стариком переглянулись. Сосед казался ничуть не удивленным неожиданным ночным визитом, в отличие от меня. Он отложил газету и мягко улыбнулся пришедшему.
– Вы – Бог? Это правда? – спросил незнакомец с надеждой в голосе.
Все ещё находясь в изумлении, я окинула взглядом незнакомца в дверях. И странные слова вполне сочетались с его внешним обликом. Мужчина средних лет, темноволосый, с неухоженной щетиной и уставшими от тягот жизни глазами. Создавалось странное ощущение, будто он прошел войну и никак не может прийти в себя после увиденного.
Мужчина в упор смотрел на моего соседа и терпеливо ожидал ответа на вопрос, который, по-видимому, казался ему вполне нормальным. А еще очень важным. Моего присутствия он словно и вовсе не замечал. Странный блеск в широко раскрытых глазах – он будто не верил в происходящее и одновременно был напуган неожиданным откровением. Я, признаться, так же верила с трудом в то, что кто-то на полном серьезе может произнести подобные слова, и это будет даже не в церкви. Сосед по купе же, напротив, выражал необычайное спокойствие, словно ситуация была ничуть не странной, и такое он слышит каждый день.
Вопросы проносились в голове так стремительно, как темный лес за окном мчащегося на полном ходу поезда. Что, черт возьми, здесь происходит? Городской сумасшедший? Да, ноябрь – странный месяц. Все вокруг вдруг начинают слышать голоса да бросаться под колеса, ну и просто-напросто сходить с ума. А уж религия – такая плодотворная почва для безумия. Может как вытащить со дна, так и толкнуть в бездну.
Ночь была такая темная и густая, словно кто-то разлил чернила по небу, и теперь оно было в грязных кляксах и разводах. Ни звезд, ни луны, ни единого намека на свет. В купе стоял запах крепкого чая и пыли, но вошедший принес с собой привкус табака и… перегара? Тогда это многое объясняет.
Я вытащила наушники и уже собралась идти за проводником, как вдруг старик поднял руку, прося остаться и сесть обратно. Я хотела было возразить, послушалась и уселась на место. Сама не знаю, почему.
– Ты в порядке, сынок? – спросил он у мужчины.
Глаза незнакомца расширились еще больше. Он быстро шагнул в купе, выглянул в тамбур, словно боялся, что кто-то может подслушивать, и громко захлопнул дверь. Я отсела ближе к окну. На всякий случай. Но не буду врать: любопытство манило податься вперед и наблюдать, что будет дальше. Поэтому я открыла книгу, что лежала на столике, и сделала вид, что собираюсь читать. Сама же вся обратилась в слух.
Незнакомец вдруг рухнул на колени перед пожилым человеком. Глаза блестели, он тяжело дышал, взволнованный и растерянный. Мужчина схватил руку старика и крепко сжал в своих ладонях. Старик слегка приподнял брови, но все же улыбнулся. Он молча смотрел на него ласковым взглядом, что даже я почувствовала тепло, исходящее от старца.
– Простите, я просто… запутался, понимаете? – начал он сбивчиво шептать. – Наша встреча – это воля судьбы, верно? Я ведь вообще не должен быть здесь. Совершенно случайно оказался на этом поезде. Я не понимал, куда я еду и зачем. А потом увидел Вас и сразу все понял. Все-все вдруг открылось мне так ясно… Я здесь, чтобы встретить Вас. Вы ведь – Он.
– Сынок, ты, наверное, очень устал, – мягко ответил старик.
– Да, я устал, – признался незнакомец, задумавшись на секунду, но через мгновение странный блеск в глазах вернулся. – Простите. Простите, ибо я очень грешен. Я хочу исповедоваться. Никогда в жизни этого не делал, ибо труслив, низок и малодушен. Прошу, выслушайте меня.
– Я не священник.
– Вы же Бог! Это же Вы! – горячо заговорил мужчина. – Вы можете отрицать это. Я понимаю. Но я вижу Вас, Вашу сущность, как себя в зеркале.
Вдруг, к моему удивлению, старик спокойно ответил:
– Хорошо, я тебя выслушаю.
От абсурдности всей ситуации невольно вырвался смешок. Я зажала рот рукой и опустила взгляд. Незнакомец, похоже, впервые заметил, что кроме него и Бога в этом старом ржавом купе был еще и невольный наблюдатель в моем лице. Лицо его исказилось судорогой, кажется, он начал подбирать слова в голове, но не смог выдавить и звука, и лишь крепче сжал руку старика.
– Вы смеетесь над моим горем? – наконец смог произнести мужчина.
– Ни в коем случае, – едкий тон невольно вырвался из горла, – просто никак не ожидала провести вечер в одной компании с Богом и сумасшедшим.
Я откинулась на спинку сиденья и снова уткнулась в книгу.
– Вы не верите в Него? – сказал он таким тоном, словно это было невозможно.
Я вдруг задумалась. Образовалась густая тишина. Затем, устало выдохнув, я потерла глаза, закрыла книгу и уже серьезно ответила:
– Это сложный вопрос. Я называю себя атеистом по неволе. Может быть, я бы и рада была верить, вот только не могу. Если Бог и есть, он давно оставил меня.
– Как вы можете так говорить?! – горячо выпалил странный человек. – Как вы можете сомневаться? Он же сидит прямо перед вами! Вы слепы? Или это происки дьявола, который уже завладел вашей душой? Прозрейте, выйдите из темноты!
– Ого! – я рассмеялась. – Мужик, у тебя что, осеннее обострение?
– Я не сумасшедший!
– Тогда солнце встает на западе и садится на востоке.
– Все в порядке, – успокаивающий голос прервал наш спор. – Я готов вас выслушать.
Наверное, правильным было бы уже выйти из купе, позвать проводника, чтобы он вызвал неотложку. Или полицию. Хоть кого-нибудь. Но вместо этого я снова решила остаться. Хмыкнув, снова открыла книгу и отгородилась ею от странной пары, а сама в предвкушении приготовилась прислушиваться, жадно выхватывая каждое слово. Тем более, что незнакомец снова забыл о моем существовании. Не знаю, что за грехи были у этого мужика, но свой я могу назвать без колебаний: любопытство. Тем временем мужчина опустил голову и начал исповедь.
– Господи, прости меня, ибо я грешен. Я, меня зовут Алексей. Боже, жизнь моя пустая и бестолковая. И промчалась, как ветер. Жил беспечно, не ценил ни минуты, прожигал время, упускал возможности. Презирал тех, кто слабее меня, и ненавидел тех, кто сильнее. У меня было все, о чем можно мечтать, но я не ценил этого, был слеп и глух к счастью. И вот, когда я потерял все, я понял, какую бездну я создал своими руками. Теперь я – просто оболочка человека и сам виноват в своем горе.
Рука его потянулась к карману дождевика. Я выглянула из-за книги. Алексей достал смятую, потускневшую фотографию и трясущейся рукой протянул старику. Тот долго и внимательно всматривался в помятое фото, а затем грустно улыбнулся.
– Вот, жена моя, Ксеня. А это девочки мои. Старшая – Оленька, красавица моя, в университет поступать хотела. А младшая – Ленок. Я ее так и называл ласково, Ленок-поплавок. Она у меня плавает хорошо. Как занырнет под воду и долго-долго сидеть там может. Думали с женой на плаванье отдать. «Талант есть!» – так тренер на пробах и сказал. Не знаю только в кого, не в меня уж точно…
Голос мужчины начал дрожать. Он согнулся под тяжестью мыслей. Старик сочувственно начал гладить рукой его ладонь.
– Я не хотел, чтобы так вышло, Боже! – хриплым голосом продолжил Алексей исповедоваться. – Никогда не хотел. Я выпил тогда… Не надо было за руль садиться. Ксеня говорила мне. Кричала на меня, но я же дурак дураком, никогда не слушал ее… Машина вылетела с дороги и… И все. Я остался один, а они… они ушли…
Алексей начал судорожно всхлипывать, будто задыхаясь, слезы застыли на его глазах. Я уже не притворялась, что читаю. В горле образовался неприятный ком, а на грудную клетку будто кто-то яростно давил.
– Это все я, Боже! – мужчина с силой сжал ладонь старика. – Это я виноват! Я убийца! Все погибли, а я остался на этом свете… Скажи мне, почему? Почему Ты забрал их всех, а меня оставил? Почему?!
Мне стало не по себе. Захотелось дернуть на стоп-кран, остановить чертов поезд и уже выйти на воздух, растворившись в нем. Исчезнуть, чтобы не чувствовать это странное гнетущее чувство внутри.
В купе повисло молчание. Стук колес. Тяжелое дыхание Алексея. Мне уже было не до смеха. Трагедия наполнила купе глубокой печалью и безысходностью. Я сидела в углу и сжимала книгу так, что побелели костяшки. Шум колес уже не умиротворял, как раньше, а напротив, гулом отдавался в висках, как молот бьет по наковальне. Старик молча смотрел на мужчину, словно пытаясь понять глубину его боли. Он покачал головой.
– Я понимаю, ты хотел наказать меня… – продолжил мужчина после долгого молчания. – Раньше я ненавидел тебя, каюсь. Но теперь все по-другому. Я не боюсь Ада, потому что вся моя жизнь теперь — бесконечное мучение. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что совершил, и засыпаю с ней же. Непоправимое. Это нельзя ни понять, ни простить. Лучше бы мне было прекратить все это и броситься под поезд. Или пустить пулю в лоб. Это ведь то, чего я заслуживаю. В конце концов, собаке – собачья смерть. Боже, я так хотел, чтобы ты уже забрал меня. Избавил. Упокоил. Но увидев тебя сегодня, я понял… я понял, что должен помочь тебе.
– Почему ты решил, что мне нужна помощь? – наконец произнес старик.
Алексей не ответил. Она начал оглядываться по сторонам и, увидев меня, удивился. Мужчина протянул руку. Его глаза горели странным светом.
– У вас есть листок?
Не задумываясь ни на секунду, я вырвала страницу из книги и протянула мужчине. Его ледяные дрожащие пальцы на секунду соприкоснулись с моими, и я вздрогнула так, словно меня ударило током. Достав из кармана ручку, он начал быстро что-то записывать, а затем протянул листок старику. Тот взял страницу и долго смотрел на нее. Затем поднял глаза и посмотрел на Алексея, ожидая объяснений.
– Это мой адрес. Приходите, – сказал мужчина с мольбой в голосе.
– Ты хочешь, чтобы я пришел к тебе? Зачем?
– Вам нужна помощь.
– Мне?
– И мне тоже, – наконец признался он.
Старик мягко положил руку на плечо Алексею и спокойно, но твердо произнес:
– Алексей, сынок. Ты знаешь притчу о блудном сыне? Тот, кто заблудился и вернулся домой, был принят с радостью. Отец его не осудил, а обнял и простил. И ты, подобно блудному сыну, вернулся домой. Домой к себе самому. Ибо Царство Божие внутри вас есть. Ты ищешь Бога вовне, но Он всегда был с тобой, в глубине твоего сердца. И ответы на все твои вопросы тоже сокрыты там.
Алексей слушал, как завороженный. Я же вслушивалась в каждое слово с чувством, что невольно оказалась на проповеди. Мне вдруг показалось, что эти слова были не только для сумасшедшего. Забавно, я в некотором роде тоже являюсь блудным сыном. В голове прорезался крик отца: «Ты мне больше не дочь!» Изгой... Разочарование семьи…
– Если ты приглашаешь меня, я приду, – продолжил старик, прерывая поток моих мыслей, – но не сейчас, а когда наступит время. А твое время еще не настало. У каждого человека – свой крест. Твой крест может стать твоим спасением, если ты научишься нести его с достоинством. Твое сокровище – это любовь, прощение и смирение. Найди их в себе, и ты обретешь истинное счастье. Отдай свою волю в руки Бога. И ничего не бойся.
Тишина. Каждый из нас будто задумался о своем. Не знаю уж, о чем думали другие, но я же о том, что, кажется, схожу с ума. В конце концов, не каждый день ты услышишь исповедь глубоко несчастного человека и проповедь того, кого при тебе называют самим Богом. Что происходит?
– Ты простишь меня, Боже? – наконец хриплым голосом прошептал мужчина.
Старик кротко кивнул.
– Бог простит, если ты найдешь силы простить себя сам. Ты уже сделал первый шаг, признав ошибку. Это очень важно. Но помни, что прощение – это процесс. Он требует времени и усилий.
– Я… я не знаю, что сказать.
– Тебе надо отдохнуть. Выспись. Сегодня ты будешь спать хорошо.
– Да… Да, мне надо бы поспать. Я так давно не спал. Спасибо тебе, Боже!
Старик улыбнулся. Алексей поднялся с колен, слегка пошатываясь. Наши взгляды пересеклись. Казалось, еще чуть-чуть и захлебнешься в этом океане боли и пустоты. Но вместе с тем там было что-то еще. В его глазах появилась надежда. И она была, словно маяк для корабля в бушующем шторме.
Спотыкаясь, мужчина, который уже не был незнакомцем, вышел из купе, аккуратно прикрыв за собой дверь. Послышались шаги в тамбуре. Старик несколько раз бережно сложил страницу с адресом и спрятал в карман старой куртки, как самое ценное сокровище. Купе в очередной раз погрузилось в тишину. Я сидела и в задумчивости проводила пальцами по корешку книги, где еще недавно была страница. Наверное, пыталась осмыслить то, что произошло мгновения назад. Все эти разговоры о грехе и искуплении невольно задели что-то потаенное и глубинное. Что-то, что я упорно старалась спрятать от других и самой себя. Вдруг я почувствовала пристальный взгляд.
– Ничего себе, да? Бывают же такие встречи, – произнес старик с улыбкой. – Судьба?
– Или, может быть, это просто стечение обстоятельств, которые мы называем судьбой.
– Не верите в предназначение свыше, и что все в жизни предначертано нам?
– Не особо, – ответила я, упорно отводя взгляд, – судьба – для слабаков.
– Почему, если не секрет?
– Не люблю, когда за меня решают, как жить и что делать, – я усмехнулась. – Мне приятней думать, что я сама определяю путь. Я – птица свободного полета. Куда хочу, туда и лечу.
– Даже домой?
Я опешила и в замешательстве посмотрела на старика. Его взгляд, прежде спокойный, теперь казался мне насмешливым.
– При чем тут дом? – с едва скрываемым раздражением спросила я. Он попал в самое сердце, и это мгновенно разозлило.
– Дом – это не только место, где мы родились. Это то, что мы несем в себе, то, к чему стремимся.
– У меня нет дома. По крайней мере сейчас, – я пожала плечами и попыталась сделать вид, будто бы мне все равно.
– Каждый из нас ищет ответы на одни и те же вопросы. Мы все странники, путешествующие по лабиринтам жизни. Иногда мы заблуждаемся, но в конце концов всегда находим дорогу домой. Дом… Помните, что сказано: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Дом – это наше внутреннее состояние, наше духовное пристанище.
– Если что, сумасшедший уже ушел, так что можно выходить из роли. Если вы и правда не священник, – парировала я. – А то уж очень похожи…
– Вы думаете, этот мужчина сошел с ума?
Я закрыла глаза, облокотилась на сиденье и прикусила щеку, как делала всякий раз, когда сомневалась в себе или просто нервничала. Запах пыли смешался с металлическим привкусом крови во рту. Стук колес начал успокаивать. Я вдруг почувствовала, как проваливаюсь в сон. А ведь затяжная бессонница долго смеялась над моими жалкими попытками уснуть.
– От чувства вины и самобичевания у любого крыша поедет, – наконец ответила я.
– И в Бога вы, значит, не верите?
– Нет, не верю.
– Тогда во что верите? Дайте угадаю. Наверное, в себя?
– Если честно, я уже давно ни во что не верю.
– А разве не это ли повод сойти с ума?
Разговор начал утомлять, вызывал зудящее чувство раздражения и досады. Я резко встала и повернулась спиной к старику, вцепившись в верхнюю койку, чтобы удержать равновесие от тряски мчащегося поезда. Сильно зажмурившись, я попыталась утихомирить то, что этот старик во мне распотрошил.
– Кто вы и чего прикопались? Некому больше морали читать?!
– Я думаю, вы очень устали, – глубокий голос словно принимал меня в объятья, убаюкивал. – Вы давно не спали. Вас мучают кошмары прошлого, преследуют по пятам. Вас тянет домой, но двери закрыты. Но отец простит вас. Обязательно простит. Вы не виноваты в том, что случилось с вашей сестрой три года назад. Это был несчастный случай. И она не злится на вас, поверьте мне. Ожоги заживут, как и старые обиды. Вам не нужно бороться, вырываться, изворачиваться. Вам нужно смириться. Смирение – это ключ к пониманию себя в этом мире. Оно не слабость, а величайшая сила. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Любопытство – не самый страшный ваш грех, как вы думаете. А вот гордыня, что глубоко пустила в вас корни, подобно сорняку…
По спине пробежал холодок. Сердце забилось, как испуганная птица. Откуда он знает? Ожоги… Воспоминания вихрем пронеслись перед глазами. Незатушенная сигарета, забытая в пьяном бреду. Огонь, стремительно сжирающий все дотла. Крик матери, раздирающий душу. Отец, выносящий на руках сестру без сознания. Меня затрясло.
– Откуда… Кто вы, черт возьми, и что происходит?!
Я обернулась, собираясь высказать все, что думаю о своем попутчике, но осеклась на полуслове. Глаза широко раскрылись – сначала от непонимания, затем от накатывающего волнами страха.
Никого.
Купе было абсолютно пустым. Я стояла в полном одиночестве. Ни старика, ни вещей – ничего этого словно никогда и не существовало. Лампа начала зловеще мигать. Паника сжала горло в цепких объятьях, отчего стало невозможно дышать. Ночь за окном была настолько темной, что казалось, будто поезд мчится сквозь бездонную пропасть. Я чувствовала себя так, будто оказалась в другом мире, где время течет по своим законам.
Старик словно испарился в воздухе, оставив меня наедине с бесконечными вопросами, ответа на которые у меня не было. Я не могла понять, что происходит, и от этого становилось еще страшнее. Лампа наконец перестала мигать.
Неужели это все было лишь плодом воспалённого сознания? Я сошла с ума? Или же…
– Извините, пожалуйста, не хотел беспокоить, но вы напоминаете мне Бога.
Клянусь, услышав эти слова в поезде глубокой ночью, я подумала, что мне причудилось. Наверняка разум сыграл со мной злую шутку. Размеренный стук колес, тихие разговоры в тамбуре, да и я не спала уже… а черт его знает, сколько. Будь проклята эта бессонница. Да, мне определённо это послышалось.
К тому же я никогда не расставалась с наушниками. Музыка помогала убежать от шума жизни, который казался уродливым. Слишком громким и оттого невыносимым. Вот и сейчас я выбирала очередную песню, чтобы снова заглушить реальность, да так и осталась сидеть с телефоном в руках и тишиной в ушах.
Правда, вопрос о божественной сущности был адресован не мне, а соседу по купе. Это был приятный на вид седой старик, что-то около семидесяти лет. С растрепанной бородой и тщательно расчесанными волосами, в потертых брюках и изношенной временем куртке выглядел опрятно. Лицо его было изрезано глубокими морщинами. Мы не разговаривали всю дорогу, с тех пор как сели на одной и той же станции. Словом, идеальный сосед. Он сидел в углу и мирно почитывал старую газетенку, пока его покой не был нарушен.
Мы со стариком переглянулись. Сосед казался ничуть не удивленным неожиданным ночным визитом, в отличие от меня. Он отложил газету и мягко улыбнулся пришедшему.
– Вы – Бог? Это правда? – спросил незнакомец с надеждой в голосе.
Все ещё находясь в изумлении, я окинула взглядом незнакомца в дверях. И странные слова вполне сочетались с его внешним обликом. Мужчина средних лет, темноволосый, с неухоженной щетиной и уставшими от тягот жизни глазами. Создавалось странное ощущение, будто он прошел войну и никак не может прийти в себя после увиденного.
Мужчина в упор смотрел на моего соседа и терпеливо ожидал ответа на вопрос, который, по-видимому, казался ему вполне нормальным. А еще очень важным. Моего присутствия он словно и вовсе не замечал. Странный блеск в широко раскрытых глазах – он будто не верил в происходящее и одновременно был напуган неожиданным откровением. Я, признаться, так же верила с трудом в то, что кто-то на полном серьезе может произнести подобные слова, и это будет даже не в церкви. Сосед по купе же, напротив, выражал необычайное спокойствие, словно ситуация была ничуть не странной, и такое он слышит каждый день.
Вопросы проносились в голове так стремительно, как темный лес за окном мчащегося на полном ходу поезда. Что, черт возьми, здесь происходит? Городской сумасшедший? Да, ноябрь – странный месяц. Все вокруг вдруг начинают слышать голоса да бросаться под колеса, ну и просто-напросто сходить с ума. А уж религия – такая плодотворная почва для безумия. Может как вытащить со дна, так и толкнуть в бездну.
Ночь была такая темная и густая, словно кто-то разлил чернила по небу, и теперь оно было в грязных кляксах и разводах. Ни звезд, ни луны, ни единого намека на свет. В купе стоял запах крепкого чая и пыли, но вошедший принес с собой привкус табака и… перегара? Тогда это многое объясняет.
Я вытащила наушники и уже собралась идти за проводником, как вдруг старик поднял руку, прося остаться и сесть обратно. Я хотела было возразить, послушалась и уселась на место. Сама не знаю, почему.
– Ты в порядке, сынок? – спросил он у мужчины.
Глаза незнакомца расширились еще больше. Он быстро шагнул в купе, выглянул в тамбур, словно боялся, что кто-то может подслушивать, и громко захлопнул дверь. Я отсела ближе к окну. На всякий случай. Но не буду врать: любопытство манило податься вперед и наблюдать, что будет дальше. Поэтому я открыла книгу, что лежала на столике, и сделала вид, что собираюсь читать. Сама же вся обратилась в слух.
Незнакомец вдруг рухнул на колени перед пожилым человеком. Глаза блестели, он тяжело дышал, взволнованный и растерянный. Мужчина схватил руку старика и крепко сжал в своих ладонях. Старик слегка приподнял брови, но все же улыбнулся. Он молча смотрел на него ласковым взглядом, что даже я почувствовала тепло, исходящее от старца.
– Простите, я просто… запутался, понимаете? – начал он сбивчиво шептать. – Наша встреча – это воля судьбы, верно? Я ведь вообще не должен быть здесь. Совершенно случайно оказался на этом поезде. Я не понимал, куда я еду и зачем. А потом увидел Вас и сразу все понял. Все-все вдруг открылось мне так ясно… Я здесь, чтобы встретить Вас. Вы ведь – Он.
– Сынок, ты, наверное, очень устал, – мягко ответил старик.
– Да, я устал, – признался незнакомец, задумавшись на секунду, но через мгновение странный блеск в глазах вернулся. – Простите. Простите, ибо я очень грешен. Я хочу исповедоваться. Никогда в жизни этого не делал, ибо труслив, низок и малодушен. Прошу, выслушайте меня.
– Я не священник.
– Вы же Бог! Это же Вы! – горячо заговорил мужчина. – Вы можете отрицать это. Я понимаю. Но я вижу Вас, Вашу сущность, как себя в зеркале.
Вдруг, к моему удивлению, старик спокойно ответил:
– Хорошо, я тебя выслушаю.
От абсурдности всей ситуации невольно вырвался смешок. Я зажала рот рукой и опустила взгляд. Незнакомец, похоже, впервые заметил, что кроме него и Бога в этом старом ржавом купе был еще и невольный наблюдатель в моем лице. Лицо его исказилось судорогой, кажется, он начал подбирать слова в голове, но не смог выдавить и звука, и лишь крепче сжал руку старика.
– Вы смеетесь над моим горем? – наконец смог произнести мужчина.
– Ни в коем случае, – едкий тон невольно вырвался из горла, – просто никак не ожидала провести вечер в одной компании с Богом и сумасшедшим.
Я откинулась на спинку сиденья и снова уткнулась в книгу.
– Вы не верите в Него? – сказал он таким тоном, словно это было невозможно.
Я вдруг задумалась. Образовалась густая тишина. Затем, устало выдохнув, я потерла глаза, закрыла книгу и уже серьезно ответила:
– Это сложный вопрос. Я называю себя атеистом по неволе. Может быть, я бы и рада была верить, вот только не могу. Если Бог и есть, он давно оставил меня.
– Как вы можете так говорить?! – горячо выпалил странный человек. – Как вы можете сомневаться? Он же сидит прямо перед вами! Вы слепы? Или это происки дьявола, который уже завладел вашей душой? Прозрейте, выйдите из темноты!
– Ого! – я рассмеялась. – Мужик, у тебя что, осеннее обострение?
– Я не сумасшедший!
– Тогда солнце встает на западе и садится на востоке.
– Все в порядке, – успокаивающий голос прервал наш спор. – Я готов вас выслушать.
Наверное, правильным было бы уже выйти из купе, позвать проводника, чтобы он вызвал неотложку. Или полицию. Хоть кого-нибудь. Но вместо этого я снова решила остаться. Хмыкнув, снова открыла книгу и отгородилась ею от странной пары, а сама в предвкушении приготовилась прислушиваться, жадно выхватывая каждое слово. Тем более, что незнакомец снова забыл о моем существовании. Не знаю, что за грехи были у этого мужика, но свой я могу назвать без колебаний: любопытство. Тем временем мужчина опустил голову и начал исповедь.
– Господи, прости меня, ибо я грешен. Я, меня зовут Алексей. Боже, жизнь моя пустая и бестолковая. И промчалась, как ветер. Жил беспечно, не ценил ни минуты, прожигал время, упускал возможности. Презирал тех, кто слабее меня, и ненавидел тех, кто сильнее. У меня было все, о чем можно мечтать, но я не ценил этого, был слеп и глух к счастью. И вот, когда я потерял все, я понял, какую бездну я создал своими руками. Теперь я – просто оболочка человека и сам виноват в своем горе.
Рука его потянулась к карману дождевика. Я выглянула из-за книги. Алексей достал смятую, потускневшую фотографию и трясущейся рукой протянул старику. Тот долго и внимательно всматривался в помятое фото, а затем грустно улыбнулся.
– Вот, жена моя, Ксеня. А это девочки мои. Старшая – Оленька, красавица моя, в университет поступать хотела. А младшая – Ленок. Я ее так и называл ласково, Ленок-поплавок. Она у меня плавает хорошо. Как занырнет под воду и долго-долго сидеть там может. Думали с женой на плаванье отдать. «Талант есть!» – так тренер на пробах и сказал. Не знаю только в кого, не в меня уж точно…
Голос мужчины начал дрожать. Он согнулся под тяжестью мыслей. Старик сочувственно начал гладить рукой его ладонь.
– Я не хотел, чтобы так вышло, Боже! – хриплым голосом продолжил Алексей исповедоваться. – Никогда не хотел. Я выпил тогда… Не надо было за руль садиться. Ксеня говорила мне. Кричала на меня, но я же дурак дураком, никогда не слушал ее… Машина вылетела с дороги и… И все. Я остался один, а они… они ушли…
Алексей начал судорожно всхлипывать, будто задыхаясь, слезы застыли на его глазах. Я уже не притворялась, что читаю. В горле образовался неприятный ком, а на грудную клетку будто кто-то яростно давил.
– Это все я, Боже! – мужчина с силой сжал ладонь старика. – Это я виноват! Я убийца! Все погибли, а я остался на этом свете… Скажи мне, почему? Почему Ты забрал их всех, а меня оставил? Почему?!
Мне стало не по себе. Захотелось дернуть на стоп-кран, остановить чертов поезд и уже выйти на воздух, растворившись в нем. Исчезнуть, чтобы не чувствовать это странное гнетущее чувство внутри.
В купе повисло молчание. Стук колес. Тяжелое дыхание Алексея. Мне уже было не до смеха. Трагедия наполнила купе глубокой печалью и безысходностью. Я сидела в углу и сжимала книгу так, что побелели костяшки. Шум колес уже не умиротворял, как раньше, а напротив, гулом отдавался в висках, как молот бьет по наковальне. Старик молча смотрел на мужчину, словно пытаясь понять глубину его боли. Он покачал головой.
– Я понимаю, ты хотел наказать меня… – продолжил мужчина после долгого молчания. – Раньше я ненавидел тебя, каюсь. Но теперь все по-другому. Я не боюсь Ада, потому что вся моя жизнь теперь — бесконечное мучение. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что совершил, и засыпаю с ней же. Непоправимое. Это нельзя ни понять, ни простить. Лучше бы мне было прекратить все это и броситься под поезд. Или пустить пулю в лоб. Это ведь то, чего я заслуживаю. В конце концов, собаке – собачья смерть. Боже, я так хотел, чтобы ты уже забрал меня. Избавил. Упокоил. Но увидев тебя сегодня, я понял… я понял, что должен помочь тебе.
– Почему ты решил, что мне нужна помощь? – наконец произнес старик.
Алексей не ответил. Она начал оглядываться по сторонам и, увидев меня, удивился. Мужчина протянул руку. Его глаза горели странным светом.
– У вас есть листок?
Не задумываясь ни на секунду, я вырвала страницу из книги и протянула мужчине. Его ледяные дрожащие пальцы на секунду соприкоснулись с моими, и я вздрогнула так, словно меня ударило током. Достав из кармана ручку, он начал быстро что-то записывать, а затем протянул листок старику. Тот взял страницу и долго смотрел на нее. Затем поднял глаза и посмотрел на Алексея, ожидая объяснений.
– Это мой адрес. Приходите, – сказал мужчина с мольбой в голосе.
– Ты хочешь, чтобы я пришел к тебе? Зачем?
– Вам нужна помощь.
– Мне?
– И мне тоже, – наконец признался он.
Старик мягко положил руку на плечо Алексею и спокойно, но твердо произнес:
– Алексей, сынок. Ты знаешь притчу о блудном сыне? Тот, кто заблудился и вернулся домой, был принят с радостью. Отец его не осудил, а обнял и простил. И ты, подобно блудному сыну, вернулся домой. Домой к себе самому. Ибо Царство Божие внутри вас есть. Ты ищешь Бога вовне, но Он всегда был с тобой, в глубине твоего сердца. И ответы на все твои вопросы тоже сокрыты там.
Алексей слушал, как завороженный. Я же вслушивалась в каждое слово с чувством, что невольно оказалась на проповеди. Мне вдруг показалось, что эти слова были не только для сумасшедшего. Забавно, я в некотором роде тоже являюсь блудным сыном. В голове прорезался крик отца: «Ты мне больше не дочь!» Изгой... Разочарование семьи…
– Если ты приглашаешь меня, я приду, – продолжил старик, прерывая поток моих мыслей, – но не сейчас, а когда наступит время. А твое время еще не настало. У каждого человека – свой крест. Твой крест может стать твоим спасением, если ты научишься нести его с достоинством. Твое сокровище – это любовь, прощение и смирение. Найди их в себе, и ты обретешь истинное счастье. Отдай свою волю в руки Бога. И ничего не бойся.
Тишина. Каждый из нас будто задумался о своем. Не знаю уж, о чем думали другие, но я же о том, что, кажется, схожу с ума. В конце концов, не каждый день ты услышишь исповедь глубоко несчастного человека и проповедь того, кого при тебе называют самим Богом. Что происходит?
– Ты простишь меня, Боже? – наконец хриплым голосом прошептал мужчина.
Старик кротко кивнул.
– Бог простит, если ты найдешь силы простить себя сам. Ты уже сделал первый шаг, признав ошибку. Это очень важно. Но помни, что прощение – это процесс. Он требует времени и усилий.
– Я… я не знаю, что сказать.
– Тебе надо отдохнуть. Выспись. Сегодня ты будешь спать хорошо.
– Да… Да, мне надо бы поспать. Я так давно не спал. Спасибо тебе, Боже!
Старик улыбнулся. Алексей поднялся с колен, слегка пошатываясь. Наши взгляды пересеклись. Казалось, еще чуть-чуть и захлебнешься в этом океане боли и пустоты. Но вместе с тем там было что-то еще. В его глазах появилась надежда. И она была, словно маяк для корабля в бушующем шторме.
Спотыкаясь, мужчина, который уже не был незнакомцем, вышел из купе, аккуратно прикрыв за собой дверь. Послышались шаги в тамбуре. Старик несколько раз бережно сложил страницу с адресом и спрятал в карман старой куртки, как самое ценное сокровище. Купе в очередной раз погрузилось в тишину. Я сидела и в задумчивости проводила пальцами по корешку книги, где еще недавно была страница. Наверное, пыталась осмыслить то, что произошло мгновения назад. Все эти разговоры о грехе и искуплении невольно задели что-то потаенное и глубинное. Что-то, что я упорно старалась спрятать от других и самой себя. Вдруг я почувствовала пристальный взгляд.
– Ничего себе, да? Бывают же такие встречи, – произнес старик с улыбкой. – Судьба?
– Или, может быть, это просто стечение обстоятельств, которые мы называем судьбой.
– Не верите в предназначение свыше, и что все в жизни предначертано нам?
– Не особо, – ответила я, упорно отводя взгляд, – судьба – для слабаков.
– Почему, если не секрет?
– Не люблю, когда за меня решают, как жить и что делать, – я усмехнулась. – Мне приятней думать, что я сама определяю путь. Я – птица свободного полета. Куда хочу, туда и лечу.
– Даже домой?
Я опешила и в замешательстве посмотрела на старика. Его взгляд, прежде спокойный, теперь казался мне насмешливым.
– При чем тут дом? – с едва скрываемым раздражением спросила я. Он попал в самое сердце, и это мгновенно разозлило.
– Дом – это не только место, где мы родились. Это то, что мы несем в себе, то, к чему стремимся.
– У меня нет дома. По крайней мере сейчас, – я пожала плечами и попыталась сделать вид, будто бы мне все равно.
– Каждый из нас ищет ответы на одни и те же вопросы. Мы все странники, путешествующие по лабиринтам жизни. Иногда мы заблуждаемся, но в конце концов всегда находим дорогу домой. Дом… Помните, что сказано: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Дом – это наше внутреннее состояние, наше духовное пристанище.
– Если что, сумасшедший уже ушел, так что можно выходить из роли. Если вы и правда не священник, – парировала я. – А то уж очень похожи…
– Вы думаете, этот мужчина сошел с ума?
Я закрыла глаза, облокотилась на сиденье и прикусила щеку, как делала всякий раз, когда сомневалась в себе или просто нервничала. Запах пыли смешался с металлическим привкусом крови во рту. Стук колес начал успокаивать. Я вдруг почувствовала, как проваливаюсь в сон. А ведь затяжная бессонница долго смеялась над моими жалкими попытками уснуть.
– От чувства вины и самобичевания у любого крыша поедет, – наконец ответила я.
– И в Бога вы, значит, не верите?
– Нет, не верю.
– Тогда во что верите? Дайте угадаю. Наверное, в себя?
– Если честно, я уже давно ни во что не верю.
– А разве не это ли повод сойти с ума?
Разговор начал утомлять, вызывал зудящее чувство раздражения и досады. Я резко встала и повернулась спиной к старику, вцепившись в верхнюю койку, чтобы удержать равновесие от тряски мчащегося поезда. Сильно зажмурившись, я попыталась утихомирить то, что этот старик во мне распотрошил.
– Кто вы и чего прикопались? Некому больше морали читать?!
– Я думаю, вы очень устали, – глубокий голос словно принимал меня в объятья, убаюкивал. – Вы давно не спали. Вас мучают кошмары прошлого, преследуют по пятам. Вас тянет домой, но двери закрыты. Но отец простит вас. Обязательно простит. Вы не виноваты в том, что случилось с вашей сестрой три года назад. Это был несчастный случай. И она не злится на вас, поверьте мне. Ожоги заживут, как и старые обиды. Вам не нужно бороться, вырываться, изворачиваться. Вам нужно смириться. Смирение – это ключ к пониманию себя в этом мире. Оно не слабость, а величайшая сила. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Любопытство – не самый страшный ваш грех, как вы думаете. А вот гордыня, что глубоко пустила в вас корни, подобно сорняку…
По спине пробежал холодок. Сердце забилось, как испуганная птица. Откуда он знает? Ожоги… Воспоминания вихрем пронеслись перед глазами. Незатушенная сигарета, забытая в пьяном бреду. Огонь, стремительно сжирающий все дотла. Крик матери, раздирающий душу. Отец, выносящий на руках сестру без сознания. Меня затрясло.
– Откуда… Кто вы, черт возьми, и что происходит?!
Я обернулась, собираясь высказать все, что думаю о своем попутчике, но осеклась на полуслове. Глаза широко раскрылись – сначала от непонимания, затем от накатывающего волнами страха.
Никого.
Купе было абсолютно пустым. Я стояла в полном одиночестве. Ни старика, ни вещей – ничего этого словно никогда и не существовало. Лампа начала зловеще мигать. Паника сжала горло в цепких объятьях, отчего стало невозможно дышать. Ночь за окном была настолько темной, что казалось, будто поезд мчится сквозь бездонную пропасть. Я чувствовала себя так, будто оказалась в другом мире, где время течет по своим законам.
Старик словно испарился в воздухе, оставив меня наедине с бесконечными вопросами, ответа на которые у меня не было. Я не могла понять, что происходит, и от этого становилось еще страшнее. Лампа наконец перестала мигать.
Неужели это все было лишь плодом воспалённого сознания? Я сошла с ума? Или же…
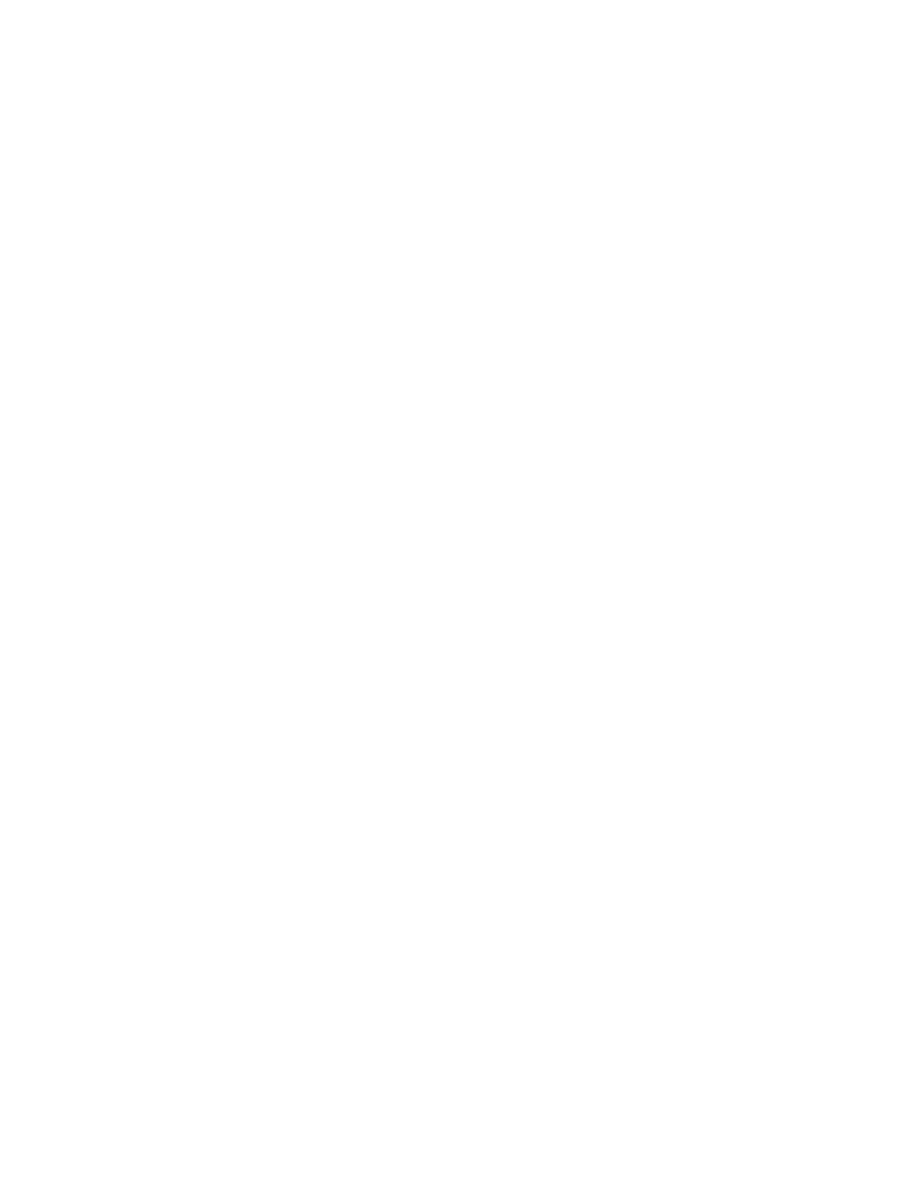
Ольга ГОЛИЦЫНА
Родилась в 1985 году в г. Донецк. Получила три высших образования: филолог, переводчик, телерадиорепортер. С 2005 года преподаю русский и английский языки.
Интерес к писательской деятельности проявился еще в юности. Начиная с 14 лет, я публиковала свои работы в городских и региональных печатных изданиях, сборниках и альманахах, а также на просторах интернета. В студенческие годы была внештатным журналистом городской газеты для молодежи. Некоторое время спустя, работала на телевидении в качестве репортера. После окончания университета открыла курсы по изучению иностранных языков для детей и взрослых и бюро переводов при них.
Родилась в 1985 году в г. Донецк. Получила три высших образования: филолог, переводчик, телерадиорепортер. С 2005 года преподаю русский и английский языки.
Интерес к писательской деятельности проявился еще в юности. Начиная с 14 лет, я публиковала свои работы в городских и региональных печатных изданиях, сборниках и альманахах, а также на просторах интернета. В студенческие годы была внештатным журналистом городской газеты для молодежи. Некоторое время спустя, работала на телевидении в качестве репортера. После окончания университета открыла курсы по изучению иностранных языков для детей и взрослых и бюро переводов при них.
КАК МЫШОНОК, ВОЛК И ЛЕВ РАДОСТЬЮ ДЕЛИЛИСЬ
(глава из сборника сказок)
Как-то в зимний вечер Волку пришла потрясающая идея; впрочем, как и всегда, идеи приходили в его голову далеко за полночь. Видимо, не даром говорят, что луна имеет большое влияние на это животное. Так и наш Волк вдохновлялся луной и всегда что-нибудь придумывал, поглядывая на тусклый лунный свет.
– Я тут игру придумал…– покашливая, сказал он.
– Очень интересно! Какую? – сразу поддержал Мышонок и уселся рядом с Волком на диване.
– Игра в радость! – восхищенно сказал Волк.
– Это как? – с недоверием уточнил Лев.
– Очень просто! Мы будем делиться друг с другом радостью. Например, ты, Лев, должен вспомнить что-то весёлое, доброе и радостное, что случилось с тобой когда-то, и рассказать об этом нам. И мы за тебя порадуемся, и ты вместе с нами, когда будешь вспоминать, тоже порадуешься, – пояснил Волк.
– Как здорово! – закричал Мышонок. – А можно, я буду первым?
– Конечно! – ответил Волк.
– Почему он всегда первый? – с недовольством спросил Лев.
– Потому что он самый маленький, – пояснил Волк.
Но Лев всё равно ничего не понял и обиженно хмыкнул:
– Так, давайте-ка, садимся вокруг стола и начинаем игру!
– Я – первый, первый! – радостно прыгая, кричал Мышонок.
– Начинай, – спокойно сказал Волк и сел в свою любимую позу, которую он называл «слушательная».
– Когда-то под самый Новый год в лесу я нашёл одинокого щенка. Ему было совсем страшно одному, и он почти замёрз. Я схватил его и быстро-быстро побежал в наш домик… – начал он.
– Когда такое было? – перебил его Лев.
– Такого еще не было, – слегка грустно сказал Мышонок, – но я надеюсь, что будет. Ведь я так мечтаю о маленьком щеночке!
И в его глазах заблестели слёзы.
– Эй, неправильно играем! – закричал Волк. – Мы должны радоваться, а не плакать. Подожди, Мышонок, давай я покажу, как, а потом уже ты продолжишь!
– Вот со мной была история, – начал Волк, – очень радостная! Когда я был маленьким волчонком и жил еще со своими родителями в нашей уютной норе, то узнал об одном волшебстве…
– Волшебстве?! – с удивлением пискнул Мышонок. Он очень любил всё сказочное и волшебное.
– Да-да! Однажды совершенно случайно я заметил волшебный свет в окне. Конечно, я не сразу разгадал его секрет, но спустя некоторое время узнал, что этот свет в нашей норке спасает от всех болезней, тревог и печалей. Этот свет исцелял меня от разочарований и плохого настроения, помогал жить и верить в сказку. Каждый раз, возвращаясь из леса к себе домой, я видел, как горит окошко в нашем домике – ну, в нашей норке, в смысле! – и даже если мне было очень плохо, я понимал, что всё обязательно пройдет... – как-то странно улыбаясь, рассказывал он.
– Как же невероятно, потрясающе и чудесно! – восхитился Мышонок. – Я очень рад за тебя, Волк, что ты узнал о волшебстве магического света.
– И я рад, – грустно сказал Лев.
– Волк, почему ты плачешь? Разве тебе не весело вспоминать об этом? – удивился Мышонок
– Весело… – медленно произнес он, – только однажды осенью кто-то очень злой погасил этот волшебный свет в нашем окне. И с тех пор он больше не зажегся ни разу. И сколько бы раз теперь, будучи взрослым Волком, я не проходил мимо нашей норки…свет там больше не горит.
– Наверное, надо поменять лампочку или оплатить счёт за электричество, – задумчиво сказал Мышонок. – Я смотрел по телевизору передачу, и там как раз говорили о злостных неплательщиках и низкокачественных лампочках.
– Иногда свет – это вовсе не электричество, не счета и не лампочки… – задумчиво сказал Волк и вытер слезы.
– Э-э-э-э, Волк, да ты вовсе не умеешь рассказывать радостные истории! – громко сказал Лев. – Давайте-ка я расскажу! Вот моя история действительно радостная!
– Давай! – с восторгом хлопая в ладоши, запищал Мышонок.
– Самый радостный день в моей жизни был, – сказал Лев, – когда ты появился на свет, Мышонок!
– Я? А почему?
– Ну-у-у, я всю жизнь представлял тебя, думал, какой же ты будешь… Воображал, что вместе мы будем ходить в лес за грибами или на рынок за помидорами, например. Часто в моих снах я выбирал тебе игрушки, качал тебя на лапах и учил тебя водить зверомобиль, – радостно рассказывал Лев.
– Да ты что? – очень удивленно вскрикнул Мышонок. – Вот это да-а! Я даже не знал!
– И вот этот день настал! Все мои мечты враз стали реальностью! – и Лев закрыл морду лапами.
– Эй, Лев, что с тобой? Ты икаешь? – встревоженно переспросил Мышонок, глядя на подёргивающееся мощное тело Льва.
– Нет, он плачет… – тихо сказал Волк.
– Почему? – он недоумения Мышонок пожал крошечными плечиками.
– Но в день, когда ты родился…меня не было рядом… – кое-как выдавил из себя Лев и затрясся еще сильнее.
– Почему? – обняв лапу Льва, чуть слышно спросил Мышонок.
– Потому что тот свет, который всё время видел Волк в детстве, мне был совершенно не знаком, в нашем домике его не было, а без света ведь очень легко запутаться, правда? – и он посмотрел на Волка.
Ничего не сказав, Волк отвернулся.
– Не плачь, Лев. Ведь теперь мы каждый день вместе. Нет повода для слёз! – весело произнёс Мышонок.
– А ведь нам удалось поделиться самой сокровенной радостью, – задумчиво сказал Волк, глядя в стену.
– Только все расплакались, – заметил Мышонок.
– Это слёзы счастья, – добавил Лев, – ведь тебе действительно повезло, Волк, что ты был знаком с волшебным светом, это помогает тебе жить. И тебе повезло, Мышонок, ведь твоя радость еще случится, она – в будущем.
– Тебе тоже повезло, Лев, – совсем тихо сказал Волк, – твоя радость – в настоящем. А это самое ценное.
(глава из сборника сказок)
Как-то в зимний вечер Волку пришла потрясающая идея; впрочем, как и всегда, идеи приходили в его голову далеко за полночь. Видимо, не даром говорят, что луна имеет большое влияние на это животное. Так и наш Волк вдохновлялся луной и всегда что-нибудь придумывал, поглядывая на тусклый лунный свет.
– Я тут игру придумал…– покашливая, сказал он.
– Очень интересно! Какую? – сразу поддержал Мышонок и уселся рядом с Волком на диване.
– Игра в радость! – восхищенно сказал Волк.
– Это как? – с недоверием уточнил Лев.
– Очень просто! Мы будем делиться друг с другом радостью. Например, ты, Лев, должен вспомнить что-то весёлое, доброе и радостное, что случилось с тобой когда-то, и рассказать об этом нам. И мы за тебя порадуемся, и ты вместе с нами, когда будешь вспоминать, тоже порадуешься, – пояснил Волк.
– Как здорово! – закричал Мышонок. – А можно, я буду первым?
– Конечно! – ответил Волк.
– Почему он всегда первый? – с недовольством спросил Лев.
– Потому что он самый маленький, – пояснил Волк.
Но Лев всё равно ничего не понял и обиженно хмыкнул:
– Так, давайте-ка, садимся вокруг стола и начинаем игру!
– Я – первый, первый! – радостно прыгая, кричал Мышонок.
– Начинай, – спокойно сказал Волк и сел в свою любимую позу, которую он называл «слушательная».
– Когда-то под самый Новый год в лесу я нашёл одинокого щенка. Ему было совсем страшно одному, и он почти замёрз. Я схватил его и быстро-быстро побежал в наш домик… – начал он.
– Когда такое было? – перебил его Лев.
– Такого еще не было, – слегка грустно сказал Мышонок, – но я надеюсь, что будет. Ведь я так мечтаю о маленьком щеночке!
И в его глазах заблестели слёзы.
– Эй, неправильно играем! – закричал Волк. – Мы должны радоваться, а не плакать. Подожди, Мышонок, давай я покажу, как, а потом уже ты продолжишь!
– Вот со мной была история, – начал Волк, – очень радостная! Когда я был маленьким волчонком и жил еще со своими родителями в нашей уютной норе, то узнал об одном волшебстве…
– Волшебстве?! – с удивлением пискнул Мышонок. Он очень любил всё сказочное и волшебное.
– Да-да! Однажды совершенно случайно я заметил волшебный свет в окне. Конечно, я не сразу разгадал его секрет, но спустя некоторое время узнал, что этот свет в нашей норке спасает от всех болезней, тревог и печалей. Этот свет исцелял меня от разочарований и плохого настроения, помогал жить и верить в сказку. Каждый раз, возвращаясь из леса к себе домой, я видел, как горит окошко в нашем домике – ну, в нашей норке, в смысле! – и даже если мне было очень плохо, я понимал, что всё обязательно пройдет... – как-то странно улыбаясь, рассказывал он.
– Как же невероятно, потрясающе и чудесно! – восхитился Мышонок. – Я очень рад за тебя, Волк, что ты узнал о волшебстве магического света.
– И я рад, – грустно сказал Лев.
– Волк, почему ты плачешь? Разве тебе не весело вспоминать об этом? – удивился Мышонок
– Весело… – медленно произнес он, – только однажды осенью кто-то очень злой погасил этот волшебный свет в нашем окне. И с тех пор он больше не зажегся ни разу. И сколько бы раз теперь, будучи взрослым Волком, я не проходил мимо нашей норки…свет там больше не горит.
– Наверное, надо поменять лампочку или оплатить счёт за электричество, – задумчиво сказал Мышонок. – Я смотрел по телевизору передачу, и там как раз говорили о злостных неплательщиках и низкокачественных лампочках.
– Иногда свет – это вовсе не электричество, не счета и не лампочки… – задумчиво сказал Волк и вытер слезы.
– Э-э-э-э, Волк, да ты вовсе не умеешь рассказывать радостные истории! – громко сказал Лев. – Давайте-ка я расскажу! Вот моя история действительно радостная!
– Давай! – с восторгом хлопая в ладоши, запищал Мышонок.
– Самый радостный день в моей жизни был, – сказал Лев, – когда ты появился на свет, Мышонок!
– Я? А почему?
– Ну-у-у, я всю жизнь представлял тебя, думал, какой же ты будешь… Воображал, что вместе мы будем ходить в лес за грибами или на рынок за помидорами, например. Часто в моих снах я выбирал тебе игрушки, качал тебя на лапах и учил тебя водить зверомобиль, – радостно рассказывал Лев.
– Да ты что? – очень удивленно вскрикнул Мышонок. – Вот это да-а! Я даже не знал!
– И вот этот день настал! Все мои мечты враз стали реальностью! – и Лев закрыл морду лапами.
– Эй, Лев, что с тобой? Ты икаешь? – встревоженно переспросил Мышонок, глядя на подёргивающееся мощное тело Льва.
– Нет, он плачет… – тихо сказал Волк.
– Почему? – он недоумения Мышонок пожал крошечными плечиками.
– Но в день, когда ты родился…меня не было рядом… – кое-как выдавил из себя Лев и затрясся еще сильнее.
– Почему? – обняв лапу Льва, чуть слышно спросил Мышонок.
– Потому что тот свет, который всё время видел Волк в детстве, мне был совершенно не знаком, в нашем домике его не было, а без света ведь очень легко запутаться, правда? – и он посмотрел на Волка.
Ничего не сказав, Волк отвернулся.
– Не плачь, Лев. Ведь теперь мы каждый день вместе. Нет повода для слёз! – весело произнёс Мышонок.
– А ведь нам удалось поделиться самой сокровенной радостью, – задумчиво сказал Волк, глядя в стену.
– Только все расплакались, – заметил Мышонок.
– Это слёзы счастья, – добавил Лев, – ведь тебе действительно повезло, Волк, что ты был знаком с волшебным светом, это помогает тебе жить. И тебе повезло, Мышонок, ведь твоя радость еще случится, она – в будущем.
– Тебе тоже повезло, Лев, – совсем тихо сказал Волк, – твоя радость – в настоящем. А это самое ценное.

Екатерина СМИРНОВА
Родилась в городе Реж Свердловской области. После окончания Уральского политехнического техникума работала по специальности, но в 2013 году сменила профессию и стала библиотекарем городской библиотеки «Быстринская». Пишу статьи- обзоры о книгах в ежемесячную молодёжную газету «Планета молодых». Начала писать небольшие рассказы, эссе, очерки сравнительно недавно. Становилась победителем и финалистом различных литературных конкурсов всероссийского и областного уровня.
Родилась в городе Реж Свердловской области. После окончания Уральского политехнического техникума работала по специальности, но в 2013 году сменила профессию и стала библиотекарем городской библиотеки «Быстринская». Пишу статьи- обзоры о книгах в ежемесячную молодёжную газету «Планета молодых». Начала писать небольшие рассказы, эссе, очерки сравнительно недавно. Становилась победителем и финалистом различных литературных конкурсов всероссийского и областного уровня.
ТРИЖДЫ ЕФРЕЙТОР
Затерялся средь лесов Среднего Урала небольшой и милый городок под названием Реж. Со всех сторон подступают к нему леса и тянутся по увалам до самого Екатеринбурга. А с севера на юг по территории режевского района проходит «самоцветная полоса Урала». Богат городок, но богат не только самоцветами, а ещё и людьми. Много жителей ушли тогда на фронт с режевской земли. Среди них был и Минеев Кондратий Иванович, уроженец деревни Антоновка Липовского сельсовета. Нет этой деревни давно уже. А была когда-то… Маленькая, в одну улочку. Там и родился наш герой, там жили его мама и братья.
Повестку в армию Кондратий получил в ноябре 1942 года. Страна воевала с фашизмом, а деревенские мальчишки обучались и работали. И вот пришла их пора. Отправился Кондратий Минеев в Челябинскую область, на станцию Чебаркуль для формирования 16-й артиллерийской дивизии резерва главного командования. Первого января 1943 года принял присягу и отправился нести службу под Старую Руссу связистом. Потрепали их тогда: было это боевое крещение. На пополнение отправились в Ногинск. Там стояли до августа: Брянский фронт, Курская дуга. А как сделали прорыв, сразу сняли с места и отправили на Степной фронт. И до сих пор Кондратий Иванович всё помнит: как освобождали Белгород, Харьков, Звенигород, Шполу, Умань… Как с боями прошли в составе Второго Украинского фронта Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Мог ли он думать тогда, что вот таким молодым придётся пройти ему долгий путь от родной деревни до незнакомых стран и городов, выдержать все тяготы и невзгоды военного времени. Но он смог, ведь даже ни разу не ранило Кондратия Минеева. А вот контузия была. Рядом с блиндажом разорвало дерево снарядом. Ну ничего: в медсанбат на пару недель и – в часть.
Кто же хранит солдата на войне? Может, Бог? Или судьба? Или любящие сердца родных и близких? А, может, и все сразу. Не найти ответ на этот вопрос.
Нёс достойно службу режевской солдат. Во всех справках, благодарностях, удостоверениях стоит звание: ефрейтор. Кондратий Иванович смеётся: трижды ефрейтор! Это как? Да просто наш солдат не нашивал лычку. Рядовой да и всё. И снова присвоят, а потом – опять. Не думал тогда Кондратий о званиях, людей и страну защищал от фашизма. И пришло долгожданное утро Победы! Половину бойцов отправили на Дальний Восток разбираться с японцами, а Кондратий Иванович – в город Остергом. Больше года там стояли. В 1947 году получил приказ о демобилизации. Нагляделся наш боец на европейские страны вдоволь. Ехал домой на Урал, в Реж, вёз в свою деревню Антоновку сталинские благодарности с боевыми медалями «За освобождение Будапешта»,
«За отвагу», «За победу над Германией», а потом и орден Великой Отечественной войны, но это уже в мирное время. И встречали односельчане радостно фронтовика. Когда уходил, мальчишки и девчушки соседские были маленькими, а сейчас выросли – пять лет его не было дома.
В 2023 году в возрасте 98 лет ушёл из жизни Кондратий Иванович. Когда он в День Победы шагал по липовской улице к сельскому мемориалу под звон медалей на груди, встречные замирали…
С фотографий мемориала смотрят на село его односельчане и шестеро одноклассников, оставшихся навечно молодыми. Каждый год 9 мая обязательно собирались в его доме дети, внучки, правнуки. А он всё так же с цветами в руках шёл к святому месту села – мемориалу.
КАК ТЫ ЖИВА ОСТАЛАСЬ, МАМА?
У Великой Отечественной войны, как, впрочем, и у всех войн, мужское лицо. Оно многократно запечатлено в фотографиях, рисунках, картинах, книгах, кинофильмах, и, конечно же, архивных документах. Женское лицо войны представляется совсем другим. Оно, как правило, обобщено: лица матерей, искажённые болью утраты. Но история войны говорит нам о другом…
В 2015 году ко мне в руки попала папка с документами из нашего городского архива. Честно говоря, за девять лет я уже подзабыла, как именно это случилось. Бумаги эти когда-то принадлежали Сергеевой Римме Михайловне, жительнице Свердловской области, города Реж, микрорайона «Быстринский», ветерану Великой Отечественной войны. Будучи на пенсии и не имея близких родственников, она передала их, а также медали и ордена в городской архив в надежде на то, что когда-нибудь они будут нужны людям. И это время пришло… Открыв пухлую папку, я стала изучать справки, грамоты, свидетельства и фотографии. Среди прочего заметила книгу в простеньком переплёте с чуть помятыми уголками. Сразу в голове возникли вопросы: почему же она оказалась среди таких важных документов? Возможно, она была дорога владельцу?
Мне стало любопытно, и я взялась её разглядывать. Крупными буквами на обложке написана фамилия автора и название. На титульном листе напечатано: «Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство,1979 год». Так состоялось моё первое знакомство с Павлом Кодочиговым и его сборником очерков об уральских комсомолках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Павел Ефимович Кодочигов хоть и родился в Тюмени, но всегда был привязан искренней любовью к Свердловску. Во время войны был командиром взвода миномётчиков 299-го полка 225-й Краснознамённой стрелковой дивизии. В своей автобиографии Павел Ефимович с особой теплотой рассказывает о том, как всегда мечтал поступить в Свердловский коммунистический институт журналистики. Но в жизни не всегда происходит всё так, как мы задумали. После войны окончил Свердловский юридический институт, работал в газете «Тюменский комсомолец». В 1958 году занялся писательской деятельностью и стал печататься. В 1960 году вышла в свет первая книга рассказов «Я работаю в редакции», а уже в 1970 году приехал в давно любимый им Свердловск. Работал в журнале «Урал». В 1979 году вышла в свет книга «Как ты жива осталась, мама». Это небольшой сборник документальной прозы, который, как я уже говорила выше, и попал мне в руки. Среди девятнадцати рассказов есть два, которые имеют прямое отношение к моему городу. В них рассказывается о молодых режевских девушках, ушедших на фронт совсем юными. Кодочигова часто спрашивали, почему он занимается только документальной прозой. Он всегда отвечал, что у героев должны быть подлинные имена, а не псевдонимы. Тогда и будет настоящая «окопная» правда. Рассказ «Кандидатский стаж» как раз и повествует о нашей землячке Римме Михайловне, чьи архивные документы мне удалось заполучить. В 19 лет она ушла на фронт. Несла службу как краснофлотец Балтийского флота и наравне с мужчинами защищала блокадный Ленинград. Город бомбили часто, но жизнь в нём не останавливалась. В один из редких спокойных дней ехала комсорг батареи Сергеева с парторгом Арцишевским в политотдел. Римма смотрела в окно, думала и переживала, досадуя на свою неприметную жизнь: «Училась в школе, немного поработала, потом – Ленинград…Всё! За окном мелькнуло несколько приземистых домиков, и неожиданно вспомнился, встал перед глазами Реж – небольшой, почти сплошь деревянный городок с плотинкой у завода, прудом и рассыпанным вокруг него домиками».
Возможно, я слишком чувствительный человек, но мне было душевно приятно узнавать из текста знакомые места родного города и вместе с тем ощущать некую причастность к воспоминаниям героини. Прочитав автобиографию Риммы Михайловны, я узнала, что Павел Ефимович долгое время её разыскивал, а потом долго уговаривал дать согласие на написание воспоминаний из фронтовой жизни. Одна из малоизвестных страничек блокады – оборона островов Лавенсари, Пенисари и Сескар, пунктирной строчкой вытянувшихся вдоль фарватера Финского залива, в ста с лишним милях западнее Ленинграда. Среди ста девчат, которые должны были пересечь Ладогу, оказалась в трюме невысокая светлоглазая активистка Режевского райкома комсомола Тоня Клевакина (Дурицкая). До войны Тоня мечтала поступить в кораблестроительный институт, но после того, как получила с фронта письмо о гибели одного из братьев, вырвала из ученической тетради чистый лист и крупным, разборчивым почерком написала заявление в военкомат… Вместе с Тоней и другими уралочками прибыли на Лавенсари и три подружки из большого села Покровского: высокая и статная Катя Нехонова, светловолосая и спокойная Паня Брылина, хохотушка Саша Загвоздкина. О мужестве и стойкости «островитян» во время войны мало кто знал, мало кто знает и сейчас. Ради сохранения тайны даже фронтовые газеты писали очень редко и скупо, не обозначая места событий. «На острове Н.» – так обычно публиковались заметки; так и называется один из рассказов Павла Кодочигова.
Не только в Ленинграде воевали уральские комсомолки, на всех фронтах сражались. Некоторые из них погибли, многие были ранены и контужены. Защищая Ленинград, эти девушки совершили подвиг, который навечно запечатлён на страницах сборника Павла Ефимовича Кодочигова «Как ты жива осталась, мама».
Затерялся средь лесов Среднего Урала небольшой и милый городок под названием Реж. Со всех сторон подступают к нему леса и тянутся по увалам до самого Екатеринбурга. А с севера на юг по территории режевского района проходит «самоцветная полоса Урала». Богат городок, но богат не только самоцветами, а ещё и людьми. Много жителей ушли тогда на фронт с режевской земли. Среди них был и Минеев Кондратий Иванович, уроженец деревни Антоновка Липовского сельсовета. Нет этой деревни давно уже. А была когда-то… Маленькая, в одну улочку. Там и родился наш герой, там жили его мама и братья.
Повестку в армию Кондратий получил в ноябре 1942 года. Страна воевала с фашизмом, а деревенские мальчишки обучались и работали. И вот пришла их пора. Отправился Кондратий Минеев в Челябинскую область, на станцию Чебаркуль для формирования 16-й артиллерийской дивизии резерва главного командования. Первого января 1943 года принял присягу и отправился нести службу под Старую Руссу связистом. Потрепали их тогда: было это боевое крещение. На пополнение отправились в Ногинск. Там стояли до августа: Брянский фронт, Курская дуга. А как сделали прорыв, сразу сняли с места и отправили на Степной фронт. И до сих пор Кондратий Иванович всё помнит: как освобождали Белгород, Харьков, Звенигород, Шполу, Умань… Как с боями прошли в составе Второго Украинского фронта Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Мог ли он думать тогда, что вот таким молодым придётся пройти ему долгий путь от родной деревни до незнакомых стран и городов, выдержать все тяготы и невзгоды военного времени. Но он смог, ведь даже ни разу не ранило Кондратия Минеева. А вот контузия была. Рядом с блиндажом разорвало дерево снарядом. Ну ничего: в медсанбат на пару недель и – в часть.
Кто же хранит солдата на войне? Может, Бог? Или судьба? Или любящие сердца родных и близких? А, может, и все сразу. Не найти ответ на этот вопрос.
Нёс достойно службу режевской солдат. Во всех справках, благодарностях, удостоверениях стоит звание: ефрейтор. Кондратий Иванович смеётся: трижды ефрейтор! Это как? Да просто наш солдат не нашивал лычку. Рядовой да и всё. И снова присвоят, а потом – опять. Не думал тогда Кондратий о званиях, людей и страну защищал от фашизма. И пришло долгожданное утро Победы! Половину бойцов отправили на Дальний Восток разбираться с японцами, а Кондратий Иванович – в город Остергом. Больше года там стояли. В 1947 году получил приказ о демобилизации. Нагляделся наш боец на европейские страны вдоволь. Ехал домой на Урал, в Реж, вёз в свою деревню Антоновку сталинские благодарности с боевыми медалями «За освобождение Будапешта»,
«За отвагу», «За победу над Германией», а потом и орден Великой Отечественной войны, но это уже в мирное время. И встречали односельчане радостно фронтовика. Когда уходил, мальчишки и девчушки соседские были маленькими, а сейчас выросли – пять лет его не было дома.
В 2023 году в возрасте 98 лет ушёл из жизни Кондратий Иванович. Когда он в День Победы шагал по липовской улице к сельскому мемориалу под звон медалей на груди, встречные замирали…
С фотографий мемориала смотрят на село его односельчане и шестеро одноклассников, оставшихся навечно молодыми. Каждый год 9 мая обязательно собирались в его доме дети, внучки, правнуки. А он всё так же с цветами в руках шёл к святому месту села – мемориалу.
КАК ТЫ ЖИВА ОСТАЛАСЬ, МАМА?
У Великой Отечественной войны, как, впрочем, и у всех войн, мужское лицо. Оно многократно запечатлено в фотографиях, рисунках, картинах, книгах, кинофильмах, и, конечно же, архивных документах. Женское лицо войны представляется совсем другим. Оно, как правило, обобщено: лица матерей, искажённые болью утраты. Но история войны говорит нам о другом…
В 2015 году ко мне в руки попала папка с документами из нашего городского архива. Честно говоря, за девять лет я уже подзабыла, как именно это случилось. Бумаги эти когда-то принадлежали Сергеевой Римме Михайловне, жительнице Свердловской области, города Реж, микрорайона «Быстринский», ветерану Великой Отечественной войны. Будучи на пенсии и не имея близких родственников, она передала их, а также медали и ордена в городской архив в надежде на то, что когда-нибудь они будут нужны людям. И это время пришло… Открыв пухлую папку, я стала изучать справки, грамоты, свидетельства и фотографии. Среди прочего заметила книгу в простеньком переплёте с чуть помятыми уголками. Сразу в голове возникли вопросы: почему же она оказалась среди таких важных документов? Возможно, она была дорога владельцу?
Мне стало любопытно, и я взялась её разглядывать. Крупными буквами на обложке написана фамилия автора и название. На титульном листе напечатано: «Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство,1979 год». Так состоялось моё первое знакомство с Павлом Кодочиговым и его сборником очерков об уральских комсомолках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Павел Ефимович Кодочигов хоть и родился в Тюмени, но всегда был привязан искренней любовью к Свердловску. Во время войны был командиром взвода миномётчиков 299-го полка 225-й Краснознамённой стрелковой дивизии. В своей автобиографии Павел Ефимович с особой теплотой рассказывает о том, как всегда мечтал поступить в Свердловский коммунистический институт журналистики. Но в жизни не всегда происходит всё так, как мы задумали. После войны окончил Свердловский юридический институт, работал в газете «Тюменский комсомолец». В 1958 году занялся писательской деятельностью и стал печататься. В 1960 году вышла в свет первая книга рассказов «Я работаю в редакции», а уже в 1970 году приехал в давно любимый им Свердловск. Работал в журнале «Урал». В 1979 году вышла в свет книга «Как ты жива осталась, мама». Это небольшой сборник документальной прозы, который, как я уже говорила выше, и попал мне в руки. Среди девятнадцати рассказов есть два, которые имеют прямое отношение к моему городу. В них рассказывается о молодых режевских девушках, ушедших на фронт совсем юными. Кодочигова часто спрашивали, почему он занимается только документальной прозой. Он всегда отвечал, что у героев должны быть подлинные имена, а не псевдонимы. Тогда и будет настоящая «окопная» правда. Рассказ «Кандидатский стаж» как раз и повествует о нашей землячке Римме Михайловне, чьи архивные документы мне удалось заполучить. В 19 лет она ушла на фронт. Несла службу как краснофлотец Балтийского флота и наравне с мужчинами защищала блокадный Ленинград. Город бомбили часто, но жизнь в нём не останавливалась. В один из редких спокойных дней ехала комсорг батареи Сергеева с парторгом Арцишевским в политотдел. Римма смотрела в окно, думала и переживала, досадуя на свою неприметную жизнь: «Училась в школе, немного поработала, потом – Ленинград…Всё! За окном мелькнуло несколько приземистых домиков, и неожиданно вспомнился, встал перед глазами Реж – небольшой, почти сплошь деревянный городок с плотинкой у завода, прудом и рассыпанным вокруг него домиками».
Возможно, я слишком чувствительный человек, но мне было душевно приятно узнавать из текста знакомые места родного города и вместе с тем ощущать некую причастность к воспоминаниям героини. Прочитав автобиографию Риммы Михайловны, я узнала, что Павел Ефимович долгое время её разыскивал, а потом долго уговаривал дать согласие на написание воспоминаний из фронтовой жизни. Одна из малоизвестных страничек блокады – оборона островов Лавенсари, Пенисари и Сескар, пунктирной строчкой вытянувшихся вдоль фарватера Финского залива, в ста с лишним милях западнее Ленинграда. Среди ста девчат, которые должны были пересечь Ладогу, оказалась в трюме невысокая светлоглазая активистка Режевского райкома комсомола Тоня Клевакина (Дурицкая). До войны Тоня мечтала поступить в кораблестроительный институт, но после того, как получила с фронта письмо о гибели одного из братьев, вырвала из ученической тетради чистый лист и крупным, разборчивым почерком написала заявление в военкомат… Вместе с Тоней и другими уралочками прибыли на Лавенсари и три подружки из большого села Покровского: высокая и статная Катя Нехонова, светловолосая и спокойная Паня Брылина, хохотушка Саша Загвоздкина. О мужестве и стойкости «островитян» во время войны мало кто знал, мало кто знает и сейчас. Ради сохранения тайны даже фронтовые газеты писали очень редко и скупо, не обозначая места событий. «На острове Н.» – так обычно публиковались заметки; так и называется один из рассказов Павла Кодочигова.
Не только в Ленинграде воевали уральские комсомолки, на всех фронтах сражались. Некоторые из них погибли, многие были ранены и контужены. Защищая Ленинград, эти девушки совершили подвиг, который навечно запечатлён на страницах сборника Павла Ефимовича Кодочигова «Как ты жива осталась, мама».
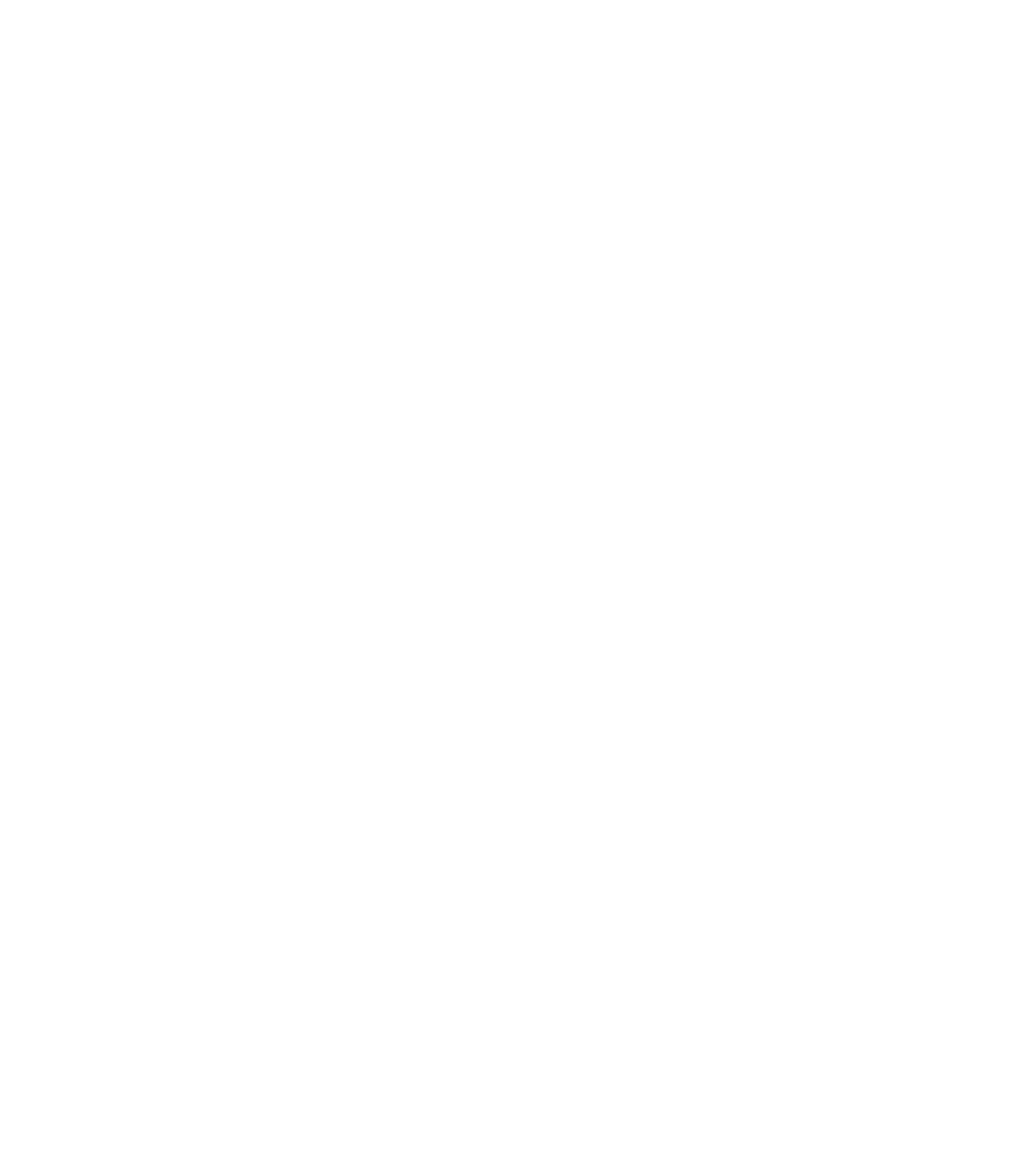
Ольга СЕРГЕЕВА
Родилась на Южном Урале. По профессии преподаватель литературы, церковно-славянского языка, психо-и-социолингвистики. Отличник народного просвещения. Кандидат филологических наук, защитивший диссертацию в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Член-корреспондент Петровской Академии наук. Участник Международных и Всероссийских научных конференций. Автор монографии «Церковный гимн “Свете Тихий” в русской поэзии», методических пособий и статей. С четырех лет пишет стихи, а в последнее время и прозу для школьников и молодежи. Закончила Литературные курсы в Школе «Band» (Москва). В издательстве «Четыре» дебютировала с рассказом «Зимняя мелодия» (2025) и сразу же стала победителем конкурса в сборнике «Дед Мороз спешит в гости». Является членом литературного клуба «Творчество и потенциал» (Санкт-Петербург). Прошла ступени писательского мастерства: от публицистических заметок – через написание научных работ – к художественному слову.
Родилась на Южном Урале. По профессии преподаватель литературы, церковно-славянского языка, психо-и-социолингвистики. Отличник народного просвещения. Кандидат филологических наук, защитивший диссертацию в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Член-корреспондент Петровской Академии наук. Участник Международных и Всероссийских научных конференций. Автор монографии «Церковный гимн “Свете Тихий” в русской поэзии», методических пособий и статей. С четырех лет пишет стихи, а в последнее время и прозу для школьников и молодежи. Закончила Литературные курсы в Школе «Band» (Москва). В издательстве «Четыре» дебютировала с рассказом «Зимняя мелодия» (2025) и сразу же стала победителем конкурса в сборнике «Дед Мороз спешит в гости». Является членом литературного клуба «Творчество и потенциал» (Санкт-Петербург). Прошла ступени писательского мастерства: от публицистических заметок – через написание научных работ – к художественному слову.
ПОСЛЕД
Когда осенью 1937 года раскатали по бревнышку большую деревенскую церковь, народ постепенно начал дичать. Мужики все чаще собирались на сходку у магазина, чтобы купить поллитровку и напиться до чертиков в глазах, а бабы до того стали не воздержанны на язык, что хоть святых выноси…
И одна такая тетка Марфа, колкая и вострая, с большой, как бородавка, родинкой на подбородке, из которой рос длинный жесткий волосок, жила на хуторском бугре, отделенном от остальной деревни глубоким оврагом. Весной вода в нем поднималась метров на пять, до самой плотины, а летом спадала, застаиваясь и прогреваясь. Лягушки-повитухи облюбовали это место и водились там в таком количестве, что в периоды спаривания на берег ступить было нельзя: повсюду сидели самцы, задние ноги которых были обмотаны широкими трубками, напоминающими детское место. В них помещались яйца, и самцы вынашивали потомство до тех пор, пока оно не вылупливалось на свет. На западном склоне оврага летом грелись то ли ужи, то ли гадюки, питавшиеся этими самыми лягушками. Никакая другая живность – ни собаки, ни лошади, ни овцы – не подходили к оврагу ни зимой, ни летом, спуститься по его крутизне было очень трудно. Воду для питья брали из общего колодца, а для бани и стирки носили из речки.
Числилось на западном берегу оврага всего пять дворов. В первом жила Валька-пустоцвет – так окрестила ее Марфа, когда впервые увидела сношельницу (та, видите ли, не пьет самогонку, которую гнала Марфа, подавая зелье на стол аж четвертями!). Ее привез как трофей с войны Петр, старший брат мужа Марфы, то ли из далекой Белоруссии, то ли еще откуда. И действительно: ни сразу, ни потом у высокой, молчаливой, покладистой, работящей Валентины и воина Петра своих детей почему-то не было.
В двух других домах жили своими семьями Валька Хоша да гугнивый Митяй. Хоша получила свое прозвище, потому что в детстве, подражая своей молоденькой матери Феколке и, как она, глядясь в зеркало, вместо слова «хороша» говорила «хоша». «Хороша, так хороша, что лучше бы плоха», – сказала походя Марфа, увидев маленькую кокетку. А вскоре Хоша упала с печки и повредила ножку да так и осталась на всю жизнь хроменькой.
Роды у Татьянки, матери Митяя, принимала сама Марфа (была она на деревне первая повитуха). И когда мальчик родился, то Марфа долго хлопала его по мягкому месту, по щекам, но он так и не закричал, а к двум годам младенца выяснилось, что Митяй – тугоухий и говорить не может: шевелил губами вслед за матерью и отцом и лопотал что-то свое, одному ему понятное. Так и прозвали: Митяй-гундяй.
Ровно посередине хутора стоял дом самой Марфы с ее семейством. Муж-фронтовик, председатель колхоза. И пятеро детей, младшему из которых, Леньке, доставалось больше всех. Ни мать, ни отец не любили последыша за то, что он был маленького роста, кривоногеньким, с большой, как котел, головой, зелеными, навыкате, глазами, корявыми руками (ни за что взяться толком не умел). Не любили его и за то, что привирал на каждом шагу, прогуливал школьные уроки. За то, что водился с голубями и собаками, а нормальных друзей у него не было. В отместку за эту нелюбовь Ленька приворовывал из курятника яйца, а из чулана – испеченные Марфой крендели, тайком ото всех ел сам, а остатки уносил двоюродным братьям и сестрам, жившим на самом конце хутора. Именно там поселился младший брат Ленькиного отца Агапка с женой Нюрочкой и нарожал девятерых ребятишек. По пьяни он отморозил левую ногу и в полную силу работать не мог. Поэтому говорили, что у него девятеро по лавкам, а десятый вот-вот к ним вдогонку поспеет, армию голодранцев «пожалеет». В избе у них было хоть шаром покати – так пусто и голо от бедности, что даже мухи, бесшабашно влетев в дверь, злобно жужжа, вылетали вон, потому что нигде не было ни капельки, ни крошки.
Увидев, как Ленька (в который уже раз!) заправил за пазуху два яйца, Марфа в сердцах крикнула: «У, змяеныш длиннохвостай! Ня свить табе гнязда!» И, громыхая ведрами, направилась за водой.
Агапкина Нюрочка была на сносях и с трудом нагибалась, доставая воду из колодца.
– Болить сяводня, тянить… Рожать, наверно, скоро, – ласково поглаживая живот, пожаловалась сердешная. – Поможишь?
– И не подумаю! – сердито рыкнула Марфа. – Пущай табе мой Ленькя помогаит! Как яйцы и крендели трескать, так ты знаешь, а как рожать – так «поможишь» …
– Да я и не видела их сроду, твоих яиц и крендялей! – всплеснула руками Нюрочка. – А что ребятишкам от Леньки перепадает, так это потому что мальчик он добрый, зря вы его ругаете…
– Зря не зря, а меня не жди, сама управляйся! – отрезала Марфа и, повернувшись спиной, дала понять, что разговор окончен.
Нюрочка помолчала, нацепила ведра на коромысло и, глотая набежавшие слезы, мелкими шажками посеменила к дому.
Роды начались поздним вечером.
– Доченькя, беги за тетенькой Марфой, рожаю я, – усаживаясь на пол в мокрой от женских вод рубашке, попросила старшую дочку Нюрочка.
Та, наспех одевшись в брошенную на кровать материну юбку и кофту, выбежала со двора – прямиком к Марфиному дому.
– Тетенькя, тетенькя, вставайтя! Мамка рожает! – застучала в дверь Маринка.
Но в избе было темно и тихо. «Можеть, крепко уснули, не слышать?» – подумала она и, перепрыгнув через невысокий плетень, раздвинула ветки сирени, чтобы торкнуть в черное окно.
– Тетенькя, миленькия, вставайте! Мамка рожает! Просила вас прийтить… – умоляла Маринка.
Послышался сердитый голос: это, зажигая керосинку, отодвигали засов. Наконец дверь отворилась, и Марфа зашипела:
– Чё стучишь? Чё гремишь? Народ разбудишь! Я еще днем твоей матери сказала, что не пойду. Пусть сама рожаить. Десятый – не первый, справится! – и захлопнула дверь.
Когда Маринка вернулась домой, мать корчилась на полу и стонала от боли.
– Ну что, придеть? – глотая слезы, спросила она.
Маринка покачала головой.
– Дочкя, бери Сашенькю, бегите в деревню, через овраг, к тетушке Прасковье. Можеть, она пособить?.. Скажи Прасковье, чтобы взяла с собой кусочек хлеба или, если есть, хоть три ложки каши. Занясите гостинец Марфе. Можеть, смилуется, поможить…– прошептала мать, и Маринка, схватив за руку Сашу, кинулась к плотине…
Прасковья никогда не принимала роды, да и своих детей у них с мужем не было. Она была доброй родственницей Нюрочки и любила ее, тихую и безропотную, всей душой. Если случался лишний кусок хлеба, она отдавала его Агапкиным. Если собирались у соседей поношенные платья, юбки, кофты, рубашки, все это передавалось им же. Узнав, что тетка Марфа отказалась принимать роды, Прасковья заохала и поспешила на помощь, по дороге обдумывая, как ей поступить, чтобы спасти положение: «Нюрочкя десятым рябеночком разрешается. Наверно, знаить, что нужно делать. Она будет говорить, а я исполнять. Бог даст, справимси…»
Но справиться оказалось не так-то просто. Ребеночек не хотел рождаться на свет, словно предчувствуя недоброе. Прасковья гладила Нюрочку по животу, призывала на помощь Богородицу, Саломею-повитуху, которая, по преданию, принимала роды Младенца Христа, шептала заговор: «Матушка Соломония, возьми ключи золотые, открой роды костяные рабе Божьей Аннушке» … Но ничего не помогало. Аннушка каталась по полу, тужилась и кричала так, что вскоре в каждом окне заколыхался огонек от парафиновой свечки. Ходила взад и вперед по избе Валентина-пустоцвет; тайком крестилась Фекола; чтобы завернуть ребеночка, отыскала в комоде новую юбку Татьянка. И все прислушивались, не раздастся ли детский плач новорожденного младенца… Только в самой ближней от Агапкиных избе Марфы было тихо: никто не метался, никто никого не ждал, не крестился и не плакал: спали.
Отчаявшись помочь роженице, Прасковья, взяв кусок хлеба и те самые три ложки каши, чтобы задобрить повитуху, сама побежала к Марфе. Та, выслушав причитания, ничего не взяла. Резко отодвинула руку с подношением, поджав и без того тонкие губы и выставив, как напоказ, волосатую бородавку на задранном подбородке, молча закрыла дверь.
Возвращаясь с дарами назад, Прасковья услышала тонкий писк и облегченно вздохнула; родилась девочка – маленькая, слабенькая от недоедания матери, худенькая, как былиночка, наделавшая столько хлопот и доведшая всех до изнеможения. Пуповина уже была перекусана. Оставалось дождаться послед. Пока обмывали и обтирали ребенка, из причинного места роженицы показалась розово-фиолетовая лента. «Обожди, обожди еще маленькя», – едва слышно, обессиленно шептала мать, но Прасковья, желая поскорее прекратить муки любимой Нюрочки, потянула детское место на себя и нечаянно оторвала плаценту. Кровь хлынула ручьем!
– Ах, что же я наделала!.. Дети, скорее бегитя за Марфинькой! Скажитя: Нюрочкя кровью исходит! Помоги, милая! Христа ради, помоги, сердешная! – учила детей испуганная Прасковья, выталкивая их за порог.
Марфа все поняла, увидев перед собой Маринку, Сашеньку и маленького Витю, протягивающего в ручонке кусок отвергнутого хлеба. Когда ребятишки постучались в дверь, она уже была одета, словно предчувствуя, что добром дело не кончится. Через несколько минут Марфа стояла на коленях перед Нюрочкой и ловкими, привычными пальцами пыталась нащупать кровоточащий участок в матке. Но было поздно. Вместе со струями горячей крови с Нюрочки стал сходить румянец роженицы, щеки опали, лицо побледнело, глаза закрылись. Она глубоко вздохнула и тихо отошла. А следом за матерью, едва пискнув (видимо, оплакивая и себя, и мать), скончалась и девочка – десятый ребенок Агапкиных…
Рабу Божию Анну обрядили в новую Татьянкину юбку, в Прасковьину кофту и платок, отпели на дому и вместе с некрещеной и безымянной девочкой похоронили. До оврага гроб несли на руках, а через плотину и до деревенского кладбища ехали на подводе, которую дал председатель. Переезжая через овраг, кто-то вспомнил, как однажды Нюрочка, увидев, что змея хочет напасть на лягушку-повитуху, швырнула в злодейку камень и отбила жертву – та успела отползти подальше и сохранить жизнь себе и потомству… «А вот сама не убереглася, – подумала Валентина, – а о протчем мы и не догадаимси…»
Обеих страдалиц, Аннушку и дочку, похоронили подле березки, в корни которой зарыли и принесенный в окровавленном платочке послед – это чтобы покойников в доме больше не было.
Жалея сироток, Валентина-пустоцвет взяла на воспитание двоих Нюрочкиных дочек-подростков и стала им хорошей матерью. Двух мальчиков-близнецов взял дальний родственник по линии отца Нюрочки и увез за много километров от дома, так что об их судьбе было мало что известно. А за оставшимися пятерыми ребятишками приглядывала Прасковья. Чувствуя свою вину за смерть племянницы, она всем своим существом старалась заменить им мать: обстирывала, обштопывала, кормила и поила, лелеяла ребятишек, помогая им встать на ноги и получить профессию. Марфу же никто не осуждал – боялись ее острого язычка.
Так и забылась бы эта история, если б не начались, одно за другим, происшествия в доме повитухи… Тут и вспомнилось горькое проклятие: «Ня свить табе гнязда!» Родового гнезда не свил никто из пятерых детей Марфы, а последний, шестой младенец самой Марфы, пожил полтора месяца и помер – то ли от падучей, то ли еще от чего…
Муж Марфы скончался от рака пищевода – упился горилкой. А сама Марфа, состарившись, оказалась никому не нужной и скончалась по дороге к старшей дочери Аксютке, привалившись в бессилии к чужому крыльцу. Похоронили ее на том же кладбище, что и Нюрочку с новорожденной девочкой. Только не на солнышке, под деревом, а в низине, где давным-давно был деревенский скотомогильник, а потом над ним установилась протянувшаяся изгородь кладбища. Сказывали, что в этом месте разросся густой ягодник. Крупные красные бусины земляники висели, выглядывая из-под резных зеленых листьев, но срывать их никто не срывал – знали, что с кладбища ничего не уносят. Только серая змейка иногда выползала из своей норки и лакомилась сладкой мякотью в одиночку.
Когда через много лет в деревне построили новую церковь и народ постепенно стал обращаться к Богу, самая младшая, девятая Нюрочкина дочь сподобилась видения. Будто бы открылась перед нею дверь в какой-то чулан, и увидела она в темноте стоящую во всем черном тетку Марфу, а рядом – ее детей, сильно потемневших с лица. Понурив головы, сыновья и дочери молчали, а Марфа попросила: «Помолитеся о нас… Душать…»
И сиротиночка помолилась.
Когда осенью 1937 года раскатали по бревнышку большую деревенскую церковь, народ постепенно начал дичать. Мужики все чаще собирались на сходку у магазина, чтобы купить поллитровку и напиться до чертиков в глазах, а бабы до того стали не воздержанны на язык, что хоть святых выноси…
И одна такая тетка Марфа, колкая и вострая, с большой, как бородавка, родинкой на подбородке, из которой рос длинный жесткий волосок, жила на хуторском бугре, отделенном от остальной деревни глубоким оврагом. Весной вода в нем поднималась метров на пять, до самой плотины, а летом спадала, застаиваясь и прогреваясь. Лягушки-повитухи облюбовали это место и водились там в таком количестве, что в периоды спаривания на берег ступить было нельзя: повсюду сидели самцы, задние ноги которых были обмотаны широкими трубками, напоминающими детское место. В них помещались яйца, и самцы вынашивали потомство до тех пор, пока оно не вылупливалось на свет. На западном склоне оврага летом грелись то ли ужи, то ли гадюки, питавшиеся этими самыми лягушками. Никакая другая живность – ни собаки, ни лошади, ни овцы – не подходили к оврагу ни зимой, ни летом, спуститься по его крутизне было очень трудно. Воду для питья брали из общего колодца, а для бани и стирки носили из речки.
Числилось на западном берегу оврага всего пять дворов. В первом жила Валька-пустоцвет – так окрестила ее Марфа, когда впервые увидела сношельницу (та, видите ли, не пьет самогонку, которую гнала Марфа, подавая зелье на стол аж четвертями!). Ее привез как трофей с войны Петр, старший брат мужа Марфы, то ли из далекой Белоруссии, то ли еще откуда. И действительно: ни сразу, ни потом у высокой, молчаливой, покладистой, работящей Валентины и воина Петра своих детей почему-то не было.
В двух других домах жили своими семьями Валька Хоша да гугнивый Митяй. Хоша получила свое прозвище, потому что в детстве, подражая своей молоденькой матери Феколке и, как она, глядясь в зеркало, вместо слова «хороша» говорила «хоша». «Хороша, так хороша, что лучше бы плоха», – сказала походя Марфа, увидев маленькую кокетку. А вскоре Хоша упала с печки и повредила ножку да так и осталась на всю жизнь хроменькой.
Роды у Татьянки, матери Митяя, принимала сама Марфа (была она на деревне первая повитуха). И когда мальчик родился, то Марфа долго хлопала его по мягкому месту, по щекам, но он так и не закричал, а к двум годам младенца выяснилось, что Митяй – тугоухий и говорить не может: шевелил губами вслед за матерью и отцом и лопотал что-то свое, одному ему понятное. Так и прозвали: Митяй-гундяй.
Ровно посередине хутора стоял дом самой Марфы с ее семейством. Муж-фронтовик, председатель колхоза. И пятеро детей, младшему из которых, Леньке, доставалось больше всех. Ни мать, ни отец не любили последыша за то, что он был маленького роста, кривоногеньким, с большой, как котел, головой, зелеными, навыкате, глазами, корявыми руками (ни за что взяться толком не умел). Не любили его и за то, что привирал на каждом шагу, прогуливал школьные уроки. За то, что водился с голубями и собаками, а нормальных друзей у него не было. В отместку за эту нелюбовь Ленька приворовывал из курятника яйца, а из чулана – испеченные Марфой крендели, тайком ото всех ел сам, а остатки уносил двоюродным братьям и сестрам, жившим на самом конце хутора. Именно там поселился младший брат Ленькиного отца Агапка с женой Нюрочкой и нарожал девятерых ребятишек. По пьяни он отморозил левую ногу и в полную силу работать не мог. Поэтому говорили, что у него девятеро по лавкам, а десятый вот-вот к ним вдогонку поспеет, армию голодранцев «пожалеет». В избе у них было хоть шаром покати – так пусто и голо от бедности, что даже мухи, бесшабашно влетев в дверь, злобно жужжа, вылетали вон, потому что нигде не было ни капельки, ни крошки.
Увидев, как Ленька (в который уже раз!) заправил за пазуху два яйца, Марфа в сердцах крикнула: «У, змяеныш длиннохвостай! Ня свить табе гнязда!» И, громыхая ведрами, направилась за водой.
Агапкина Нюрочка была на сносях и с трудом нагибалась, доставая воду из колодца.
– Болить сяводня, тянить… Рожать, наверно, скоро, – ласково поглаживая живот, пожаловалась сердешная. – Поможишь?
– И не подумаю! – сердито рыкнула Марфа. – Пущай табе мой Ленькя помогаит! Как яйцы и крендели трескать, так ты знаешь, а как рожать – так «поможишь» …
– Да я и не видела их сроду, твоих яиц и крендялей! – всплеснула руками Нюрочка. – А что ребятишкам от Леньки перепадает, так это потому что мальчик он добрый, зря вы его ругаете…
– Зря не зря, а меня не жди, сама управляйся! – отрезала Марфа и, повернувшись спиной, дала понять, что разговор окончен.
Нюрочка помолчала, нацепила ведра на коромысло и, глотая набежавшие слезы, мелкими шажками посеменила к дому.
Роды начались поздним вечером.
– Доченькя, беги за тетенькой Марфой, рожаю я, – усаживаясь на пол в мокрой от женских вод рубашке, попросила старшую дочку Нюрочка.
Та, наспех одевшись в брошенную на кровать материну юбку и кофту, выбежала со двора – прямиком к Марфиному дому.
– Тетенькя, тетенькя, вставайтя! Мамка рожает! – застучала в дверь Маринка.
Но в избе было темно и тихо. «Можеть, крепко уснули, не слышать?» – подумала она и, перепрыгнув через невысокий плетень, раздвинула ветки сирени, чтобы торкнуть в черное окно.
– Тетенькя, миленькия, вставайте! Мамка рожает! Просила вас прийтить… – умоляла Маринка.
Послышался сердитый голос: это, зажигая керосинку, отодвигали засов. Наконец дверь отворилась, и Марфа зашипела:
– Чё стучишь? Чё гремишь? Народ разбудишь! Я еще днем твоей матери сказала, что не пойду. Пусть сама рожаить. Десятый – не первый, справится! – и захлопнула дверь.
Когда Маринка вернулась домой, мать корчилась на полу и стонала от боли.
– Ну что, придеть? – глотая слезы, спросила она.
Маринка покачала головой.
– Дочкя, бери Сашенькю, бегите в деревню, через овраг, к тетушке Прасковье. Можеть, она пособить?.. Скажи Прасковье, чтобы взяла с собой кусочек хлеба или, если есть, хоть три ложки каши. Занясите гостинец Марфе. Можеть, смилуется, поможить…– прошептала мать, и Маринка, схватив за руку Сашу, кинулась к плотине…
Прасковья никогда не принимала роды, да и своих детей у них с мужем не было. Она была доброй родственницей Нюрочки и любила ее, тихую и безропотную, всей душой. Если случался лишний кусок хлеба, она отдавала его Агапкиным. Если собирались у соседей поношенные платья, юбки, кофты, рубашки, все это передавалось им же. Узнав, что тетка Марфа отказалась принимать роды, Прасковья заохала и поспешила на помощь, по дороге обдумывая, как ей поступить, чтобы спасти положение: «Нюрочкя десятым рябеночком разрешается. Наверно, знаить, что нужно делать. Она будет говорить, а я исполнять. Бог даст, справимси…»
Но справиться оказалось не так-то просто. Ребеночек не хотел рождаться на свет, словно предчувствуя недоброе. Прасковья гладила Нюрочку по животу, призывала на помощь Богородицу, Саломею-повитуху, которая, по преданию, принимала роды Младенца Христа, шептала заговор: «Матушка Соломония, возьми ключи золотые, открой роды костяные рабе Божьей Аннушке» … Но ничего не помогало. Аннушка каталась по полу, тужилась и кричала так, что вскоре в каждом окне заколыхался огонек от парафиновой свечки. Ходила взад и вперед по избе Валентина-пустоцвет; тайком крестилась Фекола; чтобы завернуть ребеночка, отыскала в комоде новую юбку Татьянка. И все прислушивались, не раздастся ли детский плач новорожденного младенца… Только в самой ближней от Агапкиных избе Марфы было тихо: никто не метался, никто никого не ждал, не крестился и не плакал: спали.
Отчаявшись помочь роженице, Прасковья, взяв кусок хлеба и те самые три ложки каши, чтобы задобрить повитуху, сама побежала к Марфе. Та, выслушав причитания, ничего не взяла. Резко отодвинула руку с подношением, поджав и без того тонкие губы и выставив, как напоказ, волосатую бородавку на задранном подбородке, молча закрыла дверь.
Возвращаясь с дарами назад, Прасковья услышала тонкий писк и облегченно вздохнула; родилась девочка – маленькая, слабенькая от недоедания матери, худенькая, как былиночка, наделавшая столько хлопот и доведшая всех до изнеможения. Пуповина уже была перекусана. Оставалось дождаться послед. Пока обмывали и обтирали ребенка, из причинного места роженицы показалась розово-фиолетовая лента. «Обожди, обожди еще маленькя», – едва слышно, обессиленно шептала мать, но Прасковья, желая поскорее прекратить муки любимой Нюрочки, потянула детское место на себя и нечаянно оторвала плаценту. Кровь хлынула ручьем!
– Ах, что же я наделала!.. Дети, скорее бегитя за Марфинькой! Скажитя: Нюрочкя кровью исходит! Помоги, милая! Христа ради, помоги, сердешная! – учила детей испуганная Прасковья, выталкивая их за порог.
Марфа все поняла, увидев перед собой Маринку, Сашеньку и маленького Витю, протягивающего в ручонке кусок отвергнутого хлеба. Когда ребятишки постучались в дверь, она уже была одета, словно предчувствуя, что добром дело не кончится. Через несколько минут Марфа стояла на коленях перед Нюрочкой и ловкими, привычными пальцами пыталась нащупать кровоточащий участок в матке. Но было поздно. Вместе со струями горячей крови с Нюрочки стал сходить румянец роженицы, щеки опали, лицо побледнело, глаза закрылись. Она глубоко вздохнула и тихо отошла. А следом за матерью, едва пискнув (видимо, оплакивая и себя, и мать), скончалась и девочка – десятый ребенок Агапкиных…
Рабу Божию Анну обрядили в новую Татьянкину юбку, в Прасковьину кофту и платок, отпели на дому и вместе с некрещеной и безымянной девочкой похоронили. До оврага гроб несли на руках, а через плотину и до деревенского кладбища ехали на подводе, которую дал председатель. Переезжая через овраг, кто-то вспомнил, как однажды Нюрочка, увидев, что змея хочет напасть на лягушку-повитуху, швырнула в злодейку камень и отбила жертву – та успела отползти подальше и сохранить жизнь себе и потомству… «А вот сама не убереглася, – подумала Валентина, – а о протчем мы и не догадаимси…»
Обеих страдалиц, Аннушку и дочку, похоронили подле березки, в корни которой зарыли и принесенный в окровавленном платочке послед – это чтобы покойников в доме больше не было.
Жалея сироток, Валентина-пустоцвет взяла на воспитание двоих Нюрочкиных дочек-подростков и стала им хорошей матерью. Двух мальчиков-близнецов взял дальний родственник по линии отца Нюрочки и увез за много километров от дома, так что об их судьбе было мало что известно. А за оставшимися пятерыми ребятишками приглядывала Прасковья. Чувствуя свою вину за смерть племянницы, она всем своим существом старалась заменить им мать: обстирывала, обштопывала, кормила и поила, лелеяла ребятишек, помогая им встать на ноги и получить профессию. Марфу же никто не осуждал – боялись ее острого язычка.
Так и забылась бы эта история, если б не начались, одно за другим, происшествия в доме повитухи… Тут и вспомнилось горькое проклятие: «Ня свить табе гнязда!» Родового гнезда не свил никто из пятерых детей Марфы, а последний, шестой младенец самой Марфы, пожил полтора месяца и помер – то ли от падучей, то ли еще от чего…
Муж Марфы скончался от рака пищевода – упился горилкой. А сама Марфа, состарившись, оказалась никому не нужной и скончалась по дороге к старшей дочери Аксютке, привалившись в бессилии к чужому крыльцу. Похоронили ее на том же кладбище, что и Нюрочку с новорожденной девочкой. Только не на солнышке, под деревом, а в низине, где давным-давно был деревенский скотомогильник, а потом над ним установилась протянувшаяся изгородь кладбища. Сказывали, что в этом месте разросся густой ягодник. Крупные красные бусины земляники висели, выглядывая из-под резных зеленых листьев, но срывать их никто не срывал – знали, что с кладбища ничего не уносят. Только серая змейка иногда выползала из своей норки и лакомилась сладкой мякотью в одиночку.
Когда через много лет в деревне построили новую церковь и народ постепенно стал обращаться к Богу, самая младшая, девятая Нюрочкина дочь сподобилась видения. Будто бы открылась перед нею дверь в какой-то чулан, и увидела она в темноте стоящую во всем черном тетку Марфу, а рядом – ее детей, сильно потемневших с лица. Понурив головы, сыновья и дочери молчали, а Марфа попросила: «Помолитеся о нас… Душать…»
И сиротиночка помолилась.
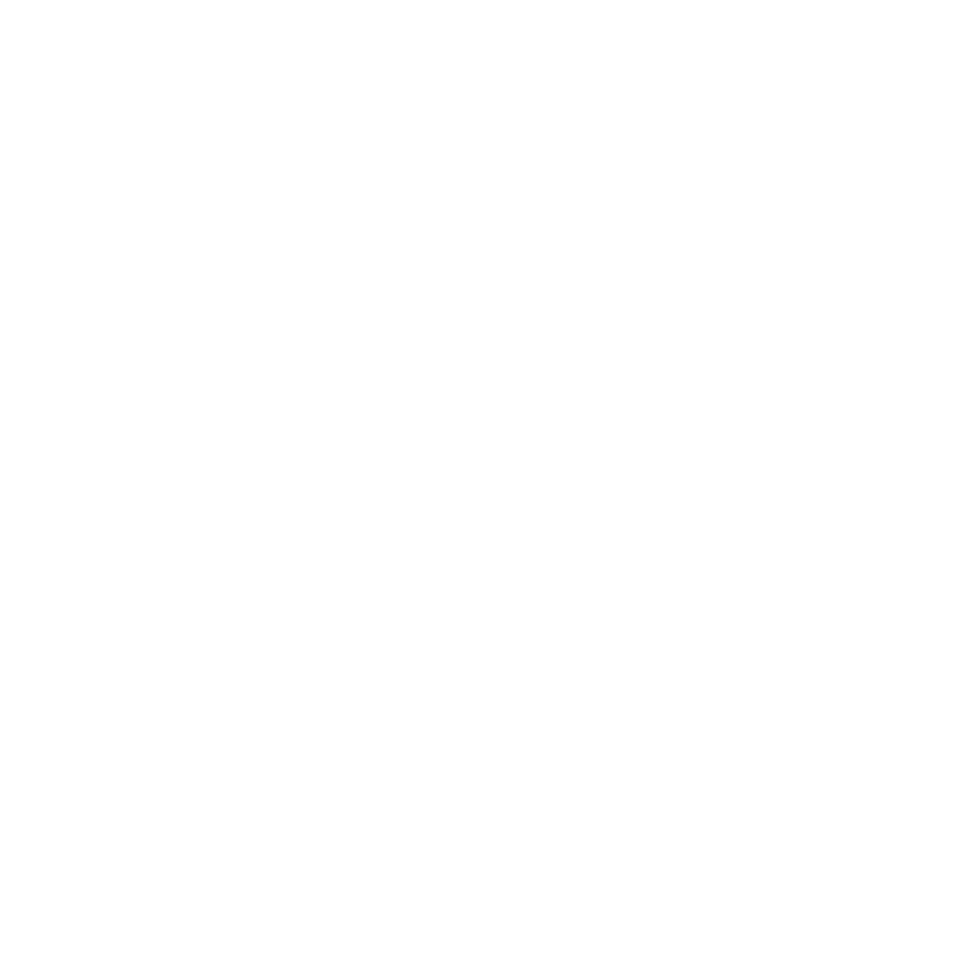
Станислав БАРЫШНИКОВ
Родился в 1983 году в г. Тирасполь. В 2023 году написал инсценировку романа Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи» для театра «Современник». В 2022 году написал сценическую версию киносценария Федерико Феллини «8 ½». Практически автобиографичная история Феллини, который пытается разобраться в себе. Спектакль идет в театре Вахтангова. В 2021 году написал инсценировку романа Ромена Гари «Обещание на рассвете». Щемящая история взросления на фоне сложных отношений с еврейской мамой. Спектакль идет в театре Вахтангова.
Родился в 1983 году в г. Тирасполь. В 2023 году написал инсценировку романа Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи» для театра «Современник». В 2022 году написал сценическую версию киносценария Федерико Феллини «8 ½». Практически автобиографичная история Феллини, который пытается разобраться в себе. Спектакль идет в театре Вахтангова. В 2021 году написал инсценировку романа Ромена Гари «Обещание на рассвете». Щемящая история взросления на фоне сложных отношений с еврейской мамой. Спектакль идет в театре Вахтангова.
РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ
Когда я впервые спросил об отце, Анна ответила, что появилась на свет путем непорочного зачатия. С тех пор прошло не одно Рождество, и теперь во время ночной прогулки по тихой заснеженной Остоженке Анна призналась, что ее мать все же грешна.
– Отец увлекался фотографией. После его смерти в доме осталась мастерская, где, как мне казалось, он родился, жил и умер. Мать хранила ее, но в этом году решила сделать ремонт в доме. Теперь мастерскую нужно разобрать, растолкать по полкам и раздать близким. На ее месте будет гардеробная.
Два квартала мы прошли молча и когда подошли к дому, Анна мягко посмотрела на меня.
– Хочу забрать кое-какие вещи оттуда. Боюсь, что их окажется больше, чем смогу унести и... Может, у тебя получится съездить со мной?
Что бы ни случалось с Анной, я никогда не знал ее чувств, а если пытался узнать, получал в ответ скупую телеграмму сухих слов. На следующий день мы выехали в Тверь. Воздух в вагоне поезда иссох, Анна листала какой-то журнал для архитекторов, страницы которого были обклеены цветными закладками.
– Архитектора сегодня лишена эстетики. Хотя я всегда считала, что потребность человека создавать и созерцать красивые образы так же необходима, как и дышать.
– Ты была близка с отцом?
– Теперь все только утилитарно. Но что интересно, никто не умер. Не жалуются, живут себе.
– Что с ним случилось?
– Он отравился.
Какое-то время мы ехали молча, но позже Анна рассказала, что это произошло из-за смерти старшей сестры. Она утонула в озере.
– Трагическая случайность. После этого отец замкнулся. Последние шесть лет мы практически не общались. Все свободное время он отдавал фотографии и проводил в мастерской. Там он проявлял пленку еще этим своим старым химическим методом. Удачные фотографии собирал в альбомы, подписывал.
– Что он чаще всего снимал?
– Улицы, детей, ну и то озеро.
Мы проехали несколько станций, прежде чем она снова продолжила.
– Когда это случилось, мы были уверены, что отец оставил записку. Но полиция заверила, что самоубийцы, желающие попрощаться, всегда оставляют послания на видном месте. Поэтому, если мы ничего не нашли сразу, то ничего и нет. Но каждый раз, когда приезжаю домой и часами просиживаю в мастерской, листаю альбомы, мне кажется, что на самом деле ищу эту записку.
Поезд прибыл, от вокзала еще двадцать минут в пустом автобусе, и мы – на месте. Родительский дом Анны стоял на окраине города. У ворот уныло торчал большой куст сирени, который наверняка весной живописно вспыхнет.
– Это наша семейная сакура, – Анна улыбнулась. – Ты зайдешь?
Я не решился и пошел прогуляться. Мне хотелось найти то озеро. Как будто по его размеру или внешнему виду смогу понять глубину и характер душевной раны Анны, и что все это скажет мне о чем-то важном. Анна с её непостижимыми тайнами словно подсвечивала мир вокруг меня. Я никогда не считал, сколько мы знакомы, но до нашей встречи теперь все казалось тусклым, выцветшим кадром из старой плёнки. Без неё, без её историй лицо города и жизни теряло очертания и расплывалось в монотонной серости. Я не находил в себе смелости признать, что её молчаливые отказы и незавершённые фразы меня не отталкивали, напротив, только сильнее притягивали. Возможно, эта близость на расстоянии и была тем, что помогало мне не задыхаться в обыденности.
Анна вернулась с парой чемоданов. Я помог и увидел, что запирая дверцу ворот, она держит в левой руке книгу. Это был «Решающий момент» Анри Картье-Брессона. На обложке было фото с детьми, которые заполнили винтовую лестницу и застенчиво сверху вниз смотрели в объектив камеры.
– Читала, этот француз мог целыми днями рыскать по улицам, чтобы в какой-то момент щелкнуть затвором и поймать жизнь в ловушку. Но с отцом, по-моему, все вышло наоборот.
Анна опустила глаза, потом как будто хотела посмотреть на меня, но не смогла. Сдерживала слезы. Мне захотелось ее обнять, но Анна повернулась в сторону дома, чтобы еще раз посмотреть на окно мастерской отца и затем – на часы.
– Все в порядке, мы еще успеваем на автобус.
Все время по пути назад Анна теперь листала Анри-Брессона и периодически смотрела в окно, которое из-за темноты на улице теперь отражало внутренности вагона и ее уставших пассажиров. Дорога назад теперь казалось мне мучительно долгой.
– Знаешь, я была уверена, что не стану, как мой отец. А теперь боюсь, что так оно и случилось.
– Какой ты боялась стать?
– Замкнутой. Разве тебе так не кажется?
– Не знаю. Есть немного, но ты всегда была такой, как мы познакомились.
– Сколько ты уже таскаешься за мной? Третий или четвертый год?
– Я никогда не считал, сколько мы знакомы.
– Ничего у нас не выйдет. Мне, может, и хочется любви, но любить я не умею...
Анна что-то еще говорила, но я уже не слушал. После этой поездки мы попрощались, и я вернулся к своей обычной рутинной жизни. Днем занимался переводами технической литературы с английского, а вечером после прогулки просиживал в кофейне. Сначала приходил на Остоженку, но теперь она уже не казалось мне такой привлекательной. Обычная улица. Поэтому я стал брать кофе с собой и пить дома.
Сколько бы я ни тянулся за ней, Анна оставалась далёкой, тонущей где-то в утреннем тумане улиц. В её взгляде всегда угадывалось что-то непостижимое, будто, заглядывая в её глаза, я смотрел сквозь треснувшее стекло, искажённое и чуждое. Но как бы она ни избегала близости, я возвращался. Всегда был рядом, даже если знал, что ничего у нас не выйдет. Сегодня за чашкой кофе посчитал, что мы знакомы три года и восемь месяцев и, листая ленту фотографий, неожиданно понял, что за все время дружбы у нас нет ни одной совместной фотографии. Даже какой-то глупой, что обычно делают в шутку, ради забавы.
Прошло два два долгих месяца, когда Анна позвонила и взволнованно рассказала, что во время ремонта под деревянным полом мастерской неожиданно нашли фотоальбом, который отец спрятал задолго до своей смерти. Никто не знает, зачем он туда его спрятал. Скорее всего, это было какое-то его послание поколениям. Альбом в основном состоял из семейных фотографий, которые прежде никто из домашних не видел, и на которых были отец с Анной и были счастливы, как она никогда не знала. Там еще у фотографий были записи, которые Анна хотела мне зачитать, но не смогла и залилась слезами. Скоро мы снова вышли на Остоженку, по которой гуляли по большей части из-за архитектурных увлечений Анны.
– Пойдем в сторону Барыковского переулка. Хочу показать тебе один скульптурный фриз.
По дороге Анна рассказала, как упрашивала мать отложить ремонт, как навсегда прощалась с отцом, с которым не успела познакомиться, и как много чувствует сейчас.
– Вот, здесь. Смотри наверх. Видишь, там на уровне третьего этажа – фриз. Там серны между цветов на фоне гор и стая летящих птиц. Вот-вот скользнут закатные лучи солнца, и все это оживет!
Причудливый рисунок кованых балконных решеток, кронштейнов и ограждений, которыми был оформлен фасад дома Бройдо, напоминал корни растений, прочно впившихся в стену. В закатный час все эти прихотливые изгибы стали живым импульсом природы, и на истоптанных ступенях крыльца Анна прижалась ко мне и вытянула руку со смартфоном, чтобы сделать наше первое совместное фото.
Когда я впервые спросил об отце, Анна ответила, что появилась на свет путем непорочного зачатия. С тех пор прошло не одно Рождество, и теперь во время ночной прогулки по тихой заснеженной Остоженке Анна призналась, что ее мать все же грешна.
– Отец увлекался фотографией. После его смерти в доме осталась мастерская, где, как мне казалось, он родился, жил и умер. Мать хранила ее, но в этом году решила сделать ремонт в доме. Теперь мастерскую нужно разобрать, растолкать по полкам и раздать близким. На ее месте будет гардеробная.
Два квартала мы прошли молча и когда подошли к дому, Анна мягко посмотрела на меня.
– Хочу забрать кое-какие вещи оттуда. Боюсь, что их окажется больше, чем смогу унести и... Может, у тебя получится съездить со мной?
Что бы ни случалось с Анной, я никогда не знал ее чувств, а если пытался узнать, получал в ответ скупую телеграмму сухих слов. На следующий день мы выехали в Тверь. Воздух в вагоне поезда иссох, Анна листала какой-то журнал для архитекторов, страницы которого были обклеены цветными закладками.
– Архитектора сегодня лишена эстетики. Хотя я всегда считала, что потребность человека создавать и созерцать красивые образы так же необходима, как и дышать.
– Ты была близка с отцом?
– Теперь все только утилитарно. Но что интересно, никто не умер. Не жалуются, живут себе.
– Что с ним случилось?
– Он отравился.
Какое-то время мы ехали молча, но позже Анна рассказала, что это произошло из-за смерти старшей сестры. Она утонула в озере.
– Трагическая случайность. После этого отец замкнулся. Последние шесть лет мы практически не общались. Все свободное время он отдавал фотографии и проводил в мастерской. Там он проявлял пленку еще этим своим старым химическим методом. Удачные фотографии собирал в альбомы, подписывал.
– Что он чаще всего снимал?
– Улицы, детей, ну и то озеро.
Мы проехали несколько станций, прежде чем она снова продолжила.
– Когда это случилось, мы были уверены, что отец оставил записку. Но полиция заверила, что самоубийцы, желающие попрощаться, всегда оставляют послания на видном месте. Поэтому, если мы ничего не нашли сразу, то ничего и нет. Но каждый раз, когда приезжаю домой и часами просиживаю в мастерской, листаю альбомы, мне кажется, что на самом деле ищу эту записку.
Поезд прибыл, от вокзала еще двадцать минут в пустом автобусе, и мы – на месте. Родительский дом Анны стоял на окраине города. У ворот уныло торчал большой куст сирени, который наверняка весной живописно вспыхнет.
– Это наша семейная сакура, – Анна улыбнулась. – Ты зайдешь?
Я не решился и пошел прогуляться. Мне хотелось найти то озеро. Как будто по его размеру или внешнему виду смогу понять глубину и характер душевной раны Анны, и что все это скажет мне о чем-то важном. Анна с её непостижимыми тайнами словно подсвечивала мир вокруг меня. Я никогда не считал, сколько мы знакомы, но до нашей встречи теперь все казалось тусклым, выцветшим кадром из старой плёнки. Без неё, без её историй лицо города и жизни теряло очертания и расплывалось в монотонной серости. Я не находил в себе смелости признать, что её молчаливые отказы и незавершённые фразы меня не отталкивали, напротив, только сильнее притягивали. Возможно, эта близость на расстоянии и была тем, что помогало мне не задыхаться в обыденности.
Анна вернулась с парой чемоданов. Я помог и увидел, что запирая дверцу ворот, она держит в левой руке книгу. Это был «Решающий момент» Анри Картье-Брессона. На обложке было фото с детьми, которые заполнили винтовую лестницу и застенчиво сверху вниз смотрели в объектив камеры.
– Читала, этот француз мог целыми днями рыскать по улицам, чтобы в какой-то момент щелкнуть затвором и поймать жизнь в ловушку. Но с отцом, по-моему, все вышло наоборот.
Анна опустила глаза, потом как будто хотела посмотреть на меня, но не смогла. Сдерживала слезы. Мне захотелось ее обнять, но Анна повернулась в сторону дома, чтобы еще раз посмотреть на окно мастерской отца и затем – на часы.
– Все в порядке, мы еще успеваем на автобус.
Все время по пути назад Анна теперь листала Анри-Брессона и периодически смотрела в окно, которое из-за темноты на улице теперь отражало внутренности вагона и ее уставших пассажиров. Дорога назад теперь казалось мне мучительно долгой.
– Знаешь, я была уверена, что не стану, как мой отец. А теперь боюсь, что так оно и случилось.
– Какой ты боялась стать?
– Замкнутой. Разве тебе так не кажется?
– Не знаю. Есть немного, но ты всегда была такой, как мы познакомились.
– Сколько ты уже таскаешься за мной? Третий или четвертый год?
– Я никогда не считал, сколько мы знакомы.
– Ничего у нас не выйдет. Мне, может, и хочется любви, но любить я не умею...
Анна что-то еще говорила, но я уже не слушал. После этой поездки мы попрощались, и я вернулся к своей обычной рутинной жизни. Днем занимался переводами технической литературы с английского, а вечером после прогулки просиживал в кофейне. Сначала приходил на Остоженку, но теперь она уже не казалось мне такой привлекательной. Обычная улица. Поэтому я стал брать кофе с собой и пить дома.
Сколько бы я ни тянулся за ней, Анна оставалась далёкой, тонущей где-то в утреннем тумане улиц. В её взгляде всегда угадывалось что-то непостижимое, будто, заглядывая в её глаза, я смотрел сквозь треснувшее стекло, искажённое и чуждое. Но как бы она ни избегала близости, я возвращался. Всегда был рядом, даже если знал, что ничего у нас не выйдет. Сегодня за чашкой кофе посчитал, что мы знакомы три года и восемь месяцев и, листая ленту фотографий, неожиданно понял, что за все время дружбы у нас нет ни одной совместной фотографии. Даже какой-то глупой, что обычно делают в шутку, ради забавы.
Прошло два два долгих месяца, когда Анна позвонила и взволнованно рассказала, что во время ремонта под деревянным полом мастерской неожиданно нашли фотоальбом, который отец спрятал задолго до своей смерти. Никто не знает, зачем он туда его спрятал. Скорее всего, это было какое-то его послание поколениям. Альбом в основном состоял из семейных фотографий, которые прежде никто из домашних не видел, и на которых были отец с Анной и были счастливы, как она никогда не знала. Там еще у фотографий были записи, которые Анна хотела мне зачитать, но не смогла и залилась слезами. Скоро мы снова вышли на Остоженку, по которой гуляли по большей части из-за архитектурных увлечений Анны.
– Пойдем в сторону Барыковского переулка. Хочу показать тебе один скульптурный фриз.
По дороге Анна рассказала, как упрашивала мать отложить ремонт, как навсегда прощалась с отцом, с которым не успела познакомиться, и как много чувствует сейчас.
– Вот, здесь. Смотри наверх. Видишь, там на уровне третьего этажа – фриз. Там серны между цветов на фоне гор и стая летящих птиц. Вот-вот скользнут закатные лучи солнца, и все это оживет!
Причудливый рисунок кованых балконных решеток, кронштейнов и ограждений, которыми был оформлен фасад дома Бройдо, напоминал корни растений, прочно впившихся в стену. В закатный час все эти прихотливые изгибы стали живым импульсом природы, и на истоптанных ступенях крыльца Анна прижалась ко мне и вытянула руку со смартфоном, чтобы сделать наше первое совместное фото.
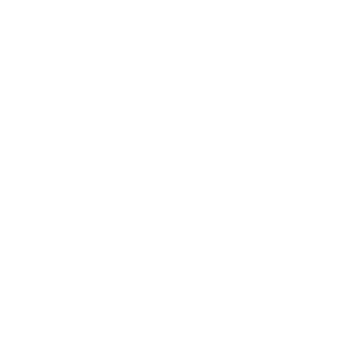
Наталья АНКУДИНОВА
Место проживания – Иркутская область, г. Киренск. Состоит в клубе «Краевед» (г. Киренск) в творческой студии «Живое слово».
Награды: знак «Почетный архивист» от Федерального архивного агентства, знак «За заслуги перед Киренским районом», благодарность от партии «Единая Россия» за значительный вклад в развитие волонтерского движения Иркутской области.
Автор книг: «Киренск. От острога до города», г.Иркутск, 2024 г., «Киренск - частица России» (исторический альманах), г. Киренск, 2018 г. (соавтор), «Уездная история», г. Киренск, 2019 г. (соавтор), «Северный ветер» сборник произведений участников творческой студии «Живое слово» г.Киренск 2019 вып.2, 2021 вып. 3.
Место проживания – Иркутская область, г. Киренск. Состоит в клубе «Краевед» (г. Киренск) в творческой студии «Живое слово».
Награды: знак «Почетный архивист» от Федерального архивного агентства, знак «За заслуги перед Киренским районом», благодарность от партии «Единая Россия» за значительный вклад в развитие волонтерского движения Иркутской области.
Автор книг: «Киренск. От острога до города», г.Иркутск, 2024 г., «Киренск - частица России» (исторический альманах), г. Киренск, 2018 г. (соавтор), «Уездная история», г. Киренск, 2019 г. (соавтор), «Северный ветер» сборник произведений участников творческой студии «Живое слово» г.Киренск 2019 вып.2, 2021 вып. 3.
АЗБУКА МОЕГО ДЕТСТВА
Для совместного чтения детей и очень взрослых детей
Мой друг, когда я была такая же, как ты, и жила в замечательной стране под названием Детство, в которой и небо выше, и вода мокрее, мне казалось, что жизнь бесконечна, и весь мир крутится вокруг меня. И лишь одно обстоятельство омрачало ощущение полного счастья. Всё в этом мире известно и неизменно, и самое замечательное уже случилось. Я грустила по поводу того, что разведаны все страны, моря, океаны, и не осталось даже самого маленького островка, счастливым первооткрывателем которого удастся быть мне. Известны все законы развития живого и неживого, и моя тяжкая участь – безропотно впитывать в себя то, что открыли счастливчики, которые успели родиться раньше меня. Даже в космос слетали другие, мало того: и на ночной спутнице землян Луне успели наследить. Огорчало и то, что все войны и революции уже случились. Впереди – однообразная и скучная жизнь. И вот теперь, мой дорогой житель страны Детство, я шлю тебе привет из страны Зрелость и радуюсь тому, что эти размышления были моими самыми счастливыми заблуждениями.
Я расскажу тебе о своём открытии, которое стало возможным только благодаря знаниям и опыту, которые достались мне от тех, кто жил раньше меня, на кого я обижалась за то, что не оставили ничего неизведанного на мой век. Может быть, это поможет тебе совершить одно или несколько невероятных и чудесных открытий.
Язык – что может быть более постоянным. Не тот язык, которым мы слизываем мороженое, а русский язык, состоящий из слов и знаков. Так вот, этот язык изменился настолько, что если бы мне, той маленькой девочке из шестидесятых годов прошлого столетия, удалось встретиться с тобой, то разговаривая на нашем родном языке, мы не смогли бы понять друг друга. Многие вещи и слова, которые окружали меня, служили верой и правдой, незаметно ушли в небытие. На смену им пришли другие – твои слуги и помощники. Приглашаю тебя совершить удивительное путешествие и познакомиться с играми, словами и вещами, среди которых жила я и мои товарищи.
Авоська
Авоська, от слова «авось» – может быть. «Авось пронесёт», «авось пригодится», «авось получится». Авоська – сумка, которая авось пригодится, авось да найдётся, что в неё положить. Сумка-сетка, при изготовлении которой использовались те же приёмы и инструменты, что и при изготовлении рыболовных сетей. Этакий ручной рыболовный трал, который лежит себе в кармане, совершенно не выдавая себя до поры до времени. И если ты случайно зашёл в магазин, а там что-то выбросили, вот тут-то ох как пригодится авоська. «Выбросили» – это не о том товаре, который испортился или его выбросили на помойку, а о том, который очень нужен многим, но его мало и на всех не хватит, он – дефицит, и его «выбросили в продажу собакам на драку». Конец месяца, магазин не выполняет план по продаже, и вот этот дефицитный товар спасёт, поможет «сделать» план. И покупатель счастлив: он приобрёл что-то нужное, и это что-то есть, куда положить и донести до дома. Но и не только для такой случайной покупки нужна была авоська, она несла свою службу ежедневно.
В магазин за покупками дети и мужчины ходили с сетками, сумки были привилегией женщин. Как, впрочем, и сейчас. Только на смену сетке-авоське пришёл пластиковый пакет.
Бирка
Бирка – плоская лепёшечка из алюминия, на которой было выдавлено число 20 или 10. Цифры эти обозначали количество вёдер воды, которое можно было получить взамен этой бирки. Строительство водопровода, которого в нашем городе не было, началось в 1975 году. До этого времени воду носили в вёдрах на коромыслах с рек Лены или Киренги, в зависимости от места жительства. Для нужд учреждений (школ, детских садов, больниц и прочих) воду возили в огромной бочке, лежащей на специальной телеге, а в зимнее время – на санях. Водовоз, в зависимости от времени года, запрягал лошадь в ту или иную повозку, затем на реке черпаком набирал воду в бочку.
При движении вода могла расплескаться; чтобы этого не случилось, отверстие в бочке прикрывали мешковиной и – в путь!
В 1960 году коммунальная контора приобрела специальную машину с цистерной, так называемую водовозку, вследствие чего появилась возможность снабжать водой тех, кто затруднялся это сделать своими силами. Вот тогда и появились бирки, которыми запасались в коммунальной конторе. Стоимость каждой определялась цифрой на бирке, обозначавшей количество вёдер, из расчёта, что ведро в десять литров стоило две копейки. В конторе указывали день, в который нужно подвезти воду, выкатывали на улицу бочку и поджидали водовозку, рассчитывались с водителем бирками и после переносили ведрами воду из «уличной» бочки в домашнюю.
Выключатель
Известный юморист Михаил Задорнов, рассказывая о необыкновенной парадоксальности нашего мышления, отмечал, что во всем мире нет такого слова «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», есть только «ВКЛЮЧАТЕЛЬ». Ничего парадоксального в этом нет. Всё закономерно.
До того, как мне исполнилось шесть лет, наша семья жила в бараке на пересечении улиц Логовой и Коммунистической. В комнатах и коридоре, который служил для всех общей кухней, из нынешнего разнообразия электроприборов лишь одиноко свисали с потолка на доступной для взрослого человека высоте «лампочки Ильича».
Действовал такой светильник очень просто. Когда наступали сумерки, кто-то из родителей левой рукой придерживал электропатрон, а правой проворачивал в нём лампу по часовой стрелке до упора. И…о, чудо: комнату заливал яркий свет.
Выключить такую люстру было немного сложнее. Вновь надо было придерживать одной рукой патрон, а другой вывернуть раскалённую лампу на пол-оборота. Чтобы не обжечься, нужно было обернуть ладонь в какую-нибудь тряпицу. Вот поэтому нам нужен был именно выключатель. И мы его придумали.
Гудок
Пропел гудок заводской –
Конец рабочего дня.
И снова у проходной
Встречает милый меня.
Необходимость в гудке возникла с появлением заводов и фабрик. Крестьяне вставали с солнышком и с ним же ложились, а рабочие начинали и заканчивали работу по сигналу. У нас тоже был Красноармейский завод и речной порт, вот они и «гудели». Один устраивал побудку жителям Мельничного, другой подавал сигналы городским, Сидоровским и Пролетарским рабочим. В семь часов раздавался первый гудок – пора вставать, в семь тридцать – выходи из дома, в восемь – приступай к работе, в двенадцать – пора на обед, в час дня – пообедал, возвращайся к работе, а в пять вечера гудок заводской пел, извещая об окончании рабочего дня.
Однако гудки подавались не только в будни, но и в праздники – в день 7 ноября и 1 мая, когда проходили праздничные демонстрации. По первому гудку в десять часов коллективы предприятий, организаций, школ, построенные в колонны, начинали двигаться к зданию городского Совета, по второму в 10.30 от горсовета шли по улице Советской к Киренге, проходили по Набережной. И вот она, финишная прямая – улица имени В.И. Ленина. Одиннадцать часов, третий гудок, и двинулись, пошли с флагами, транспарантами, песнями мимо трибуны и дальше, растекаясь по улицам и переулкам города.
И был ещё один повод для того, чтобы «погудеть». Не будничный – трудовой, не праздничный – торжественный, но очень важный и тогда, и сейчас, если бы не запрет на подачу громких звуковых сигналов. Для него не определялись дата и время, но его ждали. Когда он раздавался, всем было ясно: вот оно, случилось! «Подвижка» – двинулась река Лена, все бросались к окнам, и урок нам был не помеха. А через какое-то время – ещё один, протяжный. Пошла-а-а родимая…
Дебаркадер
Время идёт вперёд. На смену старому, отжившему приходит новое, современное. Но не всегда то, что ушло безвозвратно, было хуже, проще, о чем и сожалеть не стоит…
Четыре белых трёхпалубных красавца парохода радовали глаз, бодрили душу и доставляли удовольствие пассажирам. Почти пять десятилетий «Хабаровск», «Благовещенск», «Красноярск» и «Иркутск» были основным транспортным средством на участке от Усть-Кута до Якутска. О своём прибытии они извещали город протяжным гудком и причаливали к дебаркадеру – двухэтажному плавучему дому, всегда ожидавшему их.
Дебаркадер представлял собой небольшой речной вокзал. Там было всё, что могло понадобиться прибывшему или транзитному пассажиру: гостиница, камера хранения, комната матери и ребёнка, буфет и касса. Сошли прибывшие пассажиры, поднялись на борт очередные путешественники; один протяжный, один короткий гудки, «Марш славянки» и – до следующей встречи, дебаркадер под названием «Киренск».
Ёршик
Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю нашего Отечества в прошлом столетии, – революции, Первая мировая, гражданская, Великая Отечественная войны, – отразились и на нашей жизни, жизни детей середины прошлого века. Мы многого не имели, чаще даже не подозревали о существовании простых вещей. Нам даже в голову не приходило, что в магазине можно купить цветную бумагу. На поделки использовали обложки школьных тетрадей, хотя они все были одного – синего – цвета; также фантики от конфет не выбрасывали, а резали их на полоски и клеили из них цепочки на ёлки. Бережно относились абсолютно ко всему. Особую ценность представляли стеклянные бутылки, ведь их принимали по двенадцать копеек за штуку. А двенадцать копеек – это вам не так себе. На них можно было купить сто граммов карамелек, а если мармелада, то и того больше. Но прежде, чем ты станешь счастливым обладателем копеечек, надо было раздобыть где-то бутылку, а лучше несколько, и тут уж от нашего внимания не ускользали никакие места, даже свалки. Но сдать можно было только чистые бутылки. И вот тут на помощь приходил ёршик. Это нехитрое приспособление из куска проволоки и пучков лески помогало нам отмыть бутылки до блеска.
Мы несли их в авоськах в ларёк на улице Советской, терпеливо ожидали там своей очереди, которая иногда задерживалась из-за нехватки ящиков. Некоторые счастливчики приносили свои бутылки, уже расставленные в ящики с ячейками; где они их брали – загадка. Но любая очередь когда-нибудь заканчивалась. Наступал момент расплаты, и мы, радостные, бежали в магазин, зажав в потной ладошке честно заработанные копеечки.
Журавль
Речь не о красавице-птице, а о деревянном колодезном журавле. Чаще колодцы встречались с воротом, но были и с журавлём. В деревне Сидоровой было два колодца. Один, в начале деревни, был с воротом. Воду из него черпали ведром, закреплённым на цепи. Цепь наматывалась на ворот, который нужно было вращать железной ручкой. Ребёнку одному непросто было сразу справиться с ведром, с ручкой и с воротом. Одно неловкое движение, и получаешь удар ручкой, а ведро с грохотом летит вниз.
Второй, «журавлиный», своей «головкой» манил на другой край деревни. Мы хватались за шест-носик, тянули его вниз, и большая деревянная птица, кланяясь нам, опускала ведро в сумрак колодца. Вода набиралась в ведро, которое медленно начинало ползти вверх, повинуясь противовесу, закреплённому в нижней части журавля.
Закрепитель
Закрепитель, а по-научному фиксаж, должен был зафиксировать, закрепить надолго (лучше – навсегда!) чудо, которое происходило на наших глазах, всякий раз радуя и удивляя. Появление фотографий было делом не простым и не быстрым. Сначала нужно было в абсолютной темноте зарядить плёнку в фотоаппарат. Происходило это обычно так: фотоаппарат и фотоплёнку заворачивали во что-нибудь большое и толстое, через что не пробьётся свет. Чаще всего это было пальто. Руки, которые становились в этот момент глазами, необходимо было просунуть в рукава, нащупать в этом свёртке коробочку с плёнкой, затем аккуратно распаковать её из плотной чёрной бумаги и вставить в аппарат. С первого раза в темноте да ещё и на ощупь проделать эту комбинацию было нелегко. В результате чего плёнка засвечивалась, и не оставалось ничего другого, как только выбросить её.
Но вот всё получилось, плёнка заняла своё место, «птичка вылетела» тридцать шесть раз – именно столько кадров имела фотоплёнка. И вновь – пальто и обратный процесс. Плёнку нужно было вынуть из аппарата, вставить в специальный бачок тоже чёрного цвета, залить в него проявитель и через некоторое время извлечь на свет так называемый негатив – плёнку, на которой всё наоборот: то, что в жизни светлое, на ней тёмного цвета. Стараясь не задеть пальцами, её вешали для просушки на бельевую верёвку, закрепив прищепкой.
Наконец плёнка высохла и можно приступать к заключительному действию – печати. Опять нужна темнота, но теперь уже в большом объёме.
В комнате плотно завешивали окно – с улицы не должен был попадать свет Луны или редкого фонаря. На стол водружался прибор под названием фотоувеличитель, близ него – красная лампа, четыре ванночки, так называемые кюветы, но при их отсутствии годились и тазики, в которых мыли посуду.
В первую ёмкость наливался проявитель, во вторую – вода, в третью –закрепитель и в следующую – снова вода.
Тут же – стопка фотобумаги, упакованная в чёрный пакет. Всё готово к заключительному действию. На миг вспыхивает красный свет, и листик бумаги из-под фотоувеличителя перемещается в первую ёмкость. И вот оно, чудо: на белом листе постепенно появляется изображение, черно-белый отпечаток недавнего события, которое ты уже начал забывать, а оно вновь возникает перед твоим взором. Пинцетом быстро выхватываешь полуфабрикат снимка из первого тазика, опускаешь в воду, прополаскиваешь хорошенько и только после этого перемещаешь в закрепитель, где он лежит, ожидая остальных свидетелей нашей жизни, затем – вновь промывание в воде и последующая сушка.
Всё закончено, чёрный пакет пуст, изображения с плёнки удачно отобразились на бумаге. Не хватает лишь надписи на обороте: «На память».
Керосинка
Керосинка – прародительница газовой плиты. Только поджигать нужно было не газ, а три тряпичных фитиля, пропитанных керосином. Высоту пламени, а значит, и скорость приготовления обеда можно было менять с помощью регуляторов в форме цветочков. За керосином ходили на Подгорную улицу в керосиновую лавку, которую в народе также называли «керосинкой», хотя в ней кроме керосина продавали ещё и известь. Самой подходящей тарой для керосина был алюминиевый бидончик: и крышка закрывалась плотно, и не разобьётся.
В нашем бараке на пересечении Логовой и Коммунистической улиц по соседству жило одиннадцать семей. Филёнчатая дверь каждой квартиры-комнаты выходила в очень широкий коридор, где у каждой семьи был свой умывальник с тазиком и стол с зарешёченной нижней частью (там зимой сидели куры). Главным украшением столов были керосинки и керогазы.
Сверху на керосинку устанавливалась решётка вроде той, что сейчас есть у газовых плит, а уж на неё ставили кастрюльку или чайник. Следить за величиной пламени можно было через слюдяное окошечко, которое украшало бок керосинки.
Выключить эту помощницу хозяек было просто: регуляторами-цветочками все три фитиля, как улитки, втягивались в свои металлические домики-держатели, и пламя гасло. Запах керосина, конечно, ощущался, но это никого не огорчало.
Ледорезы
Назначение этих двух гигантских сооружений из толстенных брёвен было нам неведомо. Одно из них защищало берег в городе, другое – на Мельничном. Состояли они из нескольких рядов брёвен, вкопанных под углом глубоко в землю. Они поражали не столько своими размерами, сколько необыкновенной прочностью. Во время ледохода огромные льдины, громоздясь одна на другую, вползали на ряды этих брёвен, и там, наверху с грохотом и треском распадались на сотни мелких иглистых льдинок, которые со звоном сыпались вниз и падали в воду. Бурный поток уносил это ледяное крошево дальше.
Ледорезы (так назывались эти мощные сооружения) защищали берег от разрушения во время ледохода, а речные перекаты – от заторов, из-за которых вода в реке выходила из берегов и заливала город.
Маёвка
Ежегодно окончание учебного года венчала маёвка. У каждой школы было своё место для проведения этого мероприятия. Однако пятая, какой бы номер она ни носила, была ли семилетней, восьмилетней или средней, проводила свои маёвки именно на том месте, на котором проходили первые маёвки, ставшие началом традиции. На большую поляну за Пролетарским выселком, скрытую от дороги вековыми соснами, вползала извивающаяся колонна учеников школы – от первоклассников до выпускников. Кто же собирался на первые маёвки, кто сделал их традиционными?
Сибирь с первых лет присоединения её к государству Российскому стала местом ссылки политических ссыльных. Немало их проживало и в нашем крае, но лишь единицы могли селиться в городе. Для большинства из них местом жительства определялись деревни, села и так называемые выселки, возникавшие вокруг города: Пролетарский, Мельничный, Балахня.
Если ссыльным приходилось выполнять какие-либо работы в городе, то на ночевку они должны были вернуться именно в то место, которое было определено им для жительства, за этим зорко следил околоточный. Их лишали любой возможности где-то встретиться и пообщаться. Поэтому в один из тёплых майских деньков, оповестив друг друга, они собирались на поляне за Пролетарским выселком: обменивались новостями со старыми товарищами, знакомились со вновь прибывшими, поддерживали отчаявшихся, помогали нуждающимся, отдыхали, пели песни.
Для некоторых из нас маёвка была единственным походом на природу, где можно было повеселиться, побегать. Ведь у родителей тогда был всего один выходной – воскресенье. А работы по дому было гораздо больше, чем сейчас у нас.
Для совместного чтения детей и очень взрослых детей
Мой друг, когда я была такая же, как ты, и жила в замечательной стране под названием Детство, в которой и небо выше, и вода мокрее, мне казалось, что жизнь бесконечна, и весь мир крутится вокруг меня. И лишь одно обстоятельство омрачало ощущение полного счастья. Всё в этом мире известно и неизменно, и самое замечательное уже случилось. Я грустила по поводу того, что разведаны все страны, моря, океаны, и не осталось даже самого маленького островка, счастливым первооткрывателем которого удастся быть мне. Известны все законы развития живого и неживого, и моя тяжкая участь – безропотно впитывать в себя то, что открыли счастливчики, которые успели родиться раньше меня. Даже в космос слетали другие, мало того: и на ночной спутнице землян Луне успели наследить. Огорчало и то, что все войны и революции уже случились. Впереди – однообразная и скучная жизнь. И вот теперь, мой дорогой житель страны Детство, я шлю тебе привет из страны Зрелость и радуюсь тому, что эти размышления были моими самыми счастливыми заблуждениями.
Я расскажу тебе о своём открытии, которое стало возможным только благодаря знаниям и опыту, которые достались мне от тех, кто жил раньше меня, на кого я обижалась за то, что не оставили ничего неизведанного на мой век. Может быть, это поможет тебе совершить одно или несколько невероятных и чудесных открытий.
Язык – что может быть более постоянным. Не тот язык, которым мы слизываем мороженое, а русский язык, состоящий из слов и знаков. Так вот, этот язык изменился настолько, что если бы мне, той маленькой девочке из шестидесятых годов прошлого столетия, удалось встретиться с тобой, то разговаривая на нашем родном языке, мы не смогли бы понять друг друга. Многие вещи и слова, которые окружали меня, служили верой и правдой, незаметно ушли в небытие. На смену им пришли другие – твои слуги и помощники. Приглашаю тебя совершить удивительное путешествие и познакомиться с играми, словами и вещами, среди которых жила я и мои товарищи.
Авоська
Авоська, от слова «авось» – может быть. «Авось пронесёт», «авось пригодится», «авось получится». Авоська – сумка, которая авось пригодится, авось да найдётся, что в неё положить. Сумка-сетка, при изготовлении которой использовались те же приёмы и инструменты, что и при изготовлении рыболовных сетей. Этакий ручной рыболовный трал, который лежит себе в кармане, совершенно не выдавая себя до поры до времени. И если ты случайно зашёл в магазин, а там что-то выбросили, вот тут-то ох как пригодится авоська. «Выбросили» – это не о том товаре, который испортился или его выбросили на помойку, а о том, который очень нужен многим, но его мало и на всех не хватит, он – дефицит, и его «выбросили в продажу собакам на драку». Конец месяца, магазин не выполняет план по продаже, и вот этот дефицитный товар спасёт, поможет «сделать» план. И покупатель счастлив: он приобрёл что-то нужное, и это что-то есть, куда положить и донести до дома. Но и не только для такой случайной покупки нужна была авоська, она несла свою службу ежедневно.
В магазин за покупками дети и мужчины ходили с сетками, сумки были привилегией женщин. Как, впрочем, и сейчас. Только на смену сетке-авоське пришёл пластиковый пакет.
Бирка
Бирка – плоская лепёшечка из алюминия, на которой было выдавлено число 20 или 10. Цифры эти обозначали количество вёдер воды, которое можно было получить взамен этой бирки. Строительство водопровода, которого в нашем городе не было, началось в 1975 году. До этого времени воду носили в вёдрах на коромыслах с рек Лены или Киренги, в зависимости от места жительства. Для нужд учреждений (школ, детских садов, больниц и прочих) воду возили в огромной бочке, лежащей на специальной телеге, а в зимнее время – на санях. Водовоз, в зависимости от времени года, запрягал лошадь в ту или иную повозку, затем на реке черпаком набирал воду в бочку.
При движении вода могла расплескаться; чтобы этого не случилось, отверстие в бочке прикрывали мешковиной и – в путь!
В 1960 году коммунальная контора приобрела специальную машину с цистерной, так называемую водовозку, вследствие чего появилась возможность снабжать водой тех, кто затруднялся это сделать своими силами. Вот тогда и появились бирки, которыми запасались в коммунальной конторе. Стоимость каждой определялась цифрой на бирке, обозначавшей количество вёдер, из расчёта, что ведро в десять литров стоило две копейки. В конторе указывали день, в который нужно подвезти воду, выкатывали на улицу бочку и поджидали водовозку, рассчитывались с водителем бирками и после переносили ведрами воду из «уличной» бочки в домашнюю.
Выключатель
Известный юморист Михаил Задорнов, рассказывая о необыкновенной парадоксальности нашего мышления, отмечал, что во всем мире нет такого слова «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», есть только «ВКЛЮЧАТЕЛЬ». Ничего парадоксального в этом нет. Всё закономерно.
До того, как мне исполнилось шесть лет, наша семья жила в бараке на пересечении улиц Логовой и Коммунистической. В комнатах и коридоре, который служил для всех общей кухней, из нынешнего разнообразия электроприборов лишь одиноко свисали с потолка на доступной для взрослого человека высоте «лампочки Ильича».
Действовал такой светильник очень просто. Когда наступали сумерки, кто-то из родителей левой рукой придерживал электропатрон, а правой проворачивал в нём лампу по часовой стрелке до упора. И…о, чудо: комнату заливал яркий свет.
Выключить такую люстру было немного сложнее. Вновь надо было придерживать одной рукой патрон, а другой вывернуть раскалённую лампу на пол-оборота. Чтобы не обжечься, нужно было обернуть ладонь в какую-нибудь тряпицу. Вот поэтому нам нужен был именно выключатель. И мы его придумали.
Гудок
Пропел гудок заводской –
Конец рабочего дня.
И снова у проходной
Встречает милый меня.
Необходимость в гудке возникла с появлением заводов и фабрик. Крестьяне вставали с солнышком и с ним же ложились, а рабочие начинали и заканчивали работу по сигналу. У нас тоже был Красноармейский завод и речной порт, вот они и «гудели». Один устраивал побудку жителям Мельничного, другой подавал сигналы городским, Сидоровским и Пролетарским рабочим. В семь часов раздавался первый гудок – пора вставать, в семь тридцать – выходи из дома, в восемь – приступай к работе, в двенадцать – пора на обед, в час дня – пообедал, возвращайся к работе, а в пять вечера гудок заводской пел, извещая об окончании рабочего дня.
Однако гудки подавались не только в будни, но и в праздники – в день 7 ноября и 1 мая, когда проходили праздничные демонстрации. По первому гудку в десять часов коллективы предприятий, организаций, школ, построенные в колонны, начинали двигаться к зданию городского Совета, по второму в 10.30 от горсовета шли по улице Советской к Киренге, проходили по Набережной. И вот она, финишная прямая – улица имени В.И. Ленина. Одиннадцать часов, третий гудок, и двинулись, пошли с флагами, транспарантами, песнями мимо трибуны и дальше, растекаясь по улицам и переулкам города.
И был ещё один повод для того, чтобы «погудеть». Не будничный – трудовой, не праздничный – торжественный, но очень важный и тогда, и сейчас, если бы не запрет на подачу громких звуковых сигналов. Для него не определялись дата и время, но его ждали. Когда он раздавался, всем было ясно: вот оно, случилось! «Подвижка» – двинулась река Лена, все бросались к окнам, и урок нам был не помеха. А через какое-то время – ещё один, протяжный. Пошла-а-а родимая…
Дебаркадер
Время идёт вперёд. На смену старому, отжившему приходит новое, современное. Но не всегда то, что ушло безвозвратно, было хуже, проще, о чем и сожалеть не стоит…
Четыре белых трёхпалубных красавца парохода радовали глаз, бодрили душу и доставляли удовольствие пассажирам. Почти пять десятилетий «Хабаровск», «Благовещенск», «Красноярск» и «Иркутск» были основным транспортным средством на участке от Усть-Кута до Якутска. О своём прибытии они извещали город протяжным гудком и причаливали к дебаркадеру – двухэтажному плавучему дому, всегда ожидавшему их.
Дебаркадер представлял собой небольшой речной вокзал. Там было всё, что могло понадобиться прибывшему или транзитному пассажиру: гостиница, камера хранения, комната матери и ребёнка, буфет и касса. Сошли прибывшие пассажиры, поднялись на борт очередные путешественники; один протяжный, один короткий гудки, «Марш славянки» и – до следующей встречи, дебаркадер под названием «Киренск».
Ёршик
Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю нашего Отечества в прошлом столетии, – революции, Первая мировая, гражданская, Великая Отечественная войны, – отразились и на нашей жизни, жизни детей середины прошлого века. Мы многого не имели, чаще даже не подозревали о существовании простых вещей. Нам даже в голову не приходило, что в магазине можно купить цветную бумагу. На поделки использовали обложки школьных тетрадей, хотя они все были одного – синего – цвета; также фантики от конфет не выбрасывали, а резали их на полоски и клеили из них цепочки на ёлки. Бережно относились абсолютно ко всему. Особую ценность представляли стеклянные бутылки, ведь их принимали по двенадцать копеек за штуку. А двенадцать копеек – это вам не так себе. На них можно было купить сто граммов карамелек, а если мармелада, то и того больше. Но прежде, чем ты станешь счастливым обладателем копеечек, надо было раздобыть где-то бутылку, а лучше несколько, и тут уж от нашего внимания не ускользали никакие места, даже свалки. Но сдать можно было только чистые бутылки. И вот тут на помощь приходил ёршик. Это нехитрое приспособление из куска проволоки и пучков лески помогало нам отмыть бутылки до блеска.
Мы несли их в авоськах в ларёк на улице Советской, терпеливо ожидали там своей очереди, которая иногда задерживалась из-за нехватки ящиков. Некоторые счастливчики приносили свои бутылки, уже расставленные в ящики с ячейками; где они их брали – загадка. Но любая очередь когда-нибудь заканчивалась. Наступал момент расплаты, и мы, радостные, бежали в магазин, зажав в потной ладошке честно заработанные копеечки.
Журавль
Речь не о красавице-птице, а о деревянном колодезном журавле. Чаще колодцы встречались с воротом, но были и с журавлём. В деревне Сидоровой было два колодца. Один, в начале деревни, был с воротом. Воду из него черпали ведром, закреплённым на цепи. Цепь наматывалась на ворот, который нужно было вращать железной ручкой. Ребёнку одному непросто было сразу справиться с ведром, с ручкой и с воротом. Одно неловкое движение, и получаешь удар ручкой, а ведро с грохотом летит вниз.
Второй, «журавлиный», своей «головкой» манил на другой край деревни. Мы хватались за шест-носик, тянули его вниз, и большая деревянная птица, кланяясь нам, опускала ведро в сумрак колодца. Вода набиралась в ведро, которое медленно начинало ползти вверх, повинуясь противовесу, закреплённому в нижней части журавля.
Закрепитель
Закрепитель, а по-научному фиксаж, должен был зафиксировать, закрепить надолго (лучше – навсегда!) чудо, которое происходило на наших глазах, всякий раз радуя и удивляя. Появление фотографий было делом не простым и не быстрым. Сначала нужно было в абсолютной темноте зарядить плёнку в фотоаппарат. Происходило это обычно так: фотоаппарат и фотоплёнку заворачивали во что-нибудь большое и толстое, через что не пробьётся свет. Чаще всего это было пальто. Руки, которые становились в этот момент глазами, необходимо было просунуть в рукава, нащупать в этом свёртке коробочку с плёнкой, затем аккуратно распаковать её из плотной чёрной бумаги и вставить в аппарат. С первого раза в темноте да ещё и на ощупь проделать эту комбинацию было нелегко. В результате чего плёнка засвечивалась, и не оставалось ничего другого, как только выбросить её.
Но вот всё получилось, плёнка заняла своё место, «птичка вылетела» тридцать шесть раз – именно столько кадров имела фотоплёнка. И вновь – пальто и обратный процесс. Плёнку нужно было вынуть из аппарата, вставить в специальный бачок тоже чёрного цвета, залить в него проявитель и через некоторое время извлечь на свет так называемый негатив – плёнку, на которой всё наоборот: то, что в жизни светлое, на ней тёмного цвета. Стараясь не задеть пальцами, её вешали для просушки на бельевую верёвку, закрепив прищепкой.
Наконец плёнка высохла и можно приступать к заключительному действию – печати. Опять нужна темнота, но теперь уже в большом объёме.
В комнате плотно завешивали окно – с улицы не должен был попадать свет Луны или редкого фонаря. На стол водружался прибор под названием фотоувеличитель, близ него – красная лампа, четыре ванночки, так называемые кюветы, но при их отсутствии годились и тазики, в которых мыли посуду.
В первую ёмкость наливался проявитель, во вторую – вода, в третью –закрепитель и в следующую – снова вода.
Тут же – стопка фотобумаги, упакованная в чёрный пакет. Всё готово к заключительному действию. На миг вспыхивает красный свет, и листик бумаги из-под фотоувеличителя перемещается в первую ёмкость. И вот оно, чудо: на белом листе постепенно появляется изображение, черно-белый отпечаток недавнего события, которое ты уже начал забывать, а оно вновь возникает перед твоим взором. Пинцетом быстро выхватываешь полуфабрикат снимка из первого тазика, опускаешь в воду, прополаскиваешь хорошенько и только после этого перемещаешь в закрепитель, где он лежит, ожидая остальных свидетелей нашей жизни, затем – вновь промывание в воде и последующая сушка.
Всё закончено, чёрный пакет пуст, изображения с плёнки удачно отобразились на бумаге. Не хватает лишь надписи на обороте: «На память».
Керосинка
Керосинка – прародительница газовой плиты. Только поджигать нужно было не газ, а три тряпичных фитиля, пропитанных керосином. Высоту пламени, а значит, и скорость приготовления обеда можно было менять с помощью регуляторов в форме цветочков. За керосином ходили на Подгорную улицу в керосиновую лавку, которую в народе также называли «керосинкой», хотя в ней кроме керосина продавали ещё и известь. Самой подходящей тарой для керосина был алюминиевый бидончик: и крышка закрывалась плотно, и не разобьётся.
В нашем бараке на пересечении Логовой и Коммунистической улиц по соседству жило одиннадцать семей. Филёнчатая дверь каждой квартиры-комнаты выходила в очень широкий коридор, где у каждой семьи был свой умывальник с тазиком и стол с зарешёченной нижней частью (там зимой сидели куры). Главным украшением столов были керосинки и керогазы.
Сверху на керосинку устанавливалась решётка вроде той, что сейчас есть у газовых плит, а уж на неё ставили кастрюльку или чайник. Следить за величиной пламени можно было через слюдяное окошечко, которое украшало бок керосинки.
Выключить эту помощницу хозяек было просто: регуляторами-цветочками все три фитиля, как улитки, втягивались в свои металлические домики-держатели, и пламя гасло. Запах керосина, конечно, ощущался, но это никого не огорчало.
Ледорезы
Назначение этих двух гигантских сооружений из толстенных брёвен было нам неведомо. Одно из них защищало берег в городе, другое – на Мельничном. Состояли они из нескольких рядов брёвен, вкопанных под углом глубоко в землю. Они поражали не столько своими размерами, сколько необыкновенной прочностью. Во время ледохода огромные льдины, громоздясь одна на другую, вползали на ряды этих брёвен, и там, наверху с грохотом и треском распадались на сотни мелких иглистых льдинок, которые со звоном сыпались вниз и падали в воду. Бурный поток уносил это ледяное крошево дальше.
Ледорезы (так назывались эти мощные сооружения) защищали берег от разрушения во время ледохода, а речные перекаты – от заторов, из-за которых вода в реке выходила из берегов и заливала город.
Маёвка
Ежегодно окончание учебного года венчала маёвка. У каждой школы было своё место для проведения этого мероприятия. Однако пятая, какой бы номер она ни носила, была ли семилетней, восьмилетней или средней, проводила свои маёвки именно на том месте, на котором проходили первые маёвки, ставшие началом традиции. На большую поляну за Пролетарским выселком, скрытую от дороги вековыми соснами, вползала извивающаяся колонна учеников школы – от первоклассников до выпускников. Кто же собирался на первые маёвки, кто сделал их традиционными?
Сибирь с первых лет присоединения её к государству Российскому стала местом ссылки политических ссыльных. Немало их проживало и в нашем крае, но лишь единицы могли селиться в городе. Для большинства из них местом жительства определялись деревни, села и так называемые выселки, возникавшие вокруг города: Пролетарский, Мельничный, Балахня.
Если ссыльным приходилось выполнять какие-либо работы в городе, то на ночевку они должны были вернуться именно в то место, которое было определено им для жительства, за этим зорко следил околоточный. Их лишали любой возможности где-то встретиться и пообщаться. Поэтому в один из тёплых майских деньков, оповестив друг друга, они собирались на поляне за Пролетарским выселком: обменивались новостями со старыми товарищами, знакомились со вновь прибывшими, поддерживали отчаявшихся, помогали нуждающимся, отдыхали, пели песни.
Для некоторых из нас маёвка была единственным походом на природу, где можно было повеселиться, побегать. Ведь у родителей тогда был всего один выходной – воскресенье. А работы по дому было гораздо больше, чем сейчас у нас.
Наводнения
Наш деревянный город, стоящий на слиянии двух рек, во все времена страдал от пожаров и наводнений. Сто лет, с 1869 до 1969 года – период, когда город находился на острове, Верхняя и Нижняя поскотины ежегодно затоплялись. Разница была лишь в уровне воды, разливавшейся по улицам.
Иногда наводнение происходило из-за ледового затора, случавшегося на одном из перекатов реки Лены. В этом случае происходил быстрый подъём уровня воды в любое время суток, вода выходила из берегов и разносила глыбы льда по улицам. Такое наводнение длилось до тех пор, пока вода не поднималась настолько, что сдвигала затор, и мутные потоки с той же скоростью устремлялись к берегу, оставляя за собой в низинах огромные лужи, которые к середине лета превращались в зелёную вязкую жижу.
Однако заторы случались не всегда, а наводнения случались по другой причине. После ледохода устанавливалась тёплая погода, начиналось активное таяние гольцов и снега в лесах. И тогда приходила так называемая «чёрная вода». Вал докатывался до нашего города обычно к двум часам ночи, и мы просыпались от топота, шуршания гравия под ногами и колёсами тележек, детского плача, разговоров, визга поросят. Это значило, что «пришла вода» и жители Нижней поскотины спасаются сами, прихватив самое необходимое, уводя животных. Такой потоп длился дольше – несколько дней, иногда и полмесяца.
Правда, большого урона наводнения тогда не приносили. Не было дорогих евроремонтов и мебели, склеенной из опилок. Откроют окна и двери, протопят печь – высушат дом. Побелят, подкрасят, а железным кроватям, деревянным столам и стульям потоп и вовсе был не страшен.
Очередь
Очередь была постоянной нашей спутницей и совершенно привычным делом. Очередь на получение жилья была, пожалуй, самой нескончаемой и могла длиться двадцать и более лет. Следующей по продолжительности можно считать очередь на получение возможности приобретения легкового автомобиля; кроме прочего, она была ещё и привилегированной, не все могли «постоять» в ней. Очередь на получение места в детский сад тоже тянулась годами. В очереди за мебелью, за книгами иногда стояли ночами, отогреваясь возле костров. Для того, чтобы очередь за ночь не сломалась, не запуталась, химическим карандашом писали номерок на руке.
А в качестве развлечения несколько раз за ночь устраивали переклички очередников. Были свои любители руководить очередями. Самыми непродолжительными были очереди за продуктами – всего несколько часов.
Мы с братом в очереди в детский сад стояли несколько лет. Прекратил это стояние наш отец после того, как я в очередной раз в пятилетнем возрасте потерялась. Это он подумал, что я потерялась, а я просто обследовала весь двор педучилища, где папа тогда работал завхозом, вышла за ворота, а там было много интересного, и я шла всё дальше и дальше. Продвигался он по моим следам методом опроса: «Не видели вы маленькую девочку в пёстреньком пальто?» Я же за это время успела дойти до площади Свободы. На следующий день он устроил нас с братом в детский сад, оказав неоценимую помощь заведующей в ежегодном летнем ремонте.
Через день с медицинскими справками мы с мамой стояли на крыльце перед заветной дверью. Но почему-то, не открыв её, спустились с крыльца и пошли домой. Позже я узнала причину такого отступления.
Моим родителям было по одиннадцать лет, когда началась война; четыре года они работали в колхозе и на строительстве аэропорта без скидки на возраст. Они не знали таких слов, как «не могу», «не знаю», «не получится». Они взрослели со словом «надо» и в беспрекословном подчинении указаниям письменным или устным. А на двери моя мамочка прочла, что без сменной обуви детей в сад не принимают. А тапочки в магазинах не продавали. Моя мама разузнала, что есть такой сапожник дядя Ваня, который может за ночь сшить тапочки, заказала ему две пары, и к семи утра тапки были готовы. Так мы с братом попали в детский сад. Он – в подготовительную группу, я – в старшую.
Однако наше стояние в детсадовской очереди продолжалось. И она двигалась – медленно, но двигалась. И когда мой братец учился в третьем классе, маме позвонили из отдела образования и сообщили, что она может приводить своего сына в детский сад.
Плот
Берег реки Лены от Дома пионеров до улицы Комсомольской служил причалом для плотов. Редкий представитель мужского населения нашего района не способен был соорудить это нехитрое плавсредство, которое служило верой и правдой и первым поселенцам, и их потомкам до шестидесятых годов двадцатого столетия. Что такое плот? Это спущенные на воду полтора-два десятка брёвен, плотно прижатых друг к другу поперечными, более тонкими брёвнами, скреплённых с ними тальниковыми прутьями. На плотах перевозили сено, заготовленное на островах и дальних сенокосах, перевозили скотину и переезжали из одного населенного пункта в другой, погрузив на него весь скарб, усадив семью; здесь же на костре готовили пищу.
Да и дома сплавляли таким же образом. Разбирали дом по брёвнышкам, сооружали плот и отправлялись в путешествие. Причаливали к берегу в намеченном месте, где плот вновь возвращался к своей сухопутной жизни – превращался в дом.
Таким же образом заготавливали дрова. Пилили деревья в лесу, обрубали ветки, скатывали брёвна к реке, собирали их в плот и доставляли плоты в город.
Если была лодка, то плот цепляли к ней, а при отсутствии таковой плот плыл по течению реки. Однако не надо думать, что плот отталкивали от берега, и плыл он сам по себе, куда хотел.
К плоту прикреплялось подвижное бревно – руль, с помощью которого он становился управляемым. Была даже такая профессия – плотогон. Плотогоны Визирнинского леспромхоза до начала семидесятых годов сплавляли древесину в плотах в Якутию – до того момента, когда был запрещен сплав леса на реке Лене.
А мы, дети, летом во время купания ныряли с плотов, причаленных к берегу.
Радио
Как сейчас наши дети и внуки смотрят телевизор, так я и мои друзья слушали радио. Радиорозетка была установлена в зале, рядом с ней на стене висел приёмник.
Утро начиналось в шесть часов с государственного гимна, затем –зарядка. Под звуки «Пионерской зорьки» умывались, завтракали и отправлялись в школу. А ещё была «Радио-няня» – передача для самых маленьких с песнями, сказками и потешками.
Но в три часа дня (время, когда никого кроме тебя нет дома, и не придётся по первому зову срываться и бежать в магазин, в кладовку или ещё куда) начиналось чудо. По радио звучали спектакли в исполнении великих актёров: Игоря Ильинского, Рины Зелёной, Татьяны Пельтцер, Михаила Жарова и многих-многих других. Это было время, когда радио не звучало фоном. Я садилась на венский стульчик около приёмника и заворожено ловила каждый звук, летевший из этого чуда техники.
Можно было и самой читать все эти произведения. Но ведь по радио шёл спектакль, во время которого я забывала о стульчике и из слушательницы превращалась в участницу всех событий.
Месячная плата за это вещание с шести часов утра до двенадцати ночи составляла всего пятьдесят копеек.
Страх
Как-то к нам в гости приехала родственница из деревни. Мы тогда ещё жили в бараке с одной лампочкой в 55 Ватт и без выключателя.
Для того, чтобы включить-выключить свет, нужно было дотянуться до лампочки и повернуть её по или против часовой стрелке.
Тётушка собрала урожай со своего огорода и привезла кое-что в город на продажу. Утром родители ушли на работу, а она, собрав часть своих мешков и мешочков, отправилась на базар.
У нас с братом день прошёл по расписанию: подъём, завтрак, покупка хлеба, игры во дворе. Солнышко уже клонилось к закату, когда мы решили пойти домой. Единственное окно нашей комнаты смотрело на юг, поэтому в это время в квартире было уже сумеречно, а под столом, который стоял у противоположной от двери стены, и вовсе царил мрак.
Только мы открыли дверь, как из этого мрака на нас глянули чьи-то зелёные светящиеся глаза. Зайти в комнату, схватить табурет, добежать с ним до середины комнаты, взобраться на него и ввернуть лампочку было невозможно. Ведь за это время страшный зверь, сидящий под столом, просто разорвёт нас в клочья. Что делать?
Позвали на помощь соседа. Он очень решительно кинулся нам на помощь. Открыл дверь и … вместе с нами начал кричать «Кыш, кыш!..», в надежде, что зверюга испугается и убежит. Зверю, который и не думал убегать, наши крики были не страшны. Но «…есть женщины в русских селеньях». Жена соседа, отважная тётя Аня вошла в комнату, ввернула лампочку, свет озарил наше жилище и … зверь пропал. Под столом лежала узлом завязанная наволочка с чесноком, а светились пуговицы, пришитые к ней. В то время пуговицы делали из какого-то вещества, в котором присутствовал фосфор. Вот они и светились.
Утюг
Если сейчас вдруг из-за аварийной ситуации случается отключение электроэнергии, мы тут же становимся беспомощными. Все наши многочисленные электрические помощники отказываются служить нам.
«Гаджеты» моего детства не были так зависимы от электрической энергии. Их работу обеспечивали дрова, керосин и угли.
Одним из потребителей древесного угля в то время был утюг. Был он и в нашей семье, как и у нашей соседки тёти Гали. Затопила она печь и решила погладить бельё, но чтобы ускорить этот процесс, надумала делать это двумя утюгами. Пока раздует угли в одном, и он начнёт пыхтеть и нагреваться, другим будет утюжить. И так будет их менять, пока не прогорят в печи все угли.
На её беду нашей мамы не оказалось дома, а братец, в отличие от меня, был очень рачительным ребёнком и отказался выдать соседке утюг без хозяйки утюга, нашей мамы. Не помогли и уговоры.
После того, как в 1963 году состоялся наш переезд из комнаты в бараке в двухкомнатную квартиру, где в каждом помещении была розетка, а в прихожей на самом видном месте крутил своё колёсико электрический счётчик, на смену угольному старичку явился сияющий стальными боками электрический утюг.
Фильмоскоп
Фильмоскоп – это чудо техники превращало нас с братом из соседских ребятишек во владельцев кинозала, киномехаников и чтецов. Друзья (а в детстве все друзья, кто к тебе пришёл) после превращения нашей комнаты в кинозал чинно рассаживались на стулья и замирали в ожидании сеанса.
Всё готово. Окно плотно укрыто покрывалом, на стене – экран (белая простыня), фильмоскоп вынут из своего футляра, ящичек с диафильмами – на столе; фильм выбран, вынут из своей круглой баночки и заправлен в аппарат. Гаснет свет. И весь мир вне комнаты перестаёт существовать…
На экране появляется первый кадр, состоящий из цветных прямоугольников, за ним – другой, с непонятными для нас цифрами, затем – следующий, на котором очень затейливо было написано: «Студия Диафильм».
И вот, наконец, сам фильм, пусть и с приставкой «диа». Замечательные картины иллюстрировали тексты сказок, рассказов, потешек и, конечно, серьёзных произведений, от чтения которых захватывало дух.
Это были повести о пионерах-героях, о сражениях в годы Великой Отечественной войны, о приключениях путешественников и другие. Всё вместе создавало иллюзию звукового фильма. Сеанс заканчивался, притихшие зрители расходились до следующего раза, бережно неся в душе то, что в неё запало.
Мы с братом убирали все атрибуты зрительного зала, ставили фильмоскоп и диафильмы на место, и уже ничто не напоминало о нашем чудесном превращении.
Хлебная очередь
По какой-то неведомой мне причине в середине прошлого столетия у нас в городе ощущалась нехватка хлеба. Может быть, это зависело от годовой нормы муки, рассчитанной на душу населения, а, может, просто не хватало мощности двух пекарен. Да это было и неважно. В то время никто не задавал вопросов и не выяснял причин. Просто приходили в магазин задолго до того времени, когда привезут хлеб, занимали очередь и ждали, когда прибудет подвода с хлебом (позже её сменила машина- хлебовозка).
Полдня толкаться в хлебной очереди могло только незанятое население. Чаще всего это были бабушки и дети. Мама, уходя на работу, выдавала нам с братом рубль и авоську. Наша задача была купить две булки хлеба, которых хватало на три дня.
Бывало и такое: отстоишь очередь, а последняя булка достанется не тебе.
Напряжение в очереди росло обратно пропорционально количеству буханок на полках. Тогда таких мелких очередников, вроде меня, пятилетней девочки, добрые старушки пытались легко и непринужденно оттеснить от прилавка.
Я, как могла, сопротивлялась. Мой старший братец, наблюдавший за поединком со стороны, в критические моменты приближался, чтобы поддержать мой боевой дух и показать соперницам, что нас двое. Однажды бабуля, за которой я заняла очередь, не дождавшись привоза хлеба, вышла из очереди и обратилась ко мне с такими словами: «Держись за этой бабушкой». «Держись» в этом случае значило, что очередь сократилась на одного человека, и я должна запомнить другую бабушку. Но я всего этого в силу моего небольшого опыта в качестве очередницы не знала, и эти слова восприняла как сигнал к действию: вцепилась в юбку, оказавшуюся перед моими глазами. Хозяйка юбки всполошилась и попыталась вырвать её из моих цепких ручек со словами: «Ты что, я же не твоя бабушка». Но тут подоспела поддержка в лице брата, и пленницу я освободила только после того, как замерла напротив весов. Ведь тогда ещё каждая булка хлеба взвешивалась. Чашки весов ещё не успевали замереть, а счеты уже своими костяшками показывали стоимость покупки.
Чистописание
Школа… Каждый день жизни наполнен новыми, ранее неведомыми событиями. Здесь уже учитель, а не воспитатель. Не игры, а труд
и занятия. Всё вновь: парта, правильная осанка, нельзя подтолкнуть соседа по парте, тетради в косую линейку, учебники и ручки… Но ручки пока лежат в пенале. В тетрадях простым карандашом красиво, кому насколько это удаётся, изображаем кружочки, палочки, крючки, осваиваем нажим.
И вот, наконец, наступил день, когда в углублении на парте появился новый предмет – чернильница из коричневой пластмассы. Из пеналов извлекаются ручки. Урок чистописания, пожалуй, самый сложный для нас. Обмакнул перо в чернильницу, пока донёс ручку до нужной строки, на лист с перышка сорвалась капля чернил и растеклась по листу жирной кляксой. Паника…Что делать? Писать. Ну вот, удачная попытка, кляксы побеждены. Пришло понимание того, сколько нужно набирать чернил на перо, вокруг – мелкие брызги. Всё потому что очень стараюсь и слишком напряжена рука. Пытаюсь писать, пёрышко скрипит, рвёт бумагу, рассеивает мелкие брызги, а всё потому что очень стараюсь и напряжена рука…
Пятёрку по чистописанию заработать очень сложно. Даже если нет клякс, брызг, помарок, зачёркиваний и царапин, все буковки имеют одинаковый наклон и размер, всё очень чисто и красиво, до красной красавицы с развевающимся флажком ещё далеко.
Каждая буква поделена на участки, которые имеют определённую толщину написания. Где-то нужно писать, едва касаясь листа, а в другом месте – с хорошим нажимом на перо. И лишь когда тебе удалось со всем этим справиться, а в твоей тетради красуется пятёрочка, можно немножко погордиться собой.
Школа
Моя школьная жизнь начиналась так. 31 августа все дети нашей подготовительной группы пришли в детский сад нарядные, в форменных костюмах и платьях, белых рубашках и таких же фартуках. Нас поздравили, подарили всем чёрные кожаные портфели, в которых лежали «Буквари» и «Арифметики». Радостные, мы все отправились во двор для общей фотографии с родителями.
По желанию можно было сделать индивидуальное фото или с другом.
Я сфотографировалась с братом, пришедшим вместе с мамой порадоваться за меня. Мой папа, имевший самую распространённую для нашего города профессию речника, появлялся дома глубокой осенью.
После того, как было закончено фотографирование, мы (гордые, с портфелями!) пошли домой. А назавтра, 1 сентября 1964 года, к восьми часам утра я в сопровождении мамы, с букетом астр, стебельки которых были заботливо обёрнуты кусочком газеты, пошла в первый класс восьмилетней школы № 2.
В школе было две параллели – «А» и «Б». Учились в две смены. Первую четверть все восемь классов «А» ходили в школу с первой смены, а «Б» – со второй. В следующей четверти «ашки» учились с обеда, «бэшки» –с утра; и так – восемь лет.
Меня записали в «А»-класс, поэтому в школу с мамой мы пошли к восьми часам. Для учащихся в «Б»-классах в два часа устраивалась вторая линейка, которая длилась недолго. После линейки сразу начинались уроки. Во время линейки ко мне подошла моя учительница, Воронина Руфина Владимировна, и тихонько сказала, чтобы я свой букет подарила директору школы. Я ткнула в сторону директора пальцем и уточнила: «Вот этому?» После чего вручила Виталию Николаевичу свои астры с газеткой. И все пошли учиться. Начальное звено обучалось в историческом здании, построенном в 1890 году.
На первом этаже был гардероб, медицинский кабинет, учительская, продлённая группа, кухня, буфет и квартира сторожа. На втором этаже располагались классные комнаты.
Старшие классы учились в соседнем здании, построенном в 1910 году. Кабинетов было всего два – физики и химии. Спортивного зала в школе не было. Построили его только в 1967 году. Тогда же школа была преобразована в среднюю № 5.
Щавель
Нашим мамам и бабушкам в голову не могло прийти, что щавель можно выращивать в огороде. Зачем тратить силы на выращивание того, чего вдоволь в дикой природе?!..
В шестидесятые годы прошлого столетия местом массового отдыха горожан был определён Монастырский остров, который на тот период был переименован в остров Отдыха. Монастырским его называть в эпоху воинствующего атеизма было просто неэтично. Отдыхающих на остров по субботам перевозил катер, а по воскресеньям его заменял паром.
На острове городским потребительским обществом была организована продажа напитков, стряпни и сластей. Отдел культуры отвечал за развлекательные программы. Некоторым отдыхающим всё это было не нужно: еду привозили с собой, развлекались сами, как могли, или просто гуляли по острову, благо, что он очень большой – гораздо больше нашего города-острова. А ещё там можно было полакомиться черёмухой и, конечно же, вдоволь пожевать щавеля.
Эвакуация
Моя мама родилась и выросла в деревне Лаврушиной Киренского района. У бабушки была старинная швейная машинка, и все наряды для семьи из домотканого полотна и того, что удавалось купить в сельском магазине, она, как умела, шила сама. Все односельчане носили то, что способны были смастерить сами.
Началась война. В деревню прибыли эвакуированные. В семье учителя из Ленинграда была пятилетняя девочка Наташа, которая поразила воображение одиннадцатилетнего подростка, в будущем – моей мамы, своими нарядами. Под впечатлением от такой красоты деревенская девочка решила: когда у неё появится дочь, она непременно назовёт её Наташей и наряжать будет так, как одевали ту столичную малышку. Спустя много лет эта девочка сдержала обещание, данное себе. Когда я появилась на свет, меня назвали именно этим именем. Я росла сорванцом и любительницей лазить по заборам, но несмотря на это обстоятельство, мама упорно наряжала меня в соответствии с отпечатавшемся в её памяти образом.
С наступлением тёплых дней мою голову начинал украшать очередной фетровый капор, прикупленный мамой заранее, который сдавливал уши, вследствие чего мне приходилось напрягать слух, чтобы услышать всё, что хотелось.
А ведь именно тогда хотелось всё знать, всё слышать и видеть. А эти великолепные шарфики, которые время не смогло стереть из моей памяти (шёлковый белый в красный горох, белый воздушный, так называемый «газовый», другие, не менее помпезные) – заправленные под воротник пальто, завязанные огромным бантом, они лезли в лицо, мешали подбородку, но я терпела всё это, ведь только так можно было пойти «бегать». Именно бегать, слово «гулять» применялось только к застолью. Мы говорили: «Мама, можно побегать?» А фразу «Я пойду погуляю» впервые услышали от мальчика, приехавшего к нам погостить из Ростова.
Надо сказать, что старания моей мамочки не прошли даром. Я до сих пор ношу шляпки, всевозможные шарфики и необычные пальто. Старалась наряжать своих дочерей, как когда-то меня наряжала мама. Правда, завязывать красиво банты и очень туго плести косы я так и не научилась.
Юбка
Юбка… моя мечта. Так хотелось пощеголять в юбочке, но мои робкие попытки пресекались решительным маминым «Нет!», которое подкреплялось словами о том, что на мне, худоватой, никакая юбка не удержится и будет крутиться во все стороны, что на полных девочках как всё славно сидит.
Мечте моей было суждено сбыться только в конце шестого класса. Родители уехали на курорт, и мы с братом остались дома одни. За нами присматривал дедушка, мамин папа. В силу характера и серьёзного возраста он не докучал нам своим вниманием. Они с бабушкой видели, что мама воспитывает нас в строгости, и считали, что ничего плохого мы не сделаем.
Ну как было не воспользоваться такой возможностью! Я достала из шкафа мамино, сшитое из очень добротной шерсти платье. Распорола все швы, отутюжила получившиеся кусочки и выкроила из этого великолепия юбочку и жилет.
Родителей я встречала в новом костюме. К моему удивлению, мама как будто не заметила, что мой новый костюм сшит из её ещё не старого платья. Может быть, мама просто порадовалась тому, что я смогла не только уничтожить готовую вещь, но и сшить новую.
Ящерица
Красный яр за Пролетарским выселком для городской детворы в летние месяцы был самым доступным местом отдыха. Любители рыбалки, вооружившись удочками, выкидами, прихватив бидончики и баночки с червями, перебравшись через реку, спешили занять самое рыбное место.
Другие, кого рыбалка не интересовала, ползали по склонам оврагов, выискивая спелые ягоды малины, или же ловили бабочек, разнообразие расцветок которых поражало наше воображение.
Но самым удивительными существами, обитавшими под Красным яром, были ящерицы. Очень юркие, с большими выпуклыми глазами четырёхлапые змейки, похожие на маленьких сказочных драконов, едва заметно сновали в траве. Нам хотелось поймать их, подержать в руках и рассмотреть. Замрёшь ненадолго: дрогнула травинка… Вот она, схватил, но…
В руке – только маленький кусочек хвостика, который ящерица оставила на память без ущерба для своего тела. Через некоторое время он у неё отрастал заново.
Может, и сейчас они ещё обитают в тех местах, но мы их не видим, потому что не бываем там, а, может, просто утратили детскую способность замечать необыкновенное и удивляться чуду.
Наш деревянный город, стоящий на слиянии двух рек, во все времена страдал от пожаров и наводнений. Сто лет, с 1869 до 1969 года – период, когда город находился на острове, Верхняя и Нижняя поскотины ежегодно затоплялись. Разница была лишь в уровне воды, разливавшейся по улицам.
Иногда наводнение происходило из-за ледового затора, случавшегося на одном из перекатов реки Лены. В этом случае происходил быстрый подъём уровня воды в любое время суток, вода выходила из берегов и разносила глыбы льда по улицам. Такое наводнение длилось до тех пор, пока вода не поднималась настолько, что сдвигала затор, и мутные потоки с той же скоростью устремлялись к берегу, оставляя за собой в низинах огромные лужи, которые к середине лета превращались в зелёную вязкую жижу.
Однако заторы случались не всегда, а наводнения случались по другой причине. После ледохода устанавливалась тёплая погода, начиналось активное таяние гольцов и снега в лесах. И тогда приходила так называемая «чёрная вода». Вал докатывался до нашего города обычно к двум часам ночи, и мы просыпались от топота, шуршания гравия под ногами и колёсами тележек, детского плача, разговоров, визга поросят. Это значило, что «пришла вода» и жители Нижней поскотины спасаются сами, прихватив самое необходимое, уводя животных. Такой потоп длился дольше – несколько дней, иногда и полмесяца.
Правда, большого урона наводнения тогда не приносили. Не было дорогих евроремонтов и мебели, склеенной из опилок. Откроют окна и двери, протопят печь – высушат дом. Побелят, подкрасят, а железным кроватям, деревянным столам и стульям потоп и вовсе был не страшен.
Очередь
Очередь была постоянной нашей спутницей и совершенно привычным делом. Очередь на получение жилья была, пожалуй, самой нескончаемой и могла длиться двадцать и более лет. Следующей по продолжительности можно считать очередь на получение возможности приобретения легкового автомобиля; кроме прочего, она была ещё и привилегированной, не все могли «постоять» в ней. Очередь на получение места в детский сад тоже тянулась годами. В очереди за мебелью, за книгами иногда стояли ночами, отогреваясь возле костров. Для того, чтобы очередь за ночь не сломалась, не запуталась, химическим карандашом писали номерок на руке.
А в качестве развлечения несколько раз за ночь устраивали переклички очередников. Были свои любители руководить очередями. Самыми непродолжительными были очереди за продуктами – всего несколько часов.
Мы с братом в очереди в детский сад стояли несколько лет. Прекратил это стояние наш отец после того, как я в очередной раз в пятилетнем возрасте потерялась. Это он подумал, что я потерялась, а я просто обследовала весь двор педучилища, где папа тогда работал завхозом, вышла за ворота, а там было много интересного, и я шла всё дальше и дальше. Продвигался он по моим следам методом опроса: «Не видели вы маленькую девочку в пёстреньком пальто?» Я же за это время успела дойти до площади Свободы. На следующий день он устроил нас с братом в детский сад, оказав неоценимую помощь заведующей в ежегодном летнем ремонте.
Через день с медицинскими справками мы с мамой стояли на крыльце перед заветной дверью. Но почему-то, не открыв её, спустились с крыльца и пошли домой. Позже я узнала причину такого отступления.
Моим родителям было по одиннадцать лет, когда началась война; четыре года они работали в колхозе и на строительстве аэропорта без скидки на возраст. Они не знали таких слов, как «не могу», «не знаю», «не получится». Они взрослели со словом «надо» и в беспрекословном подчинении указаниям письменным или устным. А на двери моя мамочка прочла, что без сменной обуви детей в сад не принимают. А тапочки в магазинах не продавали. Моя мама разузнала, что есть такой сапожник дядя Ваня, который может за ночь сшить тапочки, заказала ему две пары, и к семи утра тапки были готовы. Так мы с братом попали в детский сад. Он – в подготовительную группу, я – в старшую.
Однако наше стояние в детсадовской очереди продолжалось. И она двигалась – медленно, но двигалась. И когда мой братец учился в третьем классе, маме позвонили из отдела образования и сообщили, что она может приводить своего сына в детский сад.
Плот
Берег реки Лены от Дома пионеров до улицы Комсомольской служил причалом для плотов. Редкий представитель мужского населения нашего района не способен был соорудить это нехитрое плавсредство, которое служило верой и правдой и первым поселенцам, и их потомкам до шестидесятых годов двадцатого столетия. Что такое плот? Это спущенные на воду полтора-два десятка брёвен, плотно прижатых друг к другу поперечными, более тонкими брёвнами, скреплённых с ними тальниковыми прутьями. На плотах перевозили сено, заготовленное на островах и дальних сенокосах, перевозили скотину и переезжали из одного населенного пункта в другой, погрузив на него весь скарб, усадив семью; здесь же на костре готовили пищу.
Да и дома сплавляли таким же образом. Разбирали дом по брёвнышкам, сооружали плот и отправлялись в путешествие. Причаливали к берегу в намеченном месте, где плот вновь возвращался к своей сухопутной жизни – превращался в дом.
Таким же образом заготавливали дрова. Пилили деревья в лесу, обрубали ветки, скатывали брёвна к реке, собирали их в плот и доставляли плоты в город.
Если была лодка, то плот цепляли к ней, а при отсутствии таковой плот плыл по течению реки. Однако не надо думать, что плот отталкивали от берега, и плыл он сам по себе, куда хотел.
К плоту прикреплялось подвижное бревно – руль, с помощью которого он становился управляемым. Была даже такая профессия – плотогон. Плотогоны Визирнинского леспромхоза до начала семидесятых годов сплавляли древесину в плотах в Якутию – до того момента, когда был запрещен сплав леса на реке Лене.
А мы, дети, летом во время купания ныряли с плотов, причаленных к берегу.
Радио
Как сейчас наши дети и внуки смотрят телевизор, так я и мои друзья слушали радио. Радиорозетка была установлена в зале, рядом с ней на стене висел приёмник.
Утро начиналось в шесть часов с государственного гимна, затем –зарядка. Под звуки «Пионерской зорьки» умывались, завтракали и отправлялись в школу. А ещё была «Радио-няня» – передача для самых маленьких с песнями, сказками и потешками.
Но в три часа дня (время, когда никого кроме тебя нет дома, и не придётся по первому зову срываться и бежать в магазин, в кладовку или ещё куда) начиналось чудо. По радио звучали спектакли в исполнении великих актёров: Игоря Ильинского, Рины Зелёной, Татьяны Пельтцер, Михаила Жарова и многих-многих других. Это было время, когда радио не звучало фоном. Я садилась на венский стульчик около приёмника и заворожено ловила каждый звук, летевший из этого чуда техники.
Можно было и самой читать все эти произведения. Но ведь по радио шёл спектакль, во время которого я забывала о стульчике и из слушательницы превращалась в участницу всех событий.
Месячная плата за это вещание с шести часов утра до двенадцати ночи составляла всего пятьдесят копеек.
Страх
Как-то к нам в гости приехала родственница из деревни. Мы тогда ещё жили в бараке с одной лампочкой в 55 Ватт и без выключателя.
Для того, чтобы включить-выключить свет, нужно было дотянуться до лампочки и повернуть её по или против часовой стрелке.
Тётушка собрала урожай со своего огорода и привезла кое-что в город на продажу. Утром родители ушли на работу, а она, собрав часть своих мешков и мешочков, отправилась на базар.
У нас с братом день прошёл по расписанию: подъём, завтрак, покупка хлеба, игры во дворе. Солнышко уже клонилось к закату, когда мы решили пойти домой. Единственное окно нашей комнаты смотрело на юг, поэтому в это время в квартире было уже сумеречно, а под столом, который стоял у противоположной от двери стены, и вовсе царил мрак.
Только мы открыли дверь, как из этого мрака на нас глянули чьи-то зелёные светящиеся глаза. Зайти в комнату, схватить табурет, добежать с ним до середины комнаты, взобраться на него и ввернуть лампочку было невозможно. Ведь за это время страшный зверь, сидящий под столом, просто разорвёт нас в клочья. Что делать?
Позвали на помощь соседа. Он очень решительно кинулся нам на помощь. Открыл дверь и … вместе с нами начал кричать «Кыш, кыш!..», в надежде, что зверюга испугается и убежит. Зверю, который и не думал убегать, наши крики были не страшны. Но «…есть женщины в русских селеньях». Жена соседа, отважная тётя Аня вошла в комнату, ввернула лампочку, свет озарил наше жилище и … зверь пропал. Под столом лежала узлом завязанная наволочка с чесноком, а светились пуговицы, пришитые к ней. В то время пуговицы делали из какого-то вещества, в котором присутствовал фосфор. Вот они и светились.
Утюг
Если сейчас вдруг из-за аварийной ситуации случается отключение электроэнергии, мы тут же становимся беспомощными. Все наши многочисленные электрические помощники отказываются служить нам.
«Гаджеты» моего детства не были так зависимы от электрической энергии. Их работу обеспечивали дрова, керосин и угли.
Одним из потребителей древесного угля в то время был утюг. Был он и в нашей семье, как и у нашей соседки тёти Гали. Затопила она печь и решила погладить бельё, но чтобы ускорить этот процесс, надумала делать это двумя утюгами. Пока раздует угли в одном, и он начнёт пыхтеть и нагреваться, другим будет утюжить. И так будет их менять, пока не прогорят в печи все угли.
На её беду нашей мамы не оказалось дома, а братец, в отличие от меня, был очень рачительным ребёнком и отказался выдать соседке утюг без хозяйки утюга, нашей мамы. Не помогли и уговоры.
После того, как в 1963 году состоялся наш переезд из комнаты в бараке в двухкомнатную квартиру, где в каждом помещении была розетка, а в прихожей на самом видном месте крутил своё колёсико электрический счётчик, на смену угольному старичку явился сияющий стальными боками электрический утюг.
Фильмоскоп
Фильмоскоп – это чудо техники превращало нас с братом из соседских ребятишек во владельцев кинозала, киномехаников и чтецов. Друзья (а в детстве все друзья, кто к тебе пришёл) после превращения нашей комнаты в кинозал чинно рассаживались на стулья и замирали в ожидании сеанса.
Всё готово. Окно плотно укрыто покрывалом, на стене – экран (белая простыня), фильмоскоп вынут из своего футляра, ящичек с диафильмами – на столе; фильм выбран, вынут из своей круглой баночки и заправлен в аппарат. Гаснет свет. И весь мир вне комнаты перестаёт существовать…
На экране появляется первый кадр, состоящий из цветных прямоугольников, за ним – другой, с непонятными для нас цифрами, затем – следующий, на котором очень затейливо было написано: «Студия Диафильм».
И вот, наконец, сам фильм, пусть и с приставкой «диа». Замечательные картины иллюстрировали тексты сказок, рассказов, потешек и, конечно, серьёзных произведений, от чтения которых захватывало дух.
Это были повести о пионерах-героях, о сражениях в годы Великой Отечественной войны, о приключениях путешественников и другие. Всё вместе создавало иллюзию звукового фильма. Сеанс заканчивался, притихшие зрители расходились до следующего раза, бережно неся в душе то, что в неё запало.
Мы с братом убирали все атрибуты зрительного зала, ставили фильмоскоп и диафильмы на место, и уже ничто не напоминало о нашем чудесном превращении.
Хлебная очередь
По какой-то неведомой мне причине в середине прошлого столетия у нас в городе ощущалась нехватка хлеба. Может быть, это зависело от годовой нормы муки, рассчитанной на душу населения, а, может, просто не хватало мощности двух пекарен. Да это было и неважно. В то время никто не задавал вопросов и не выяснял причин. Просто приходили в магазин задолго до того времени, когда привезут хлеб, занимали очередь и ждали, когда прибудет подвода с хлебом (позже её сменила машина- хлебовозка).
Полдня толкаться в хлебной очереди могло только незанятое население. Чаще всего это были бабушки и дети. Мама, уходя на работу, выдавала нам с братом рубль и авоську. Наша задача была купить две булки хлеба, которых хватало на три дня.
Бывало и такое: отстоишь очередь, а последняя булка достанется не тебе.
Напряжение в очереди росло обратно пропорционально количеству буханок на полках. Тогда таких мелких очередников, вроде меня, пятилетней девочки, добрые старушки пытались легко и непринужденно оттеснить от прилавка.
Я, как могла, сопротивлялась. Мой старший братец, наблюдавший за поединком со стороны, в критические моменты приближался, чтобы поддержать мой боевой дух и показать соперницам, что нас двое. Однажды бабуля, за которой я заняла очередь, не дождавшись привоза хлеба, вышла из очереди и обратилась ко мне с такими словами: «Держись за этой бабушкой». «Держись» в этом случае значило, что очередь сократилась на одного человека, и я должна запомнить другую бабушку. Но я всего этого в силу моего небольшого опыта в качестве очередницы не знала, и эти слова восприняла как сигнал к действию: вцепилась в юбку, оказавшуюся перед моими глазами. Хозяйка юбки всполошилась и попыталась вырвать её из моих цепких ручек со словами: «Ты что, я же не твоя бабушка». Но тут подоспела поддержка в лице брата, и пленницу я освободила только после того, как замерла напротив весов. Ведь тогда ещё каждая булка хлеба взвешивалась. Чашки весов ещё не успевали замереть, а счеты уже своими костяшками показывали стоимость покупки.
Чистописание
Школа… Каждый день жизни наполнен новыми, ранее неведомыми событиями. Здесь уже учитель, а не воспитатель. Не игры, а труд
и занятия. Всё вновь: парта, правильная осанка, нельзя подтолкнуть соседа по парте, тетради в косую линейку, учебники и ручки… Но ручки пока лежат в пенале. В тетрадях простым карандашом красиво, кому насколько это удаётся, изображаем кружочки, палочки, крючки, осваиваем нажим.
И вот, наконец, наступил день, когда в углублении на парте появился новый предмет – чернильница из коричневой пластмассы. Из пеналов извлекаются ручки. Урок чистописания, пожалуй, самый сложный для нас. Обмакнул перо в чернильницу, пока донёс ручку до нужной строки, на лист с перышка сорвалась капля чернил и растеклась по листу жирной кляксой. Паника…Что делать? Писать. Ну вот, удачная попытка, кляксы побеждены. Пришло понимание того, сколько нужно набирать чернил на перо, вокруг – мелкие брызги. Всё потому что очень стараюсь и слишком напряжена рука. Пытаюсь писать, пёрышко скрипит, рвёт бумагу, рассеивает мелкие брызги, а всё потому что очень стараюсь и напряжена рука…
Пятёрку по чистописанию заработать очень сложно. Даже если нет клякс, брызг, помарок, зачёркиваний и царапин, все буковки имеют одинаковый наклон и размер, всё очень чисто и красиво, до красной красавицы с развевающимся флажком ещё далеко.
Каждая буква поделена на участки, которые имеют определённую толщину написания. Где-то нужно писать, едва касаясь листа, а в другом месте – с хорошим нажимом на перо. И лишь когда тебе удалось со всем этим справиться, а в твоей тетради красуется пятёрочка, можно немножко погордиться собой.
Школа
Моя школьная жизнь начиналась так. 31 августа все дети нашей подготовительной группы пришли в детский сад нарядные, в форменных костюмах и платьях, белых рубашках и таких же фартуках. Нас поздравили, подарили всем чёрные кожаные портфели, в которых лежали «Буквари» и «Арифметики». Радостные, мы все отправились во двор для общей фотографии с родителями.
По желанию можно было сделать индивидуальное фото или с другом.
Я сфотографировалась с братом, пришедшим вместе с мамой порадоваться за меня. Мой папа, имевший самую распространённую для нашего города профессию речника, появлялся дома глубокой осенью.
После того, как было закончено фотографирование, мы (гордые, с портфелями!) пошли домой. А назавтра, 1 сентября 1964 года, к восьми часам утра я в сопровождении мамы, с букетом астр, стебельки которых были заботливо обёрнуты кусочком газеты, пошла в первый класс восьмилетней школы № 2.
В школе было две параллели – «А» и «Б». Учились в две смены. Первую четверть все восемь классов «А» ходили в школу с первой смены, а «Б» – со второй. В следующей четверти «ашки» учились с обеда, «бэшки» –с утра; и так – восемь лет.
Меня записали в «А»-класс, поэтому в школу с мамой мы пошли к восьми часам. Для учащихся в «Б»-классах в два часа устраивалась вторая линейка, которая длилась недолго. После линейки сразу начинались уроки. Во время линейки ко мне подошла моя учительница, Воронина Руфина Владимировна, и тихонько сказала, чтобы я свой букет подарила директору школы. Я ткнула в сторону директора пальцем и уточнила: «Вот этому?» После чего вручила Виталию Николаевичу свои астры с газеткой. И все пошли учиться. Начальное звено обучалось в историческом здании, построенном в 1890 году.
На первом этаже был гардероб, медицинский кабинет, учительская, продлённая группа, кухня, буфет и квартира сторожа. На втором этаже располагались классные комнаты.
Старшие классы учились в соседнем здании, построенном в 1910 году. Кабинетов было всего два – физики и химии. Спортивного зала в школе не было. Построили его только в 1967 году. Тогда же школа была преобразована в среднюю № 5.
Щавель
Нашим мамам и бабушкам в голову не могло прийти, что щавель можно выращивать в огороде. Зачем тратить силы на выращивание того, чего вдоволь в дикой природе?!..
В шестидесятые годы прошлого столетия местом массового отдыха горожан был определён Монастырский остров, который на тот период был переименован в остров Отдыха. Монастырским его называть в эпоху воинствующего атеизма было просто неэтично. Отдыхающих на остров по субботам перевозил катер, а по воскресеньям его заменял паром.
На острове городским потребительским обществом была организована продажа напитков, стряпни и сластей. Отдел культуры отвечал за развлекательные программы. Некоторым отдыхающим всё это было не нужно: еду привозили с собой, развлекались сами, как могли, или просто гуляли по острову, благо, что он очень большой – гораздо больше нашего города-острова. А ещё там можно было полакомиться черёмухой и, конечно же, вдоволь пожевать щавеля.
Эвакуация
Моя мама родилась и выросла в деревне Лаврушиной Киренского района. У бабушки была старинная швейная машинка, и все наряды для семьи из домотканого полотна и того, что удавалось купить в сельском магазине, она, как умела, шила сама. Все односельчане носили то, что способны были смастерить сами.
Началась война. В деревню прибыли эвакуированные. В семье учителя из Ленинграда была пятилетняя девочка Наташа, которая поразила воображение одиннадцатилетнего подростка, в будущем – моей мамы, своими нарядами. Под впечатлением от такой красоты деревенская девочка решила: когда у неё появится дочь, она непременно назовёт её Наташей и наряжать будет так, как одевали ту столичную малышку. Спустя много лет эта девочка сдержала обещание, данное себе. Когда я появилась на свет, меня назвали именно этим именем. Я росла сорванцом и любительницей лазить по заборам, но несмотря на это обстоятельство, мама упорно наряжала меня в соответствии с отпечатавшемся в её памяти образом.
С наступлением тёплых дней мою голову начинал украшать очередной фетровый капор, прикупленный мамой заранее, который сдавливал уши, вследствие чего мне приходилось напрягать слух, чтобы услышать всё, что хотелось.
А ведь именно тогда хотелось всё знать, всё слышать и видеть. А эти великолепные шарфики, которые время не смогло стереть из моей памяти (шёлковый белый в красный горох, белый воздушный, так называемый «газовый», другие, не менее помпезные) – заправленные под воротник пальто, завязанные огромным бантом, они лезли в лицо, мешали подбородку, но я терпела всё это, ведь только так можно было пойти «бегать». Именно бегать, слово «гулять» применялось только к застолью. Мы говорили: «Мама, можно побегать?» А фразу «Я пойду погуляю» впервые услышали от мальчика, приехавшего к нам погостить из Ростова.
Надо сказать, что старания моей мамочки не прошли даром. Я до сих пор ношу шляпки, всевозможные шарфики и необычные пальто. Старалась наряжать своих дочерей, как когда-то меня наряжала мама. Правда, завязывать красиво банты и очень туго плести косы я так и не научилась.
Юбка
Юбка… моя мечта. Так хотелось пощеголять в юбочке, но мои робкие попытки пресекались решительным маминым «Нет!», которое подкреплялось словами о том, что на мне, худоватой, никакая юбка не удержится и будет крутиться во все стороны, что на полных девочках как всё славно сидит.
Мечте моей было суждено сбыться только в конце шестого класса. Родители уехали на курорт, и мы с братом остались дома одни. За нами присматривал дедушка, мамин папа. В силу характера и серьёзного возраста он не докучал нам своим вниманием. Они с бабушкой видели, что мама воспитывает нас в строгости, и считали, что ничего плохого мы не сделаем.
Ну как было не воспользоваться такой возможностью! Я достала из шкафа мамино, сшитое из очень добротной шерсти платье. Распорола все швы, отутюжила получившиеся кусочки и выкроила из этого великолепия юбочку и жилет.
Родителей я встречала в новом костюме. К моему удивлению, мама как будто не заметила, что мой новый костюм сшит из её ещё не старого платья. Может быть, мама просто порадовалась тому, что я смогла не только уничтожить готовую вещь, но и сшить новую.
Ящерица
Красный яр за Пролетарским выселком для городской детворы в летние месяцы был самым доступным местом отдыха. Любители рыбалки, вооружившись удочками, выкидами, прихватив бидончики и баночки с червями, перебравшись через реку, спешили занять самое рыбное место.
Другие, кого рыбалка не интересовала, ползали по склонам оврагов, выискивая спелые ягоды малины, или же ловили бабочек, разнообразие расцветок которых поражало наше воображение.
Но самым удивительными существами, обитавшими под Красным яром, были ящерицы. Очень юркие, с большими выпуклыми глазами четырёхлапые змейки, похожие на маленьких сказочных драконов, едва заметно сновали в траве. Нам хотелось поймать их, подержать в руках и рассмотреть. Замрёшь ненадолго: дрогнула травинка… Вот она, схватил, но…
В руке – только маленький кусочек хвостика, который ящерица оставила на память без ущерба для своего тела. Через некоторое время он у неё отрастал заново.
Может, и сейчас они ещё обитают в тех местах, но мы их не видим, потому что не бываем там, а, может, просто утратили детскую способность замечать необыкновенное и удивляться чуду.
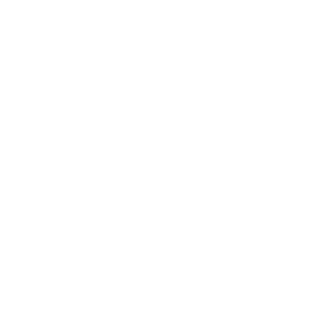
Ольга МИНАЕВА
Минаева Ольга Дмитриевна, 39 лет, Краснодарский край, г.Апшеронск.
Литературный дебют.
Минаева Ольга Дмитриевна, 39 лет, Краснодарский край, г.Апшеронск.
Литературный дебют.
СТАВ
Последние дни июля догорали под знойными лучами солнца. Август уже был готов лопнуть спелым сочным арбузом и разлиться приторно-сладким соком, чтобы каждый смог насладиться последними днями уходящего лета. Каждый год в это время я навещаю родные места, где на донском приволье протекало моё беззаботное детство – шумное, весёлое, озорное; где босоногими детьми бегали к колонке напиться студёной воды, а потом весёлою оравой бежали к посадке за спелыми абрикосами. А на обратном пути несли в подолах раздавленную ароматную мякоть.
Много лет прошло с тех пор, но и сейчас я наведываюсь в родной посёлок раз в год, чтобы навестить отца, который живёт уже несколько лет один, и друзей, с которыми связаны лучшие воспоминания детства. Зачастую эти встречи перерастают в былое веселье, сменяющееся непреодолимым желанием промчаться по знакомым улочкам.
Подруги детства так и обжились в родном посёлке, обзавелись семьями и уже давно воспитывают детей. Помню, что когда-то каждая мечтала уехать отсюда и навсегда покинуть забытый Богом уголок. Но не всем планам суждено сбыться.
Наверное, это и к лучшему, потому что не рвётся та прочная нить детской дружбы, которая навсегда связывает нас с родными местами и дорогими сердцу воспоминаниями.
И вот я снова на своей малой родине. И улицы те же, и дома такие же серые, с покосившимися окнами. Только люди уже другие.
Славка, соседский мальчишка, которого мы когда-то нянчили, давно возмужал и стал видным парнем в посёлке. Ни одно весёлое событие не проходит в Глубочке без его участия. В день нашего приезда Славка был тут как тут, будто чувствовал, что намечается застолье. Его вечная улыбка и взгляд, одновременно лукавый и язвительный, остались неизменными. Он обнял меня крепко, по-свойски, как будто и не было этого долгого расставания. Никаких лишних слов, только короткое: «Ну, привет, что делать будем?» И в этом простом приветствии – вся суть наших приятельских отношений. Мы вошли в дом. Дом встретил нас обветшалым запахом старой мебели. Пыль, игравшая в лучах солнца, казалось, тоже источала аромат истории. Скрипучие полы приветствовали наши шаги, рассказывая свои собственные безмолвные истории о прожитых здесь годах.
Казалось, время здесь остановилось, оставив нас наедине с прошлым. Этот дом был не просто строением из кирпича и дерева, он был живым существом, дышащим воспоминаниями и всё время ожидающим своих хозяев. Он ждал, чтобы снова заполнить свои комнаты смехом, разговорами и теплом.
В этот момент я в полной мере ощутила, что наконец-то вернулась домой. Пусть ненадолго, но вернулась.
Наевшись и наговорившись вдоволь, мы уже не знали, чем себя занять, и Славка скомандовал, чтобы все быстро собирались на став. Слово это для меня всегда было загадочным. Не озеро, не пруд, а став. Всегда воображала, что это место не для купания, а для хозяйственных нужд. Но Славка настоял, чтобы все взяли купальники, потому что молодёжь там в жару спасается, местные даже кладку сделали, чтобы нырять можно было.
Дорога к ставу проходила у подножия холмов. Не помню, сколько мы ехали, но я успела в мыслях возвратиться в детство, вспомнить школьные походы в балку, покатые склоны, с которых мы лихо катались зимой на санках, просторные поля и ароматное разнотравье.
– Приехали, – прервал моё раздумье Славка.
Дети весёлой гурьбой высыпали из машины и разбежались в разные стороны. Мы взяли покрывала, еду и направились за Славкой. Он гордо шёл впереди с видом важным и представительным. Он всех тут знал, пользовался некими привилегиями, потому что был знаком с хозяином.
– Шакал став держит, – сказал Славка. – Своих пускает без разрешения.
– А почему шакал? – удивилась я.
– А кто его знает, прозвище у него такое…
– Не очень-то прозвище, – рассмеялась я. – Это ж чем надо было заслужить такое. За добрые дела так погонят не будут….
Но Славка лишь пожал плечами и улыбнулся в ответ.
Мы приехали на двух машинах, потому что компания у нас была большая. Только детворы пять человек, не считая нас, взрослых. Дети всегда путешествуют с нами, чтобы не упустить возможность подслушать взрослые разговоры и погреть уши. Такой весёлой гурьбой мы и направились к водоёму, как велел большой Славка. Мы его называем большим, потому что после него в нашей родне появился ещё один Славка, но его я буду называть Славиком. Это сын моей старшей сестры Катерины. Ещё у неё есть старший – Севка, который не отходил от большого Славки ни на шаг. Со мной тоже были дети. Старшая дочь Маша – красивая, стройная, чернобровая, на отца похожая. И младший сын Игорёк, такой же светленький, как и я.
Летняя суета дня ещё кипела, словно котёл. Славка отпускал искромётные шутки, не сдерживая своего язвительного нрава. Мы от души смеялись, разгорячённые солнцем и пьянящим степным воздухом.
Поместье Шакала, казалось, дремало в свете ласкового солнца, но на его просторах кипели нешуточные страсти.
Как только мы приехали, я сразу заметила молодую женщину, которая суетливо бегала вдоль берега и выглядела немного испуганно. Она всё время ругала каких-то ребятишек и раздавала им поручения. Мы невольно слушали её болтовню, потому что ребятишки, на которых она ворчала, рыбачили от нас неподалёку.
Наши мальчишки во главе со Славкой помчались на кладку, чтобы с разбегу плюхнуться в воду. Первым прыгнул Славка, за ним – Севка и только маленький Славик собрался повторить прыжок, как тут же подбежала эта незнакомка и начала кричать, чтобы Славик немедленно ушёл с кладки. Мы растерянно смотрели друг на друга. А большой Славка крикнул ей из воды, чтобы она успокоилась и шла куда подальше. Эти слова ещё больше раззадорили женщину, и она резко крикнула:
– Вася, сынок, подойди сюда!
Через минуту подбежал щуплый босоногий мальчишка. Я внимательно рассматривала его внешность. На вид ему было лет четырнадцать. Кожа его была смуглой, волосы нечёсаные, а из одежды на нём были только шорты не по размеру, подвязанные шнурком. Руки были грязными от наживки. Говорил он с ухмылками, как будто боялся сказать что-то не то. Я поняла, что это был её сын.
– Вася, подыми ногу, покажи, что у тебя там, – настаивала мать.
Вася послушно задрал ногу, а женщина придерживала сына, чтобы он не упал. На ступне был виден шрам, который пересекал ногу от большого пальца до самой пятки. Рана немного затянулась, но было видно, что распорол ногу мальчишка совсем недавно.
– Вот, посмотрите, прыгнул с кладки. Чуть без ноги не остался. Сергей Иваныч теперь никому не разрешает с неё прыгать. Так что уходите или я всё ему расскажу. Он как раз должен скоро подъехать.
Несложно было догадаться, что она имела в виду того самого Шакала, который был хозяином этого поместья. Но кем приходилась ему эта женщина? Мне стало интересно, и я решила с ней заговорить. Поднявшись с покрывала, я направилась к берегу, обходя осторожно утиный помёт, который был повсюду. Утки, видимо, уже давно облюбовали это местечко.
– Спасибо, что побеспокоились, – начала я разговор. – Вы на Славку не обижайтесь, он не со зла вам язвит, натура у него такая.
Славка не унимался и, веселясь, кричал из воды.
– Красавица, прыгай в воду. Ты так разгорячилась, тебе бы остыть не мешало.
У нас к этому времени уже завязался разговор, поэтому мы не обращали внимания ни на Славку, ни на его шутки.
– Как вас зовут? – поинтересовалась я.
– Ирина, – ответила моя собеседница.
Я всматривалась в её лицо, пытаясь определить, сколько ей лет. Мне показалось, что ей было не больше сорока пяти. Палящее солнце уже оставило глубокие морщинки на её молодом лице. Брови и ресницы были густыми, а глаза – тёмными и печальными.
– Вы здесь работаете? – спросила я.
– Нет. Помогаю хозяину присматривать за хозяйством. Пацаны мои рыбачат, а я приглядываю. Не работаю я. Трое пацанов на шее, одна осталась с ними. Муж умер от пьянки. Живу на пособия.
Ирина, словно загнанная лань, сидела на краю проржавевшей лодки, оголив свои толстые икры. Вокруг нее суетились дети, с интересом поглядывая на нас. Их глаза, полные тревоги и тоски, отражали всю тяжесть их положения.
Внезапно Славка громко расхохотался, его звонкий смех разнёсся по всему ставу. Мы обернулись.
– Отвязывай лодку да плыви к нам, красавица, – крикнул Славка.
– Больше ничего не придумал? Вылезай из воды, пока я не пожаловалась, – вспыхнула Ирина и бросила на Славку гневный взгляд, но в этот раз промолчала и лишь небрежно поправила волосы.
По её манере общения было понятно, что она чувствует себя на этом подворье хозяйкой. Я догадалась, что Сергей Иванович, который ей в отцы годится, не только помогает бедной вдове, но и пользуется её молодостью.
Тяжёлые времена требовали от Ирины железной выдержки и услужливости во всём. Она понимала, что в её мире нет места для открытого неповиновения. Но в душе её горел слабый огонёк надежды, что однажды её жизнь изменится к лучшему. Наш разговор продолжился.
– Вася мой в этом году школу окончил, поступил в училище. На повара выучится, в ресторан пойдёт работать, – гордо заявила она.
Мы обе замолчали на мгновенье. О чём думала Ирина, мне было неведомо. Но я размышляла о судьбе этих мальчишек. Удастся ли им получить хорошее образование, а потом найти работу, которая бы помогла им выбраться из этой нужды. Суждено ли сбыться мечтам Ирины, или её сыновья, повзрослев, станут тоже прислуживать Шакалу. Что-то мне подсказывало, что обречены эти судьбы больше на повиновение, чем противостояние жизненным трудностям.
Оторванная от мира, Ирина смотрела вдаль, словно ища спасения в бескрайних просторах. Ее некогда живые глаза, потускневшие от невзгод и бесконечных страданий, казалось, уже не способны уловить ни единого луча надежды. Лишь изредка, когда дети прижимались к ней, в них вспыхивали отблески былой радости, но стоило им отстраниться, как Ирина вновь погружалась в безмолвную пучину своих тревог.
Казалось, само время остановилось в этом забытом богом уголке, где люди не жили, а существовали, погрузившись в беспросветную тьму безнадежности. Лишь порывы ветра, беспрестанно колышущие заросли камыша, напоминали о том, что где-то за пределами этой унылой действительности продолжается неумолимый ход иной жизни.
Ее фигура, застывшая на краю лодки, словно символ угасающей надежды, навсегда оставит свой отпечаток в душах тех, кто осмелится взглянуть в глаза этой женщине.
Начало смеркаться. Подул прохладный степной ветерок, мы собрали вещи и направились к машине. На капоте моей машины лежал букетик полевых цветов. Мы замерли в молчании. В воздухе повис немой вопрос. Мне пришлось прервать молчание.
– От кого букет? – с улыбкой поинтересовалась я.
Все молчали. Мы понимали, что цветы принёс один из сыновей Ирины. Мальчики лукаво переглядывались. Но кто из них?
Ирина с ухмылкой спросила:
– Чьих рук дело? Признавайтесь, сорванцы.
Все молчали. И тут средний мальчишка не выдержал.
– Это Вася насобирал цветы. Ему Маша понравилась. Он жениться на ней хочет.
Маша, моя дочь, покраснела от волнения. Вася спрятался от стыда за дерево.
– Рано тебе ещё жениться, на повара ещё не выучился. Детей чем кормить будешь? – выпалила Ирина.
Маша, осмелев, взяла букет, чтобы сфотографировать его.
Мне пришлось смягчить ситуацию и поддержать Васю, потому что Славка уже вовсю фантазировал, иронично описывая предстоящую свадьбу во всех подробностях. Я остановила его.
– Какие прелестные цветы, какой ароматный букет, – не унималась я в похвале.
– Вася, Ваня, побегите, соберите и тёте букет, видите, как он ей понравился. И ты, Андрюшка, беги с ними. Да хороших цветов наберите!
Дети помчались, обгоняя друг друга. На лужайке, залитой солнечным светом, руки услужливо собирали полевые цветы. Каждый хотел первым принести букет. Босые пятки сверкали на влажной от росы траве, а мы смотрели им вслед.
Какое-то щемящее чувство жалости наполнило в этот момент мою душу. И вроде бы всё хорошо, и день удался, и знакомство было интересным. Но было ощущение, что эти люди смотрели на нас снизу. Что по машинам, одежде и разговору сочли они нас выше и потому хотели угодить нам каждым словом и делом. Что не чувствовали они себя равными, а пытались всячески услужить, в каждом поступке ища одобрения.
Вернулись ребятишки через несколько минут с пёстрыми охапками. Наперебой рассказывали, что собрали самые красивые цветы. Я взяла букеты, поблагодарила своих новых знакомых, села в машину, и мы поехали. Славка на прощание посигналил всем провожавшим, а я махнула рукой. И тут я услышала голос дочки:
– Мама, мне их жалко…
Машина погрузилась в молчание. Даже Славка больше не шутил. Каждый думал о своём. И в этом удаляющемся степном пейзаже Ирина и её сыновья олицетворяли в эти минуты всех, чьи души навеки скованны цепями крепостного права. И эти современные крепостные не связаны ни цепями, ни оковами, однако их души, стремящиеся к постоянному подчинению, в плену неосознанных ограничений и жизненных обстоятельств.
Последние дни июля догорали под знойными лучами солнца. Август уже был готов лопнуть спелым сочным арбузом и разлиться приторно-сладким соком, чтобы каждый смог насладиться последними днями уходящего лета. Каждый год в это время я навещаю родные места, где на донском приволье протекало моё беззаботное детство – шумное, весёлое, озорное; где босоногими детьми бегали к колонке напиться студёной воды, а потом весёлою оравой бежали к посадке за спелыми абрикосами. А на обратном пути несли в подолах раздавленную ароматную мякоть.
Много лет прошло с тех пор, но и сейчас я наведываюсь в родной посёлок раз в год, чтобы навестить отца, который живёт уже несколько лет один, и друзей, с которыми связаны лучшие воспоминания детства. Зачастую эти встречи перерастают в былое веселье, сменяющееся непреодолимым желанием промчаться по знакомым улочкам.
Подруги детства так и обжились в родном посёлке, обзавелись семьями и уже давно воспитывают детей. Помню, что когда-то каждая мечтала уехать отсюда и навсегда покинуть забытый Богом уголок. Но не всем планам суждено сбыться.
Наверное, это и к лучшему, потому что не рвётся та прочная нить детской дружбы, которая навсегда связывает нас с родными местами и дорогими сердцу воспоминаниями.
И вот я снова на своей малой родине. И улицы те же, и дома такие же серые, с покосившимися окнами. Только люди уже другие.
Славка, соседский мальчишка, которого мы когда-то нянчили, давно возмужал и стал видным парнем в посёлке. Ни одно весёлое событие не проходит в Глубочке без его участия. В день нашего приезда Славка был тут как тут, будто чувствовал, что намечается застолье. Его вечная улыбка и взгляд, одновременно лукавый и язвительный, остались неизменными. Он обнял меня крепко, по-свойски, как будто и не было этого долгого расставания. Никаких лишних слов, только короткое: «Ну, привет, что делать будем?» И в этом простом приветствии – вся суть наших приятельских отношений. Мы вошли в дом. Дом встретил нас обветшалым запахом старой мебели. Пыль, игравшая в лучах солнца, казалось, тоже источала аромат истории. Скрипучие полы приветствовали наши шаги, рассказывая свои собственные безмолвные истории о прожитых здесь годах.
Казалось, время здесь остановилось, оставив нас наедине с прошлым. Этот дом был не просто строением из кирпича и дерева, он был живым существом, дышащим воспоминаниями и всё время ожидающим своих хозяев. Он ждал, чтобы снова заполнить свои комнаты смехом, разговорами и теплом.
В этот момент я в полной мере ощутила, что наконец-то вернулась домой. Пусть ненадолго, но вернулась.
Наевшись и наговорившись вдоволь, мы уже не знали, чем себя занять, и Славка скомандовал, чтобы все быстро собирались на став. Слово это для меня всегда было загадочным. Не озеро, не пруд, а став. Всегда воображала, что это место не для купания, а для хозяйственных нужд. Но Славка настоял, чтобы все взяли купальники, потому что молодёжь там в жару спасается, местные даже кладку сделали, чтобы нырять можно было.
Дорога к ставу проходила у подножия холмов. Не помню, сколько мы ехали, но я успела в мыслях возвратиться в детство, вспомнить школьные походы в балку, покатые склоны, с которых мы лихо катались зимой на санках, просторные поля и ароматное разнотравье.
– Приехали, – прервал моё раздумье Славка.
Дети весёлой гурьбой высыпали из машины и разбежались в разные стороны. Мы взяли покрывала, еду и направились за Славкой. Он гордо шёл впереди с видом важным и представительным. Он всех тут знал, пользовался некими привилегиями, потому что был знаком с хозяином.
– Шакал став держит, – сказал Славка. – Своих пускает без разрешения.
– А почему шакал? – удивилась я.
– А кто его знает, прозвище у него такое…
– Не очень-то прозвище, – рассмеялась я. – Это ж чем надо было заслужить такое. За добрые дела так погонят не будут….
Но Славка лишь пожал плечами и улыбнулся в ответ.
Мы приехали на двух машинах, потому что компания у нас была большая. Только детворы пять человек, не считая нас, взрослых. Дети всегда путешествуют с нами, чтобы не упустить возможность подслушать взрослые разговоры и погреть уши. Такой весёлой гурьбой мы и направились к водоёму, как велел большой Славка. Мы его называем большим, потому что после него в нашей родне появился ещё один Славка, но его я буду называть Славиком. Это сын моей старшей сестры Катерины. Ещё у неё есть старший – Севка, который не отходил от большого Славки ни на шаг. Со мной тоже были дети. Старшая дочь Маша – красивая, стройная, чернобровая, на отца похожая. И младший сын Игорёк, такой же светленький, как и я.
Летняя суета дня ещё кипела, словно котёл. Славка отпускал искромётные шутки, не сдерживая своего язвительного нрава. Мы от души смеялись, разгорячённые солнцем и пьянящим степным воздухом.
Поместье Шакала, казалось, дремало в свете ласкового солнца, но на его просторах кипели нешуточные страсти.
Как только мы приехали, я сразу заметила молодую женщину, которая суетливо бегала вдоль берега и выглядела немного испуганно. Она всё время ругала каких-то ребятишек и раздавала им поручения. Мы невольно слушали её болтовню, потому что ребятишки, на которых она ворчала, рыбачили от нас неподалёку.
Наши мальчишки во главе со Славкой помчались на кладку, чтобы с разбегу плюхнуться в воду. Первым прыгнул Славка, за ним – Севка и только маленький Славик собрался повторить прыжок, как тут же подбежала эта незнакомка и начала кричать, чтобы Славик немедленно ушёл с кладки. Мы растерянно смотрели друг на друга. А большой Славка крикнул ей из воды, чтобы она успокоилась и шла куда подальше. Эти слова ещё больше раззадорили женщину, и она резко крикнула:
– Вася, сынок, подойди сюда!
Через минуту подбежал щуплый босоногий мальчишка. Я внимательно рассматривала его внешность. На вид ему было лет четырнадцать. Кожа его была смуглой, волосы нечёсаные, а из одежды на нём были только шорты не по размеру, подвязанные шнурком. Руки были грязными от наживки. Говорил он с ухмылками, как будто боялся сказать что-то не то. Я поняла, что это был её сын.
– Вася, подыми ногу, покажи, что у тебя там, – настаивала мать.
Вася послушно задрал ногу, а женщина придерживала сына, чтобы он не упал. На ступне был виден шрам, который пересекал ногу от большого пальца до самой пятки. Рана немного затянулась, но было видно, что распорол ногу мальчишка совсем недавно.
– Вот, посмотрите, прыгнул с кладки. Чуть без ноги не остался. Сергей Иваныч теперь никому не разрешает с неё прыгать. Так что уходите или я всё ему расскажу. Он как раз должен скоро подъехать.
Несложно было догадаться, что она имела в виду того самого Шакала, который был хозяином этого поместья. Но кем приходилась ему эта женщина? Мне стало интересно, и я решила с ней заговорить. Поднявшись с покрывала, я направилась к берегу, обходя осторожно утиный помёт, который был повсюду. Утки, видимо, уже давно облюбовали это местечко.
– Спасибо, что побеспокоились, – начала я разговор. – Вы на Славку не обижайтесь, он не со зла вам язвит, натура у него такая.
Славка не унимался и, веселясь, кричал из воды.
– Красавица, прыгай в воду. Ты так разгорячилась, тебе бы остыть не мешало.
У нас к этому времени уже завязался разговор, поэтому мы не обращали внимания ни на Славку, ни на его шутки.
– Как вас зовут? – поинтересовалась я.
– Ирина, – ответила моя собеседница.
Я всматривалась в её лицо, пытаясь определить, сколько ей лет. Мне показалось, что ей было не больше сорока пяти. Палящее солнце уже оставило глубокие морщинки на её молодом лице. Брови и ресницы были густыми, а глаза – тёмными и печальными.
– Вы здесь работаете? – спросила я.
– Нет. Помогаю хозяину присматривать за хозяйством. Пацаны мои рыбачат, а я приглядываю. Не работаю я. Трое пацанов на шее, одна осталась с ними. Муж умер от пьянки. Живу на пособия.
Ирина, словно загнанная лань, сидела на краю проржавевшей лодки, оголив свои толстые икры. Вокруг нее суетились дети, с интересом поглядывая на нас. Их глаза, полные тревоги и тоски, отражали всю тяжесть их положения.
Внезапно Славка громко расхохотался, его звонкий смех разнёсся по всему ставу. Мы обернулись.
– Отвязывай лодку да плыви к нам, красавица, – крикнул Славка.
– Больше ничего не придумал? Вылезай из воды, пока я не пожаловалась, – вспыхнула Ирина и бросила на Славку гневный взгляд, но в этот раз промолчала и лишь небрежно поправила волосы.
По её манере общения было понятно, что она чувствует себя на этом подворье хозяйкой. Я догадалась, что Сергей Иванович, который ей в отцы годится, не только помогает бедной вдове, но и пользуется её молодостью.
Тяжёлые времена требовали от Ирины железной выдержки и услужливости во всём. Она понимала, что в её мире нет места для открытого неповиновения. Но в душе её горел слабый огонёк надежды, что однажды её жизнь изменится к лучшему. Наш разговор продолжился.
– Вася мой в этом году школу окончил, поступил в училище. На повара выучится, в ресторан пойдёт работать, – гордо заявила она.
Мы обе замолчали на мгновенье. О чём думала Ирина, мне было неведомо. Но я размышляла о судьбе этих мальчишек. Удастся ли им получить хорошее образование, а потом найти работу, которая бы помогла им выбраться из этой нужды. Суждено ли сбыться мечтам Ирины, или её сыновья, повзрослев, станут тоже прислуживать Шакалу. Что-то мне подсказывало, что обречены эти судьбы больше на повиновение, чем противостояние жизненным трудностям.
Оторванная от мира, Ирина смотрела вдаль, словно ища спасения в бескрайних просторах. Ее некогда живые глаза, потускневшие от невзгод и бесконечных страданий, казалось, уже не способны уловить ни единого луча надежды. Лишь изредка, когда дети прижимались к ней, в них вспыхивали отблески былой радости, но стоило им отстраниться, как Ирина вновь погружалась в безмолвную пучину своих тревог.
Казалось, само время остановилось в этом забытом богом уголке, где люди не жили, а существовали, погрузившись в беспросветную тьму безнадежности. Лишь порывы ветра, беспрестанно колышущие заросли камыша, напоминали о том, что где-то за пределами этой унылой действительности продолжается неумолимый ход иной жизни.
Ее фигура, застывшая на краю лодки, словно символ угасающей надежды, навсегда оставит свой отпечаток в душах тех, кто осмелится взглянуть в глаза этой женщине.
Начало смеркаться. Подул прохладный степной ветерок, мы собрали вещи и направились к машине. На капоте моей машины лежал букетик полевых цветов. Мы замерли в молчании. В воздухе повис немой вопрос. Мне пришлось прервать молчание.
– От кого букет? – с улыбкой поинтересовалась я.
Все молчали. Мы понимали, что цветы принёс один из сыновей Ирины. Мальчики лукаво переглядывались. Но кто из них?
Ирина с ухмылкой спросила:
– Чьих рук дело? Признавайтесь, сорванцы.
Все молчали. И тут средний мальчишка не выдержал.
– Это Вася насобирал цветы. Ему Маша понравилась. Он жениться на ней хочет.
Маша, моя дочь, покраснела от волнения. Вася спрятался от стыда за дерево.
– Рано тебе ещё жениться, на повара ещё не выучился. Детей чем кормить будешь? – выпалила Ирина.
Маша, осмелев, взяла букет, чтобы сфотографировать его.
Мне пришлось смягчить ситуацию и поддержать Васю, потому что Славка уже вовсю фантазировал, иронично описывая предстоящую свадьбу во всех подробностях. Я остановила его.
– Какие прелестные цветы, какой ароматный букет, – не унималась я в похвале.
– Вася, Ваня, побегите, соберите и тёте букет, видите, как он ей понравился. И ты, Андрюшка, беги с ними. Да хороших цветов наберите!
Дети помчались, обгоняя друг друга. На лужайке, залитой солнечным светом, руки услужливо собирали полевые цветы. Каждый хотел первым принести букет. Босые пятки сверкали на влажной от росы траве, а мы смотрели им вслед.
Какое-то щемящее чувство жалости наполнило в этот момент мою душу. И вроде бы всё хорошо, и день удался, и знакомство было интересным. Но было ощущение, что эти люди смотрели на нас снизу. Что по машинам, одежде и разговору сочли они нас выше и потому хотели угодить нам каждым словом и делом. Что не чувствовали они себя равными, а пытались всячески услужить, в каждом поступке ища одобрения.
Вернулись ребятишки через несколько минут с пёстрыми охапками. Наперебой рассказывали, что собрали самые красивые цветы. Я взяла букеты, поблагодарила своих новых знакомых, села в машину, и мы поехали. Славка на прощание посигналил всем провожавшим, а я махнула рукой. И тут я услышала голос дочки:
– Мама, мне их жалко…
Машина погрузилась в молчание. Даже Славка больше не шутил. Каждый думал о своём. И в этом удаляющемся степном пейзаже Ирина и её сыновья олицетворяли в эти минуты всех, чьи души навеки скованны цепями крепостного права. И эти современные крепостные не связаны ни цепями, ни оковами, однако их души, стремящиеся к постоянному подчинению, в плену неосознанных ограничений и жизненных обстоятельств.
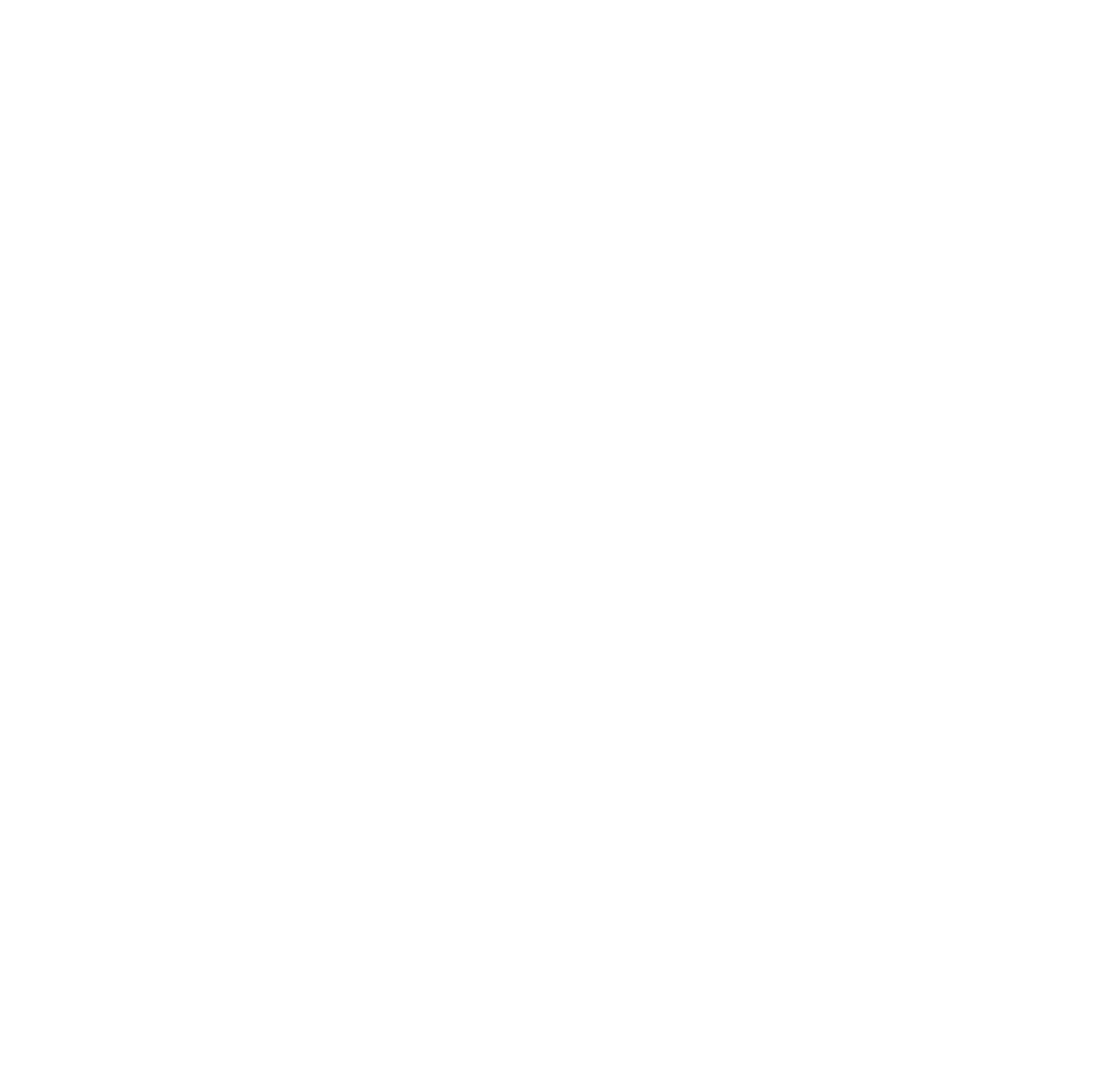
Элина КУЛИКОВА
Родилась в 1994 г. в Красноярске. В 2012 году переехала в Москву. С отличием окончила бакалавриат и магистратуру МГЮА им. О.Е. Кутафина по направлению «Международное частное право». В 2023 г. эмигрировала в Испанию, где посвятила большую часть времени изучению истории испанской и французской литературы, а также написанию своих собственных произведений.
В июле 2024 г. завершила работу над своим дебютным романом «Дневник Эрики Вин». Рассказы «Мишель» и «Старая таможня» – два первых рассказа из андалузского цикла, вышли в 14-м номере литературного альманаха «Новое слово». В октябре 2024 г. начала работу над своим вторым романом. На сегодняшний день проживаю в Каталонии.
Родилась в 1994 г. в Красноярске. В 2012 году переехала в Москву. С отличием окончила бакалавриат и магистратуру МГЮА им. О.Е. Кутафина по направлению «Международное частное право». В 2023 г. эмигрировала в Испанию, где посвятила большую часть времени изучению истории испанской и французской литературы, а также написанию своих собственных произведений.
В июле 2024 г. завершила работу над своим дебютным романом «Дневник Эрики Вин». Рассказы «Мишель» и «Старая таможня» – два первых рассказа из андалузского цикла, вышли в 14-м номере литературного альманаха «Новое слово». В октябре 2024 г. начала работу над своим вторым романом. На сегодняшний день проживаю в Каталонии.
ПОДАРОК МИТТЕРАНА
«Битва против несправедливости – это одна из самых прекрасных битв. Она определила мой политический выбор, и я по-прежнему считаю, что поступил правильно»
Франсуа Миттеран
Бернард Дюпонтель уверенной походкой вступил на кажущийся таким непрочным деревянный настил моста Симоны де Бовуар на стороне Национальной библиотеки Франции. На то он и Passerelle – декоративный образец городской переправы. Бернарду не терпелось как можно скорее пролететь эти ломаные триста метров и оказаться на той стороне реки – в XII округе Парижа, на территории так полюбившегося ему в конце прошлого года парка Берси. Сколько же обедов он провел в этом парке с октября по февраль в ожидании своего автобуса, который должен был вернуть его в родной Руан после очередной короткой командировки в Париж…
К глубокому сожалению провинции, руанские вина в Иль-де-Франсе не пользовались заметным спросом. Только красный нормандский Пино-Нуар всё ещё продолжал цепляться за перенасыщенный винами из южных регионов Франции европейский рынок. Здесь, конечно, нужно оговориться и уточнить, что относительный успех нормандских вин был во многом заслугой именно мсье Дюпонтеля, который из месяца в месяц не безуспешно обивал пороги крупнейших экспортёров французских вин. Но, если сравнить масштаб столичных успехов подобных Бернардов, прибывающих первым классом с проспектами и презентациями из Лангедок-Руссильона или Бордо, то здесь наш нормандский коммивояжёр проигрывал десятикратно.
Работодатель Бернарда Дюпонтеля был не очень доволен текущим положением дел. Компания была вынуждена поступательно сокращать площадь возделываемых виноградников, уменьшать количество производимых сортов вин и, как следствие, отказываться от всех необоснованных корпоративных трат. Бернард и его парижские командировки всё больше походили на эти самые «необоснованные траты», несмотря на небольшой, но всё же коммерческий успех.
Неприятное стремление работодателя Бернарда сэкономить на расходах на транспорт, рестораны и проживание стало прямым следствием его приятного знакомства с парком Берси. Путешествуй мсье Дюпонтель по маршруту Руан-Париж-Руан на поезде и питайся исключительно в ресторанах, подобной встречи могло бы с ним и не случиться. Но вся эта история действительно с ним приключилась. Вот и сегодня, выехав из своего маленького номера в районе метро «Олимпиадс», воодушевлённый, с небольшой ручной кладью в руке и бумажным пакетом с только что приготовленным для него услужливой девицей лет семнадцати сэндвичем пастрами, Бернард Дюпонтель широкими шагами направился к мосту Симоны де Бовуар.
На середине моста, в самой его высокой точке сильный порыв весеннего ветра, разгулявшегося над водами Сены, кратковременно пошатнул мсье Дюпонтеля вместе с его планами. Неказистая пятидесятилетняя фигура торгового служащего, подхваченная тёплым потоком, подкосилась. Ноги мсье непроизвольно стали семенить вправо – к хлипкому металлическому подобию перил. Порыв ветра ещё раз покачнул сбившуюся с траектории фигуру. Бернард, семеня маленькими шажками, подбежал ближе к краю моста, практически завалившись на ограду. Он схватился за тоненькую металлическую нить, решив так переждать порывы ветра, всматриваясь в бросающую слабые блики поверхность мутно-зелёной Сены. Щёки Бернарда покраснели то ли от ветра, а то ли от апрельского солнца. На потрескавшихся губах угадывалась чуть различимая скромная улыбка провинциала. В голове у Бернарда навязчиво крутилась мысль о том, что «если и приезжать в Париж, то только в апреле». Он предчувствовал, что встреча с парком Берси именно в апреле будет нести для него тот самый смысл, о который он запинался, но никак не мог нащупать в произведениях своих сородичей-гуманистов.
Ветер наконец-то стих, дав возможность мсье Дюпонтелю больше не переживать за шляпу. Высвободившейся рукой он, заигрывая с весной, расстегнул две верхние пуговицы своего, купленного двумя днями ранее за баснословные по меркам его зарплаты деньги, пальто. Следом он взглянул на часы. Удостоверившись, что у него в запасе ещё почти два часа, Бернард уверенно вошёл в парк.
В парке он заприметил чистую зелёную скамейку в тени раскинувшего свои ветви каштана с увесистыми белыми соцветиями. Парк в период цветения показался ему столь пленительным, что он решил совершить обзорный круг по всем трём ландшафтным зонам. Бернард не спешил сразу занять скамейку и погрузиться зубами в пастрами, а мыслями – в сюжеты взятой в библиотеке книги. Бернард внимательно изучал парк, шагая по его витиеватым дорожкам, огибающим артефакты времён винного склада.
С приходом весны парк не только расцвёл, но и стал непривычно многолюдным. Поздней осенью и зимой мсье Дюпонтнель почти не замечал в парке посетителей. Компанию ему обычно составляли спящие деревья и нахохлившиеся немногословные птицы. Сегодня же в парке кипела жизнь. В центре парка на одном из деревьев мужчина пытался разместить пиньяту в виде не то осла, не то пузатого пони. Рядом с ним на газоне у лабиринта грузная мексиканка расставляла на пластиковом столе, крытом уродливой клеёнчатой скатертью, цветные одноразовые тарелки из раздела «для праздников» из ближайшего «Monoprix». Первый же поток ветра унёс со стола большую часть уже расставленной посуды. До Бернарда долетел грубый выкрик этой самой переусердствовавшей с сервировкой мексиканки: «Jodeeeeer!» Следом из лабиринта выбежала предполагаемая дочь этой мексиканки лет восьми. Бернард Дюпонтель предположил, что это и есть виновница торжества. Последним, что увидел Бернард, проходя эту зону, было то, как мать с дочерью безуспешно пытались собрать разлетевшиеся по газону парка тарелки. Отец уже спешил к ним на помощь. Пиньята нервно крутилась на ветке векового дуба. Бернард на прощанье улыбнулся им той улыбкой, которой улыбается беззаботный человек, видя счастье незнакомого ему существа.
Ветер подул сильнее, флирт с весной пришлось прекратить. Бернард достал из сумки перчатки и натянул их на начинавшие коченеть пальцы. Интуитивно Бернард дошёл до автовокзала Берси, вход в который так удобно расположился прямо посреди парка. У входа он остановился, с неподдельным любопытством наблюдая, как на городской спортивной площадке тренируется по меньшей мере дюжина африканцев. Один из парней, видя переминающуюся с ноги на ногу фигуру Бернарда, резво подбежал к нему. Парень на резком французском поинтересовался у Бернарда: «Дедуля, что-то конкретное ищешь? Почти всё есть». Бернард вздрогнул, машинально дотронулся до полей шляпы, как бы поспешно одновременно приветствуя и прощаясь с этой массивной фигурой, развернулся и пошёл прочь от здания автобусного вокзала. Дойдя до своей скамейки, Бернард вспомнил, что так и не посмотрел на табло. Он отогнул пальцем рукав пальто и удостоверился, что времени ещё предостаточно. Бернард не мог понять, что его так выбило из колеи: это обращение к нему как к «дедку» или сам внешний вид этих накачанных парней с голыми торсами у входа на вокзал. Зимой их там не было. Да, подобные персонажи встречались ему в автобусе, но он обращал на них не больше внимания, чем на студентку-нормандку, возвращающуюся на Рождество в гости к своим родителям. Подсевший на скамейку подле Бернарда жирный светло-серый французский голубь с ярко-жёлтым неестественным клювом прервал его вялый поток мыслей.
«Что, тоже хочешь есть?» – Бернард достал из бумажного пакета сэндвич и отломил голубю кусок поджаренного мякиша. Голубь внимательно изучил предложенный кусок. Проба не состоялась. Голубь снова вспорхнул на скамейку Бернарда.
«Тогда … Может быть, мясо?»
Голубь повторил процесс внимательного изучения предложенной еды; обед снова был им проигнорирован. Видя всю эту абсурдную по птичьим меркам картину, с ближайшей ветки, напугав Бернарда, спрыгнула на своих крепких тонких ногах чёрная ворона и забрала сначала хлеб, а затем и кусочек отменного пастрами. Голубь продолжал глупо смотреть на Бернарда своими страшными неживыми глазами.
«Странный ты, в Руане таких нет».
Бернард достал книгу и погрузился в чтение, попутно медленно пережёвывая свой обед. За чтением он провёл с полчаса. Настала пора возвращаться на вокзал. Бернар впредь решил не обращать внимания на тренирующихся на площадке персонажей и пройти их как можно быстрее.
Войдя на тесную станцию, Бернард сразу увидел на табло номер своего автобуса и номер тупика, куда ему следовало пройти. Ободрённый тем, что его автобус уже прибыл на станцию, а значит, он отправится в Руан с большой вероятностью без задержки, Бернард снова улыбнулся. На этот раз его улыбка случайно нашла отклик у стоявшей рядом с ним в очереди на проверку билетов юной стройной африканке. Он смущённо отвернулся, однако боковым зрением он подметил, что она путешествует налегке. Девушка была действительно хороша собой: волосы, зачёсанные в тугой, только что сделанный пучок, маленькая, но упругая грудь, просматривающаяся под распахнутой курткой, манящие ягодицы, которыми бог наградил всех смуглых женщин, которые, в свою очередь, так умело подчёркивают это достоинство обтягивающими джинсами. Бернард даже почувствовал слабое подобие давно не испытываемого им влечения. Он снова улыбнулся и протянул свой билет водителю-контролёру. Водитель надорвал билет Бернарда и пропустил его внутрь.
Мсье Дюпонтель разместился на своём месте «10А» в первой половине автобуса. Народ постепенно заполнял своими телами подсвечивающиеся кресла, но юной незнакомки в автобусе так и не было видно. Бернард пожал плечами и посмотрел на часы – оставалось пять минут до отправления. Он снял пальто, перчатки и убрал их вместе с сумкой на полочку над своим местом. В руках у Бернарда осталась маленькая бутылочка того самого Пино-Нуар и библиотечный экземпляр «Первого человека» Камю. Не успев прочитать и пару страниц, Бернард почувствовал лёгкое прикосновение ладони к своему плечу. Перед ним стояла та самая девушка. Она спрашивала у него что-то о своём месте. Бернард сперва растерялся, буквально потерял дар речи. Девушка продолжала стоять напротив него, смотря ему прямо в глаза и что-то быстро ему говоря. Бернард не сводил с неё взгляд. Он что-то машинально ей отвечал: «Да, место «18D» находится дальше, по другую сторону...» Бернард жестикулировал, наглядно демонстрируя девушке, где той следует сесть. Она кивнула головой и быстро прошла на своё место. Бернарду показалось, что их диалог оборвался как-то неестественно. Он снова сел на своё место. Бернард списал подобный резкий поворот в поведении девушки на пробку, которая образовалась сразу за ними, мило воркующими о таком пустяке, как место «18D».
Бернард снова улыбнулся и пожал плечами. Автобус тем временем начал своё движение. Бернард по привычке поднял левую руку, чтобы убедиться, что они выезжают по расписанию. На часах стрелки изображали то самое время, указанное в распечатанном на чёрно-белом принтере автобусном билете. Бернард Дюпонтель почувствовал, как часы скатываются у него с запястья и со слабым металлическим звуком падают на пол под впереди стоящее кресло. Браслет часов оказался расстёгнут.
В момент, когда водитель стал в громкоговоритель объявлять предстоящий маршрут следования, мсье Дюпотнов впервые в жизни позволил себе громко выругаться. Но единственное, что могли услышать едущие с ним рядом пассажиры, из-за общего шума и возбуждения было короткое, но пронзительное: «Какая же сука!..» И звук открывающейся крышки вина.
«Битва против несправедливости – это одна из самых прекрасных битв. Она определила мой политический выбор, и я по-прежнему считаю, что поступил правильно»
Франсуа Миттеран
Бернард Дюпонтель уверенной походкой вступил на кажущийся таким непрочным деревянный настил моста Симоны де Бовуар на стороне Национальной библиотеки Франции. На то он и Passerelle – декоративный образец городской переправы. Бернарду не терпелось как можно скорее пролететь эти ломаные триста метров и оказаться на той стороне реки – в XII округе Парижа, на территории так полюбившегося ему в конце прошлого года парка Берси. Сколько же обедов он провел в этом парке с октября по февраль в ожидании своего автобуса, который должен был вернуть его в родной Руан после очередной короткой командировки в Париж…
К глубокому сожалению провинции, руанские вина в Иль-де-Франсе не пользовались заметным спросом. Только красный нормандский Пино-Нуар всё ещё продолжал цепляться за перенасыщенный винами из южных регионов Франции европейский рынок. Здесь, конечно, нужно оговориться и уточнить, что относительный успех нормандских вин был во многом заслугой именно мсье Дюпонтеля, который из месяца в месяц не безуспешно обивал пороги крупнейших экспортёров французских вин. Но, если сравнить масштаб столичных успехов подобных Бернардов, прибывающих первым классом с проспектами и презентациями из Лангедок-Руссильона или Бордо, то здесь наш нормандский коммивояжёр проигрывал десятикратно.
Работодатель Бернарда Дюпонтеля был не очень доволен текущим положением дел. Компания была вынуждена поступательно сокращать площадь возделываемых виноградников, уменьшать количество производимых сортов вин и, как следствие, отказываться от всех необоснованных корпоративных трат. Бернард и его парижские командировки всё больше походили на эти самые «необоснованные траты», несмотря на небольшой, но всё же коммерческий успех.
Неприятное стремление работодателя Бернарда сэкономить на расходах на транспорт, рестораны и проживание стало прямым следствием его приятного знакомства с парком Берси. Путешествуй мсье Дюпонтель по маршруту Руан-Париж-Руан на поезде и питайся исключительно в ресторанах, подобной встречи могло бы с ним и не случиться. Но вся эта история действительно с ним приключилась. Вот и сегодня, выехав из своего маленького номера в районе метро «Олимпиадс», воодушевлённый, с небольшой ручной кладью в руке и бумажным пакетом с только что приготовленным для него услужливой девицей лет семнадцати сэндвичем пастрами, Бернард Дюпонтель широкими шагами направился к мосту Симоны де Бовуар.
На середине моста, в самой его высокой точке сильный порыв весеннего ветра, разгулявшегося над водами Сены, кратковременно пошатнул мсье Дюпонтеля вместе с его планами. Неказистая пятидесятилетняя фигура торгового служащего, подхваченная тёплым потоком, подкосилась. Ноги мсье непроизвольно стали семенить вправо – к хлипкому металлическому подобию перил. Порыв ветра ещё раз покачнул сбившуюся с траектории фигуру. Бернард, семеня маленькими шажками, подбежал ближе к краю моста, практически завалившись на ограду. Он схватился за тоненькую металлическую нить, решив так переждать порывы ветра, всматриваясь в бросающую слабые блики поверхность мутно-зелёной Сены. Щёки Бернарда покраснели то ли от ветра, а то ли от апрельского солнца. На потрескавшихся губах угадывалась чуть различимая скромная улыбка провинциала. В голове у Бернарда навязчиво крутилась мысль о том, что «если и приезжать в Париж, то только в апреле». Он предчувствовал, что встреча с парком Берси именно в апреле будет нести для него тот самый смысл, о который он запинался, но никак не мог нащупать в произведениях своих сородичей-гуманистов.
Ветер наконец-то стих, дав возможность мсье Дюпонтелю больше не переживать за шляпу. Высвободившейся рукой он, заигрывая с весной, расстегнул две верхние пуговицы своего, купленного двумя днями ранее за баснословные по меркам его зарплаты деньги, пальто. Следом он взглянул на часы. Удостоверившись, что у него в запасе ещё почти два часа, Бернард уверенно вошёл в парк.
В парке он заприметил чистую зелёную скамейку в тени раскинувшего свои ветви каштана с увесистыми белыми соцветиями. Парк в период цветения показался ему столь пленительным, что он решил совершить обзорный круг по всем трём ландшафтным зонам. Бернард не спешил сразу занять скамейку и погрузиться зубами в пастрами, а мыслями – в сюжеты взятой в библиотеке книги. Бернард внимательно изучал парк, шагая по его витиеватым дорожкам, огибающим артефакты времён винного склада.
С приходом весны парк не только расцвёл, но и стал непривычно многолюдным. Поздней осенью и зимой мсье Дюпонтнель почти не замечал в парке посетителей. Компанию ему обычно составляли спящие деревья и нахохлившиеся немногословные птицы. Сегодня же в парке кипела жизнь. В центре парка на одном из деревьев мужчина пытался разместить пиньяту в виде не то осла, не то пузатого пони. Рядом с ним на газоне у лабиринта грузная мексиканка расставляла на пластиковом столе, крытом уродливой клеёнчатой скатертью, цветные одноразовые тарелки из раздела «для праздников» из ближайшего «Monoprix». Первый же поток ветра унёс со стола большую часть уже расставленной посуды. До Бернарда долетел грубый выкрик этой самой переусердствовавшей с сервировкой мексиканки: «Jodeeeeer!» Следом из лабиринта выбежала предполагаемая дочь этой мексиканки лет восьми. Бернард Дюпонтель предположил, что это и есть виновница торжества. Последним, что увидел Бернард, проходя эту зону, было то, как мать с дочерью безуспешно пытались собрать разлетевшиеся по газону парка тарелки. Отец уже спешил к ним на помощь. Пиньята нервно крутилась на ветке векового дуба. Бернард на прощанье улыбнулся им той улыбкой, которой улыбается беззаботный человек, видя счастье незнакомого ему существа.
Ветер подул сильнее, флирт с весной пришлось прекратить. Бернард достал из сумки перчатки и натянул их на начинавшие коченеть пальцы. Интуитивно Бернард дошёл до автовокзала Берси, вход в который так удобно расположился прямо посреди парка. У входа он остановился, с неподдельным любопытством наблюдая, как на городской спортивной площадке тренируется по меньшей мере дюжина африканцев. Один из парней, видя переминающуюся с ноги на ногу фигуру Бернарда, резво подбежал к нему. Парень на резком французском поинтересовался у Бернарда: «Дедуля, что-то конкретное ищешь? Почти всё есть». Бернард вздрогнул, машинально дотронулся до полей шляпы, как бы поспешно одновременно приветствуя и прощаясь с этой массивной фигурой, развернулся и пошёл прочь от здания автобусного вокзала. Дойдя до своей скамейки, Бернард вспомнил, что так и не посмотрел на табло. Он отогнул пальцем рукав пальто и удостоверился, что времени ещё предостаточно. Бернард не мог понять, что его так выбило из колеи: это обращение к нему как к «дедку» или сам внешний вид этих накачанных парней с голыми торсами у входа на вокзал. Зимой их там не было. Да, подобные персонажи встречались ему в автобусе, но он обращал на них не больше внимания, чем на студентку-нормандку, возвращающуюся на Рождество в гости к своим родителям. Подсевший на скамейку подле Бернарда жирный светло-серый французский голубь с ярко-жёлтым неестественным клювом прервал его вялый поток мыслей.
«Что, тоже хочешь есть?» – Бернард достал из бумажного пакета сэндвич и отломил голубю кусок поджаренного мякиша. Голубь внимательно изучил предложенный кусок. Проба не состоялась. Голубь снова вспорхнул на скамейку Бернарда.
«Тогда … Может быть, мясо?»
Голубь повторил процесс внимательного изучения предложенной еды; обед снова был им проигнорирован. Видя всю эту абсурдную по птичьим меркам картину, с ближайшей ветки, напугав Бернарда, спрыгнула на своих крепких тонких ногах чёрная ворона и забрала сначала хлеб, а затем и кусочек отменного пастрами. Голубь продолжал глупо смотреть на Бернарда своими страшными неживыми глазами.
«Странный ты, в Руане таких нет».
Бернард достал книгу и погрузился в чтение, попутно медленно пережёвывая свой обед. За чтением он провёл с полчаса. Настала пора возвращаться на вокзал. Бернар впредь решил не обращать внимания на тренирующихся на площадке персонажей и пройти их как можно быстрее.
Войдя на тесную станцию, Бернард сразу увидел на табло номер своего автобуса и номер тупика, куда ему следовало пройти. Ободрённый тем, что его автобус уже прибыл на станцию, а значит, он отправится в Руан с большой вероятностью без задержки, Бернард снова улыбнулся. На этот раз его улыбка случайно нашла отклик у стоявшей рядом с ним в очереди на проверку билетов юной стройной африканке. Он смущённо отвернулся, однако боковым зрением он подметил, что она путешествует налегке. Девушка была действительно хороша собой: волосы, зачёсанные в тугой, только что сделанный пучок, маленькая, но упругая грудь, просматривающаяся под распахнутой курткой, манящие ягодицы, которыми бог наградил всех смуглых женщин, которые, в свою очередь, так умело подчёркивают это достоинство обтягивающими джинсами. Бернард даже почувствовал слабое подобие давно не испытываемого им влечения. Он снова улыбнулся и протянул свой билет водителю-контролёру. Водитель надорвал билет Бернарда и пропустил его внутрь.
Мсье Дюпонтель разместился на своём месте «10А» в первой половине автобуса. Народ постепенно заполнял своими телами подсвечивающиеся кресла, но юной незнакомки в автобусе так и не было видно. Бернард пожал плечами и посмотрел на часы – оставалось пять минут до отправления. Он снял пальто, перчатки и убрал их вместе с сумкой на полочку над своим местом. В руках у Бернарда осталась маленькая бутылочка того самого Пино-Нуар и библиотечный экземпляр «Первого человека» Камю. Не успев прочитать и пару страниц, Бернард почувствовал лёгкое прикосновение ладони к своему плечу. Перед ним стояла та самая девушка. Она спрашивала у него что-то о своём месте. Бернард сперва растерялся, буквально потерял дар речи. Девушка продолжала стоять напротив него, смотря ему прямо в глаза и что-то быстро ему говоря. Бернард не сводил с неё взгляд. Он что-то машинально ей отвечал: «Да, место «18D» находится дальше, по другую сторону...» Бернард жестикулировал, наглядно демонстрируя девушке, где той следует сесть. Она кивнула головой и быстро прошла на своё место. Бернарду показалось, что их диалог оборвался как-то неестественно. Он снова сел на своё место. Бернард списал подобный резкий поворот в поведении девушки на пробку, которая образовалась сразу за ними, мило воркующими о таком пустяке, как место «18D».
Бернард снова улыбнулся и пожал плечами. Автобус тем временем начал своё движение. Бернард по привычке поднял левую руку, чтобы убедиться, что они выезжают по расписанию. На часах стрелки изображали то самое время, указанное в распечатанном на чёрно-белом принтере автобусном билете. Бернард Дюпонтель почувствовал, как часы скатываются у него с запястья и со слабым металлическим звуком падают на пол под впереди стоящее кресло. Браслет часов оказался расстёгнут.
В момент, когда водитель стал в громкоговоритель объявлять предстоящий маршрут следования, мсье Дюпотнов впервые в жизни позволил себе громко выругаться. Но единственное, что могли услышать едущие с ним рядом пассажиры, из-за общего шума и возбуждения было короткое, но пронзительное: «Какая же сука!..» И звук открывающейся крышки вина.
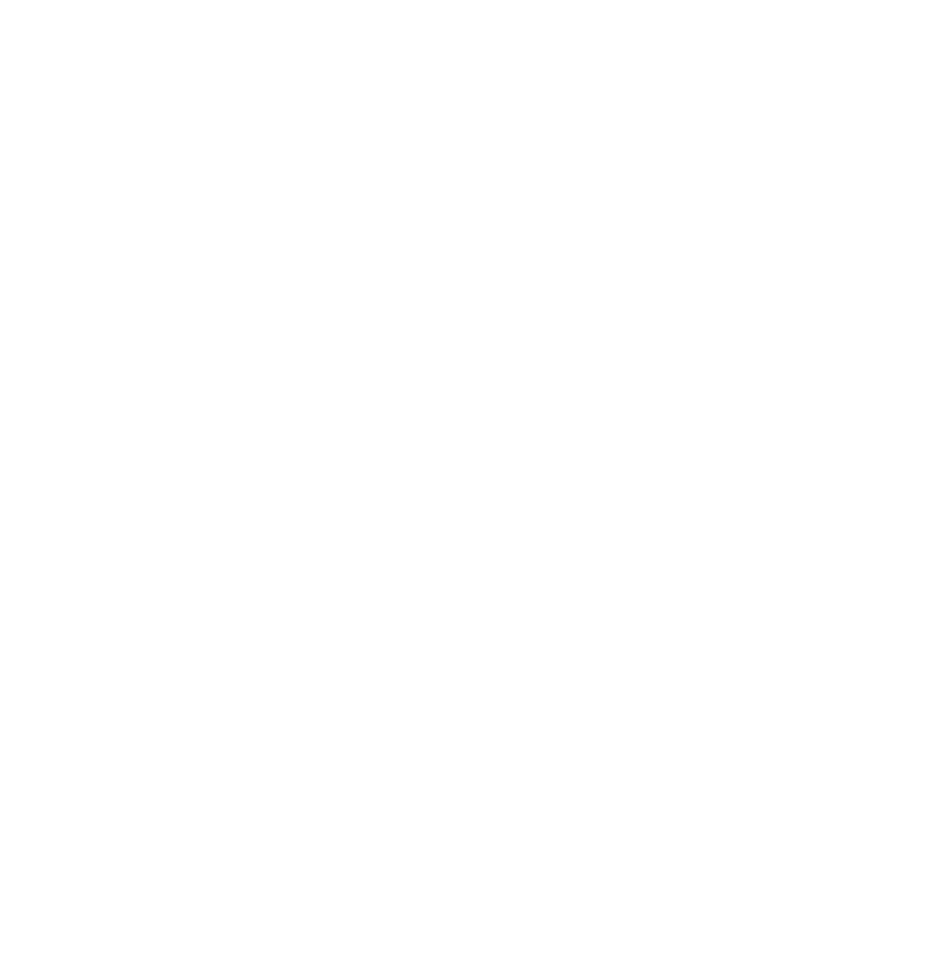
Алина САМОЙЛЕНКО
Родилась в г. Снежное Донецкой области в 1994 году. Мама у меня школьный учитель, с самого детства она окружила меня заботой и теплом. Закончила я Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по специальности «Строительство». Работаю в сфере кадастрового учета. Но порывы души никуда не денешь и писательство - это как раз то что нужно. Почему-то мне всегда были интересны секреты любви, и почему кому-то она достаётся так просто и легко, а иные так и не испытывают её за всю свою жизнь; секрет веры и до какой степени мы готовы дойти в своей преданности; секрет дружбы и существует ли то, что способно расстроить даже самую крепкую духовную связь или тогда она не так уж и крепка; секрет надежды, страха, мужества, ненависти и множество других чувств.
Родилась в г. Снежное Донецкой области в 1994 году. Мама у меня школьный учитель, с самого детства она окружила меня заботой и теплом. Закончила я Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по специальности «Строительство». Работаю в сфере кадастрового учета. Но порывы души никуда не денешь и писательство - это как раз то что нужно. Почему-то мне всегда были интересны секреты любви, и почему кому-то она достаётся так просто и легко, а иные так и не испытывают её за всю свою жизнь; секрет веры и до какой степени мы готовы дойти в своей преданности; секрет дружбы и существует ли то, что способно расстроить даже самую крепкую духовную связь или тогда она не так уж и крепка; секрет надежды, страха, мужества, ненависти и множество других чувств.
МИРЫ
У каждого есть свой мир, а в нём свои порядки…Что происходит, когда они сталкиваются?
Одна бабочка ночью впадала в спячку, а днём летала, наслаждаясь красотой этого мира. Она любила, как её разноцветные крылышки переливались на солнышке, как оно грело её своими лучами. Был у неё друг жук, но его мир отличался от её. Он любил ползать по земле и наслаждался сыростью и мягкостью опавших листьев. Ему нравилось улавливать запахи омертвевшей древесины, а ей – вдыхать ароматы цветов.
Но всё же в те редкие моменты после дождя им обоим нравилось сидеть в траве и наслаждаться каждый своим. Бабочка ловила первые лучи солнышка (после дождя оно почему-то было особенно ласковым), а жук наслаждался влажностью травинок. Тогда-то они и познакомились. Их радовало общество друг друга настолько, что иногда бабочка не замечала, как дождь начинался снова, а жук мог не сразу понять, что лучи опаляют сильнее, чем он может выдержать.
Их дружбу нельзя назвать идеальной. Бывало, когда жук не понимал стремления бабочки к солнцу, а она не могла разделить с ним моменты погружения в сырую землю. Но почему-то она волновалась за него, когда наступали времена долгой засухи, и жук не мог найти себе место, чтобы переждать её. А он испытывал тревогу, если перед дождем бабочка не успевала найти укрытие. Их жизненные ориентиры отличались, но они решились впустить в свои маленькие миры друг друга.
Всё заканчивается, и их жизни тоже не долгие, но в свои последние минуты они будут уверены, что их дружба стоила самой длинной жизни в одиночестве.
ВЕЛИКАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СИЛА
Небеса – неизведанные дали! Но там тоже царит жизнь. Это волшебное королевство со множеством существ, каждое из которых играет важную роль в жизни людей, хотя они даже не подозревают об этом.
Кто бы знал, ведь это целое королевство!
И есть у него король: величественный, он сидит на белоснежном облаке. Его длинные серебристые волосы ниспадают водопадом. Его маленькие помощницы, феечки снега и дождя, расчёсывают их своими гребешками. Король очень чтит порядок, поэтому феи снега чередуют свою работу с феями дождя.
Когда ручонки маленьких снежных фей касаются волос владыки, по ним на землю катится множество снежинок! Бывает, они настолько увлечены своим действом, что не замечают ничего вокруг, всё расчёсывают и расчёсывают, а снег всё катится и катится… но бывает, так устанут, что и вовсе пропустят свою очередь. Когда же наступает очередь феям дождя навести порядок на голове короля, их восторгу нет предела! Их смех раздаётся по всему королевству, фейерверки взрываются, освещая всю землю! А с волос господина скатываются серебристые капли. Но все любят повалять дурака, и наши феи дождя позволяют себе отдохнуть лишний денёк.
Бывает период, когда все феи отдыхают, но знайте: они лишь набираются сил, чтобы продолжить свою работу с ещё большим рвением!
Однажды дождинки уснули на мягком облаке и долго не просыпались. Время снежинок ещё не пришло, поэтому и они где-то пропадали. Король был в ярости, всё его существо негодовало, всё его лицо пылало от возмущения, освещая всё вокруг. Да как они посмели! Земле было невыносимо жарко, душно. И тогда король попросил у людей помощи. Если он не может разбудить фей, то пусть люди попробуют до них докричаться!
Урожаи погибали, скотина мучилась от голода, люди потихоньку теряли всё, что есть. У них не осталось ничего, кроме их веры. И они стали звать! Их голоса, полные надежды, звенели громче любого другого зова. Небу не услышать человеческих слов, только ВЕРА способна донести их ввысь! А у этих людей ОНА была!
Настолько сильна оказалась их ВЕРА, что феи дождя почуяли её сквозь самый непробудный сон! Сам король не способен был его прервать, а у людей получилось.
И снова они принялись за свою работу, от восхищения над людьми, над их ВЕРОЙ, феи работали с ещё большим рвением и оптимизмом! Ведь если существует у людей такая сила, которая может превзойти самого короля, как можно ими не восхищаться?!..
Люди и не догадываются, какой силой могли бы обладать, если бы ВЕРИЛИ!
Дом…
ЧТО ЭТО ДЛЯ ВАС?
Жила-была капля; маленькая, прозрачная, она блуждала по рекам, озерам, морям, океанам. И была её жизнь полна уныния и печали. А всё из-за одного убеждения, что раз она вынуждена постоянно путешествовать и ей некуда возвращаться, значит, она несчастна и нет смысла в её существовании.
Животные, которых она встречала на своем пути, рассказывали ей, что им нужно спешить к себе ДОМОЙ, накормить детей или укрепить жилище, что их предназначение – забота о потомстве и ДОМЕ.
Но она никогда не разговаривала с реками, озерами, морями, океанами. А они шептали ей, но она слишком печалилась, не слушая их.
И вот однажды капелька оказалась на тучке: её она услышала, это была грозовая туча, гром её голоса раздавался на всю округу:
– Добро пожаловать, ты ДОМА, – сказала она.
Капля было обрадовалась:
– Неужто я нашла его – место, где меня ждали, где мне рады и не прогонят, где можно остаться?..
– А ты хочешь остаться? – спросила тучка.
Капля тут же хотела ответить, что всё просто: конечно, она к этому и стремилась – просто найти свое место и жить спокойно. Но вдруг вспомнила нежные прикосновения озер и как танцевала по извилистым дорогам рек, как наслаждалась силой морских волн, как чувство свободы пьянило её в бескрайнем океане. Сможет ли она променять всё это на мягкие объятия тучки? Нет! Но неужели ей не суждено найти пристанище в этом мире, её ДОМ? И она же сама от него отказывается?
Туча, увидев её сомнения, спросила:
– Ты считаешь, дом может быть там, где нет тебя? Тогда ты никогда не найдешь свое место.
– Но как же так, нужно же к кому-то возвращаться, где будут постоянно ждать и принимать. Где будет всё моё, родное и знакомое. Где будет легко всегда, – разочарование охватывало капельку всё больше, но надежда не исчезала.
– То родное и знакомое для тебя в первую очередь – ты. Разве нет? Кого ещё ты знаешь дольше? С кем ты была всегда, что бы ни случилось, в любом виде и в любой ситуации? Кто давал тебе шанс каждый день двигаться дальше? С кем было легко, а ты даже не замечала и не ценила? Кто заждался твоего возвращения на самом деле? Ты должна окончательно вернуться к себе!
Капля начинала понимать. «Дом – это я? Как такое возможно? Всё было так близко! Всё, что мне нужно, это прислушиваться к себе и двигаться дальше».
Вскоре она покинула тучку, поблагодарив за помощь в поисках дома.
Океан принял её, как старого друга. На этот раз она старалась почувствовать всё сполна – всё, что раньше заглушало её уныние. И вдруг она расслышала шёпот. «Добро пожаловать, ты – дома!» – это говорил океан. Чувство эйфории окутало её. Теперь, где бы она ни была, она была дома. Она нашла его в себе.
Порой мы ищем то, что не сможем найти вне собственной души. И страдаем от разочарований, когда не находим. Но всё так просто, потому что искать, оказывается, нужно совсем рядом. Но нет ничего сложнее, чем научиться понимать собственную душу.
ЖИЛА-БЫЛА НА СВЕТЕ МЕЧТА
Жила-была на свете мечта, жила она в сердце одного человека.
Зародилась она в нём в то время, когда из всего, что может испытать сердце, оно ещё не испытало ни любви, ни ненависти. Ни одно из этих чувств не посмело завладеть им, ведь одно их прикосновение могло погубить его. Любовь, ненависть всегда приносят с собой боль, много боли, и чтобы вынести её, нужно обладать тем, что будет давать силы, в то время как боль забирает их.
Сначала это было желание жить, видеть маму. Но в один момент, наверное, один из тех переломных моментов жизни, мечта будто повзрослела. Это случилось, возможно, во время прочтения хорошей книги или услышанной истории, трудно определить то самое мгновение. Но уже ничего нельзя было изменить: человек начал мечтать о дружбе. Да, оказывается, можно с самого детства грезить о настоящем друге; верить, что настоящая верность существует, и желать её больше всего на свете. Ведь если ты мечтаешь о чём-то, значит, ты веришь в его существование, иначе это не мечта, а мука: хотеть того, чего, ты знаешь, нет в этом мире! А он знал, что есть, хоть никогда и не видел, просто знал. Со временем повзрослев, но так и не дождавшись исполнения мечты, человек уже не знал, он просто надеялся… Вот в чём различие детей и взрослых: дети точно уверены в своих идеалах, взрослые же уже начинают сомневаться.
В поисках он сам старался быть таким, каким представлял себе друга.
Сколько было моментов, когда человек думал, что он встретил, наконец, того самого? Много… Это были друзья, но они не задерживались надолго. И тут он начал задумываться: а может ли дружба вообще длиться долго? Возможно, это короткое явление в жизни, от недели до нескольких лет, и им нужно просто насладиться, пока оно ещё есть.
Друзья даются нам, чтобы пережить определённый период жизни: то ли счастье, то ли несчастье. И в том, и в другом нам нужна поддержка, счастье тоже становится непосильной ношей без близких людей. Потом, за ненадобностью судьба разводит нас.
А человек мечтал о редком явлении! Дружбе на века! Мечта сбылась наполовину: у него есть друзья, и сейчас они с ним, но никто не знает, надолго ли это. Человек просто надеется…
ПРОСТО ЛЮБИ
Вы знали? Души общаются между собой без нашего ведома. И порой они ничего не могут поделать с последствиями выбора человека, как бы ни старались.
Были времена, когда люди ещё помнили, не искали смысл жизни, не разочаровывались, потому что знали причину всего и вся вокруг. Но сейчас все забыли. Только человеческие души, которым много лет, помнят всё, с человеком они общаются с помощью сердца, но их очень редко слушают.
Иногда оно отчаянно кричит, желая рассказать правду, но человек намеренно заглушает его зов.
Жила в одном сильном человеке душа, и только она знала, как он слаб. Многое он пережил и многим пожертвовал, но считал, что всё необходимое у него теперь есть, и он – победитель в жизненной войне. Но не было у человека согласия со своим сердцем. Наедине с собой он чувствовал нехватку чего-то, но настолько отгородился от правды, которую забыл, что никого и ничего не слушал и не слышал.
Душа отчаянно пыталась к нему достучаться. Сердце не выдержало такого напора и однажды подвело человека. На границе между жизнью и смертью встретился он лицом к лицу со своей душой. Человек был расстроен: всё, чего он с таким трудом добивался, за что боролся, зачем теперь ему? Он не понимал, в чем ошибся.
И вдруг услышал голос: «Как ты думаешь, человек, что на самом деле нас спасает?»
Он не знал, что ответить и надо ли, но прошептал: «Не знаю, не знаю. Теперь ничего не понимаю; всё, что, я думал, мне необходимо в этой жизни, оказалось бесполезным на пороге смерти…»
Наконец-то у души была возможность разговаривать с человеком: «Вспомни, когда ты был счастлив последний раз?»
Вспомнил человек всю свою жизнь в этот момент и времена, когда все испытания только начинались; тогда было особенно сложно, потому что он не был готов к ним. В то время он почему-то и был счастлив. Любил жизнь, надеялся на лучшее и считал, что со всем справится. Но столкнувшись с очередным препятствием, решил, что всё, что у него есть, это глупость, наивность, слабость. Поэтому со временем решил избавиться от лишнего в своем сердце. Слово «любовь» для него стало ничего не значащим существительным, он старался избегать его в разговорах даже с самим собой. Но как же он ошибался. Никто и ничто не приносит счастья и не способно спасти его ни при жизни, ни при смерти, кроме любви в сердце, которую он так старался заглушить.
У души нет нужды всё рассказывать человеку, он сам всё когда-то знал, просто забыл, она лишь хотела подтолкнуть его вспомнить всё.
Этому человеку всё же был дан шанс жить дальше и просто ЛЮБИТЬ. Но не всем так везёт.
Мы думаем, что только очерствев, сможем выстоять во время трудностей, как каменная глыба во время урагана. Но откуда нам было знать, что всё, что движет этой глыбой, что заставляет оставаться на месте, не смотря на ветер, это ЛЮБОВЬ к земле, на которой она стоит.
На самом деле всё, что действительно придает нам сил, это трепет в сердце, умение разговаривать со своей душой.
У каждого есть свой мир, а в нём свои порядки…Что происходит, когда они сталкиваются?
Одна бабочка ночью впадала в спячку, а днём летала, наслаждаясь красотой этого мира. Она любила, как её разноцветные крылышки переливались на солнышке, как оно грело её своими лучами. Был у неё друг жук, но его мир отличался от её. Он любил ползать по земле и наслаждался сыростью и мягкостью опавших листьев. Ему нравилось улавливать запахи омертвевшей древесины, а ей – вдыхать ароматы цветов.
Но всё же в те редкие моменты после дождя им обоим нравилось сидеть в траве и наслаждаться каждый своим. Бабочка ловила первые лучи солнышка (после дождя оно почему-то было особенно ласковым), а жук наслаждался влажностью травинок. Тогда-то они и познакомились. Их радовало общество друг друга настолько, что иногда бабочка не замечала, как дождь начинался снова, а жук мог не сразу понять, что лучи опаляют сильнее, чем он может выдержать.
Их дружбу нельзя назвать идеальной. Бывало, когда жук не понимал стремления бабочки к солнцу, а она не могла разделить с ним моменты погружения в сырую землю. Но почему-то она волновалась за него, когда наступали времена долгой засухи, и жук не мог найти себе место, чтобы переждать её. А он испытывал тревогу, если перед дождем бабочка не успевала найти укрытие. Их жизненные ориентиры отличались, но они решились впустить в свои маленькие миры друг друга.
Всё заканчивается, и их жизни тоже не долгие, но в свои последние минуты они будут уверены, что их дружба стоила самой длинной жизни в одиночестве.
ВЕЛИКАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СИЛА
Небеса – неизведанные дали! Но там тоже царит жизнь. Это волшебное королевство со множеством существ, каждое из которых играет важную роль в жизни людей, хотя они даже не подозревают об этом.
Кто бы знал, ведь это целое королевство!
И есть у него король: величественный, он сидит на белоснежном облаке. Его длинные серебристые волосы ниспадают водопадом. Его маленькие помощницы, феечки снега и дождя, расчёсывают их своими гребешками. Король очень чтит порядок, поэтому феи снега чередуют свою работу с феями дождя.
Когда ручонки маленьких снежных фей касаются волос владыки, по ним на землю катится множество снежинок! Бывает, они настолько увлечены своим действом, что не замечают ничего вокруг, всё расчёсывают и расчёсывают, а снег всё катится и катится… но бывает, так устанут, что и вовсе пропустят свою очередь. Когда же наступает очередь феям дождя навести порядок на голове короля, их восторгу нет предела! Их смех раздаётся по всему королевству, фейерверки взрываются, освещая всю землю! А с волос господина скатываются серебристые капли. Но все любят повалять дурака, и наши феи дождя позволяют себе отдохнуть лишний денёк.
Бывает период, когда все феи отдыхают, но знайте: они лишь набираются сил, чтобы продолжить свою работу с ещё большим рвением!
Однажды дождинки уснули на мягком облаке и долго не просыпались. Время снежинок ещё не пришло, поэтому и они где-то пропадали. Король был в ярости, всё его существо негодовало, всё его лицо пылало от возмущения, освещая всё вокруг. Да как они посмели! Земле было невыносимо жарко, душно. И тогда король попросил у людей помощи. Если он не может разбудить фей, то пусть люди попробуют до них докричаться!
Урожаи погибали, скотина мучилась от голода, люди потихоньку теряли всё, что есть. У них не осталось ничего, кроме их веры. И они стали звать! Их голоса, полные надежды, звенели громче любого другого зова. Небу не услышать человеческих слов, только ВЕРА способна донести их ввысь! А у этих людей ОНА была!
Настолько сильна оказалась их ВЕРА, что феи дождя почуяли её сквозь самый непробудный сон! Сам король не способен был его прервать, а у людей получилось.
И снова они принялись за свою работу, от восхищения над людьми, над их ВЕРОЙ, феи работали с ещё большим рвением и оптимизмом! Ведь если существует у людей такая сила, которая может превзойти самого короля, как можно ими не восхищаться?!..
Люди и не догадываются, какой силой могли бы обладать, если бы ВЕРИЛИ!
Дом…
ЧТО ЭТО ДЛЯ ВАС?
Жила-была капля; маленькая, прозрачная, она блуждала по рекам, озерам, морям, океанам. И была её жизнь полна уныния и печали. А всё из-за одного убеждения, что раз она вынуждена постоянно путешествовать и ей некуда возвращаться, значит, она несчастна и нет смысла в её существовании.
Животные, которых она встречала на своем пути, рассказывали ей, что им нужно спешить к себе ДОМОЙ, накормить детей или укрепить жилище, что их предназначение – забота о потомстве и ДОМЕ.
Но она никогда не разговаривала с реками, озерами, морями, океанами. А они шептали ей, но она слишком печалилась, не слушая их.
И вот однажды капелька оказалась на тучке: её она услышала, это была грозовая туча, гром её голоса раздавался на всю округу:
– Добро пожаловать, ты ДОМА, – сказала она.
Капля было обрадовалась:
– Неужто я нашла его – место, где меня ждали, где мне рады и не прогонят, где можно остаться?..
– А ты хочешь остаться? – спросила тучка.
Капля тут же хотела ответить, что всё просто: конечно, она к этому и стремилась – просто найти свое место и жить спокойно. Но вдруг вспомнила нежные прикосновения озер и как танцевала по извилистым дорогам рек, как наслаждалась силой морских волн, как чувство свободы пьянило её в бескрайнем океане. Сможет ли она променять всё это на мягкие объятия тучки? Нет! Но неужели ей не суждено найти пристанище в этом мире, её ДОМ? И она же сама от него отказывается?
Туча, увидев её сомнения, спросила:
– Ты считаешь, дом может быть там, где нет тебя? Тогда ты никогда не найдешь свое место.
– Но как же так, нужно же к кому-то возвращаться, где будут постоянно ждать и принимать. Где будет всё моё, родное и знакомое. Где будет легко всегда, – разочарование охватывало капельку всё больше, но надежда не исчезала.
– То родное и знакомое для тебя в первую очередь – ты. Разве нет? Кого ещё ты знаешь дольше? С кем ты была всегда, что бы ни случилось, в любом виде и в любой ситуации? Кто давал тебе шанс каждый день двигаться дальше? С кем было легко, а ты даже не замечала и не ценила? Кто заждался твоего возвращения на самом деле? Ты должна окончательно вернуться к себе!
Капля начинала понимать. «Дом – это я? Как такое возможно? Всё было так близко! Всё, что мне нужно, это прислушиваться к себе и двигаться дальше».
Вскоре она покинула тучку, поблагодарив за помощь в поисках дома.
Океан принял её, как старого друга. На этот раз она старалась почувствовать всё сполна – всё, что раньше заглушало её уныние. И вдруг она расслышала шёпот. «Добро пожаловать, ты – дома!» – это говорил океан. Чувство эйфории окутало её. Теперь, где бы она ни была, она была дома. Она нашла его в себе.
Порой мы ищем то, что не сможем найти вне собственной души. И страдаем от разочарований, когда не находим. Но всё так просто, потому что искать, оказывается, нужно совсем рядом. Но нет ничего сложнее, чем научиться понимать собственную душу.
ЖИЛА-БЫЛА НА СВЕТЕ МЕЧТА
Жила-была на свете мечта, жила она в сердце одного человека.
Зародилась она в нём в то время, когда из всего, что может испытать сердце, оно ещё не испытало ни любви, ни ненависти. Ни одно из этих чувств не посмело завладеть им, ведь одно их прикосновение могло погубить его. Любовь, ненависть всегда приносят с собой боль, много боли, и чтобы вынести её, нужно обладать тем, что будет давать силы, в то время как боль забирает их.
Сначала это было желание жить, видеть маму. Но в один момент, наверное, один из тех переломных моментов жизни, мечта будто повзрослела. Это случилось, возможно, во время прочтения хорошей книги или услышанной истории, трудно определить то самое мгновение. Но уже ничего нельзя было изменить: человек начал мечтать о дружбе. Да, оказывается, можно с самого детства грезить о настоящем друге; верить, что настоящая верность существует, и желать её больше всего на свете. Ведь если ты мечтаешь о чём-то, значит, ты веришь в его существование, иначе это не мечта, а мука: хотеть того, чего, ты знаешь, нет в этом мире! А он знал, что есть, хоть никогда и не видел, просто знал. Со временем повзрослев, но так и не дождавшись исполнения мечты, человек уже не знал, он просто надеялся… Вот в чём различие детей и взрослых: дети точно уверены в своих идеалах, взрослые же уже начинают сомневаться.
В поисках он сам старался быть таким, каким представлял себе друга.
Сколько было моментов, когда человек думал, что он встретил, наконец, того самого? Много… Это были друзья, но они не задерживались надолго. И тут он начал задумываться: а может ли дружба вообще длиться долго? Возможно, это короткое явление в жизни, от недели до нескольких лет, и им нужно просто насладиться, пока оно ещё есть.
Друзья даются нам, чтобы пережить определённый период жизни: то ли счастье, то ли несчастье. И в том, и в другом нам нужна поддержка, счастье тоже становится непосильной ношей без близких людей. Потом, за ненадобностью судьба разводит нас.
А человек мечтал о редком явлении! Дружбе на века! Мечта сбылась наполовину: у него есть друзья, и сейчас они с ним, но никто не знает, надолго ли это. Человек просто надеется…
ПРОСТО ЛЮБИ
Вы знали? Души общаются между собой без нашего ведома. И порой они ничего не могут поделать с последствиями выбора человека, как бы ни старались.
Были времена, когда люди ещё помнили, не искали смысл жизни, не разочаровывались, потому что знали причину всего и вся вокруг. Но сейчас все забыли. Только человеческие души, которым много лет, помнят всё, с человеком они общаются с помощью сердца, но их очень редко слушают.
Иногда оно отчаянно кричит, желая рассказать правду, но человек намеренно заглушает его зов.
Жила в одном сильном человеке душа, и только она знала, как он слаб. Многое он пережил и многим пожертвовал, но считал, что всё необходимое у него теперь есть, и он – победитель в жизненной войне. Но не было у человека согласия со своим сердцем. Наедине с собой он чувствовал нехватку чего-то, но настолько отгородился от правды, которую забыл, что никого и ничего не слушал и не слышал.
Душа отчаянно пыталась к нему достучаться. Сердце не выдержало такого напора и однажды подвело человека. На границе между жизнью и смертью встретился он лицом к лицу со своей душой. Человек был расстроен: всё, чего он с таким трудом добивался, за что боролся, зачем теперь ему? Он не понимал, в чем ошибся.
И вдруг услышал голос: «Как ты думаешь, человек, что на самом деле нас спасает?»
Он не знал, что ответить и надо ли, но прошептал: «Не знаю, не знаю. Теперь ничего не понимаю; всё, что, я думал, мне необходимо в этой жизни, оказалось бесполезным на пороге смерти…»
Наконец-то у души была возможность разговаривать с человеком: «Вспомни, когда ты был счастлив последний раз?»
Вспомнил человек всю свою жизнь в этот момент и времена, когда все испытания только начинались; тогда было особенно сложно, потому что он не был готов к ним. В то время он почему-то и был счастлив. Любил жизнь, надеялся на лучшее и считал, что со всем справится. Но столкнувшись с очередным препятствием, решил, что всё, что у него есть, это глупость, наивность, слабость. Поэтому со временем решил избавиться от лишнего в своем сердце. Слово «любовь» для него стало ничего не значащим существительным, он старался избегать его в разговорах даже с самим собой. Но как же он ошибался. Никто и ничто не приносит счастья и не способно спасти его ни при жизни, ни при смерти, кроме любви в сердце, которую он так старался заглушить.
У души нет нужды всё рассказывать человеку, он сам всё когда-то знал, просто забыл, она лишь хотела подтолкнуть его вспомнить всё.
Этому человеку всё же был дан шанс жить дальше и просто ЛЮБИТЬ. Но не всем так везёт.
Мы думаем, что только очерствев, сможем выстоять во время трудностей, как каменная глыба во время урагана. Но откуда нам было знать, что всё, что движет этой глыбой, что заставляет оставаться на месте, не смотря на ветер, это ЛЮБОВЬ к земле, на которой она стоит.
На самом деле всё, что действительно придает нам сил, это трепет в сердце, умение разговаривать со своей душой.
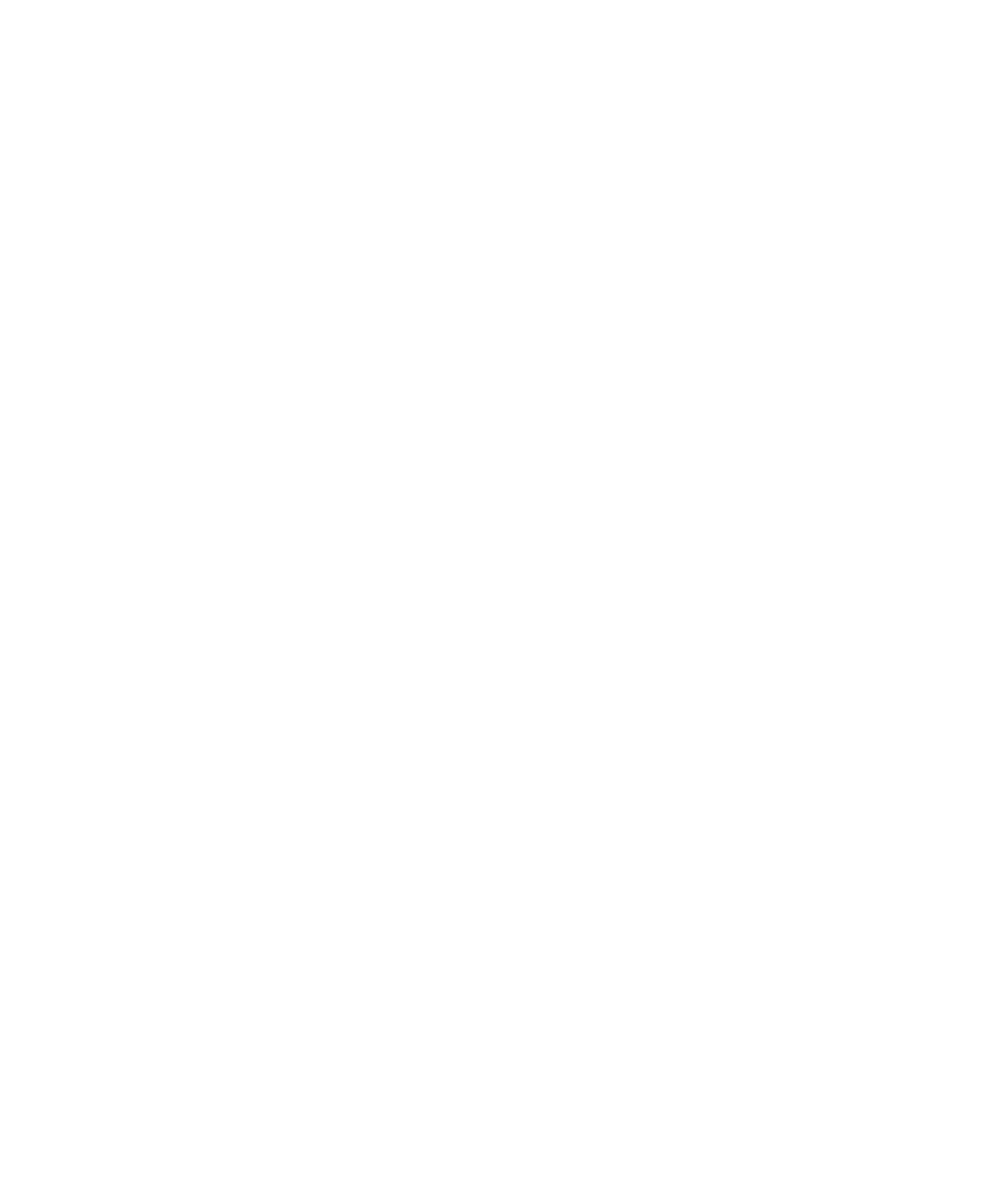
Александр КОРОЛЕВ
Родился в Тюмени в 1970 году. После окончания МГЛУ в 1994 году живет и работает в Москве. Успешно прошел два курса писательского мастерства в школе BAND. Свои тексты начал писать сравнительно недавно, некоторые из них опубликованы на литературной платформе «проза.ру».
Начинал с малой литературной формы – рассказы и новеллы с психологическим и остросюжетным уклоном. Также есть черновики более объемных произведений, которые вскоре будут представлены на суд уважаемых читателей.
Родился в Тюмени в 1970 году. После окончания МГЛУ в 1994 году живет и работает в Москве. Успешно прошел два курса писательского мастерства в школе BAND. Свои тексты начал писать сравнительно недавно, некоторые из них опубликованы на литературной платформе «проза.ру».
Начинал с малой литературной формы – рассказы и новеллы с психологическим и остросюжетным уклоном. Также есть черновики более объемных произведений, которые вскоре будут представлены на суд уважаемых читателей.
ВСТРЕЧИ НА ДОРОГАХ
Ветер гонял сухую пыль по дороге. Пыль залетала в глаза и скрипела на зубах. Егор стоял возле своей заглохшей машины и яростно проклинал китайский автопром. Движок не подавал никаких признаков жизни. Последняя надежда на спасение угасала вместе с тающей зарядкой телефона. Еще один непринятый звонок другу и батарея окончательно сдохла. «Вот же!..» – Егор в отчаянии пнул ногой колесо.
Выгоревшая дотла степь раскинулась серо-желтым одеялом до самого горизонта. Положение не завидное: Егор застрял в полуденной жаре на полпути между Ставрополем и Элистой. Друзья пригласили его на рыбалку на астраханскую «Ривьеру». Он уверенно преодолел первые двести километров, но на подъезде к Подкумскому району навигатор, предлагая сэкономить полчаса пути, увел его с основной трассы на третьестепенную, затерянную в глухой степи грунтовую дорогу. Он огляделся: вокруг – ни куста, ни дерева. Подумать только, был уже конец сентября, но температура по ощущениям зашкаливала за сорок градусов. Он сел в тени от машины, надвинул на глаза бейсболку и приготовился умереть от зноя или жажды.
В последнее время Егор все чаще наступал на темную полосу жизни. Еще недавно он был счастливым мужем и отцом, но брак дал трещину, которая расходилась все глубже и глубже. Жена ушла в себя, замкнулась. Что-то сломалось в тонко настроенном механизме их отношений, они были с ней уже не на одной волне, как раньше. Последние месяцы были переполнены упреками, скандалами и мучительной неопределенностью. Егор не был заядлым рыбаком, но решил хотя бы на пару дней вырваться из угнетающего круга. Он мог полететь на самолете, и уже вчера был бы на базе, но он сел за руль, чтобы в полном одиночестве под монотонный шум мотора погрузиться в себя и разобраться со своей жизнью. Перед отъездом дочка положила ему в сумку пакет своих любимых леденцов: «Ты вернешься?» Егор посмотрел в ее мокрые глаза и вдруг понял, что не знает ответа на этот очень простой вопрос.
Жена забрала дочку и уехала к матери. «Катись на свою рыбалку и не вздумай нам больше звонить!» – сказала она на прощанье. Мысль о возможной разлуке с дочкой терзала его особенно мучительно.
Солнце замерло в зените. Прошло два часа.
Вдруг вдалеке послышался шум мотора. Егор вскочил на ноги и кинулся к обочине; к нему, поднимая облака пыли, приближался темный внедорожник. Егор что есть силы замахал руками и едва не выскочил под колеса. Внедорожник притормозил, тонированное стекло опустилось.
– Загораешь? – спросил хриплый голос.
– Вот, движок накрылся, – развел руками Егор. – Помощь нужна.
– Помощь, она всем нужна, – философски ответил водитель. – Куда ехал?
– В Камызяк, на Волгу!
– Далеко однако.
Водитель внедорожника замолчал. Прошло секунд двадцать.
– Ладно, рыбак, кидай трос, подтяну до шоссе. А то ты тут на жаре ласты склеишь. Но дальше не смогу, у меня дела.
Обжигаясь о раскаленный метал, Егор накинул трос на крюк внедорожника, залез в машину и перевел коробку передач на нейтралку. Пот затекал в глаза, насквозь мокрая одежда липла к телу. Наконец из окна внедорожника высунулась рука с огромным золотым браслетом и, словно жезл полководца, махнула вперед. Егор с облегчением выдохнул и отпустил педаль тормоза. Соединенные тросом, как велосипедные шестеренки, машины медленно покатились к расплавленному горизонту. Воздух замер в тяжелом оцепенении, и казалось, машины с трудом преодолевали его вязкое сопротивление.
Подъехав к шоссе, внедорожник остановился. Из окна джипа снова высунулась рука и помахала Егору. Он подошел к приоткрытому окну. В темноте салона он разглядел худое, высохшее, как прошлогодняя кора, лицо мужчины в темных очках.
– Приехали, братан. Отцепляй, – сказал он. – Тут тебя на шоссе мигом подберут. Но пообещай мне одну вещь.
– Да, конечно, – не раздумывая, ответил Егор.
– Короче, если что, ты меня не видел и не встречал, – водитель в упор посмотрел на Егора. – Лады?
Даже из-под черных очков Егор почувствовал его тяжелый пронизывающий взгляд.
– Понял. Никого не видел, ничего не слышал, – как заговоренный, подтвердил Егор.
– Молоток! Ну, будь здоров! – стекло медленно закрылось. Внедорожник развернулся и рванул в обратную сторону от шоссе.
Не успел Егор включить аварийку и вылезти из машины, как тут же проезжающий мимо КамАЗ радостно заморгал фарами и остановился. Передок кабины, обвешенный лампочками, переливался, как новогодняя гирлянда. Вверху на лобовом стекле красовалась огромная табличка «ВОВАН».
– Куда едешь? – Вован высунул в окно лысую голову.
– На рыбалку в Камызяк, – ответил Егор.
– Понял, цепляй трос!
Вован подтащил его к ближайшей станции автосервиса. Виртуозно подогнав машину Егора к воротам, он вышел из кабины и помог Егору отцепить трос.
– Ну, бывай, рыбак, – он похлопал Егора по плечу. – И запомни: сомов надо готовить на гриле! Точно тебе говорю.
Пока мужики на сервисе копошились под капотом его машины, Егор ходил по коридору и рассматривал все, что висело на стенах: сертификаты, прайс-листы, вырезки из мужских журналов с девицами в пышных формах. И вдруг в глаза бросилось объявление: «УВД Подкумского района разыскивает ОСОБО опасного преступника». Он оцепенел. В черно-белой копии фоторобота он узнал водителя внедорожника.
«Если вы видели его, просьба СРОЧНО сообщить в ближайшее отделение полиции».
– Эй, парень, с тебя пять штук и можешь ехать.
К Егору подошел мастер в насквозь засаленной робе. В воздухе распространился тяжелый запах перегара.
– Тут делов-то было на полчаса. Китайцы, они и есть китайцы.
Егор, не отрываясь, смотрел на фоторобот. На фотографии мужчина был без темных очков, и Егору показалось, что в глазах его была тяжелая боль.
– Менты повесили два дня назад, – объяснил мастер. – Говорят, этот тип такое натворил, мама дорогая! Киллер вроде или еще хуже. Говорят, местная братва его дочь выкрала…
Мастер криво ухмыльнулся.
– Так он устроил разборки: только успевали жмуриков вывозить...
Егор повернулся к мастеру.
– А что с дочерью? – почти шепотом спросил он.
– Угадай с трёх раз, – хмыкнул мастер.
Егор ошарашенно смотрел на мастера; пошел к своему автомобилю. Движок тихо гудел, салон медленно охлаждался. Расплатившись, он выехал из раскаленной коробки автосервиса на улицу. Телефон наконец-то зарядился, слабым сигналом стал пробиваться Интернет. «Поверните направо и затем держитесь левой полосы», – ожил навигатор. Егор медленно поехал по центральной улице поселка. Вдоль дороги редким частоколом мелькали невысокие деревья с опаленной листвой и выгоревшие до серых стеблей кусты. Чебуречная, «Пятерочка», бетонное серое здание полиции, ржавые заборы… У Егора ныло на душе. «Угадай с трёх раз…» Всё плыло перед его глазами, как бесконечная черно-белая лента.
Егор выехал из поселка в твердой решимости забыть этот день, как страшный сон. Пусть полиция занимается своим делом. На душе сразу полегчало. Он включил «Дорожное радио»: «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна…» Он вспомнил, как на даче года три назад дочка смешно подпевала эту песню, не выговаривая звук «р».
На выезде из поселка стояли две полицейские машины с включенными проблесковыми огнями. Солнце било в глаза. Патруль ДПС в бронежилетах и с автоматами на груди досматривал автомобили. Егор подъехал к патрульной машине и, повинуясь команде полицейского, остановился.
– Выйдете, пожалуйста, из машины! – обратился к нему капитан; по его левой щеке тянулся глубокий шрам. – Куда направляетесь?
– В Камызяк, – с трудом улыбнувшись, ответил Егор. – Друзья уже червей копают.
Он вышел из машины и открыл багажник.
– Друзья – это хорошо, – хмуро пробурчал капитан, изу-чая его документы.
Из паспорта выпала фотография счастливо улыбающегося Егора в обнимку с женой и дочкой. Капитан поднял ее и вложил в обложку.
– Ваши?
Егор грустно кивнул. Осмотрев машину, капитан протянул Егору листок с фотороботом.
– Вы встречали этого человека?
Егор быстро взглянул на фоторобот и непроизвольно вздрогнул.
– Вроде нет. Я же тут проездом, – ответил Егор и отвел взгляд в сторону.
– Проездом? – капитан пристально посмотрел на Егора. – А что вы так волнуетесь? Вы что-то видели?
– Нет, – твердо ответил Егор. – Я ничего не видел.
У капитана зашумела рация: «Внимание! Всем постам!..» Полицейский кинулся к своей машине.
– Черный «Ландкрузер 867»… Передаю координаты… Всем патрулям выдвинуться на задержание!
Взревела сирена, и патрульная машина сорвалась с места.
Егор вытер пот со лба. Он обхватил руль обеими руками и, опустив голову, минут десять сидел без движения, пытаясь собраться с мыслями.
«Надо ехать…»
Он изучил маршрут навигатора и тронулся с места. Солнце закатывалось за горизонт в ярко-красной дымке, обещая на завтра такую же удушливую жару, как и сегодня. Через несколько километров Егор заметил с правой стороны от дороги скопление машин и огни мигалок. Выстроившись в ряд, стояли карета Скорой помощи и две машины полиции. Егор притормозил и открыл окно.
Вылетев в кювет, в нескольких метрах от дороги лежал, завалившись на бок, черный Ландкрузер. Колеса его еще медленно вращались. Лобовое стекло было простреляно в нескольких местах. Около внедорожника, накрытое простыней, лежало тело. Из-под простыни выпала рука с золотым браслетом.
Капитан со шрамом увидел Егора и подошел к его машине.
– Вот и всё! – в его глазах еще светился волчий огонь охотника. – А то устроил тут американские гонки с преследованием. То же мне, гангстер хренов…
Капитан резко развернулся и пошел к патрульной машине.
Егор застыл в оцепенении. Через открытое окно пахнуло терпким духом разогретой степи и разлившегося бензина. Егор закрыл глаза.
«Ты вернешься?..»
Перед ним возникло лицо его дочери. Егор поехал дальше, но через двести метров резко затормозил. Он достал телефон и набрал жену.
– Егор? Я же просила не звонить! – нервно ответила она.
– Мне нужно поговорить с тобой, – настойчиво сказал Егор. – Нам нужно поговорить!
Жена молчала. Рядом послышался детский голос: «Мама, это кто звонит, папа? Папа?..»
– Дай мне Вику, – попросил Егор.
– Пап, ты где! Ты когда вернешься?
«Сейчас или никогда!» – мелькнуло у него в голове.
– Привет, солнышко. Я уже еду к вам.
Егор резко развернул автомобиль и, утопив педаль газа в пол, рванул в обратную сторону. До ночи он еще успеет вернуться.
Ветер гонял сухую пыль по дороге. Пыль залетала в глаза и скрипела на зубах. Егор стоял возле своей заглохшей машины и яростно проклинал китайский автопром. Движок не подавал никаких признаков жизни. Последняя надежда на спасение угасала вместе с тающей зарядкой телефона. Еще один непринятый звонок другу и батарея окончательно сдохла. «Вот же!..» – Егор в отчаянии пнул ногой колесо.
Выгоревшая дотла степь раскинулась серо-желтым одеялом до самого горизонта. Положение не завидное: Егор застрял в полуденной жаре на полпути между Ставрополем и Элистой. Друзья пригласили его на рыбалку на астраханскую «Ривьеру». Он уверенно преодолел первые двести километров, но на подъезде к Подкумскому району навигатор, предлагая сэкономить полчаса пути, увел его с основной трассы на третьестепенную, затерянную в глухой степи грунтовую дорогу. Он огляделся: вокруг – ни куста, ни дерева. Подумать только, был уже конец сентября, но температура по ощущениям зашкаливала за сорок градусов. Он сел в тени от машины, надвинул на глаза бейсболку и приготовился умереть от зноя или жажды.
В последнее время Егор все чаще наступал на темную полосу жизни. Еще недавно он был счастливым мужем и отцом, но брак дал трещину, которая расходилась все глубже и глубже. Жена ушла в себя, замкнулась. Что-то сломалось в тонко настроенном механизме их отношений, они были с ней уже не на одной волне, как раньше. Последние месяцы были переполнены упреками, скандалами и мучительной неопределенностью. Егор не был заядлым рыбаком, но решил хотя бы на пару дней вырваться из угнетающего круга. Он мог полететь на самолете, и уже вчера был бы на базе, но он сел за руль, чтобы в полном одиночестве под монотонный шум мотора погрузиться в себя и разобраться со своей жизнью. Перед отъездом дочка положила ему в сумку пакет своих любимых леденцов: «Ты вернешься?» Егор посмотрел в ее мокрые глаза и вдруг понял, что не знает ответа на этот очень простой вопрос.
Жена забрала дочку и уехала к матери. «Катись на свою рыбалку и не вздумай нам больше звонить!» – сказала она на прощанье. Мысль о возможной разлуке с дочкой терзала его особенно мучительно.
Солнце замерло в зените. Прошло два часа.
Вдруг вдалеке послышался шум мотора. Егор вскочил на ноги и кинулся к обочине; к нему, поднимая облака пыли, приближался темный внедорожник. Егор что есть силы замахал руками и едва не выскочил под колеса. Внедорожник притормозил, тонированное стекло опустилось.
– Загораешь? – спросил хриплый голос.
– Вот, движок накрылся, – развел руками Егор. – Помощь нужна.
– Помощь, она всем нужна, – философски ответил водитель. – Куда ехал?
– В Камызяк, на Волгу!
– Далеко однако.
Водитель внедорожника замолчал. Прошло секунд двадцать.
– Ладно, рыбак, кидай трос, подтяну до шоссе. А то ты тут на жаре ласты склеишь. Но дальше не смогу, у меня дела.
Обжигаясь о раскаленный метал, Егор накинул трос на крюк внедорожника, залез в машину и перевел коробку передач на нейтралку. Пот затекал в глаза, насквозь мокрая одежда липла к телу. Наконец из окна внедорожника высунулась рука с огромным золотым браслетом и, словно жезл полководца, махнула вперед. Егор с облегчением выдохнул и отпустил педаль тормоза. Соединенные тросом, как велосипедные шестеренки, машины медленно покатились к расплавленному горизонту. Воздух замер в тяжелом оцепенении, и казалось, машины с трудом преодолевали его вязкое сопротивление.
Подъехав к шоссе, внедорожник остановился. Из окна джипа снова высунулась рука и помахала Егору. Он подошел к приоткрытому окну. В темноте салона он разглядел худое, высохшее, как прошлогодняя кора, лицо мужчины в темных очках.
– Приехали, братан. Отцепляй, – сказал он. – Тут тебя на шоссе мигом подберут. Но пообещай мне одну вещь.
– Да, конечно, – не раздумывая, ответил Егор.
– Короче, если что, ты меня не видел и не встречал, – водитель в упор посмотрел на Егора. – Лады?
Даже из-под черных очков Егор почувствовал его тяжелый пронизывающий взгляд.
– Понял. Никого не видел, ничего не слышал, – как заговоренный, подтвердил Егор.
– Молоток! Ну, будь здоров! – стекло медленно закрылось. Внедорожник развернулся и рванул в обратную сторону от шоссе.
Не успел Егор включить аварийку и вылезти из машины, как тут же проезжающий мимо КамАЗ радостно заморгал фарами и остановился. Передок кабины, обвешенный лампочками, переливался, как новогодняя гирлянда. Вверху на лобовом стекле красовалась огромная табличка «ВОВАН».
– Куда едешь? – Вован высунул в окно лысую голову.
– На рыбалку в Камызяк, – ответил Егор.
– Понял, цепляй трос!
Вован подтащил его к ближайшей станции автосервиса. Виртуозно подогнав машину Егора к воротам, он вышел из кабины и помог Егору отцепить трос.
– Ну, бывай, рыбак, – он похлопал Егора по плечу. – И запомни: сомов надо готовить на гриле! Точно тебе говорю.
Пока мужики на сервисе копошились под капотом его машины, Егор ходил по коридору и рассматривал все, что висело на стенах: сертификаты, прайс-листы, вырезки из мужских журналов с девицами в пышных формах. И вдруг в глаза бросилось объявление: «УВД Подкумского района разыскивает ОСОБО опасного преступника». Он оцепенел. В черно-белой копии фоторобота он узнал водителя внедорожника.
«Если вы видели его, просьба СРОЧНО сообщить в ближайшее отделение полиции».
– Эй, парень, с тебя пять штук и можешь ехать.
К Егору подошел мастер в насквозь засаленной робе. В воздухе распространился тяжелый запах перегара.
– Тут делов-то было на полчаса. Китайцы, они и есть китайцы.
Егор, не отрываясь, смотрел на фоторобот. На фотографии мужчина был без темных очков, и Егору показалось, что в глазах его была тяжелая боль.
– Менты повесили два дня назад, – объяснил мастер. – Говорят, этот тип такое натворил, мама дорогая! Киллер вроде или еще хуже. Говорят, местная братва его дочь выкрала…
Мастер криво ухмыльнулся.
– Так он устроил разборки: только успевали жмуриков вывозить...
Егор повернулся к мастеру.
– А что с дочерью? – почти шепотом спросил он.
– Угадай с трёх раз, – хмыкнул мастер.
Егор ошарашенно смотрел на мастера; пошел к своему автомобилю. Движок тихо гудел, салон медленно охлаждался. Расплатившись, он выехал из раскаленной коробки автосервиса на улицу. Телефон наконец-то зарядился, слабым сигналом стал пробиваться Интернет. «Поверните направо и затем держитесь левой полосы», – ожил навигатор. Егор медленно поехал по центральной улице поселка. Вдоль дороги редким частоколом мелькали невысокие деревья с опаленной листвой и выгоревшие до серых стеблей кусты. Чебуречная, «Пятерочка», бетонное серое здание полиции, ржавые заборы… У Егора ныло на душе. «Угадай с трёх раз…» Всё плыло перед его глазами, как бесконечная черно-белая лента.
Егор выехал из поселка в твердой решимости забыть этот день, как страшный сон. Пусть полиция занимается своим делом. На душе сразу полегчало. Он включил «Дорожное радио»: «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна…» Он вспомнил, как на даче года три назад дочка смешно подпевала эту песню, не выговаривая звук «р».
На выезде из поселка стояли две полицейские машины с включенными проблесковыми огнями. Солнце било в глаза. Патруль ДПС в бронежилетах и с автоматами на груди досматривал автомобили. Егор подъехал к патрульной машине и, повинуясь команде полицейского, остановился.
– Выйдете, пожалуйста, из машины! – обратился к нему капитан; по его левой щеке тянулся глубокий шрам. – Куда направляетесь?
– В Камызяк, – с трудом улыбнувшись, ответил Егор. – Друзья уже червей копают.
Он вышел из машины и открыл багажник.
– Друзья – это хорошо, – хмуро пробурчал капитан, изу-чая его документы.
Из паспорта выпала фотография счастливо улыбающегося Егора в обнимку с женой и дочкой. Капитан поднял ее и вложил в обложку.
– Ваши?
Егор грустно кивнул. Осмотрев машину, капитан протянул Егору листок с фотороботом.
– Вы встречали этого человека?
Егор быстро взглянул на фоторобот и непроизвольно вздрогнул.
– Вроде нет. Я же тут проездом, – ответил Егор и отвел взгляд в сторону.
– Проездом? – капитан пристально посмотрел на Егора. – А что вы так волнуетесь? Вы что-то видели?
– Нет, – твердо ответил Егор. – Я ничего не видел.
У капитана зашумела рация: «Внимание! Всем постам!..» Полицейский кинулся к своей машине.
– Черный «Ландкрузер 867»… Передаю координаты… Всем патрулям выдвинуться на задержание!
Взревела сирена, и патрульная машина сорвалась с места.
Егор вытер пот со лба. Он обхватил руль обеими руками и, опустив голову, минут десять сидел без движения, пытаясь собраться с мыслями.
«Надо ехать…»
Он изучил маршрут навигатора и тронулся с места. Солнце закатывалось за горизонт в ярко-красной дымке, обещая на завтра такую же удушливую жару, как и сегодня. Через несколько километров Егор заметил с правой стороны от дороги скопление машин и огни мигалок. Выстроившись в ряд, стояли карета Скорой помощи и две машины полиции. Егор притормозил и открыл окно.
Вылетев в кювет, в нескольких метрах от дороги лежал, завалившись на бок, черный Ландкрузер. Колеса его еще медленно вращались. Лобовое стекло было простреляно в нескольких местах. Около внедорожника, накрытое простыней, лежало тело. Из-под простыни выпала рука с золотым браслетом.
Капитан со шрамом увидел Егора и подошел к его машине.
– Вот и всё! – в его глазах еще светился волчий огонь охотника. – А то устроил тут американские гонки с преследованием. То же мне, гангстер хренов…
Капитан резко развернулся и пошел к патрульной машине.
Егор застыл в оцепенении. Через открытое окно пахнуло терпким духом разогретой степи и разлившегося бензина. Егор закрыл глаза.
«Ты вернешься?..»
Перед ним возникло лицо его дочери. Егор поехал дальше, но через двести метров резко затормозил. Он достал телефон и набрал жену.
– Егор? Я же просила не звонить! – нервно ответила она.
– Мне нужно поговорить с тобой, – настойчиво сказал Егор. – Нам нужно поговорить!
Жена молчала. Рядом послышался детский голос: «Мама, это кто звонит, папа? Папа?..»
– Дай мне Вику, – попросил Егор.
– Пап, ты где! Ты когда вернешься?
«Сейчас или никогда!» – мелькнуло у него в голове.
– Привет, солнышко. Я уже еду к вам.
Егор резко развернул автомобиль и, утопив педаль газа в пол, рванул в обратную сторону. До ночи он еще успеет вернуться.
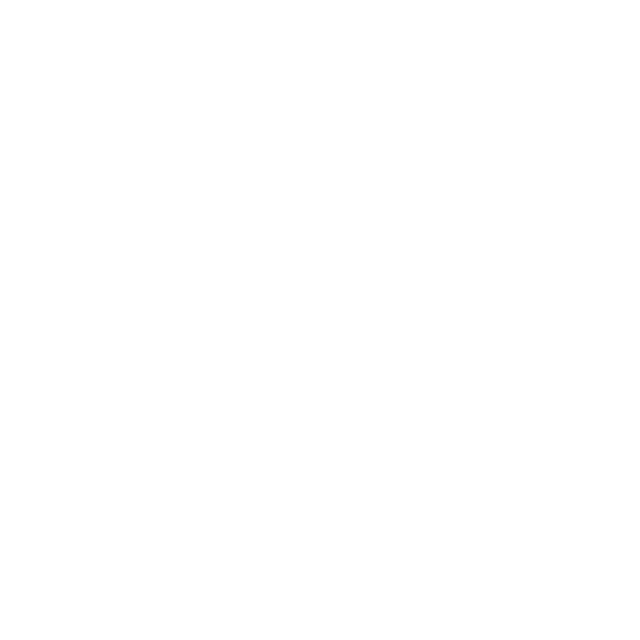
А.ВИАРДО
Учитель английского в языковой школе. Спикер форума «Истоки», финалист всероссийских и международных конкурсов, таких как «Большая перемена» и «Это у нас семейное». Участник литературных семинаров «Начало», организуемых союзом поэтов и писателей Крыма. Ранее публиковалась в Санкт-Петербургском альманахе «Полынья». Публикуюсь под псевдонимом А.Виардо.
Учитель английского в языковой школе. Спикер форума «Истоки», финалист всероссийских и международных конкурсов, таких как «Большая перемена» и «Это у нас семейное». Участник литературных семинаров «Начало», организуемых союзом поэтов и писателей Крыма. Ранее публиковалась в Санкт-Петербургском альманахе «Полынья». Публикуюсь под псевдонимом А.Виардо.
ШЕСТОЕ ОКНО
Сорванный голос – на пол по стене сползает женское тело. Оно больше не слышит ни тишины квартиры, ни шума поездов за окном – только собственное обессиленное дыхание. Взгляд уперся в пол и медленно почернел под весом тяжелеющих век: замучили образы уходящего дня, пляшущие перед глазами.
Свет не горел. В прорубь окна чернотой неба смотрела ночь ранней весны.
Что же случилось с телом? Никто не знал. Да и оно само не до конца осознавало, говоря по правде. Когда-то давно оно было счастливо, но когда именно, уже и не помнило. Сейчас же радость пряталась от него по углам съемного жилья, а голову все чаще навещали мысли о суициде.
А что… может, и вправду убить себя? Утопиться. Лед на речке еще не весь сошел: унесет течением под его толщу.
Противно запищал домофон, зубы свело от холода. Идти к реке нужно через весь поселок. Ну что ж…
Шаги зазвучали хлюпаньем луж и скрипом снега, начавшего падать сразу после дождя. «Страшно жить так, как живу я, – подумало тело, – ничем не гордиться, ничего не ждать. Ни о чем не волноваться всерьез. Не ощущать приятного покалывания где-то на шее. Есть в спешке. Не доверять. Все это страшнее смерти».
Темнота скрывала почти все, и только свечки окон в домах по обе стороны дороги привлекали внимание. В одном из таких на втором этаже с чашкой кофе стоял стройный курящий силуэт. Его лица было не разобрать, но в каждом движении, в каждом жесте чувствовалось приятное расслабление. Хоть нельзя знать наверняка, глядя на этого человека, думалось, что он счастлив. И знаешь, что обидно? Казалось, все бы отдать ради возможности так же курить под утро, считая редеющие звезды, а не мучиться от бессонницы и не проходящего страха.
После наблюдения за чужим покоем, о котором мечтаешь сам, стало тошно, и взгляд перебежал на окно этажом ниже – там резко зажглась люстра. Под ней на широкой кровати лежали двое: парень и девушка. Она сладко спала, обнимая одеяло, а он будто чего-то ждал… смотрел, смотрел… Осторожно встал, набрал кого-то, поднес телефон к уху, и из приоткрытой форточки еле слышно донеслось: «Буду через полчаса, любимая». Изменник… Тогда еще подумалось: «Если бы ты, спящая, только знала, что твоя жизнь уже разрушена… но пока ты даже не подозреваешь… как и я когда-то».
А что в окне левее? Утопиться успеется, а заглянуть в ещё одну историю... По крайней мере впервые за последнее время хоть что-то вызывало интерес. Так вот, левее была тишина, в ней – мужчина. К окну он сидел спиной и, Господи, как часто она, дрожал вместе с плечами. И руки... судорожно обхватили голову, отрицательно, как бы не веря, качающуюся из стороны в сторону.
Что могло сломать этого человека? Известие о неизлечимой болезни или смерти родного? Сокращение? Что угодно. И никто ведь не знает, по чем другие плачут. Но они плачут. Горько, во весь голос; тихо, в подушку вечерами; без единого слова. Значит, им больно до невыносимого, что бы ни было причиной их слез. Все может стать последней каплей.
Надрывный вопль откуда-то сбоку заставил резко обернуться в ту сторону. Из квартиры соседнего подъезда на третьем этаже кричала женщина. Выскочив на балкон, она вскинула голову к бледнеющей луне, набрала в грудь побольше воздуха и взмолилась: «Хватит, Боже, прошу! Просто дай моему ребенку вылечиться!» Ни лица, ни света… только вой человека, теряющего веру в лучшее – последнее, что делало его живым.
Все эти окна, образы, голоса… они напоминали замыкающуюся в круг повседневность, где от покоя до печали – полшага. И если окна – цикл, дальше будет… опустошение?
Близился рассвет. Вместе с розовеющим небом, что отражалось в глазах, в них поблескивала слабая надежда снова увидеть счастье в одном из окон. Хотя бы в том, на углу дома. Но там больше ничего… никого не было.
Под потолком висел труп. За мраком комнаты, безразмерной одеждой и короткой стрижкой было не понять, мужчина это или женщина, подросток или человек старше.
Случилось ли все во время срыва или после месяцев давящего, угнетающего безразличия? Черт его знает. Но важнее другое: что и почему привело к такому исходу? Как у боли вышло перевесить надежду?
Последние мысли срезонировали звоном в ушах. Навернулись слезы.
– Не подскажете, в какой стороне озерный парк? – негромко зазвучало из-за спины. – Мы не местные, буквально вчера с мужем переехали…
Пришлось обернуться к тихому голосу. Его владелица, невысокая девушка за двадцать пять на вид, приобнимала руку мужчины с коляской.
– Простите… с Вами все в порядке? – их явно сконфузил вид опухшего от долгого плача лица.
И что было отвечать? Врать – глупо, говорить правду – бессмысленно. Очевидно же, что совсем не в порядке…
– Вопросом на вопрос отвечать некрасиво, но можно, пожалуйста, всё-таки сделать это? Мне очень нужно знать… довольны ли вы своей жизнью?
– Зачем Вы… Послушайте, если это попытка завербовать... – начал было баритон.
– Я не сектантка, – пришлось прервать мужчину на полуслове. – А спрашиваю, потому что... ощущаю только, как сжимается и горит от отчаяния грудь, а редкие радости не приносят удовольствия, ведь я знаю: потом снова придет боль. Она всегда возвращается... Но вас это будто совсем не беспокоит. Вы счастливы, несмотря на то, что было и будет. Как у вас это получается?
В установившемся безмолвии, что звенело птичьими трелями, можно было расслышать, как в коляске начал ворочаться разбуженный разговором ребенок. Прижав его к груди и нерешительно вздохнув, мужчина все же продолжил диалог.
– А зачем бояться неизбежного? Да и, кроме того, все кончается: рано или поздно хорошее тоже захочет вернуться. Остается ждать его и жить ради этого ожидания.
Значит, счастливы те, чьей веры в лучшее хватает до конца каждого из циклов?
– Вам точно не нужна помощь? – все так же негромко, слегка встревоженно спросила девушка.
– Нет-нет, я справлюсь…
Мокрый асфальт искрился бликами восходящего солнца. Глаза опустились под ноги, где в одной из луж встретили собственный потерянно-несчастный взгляд. В нем было молчаливое: «Не хочу завершать свой цикл. Не сейчас… вдруг я всего в одном окне от счастья?»
Надеяться на то, что ещё не настало... звучит глупо. А жить без надежды? Ещё хуже, если учесть, куда это привело. Возможно, в том, чтобы ждать лучших времён, действительно есть смысл...
Утертые слезы. Сорвавшееся с губ: «Спасибо вам». Дорога домой под звон церковных колоколов. Тихий, протяжный свист поднимающегося ветра.
Пусть теперь все будет по-другому.
Сорванный голос – на пол по стене сползает женское тело. Оно больше не слышит ни тишины квартиры, ни шума поездов за окном – только собственное обессиленное дыхание. Взгляд уперся в пол и медленно почернел под весом тяжелеющих век: замучили образы уходящего дня, пляшущие перед глазами.
Свет не горел. В прорубь окна чернотой неба смотрела ночь ранней весны.
Что же случилось с телом? Никто не знал. Да и оно само не до конца осознавало, говоря по правде. Когда-то давно оно было счастливо, но когда именно, уже и не помнило. Сейчас же радость пряталась от него по углам съемного жилья, а голову все чаще навещали мысли о суициде.
А что… может, и вправду убить себя? Утопиться. Лед на речке еще не весь сошел: унесет течением под его толщу.
Противно запищал домофон, зубы свело от холода. Идти к реке нужно через весь поселок. Ну что ж…
Шаги зазвучали хлюпаньем луж и скрипом снега, начавшего падать сразу после дождя. «Страшно жить так, как живу я, – подумало тело, – ничем не гордиться, ничего не ждать. Ни о чем не волноваться всерьез. Не ощущать приятного покалывания где-то на шее. Есть в спешке. Не доверять. Все это страшнее смерти».
Темнота скрывала почти все, и только свечки окон в домах по обе стороны дороги привлекали внимание. В одном из таких на втором этаже с чашкой кофе стоял стройный курящий силуэт. Его лица было не разобрать, но в каждом движении, в каждом жесте чувствовалось приятное расслабление. Хоть нельзя знать наверняка, глядя на этого человека, думалось, что он счастлив. И знаешь, что обидно? Казалось, все бы отдать ради возможности так же курить под утро, считая редеющие звезды, а не мучиться от бессонницы и не проходящего страха.
После наблюдения за чужим покоем, о котором мечтаешь сам, стало тошно, и взгляд перебежал на окно этажом ниже – там резко зажглась люстра. Под ней на широкой кровати лежали двое: парень и девушка. Она сладко спала, обнимая одеяло, а он будто чего-то ждал… смотрел, смотрел… Осторожно встал, набрал кого-то, поднес телефон к уху, и из приоткрытой форточки еле слышно донеслось: «Буду через полчаса, любимая». Изменник… Тогда еще подумалось: «Если бы ты, спящая, только знала, что твоя жизнь уже разрушена… но пока ты даже не подозреваешь… как и я когда-то».
А что в окне левее? Утопиться успеется, а заглянуть в ещё одну историю... По крайней мере впервые за последнее время хоть что-то вызывало интерес. Так вот, левее была тишина, в ней – мужчина. К окну он сидел спиной и, Господи, как часто она, дрожал вместе с плечами. И руки... судорожно обхватили голову, отрицательно, как бы не веря, качающуюся из стороны в сторону.
Что могло сломать этого человека? Известие о неизлечимой болезни или смерти родного? Сокращение? Что угодно. И никто ведь не знает, по чем другие плачут. Но они плачут. Горько, во весь голос; тихо, в подушку вечерами; без единого слова. Значит, им больно до невыносимого, что бы ни было причиной их слез. Все может стать последней каплей.
Надрывный вопль откуда-то сбоку заставил резко обернуться в ту сторону. Из квартиры соседнего подъезда на третьем этаже кричала женщина. Выскочив на балкон, она вскинула голову к бледнеющей луне, набрала в грудь побольше воздуха и взмолилась: «Хватит, Боже, прошу! Просто дай моему ребенку вылечиться!» Ни лица, ни света… только вой человека, теряющего веру в лучшее – последнее, что делало его живым.
Все эти окна, образы, голоса… они напоминали замыкающуюся в круг повседневность, где от покоя до печали – полшага. И если окна – цикл, дальше будет… опустошение?
Близился рассвет. Вместе с розовеющим небом, что отражалось в глазах, в них поблескивала слабая надежда снова увидеть счастье в одном из окон. Хотя бы в том, на углу дома. Но там больше ничего… никого не было.
Под потолком висел труп. За мраком комнаты, безразмерной одеждой и короткой стрижкой было не понять, мужчина это или женщина, подросток или человек старше.
Случилось ли все во время срыва или после месяцев давящего, угнетающего безразличия? Черт его знает. Но важнее другое: что и почему привело к такому исходу? Как у боли вышло перевесить надежду?
Последние мысли срезонировали звоном в ушах. Навернулись слезы.
– Не подскажете, в какой стороне озерный парк? – негромко зазвучало из-за спины. – Мы не местные, буквально вчера с мужем переехали…
Пришлось обернуться к тихому голосу. Его владелица, невысокая девушка за двадцать пять на вид, приобнимала руку мужчины с коляской.
– Простите… с Вами все в порядке? – их явно сконфузил вид опухшего от долгого плача лица.
И что было отвечать? Врать – глупо, говорить правду – бессмысленно. Очевидно же, что совсем не в порядке…
– Вопросом на вопрос отвечать некрасиво, но можно, пожалуйста, всё-таки сделать это? Мне очень нужно знать… довольны ли вы своей жизнью?
– Зачем Вы… Послушайте, если это попытка завербовать... – начал было баритон.
– Я не сектантка, – пришлось прервать мужчину на полуслове. – А спрашиваю, потому что... ощущаю только, как сжимается и горит от отчаяния грудь, а редкие радости не приносят удовольствия, ведь я знаю: потом снова придет боль. Она всегда возвращается... Но вас это будто совсем не беспокоит. Вы счастливы, несмотря на то, что было и будет. Как у вас это получается?
В установившемся безмолвии, что звенело птичьими трелями, можно было расслышать, как в коляске начал ворочаться разбуженный разговором ребенок. Прижав его к груди и нерешительно вздохнув, мужчина все же продолжил диалог.
– А зачем бояться неизбежного? Да и, кроме того, все кончается: рано или поздно хорошее тоже захочет вернуться. Остается ждать его и жить ради этого ожидания.
Значит, счастливы те, чьей веры в лучшее хватает до конца каждого из циклов?
– Вам точно не нужна помощь? – все так же негромко, слегка встревоженно спросила девушка.
– Нет-нет, я справлюсь…
Мокрый асфальт искрился бликами восходящего солнца. Глаза опустились под ноги, где в одной из луж встретили собственный потерянно-несчастный взгляд. В нем было молчаливое: «Не хочу завершать свой цикл. Не сейчас… вдруг я всего в одном окне от счастья?»
Надеяться на то, что ещё не настало... звучит глупо. А жить без надежды? Ещё хуже, если учесть, куда это привело. Возможно, в том, чтобы ждать лучших времён, действительно есть смысл...
Утертые слезы. Сорвавшееся с губ: «Спасибо вам». Дорога домой под звон церковных колоколов. Тихий, протяжный свист поднимающегося ветра.
Пусть теперь все будет по-другому.
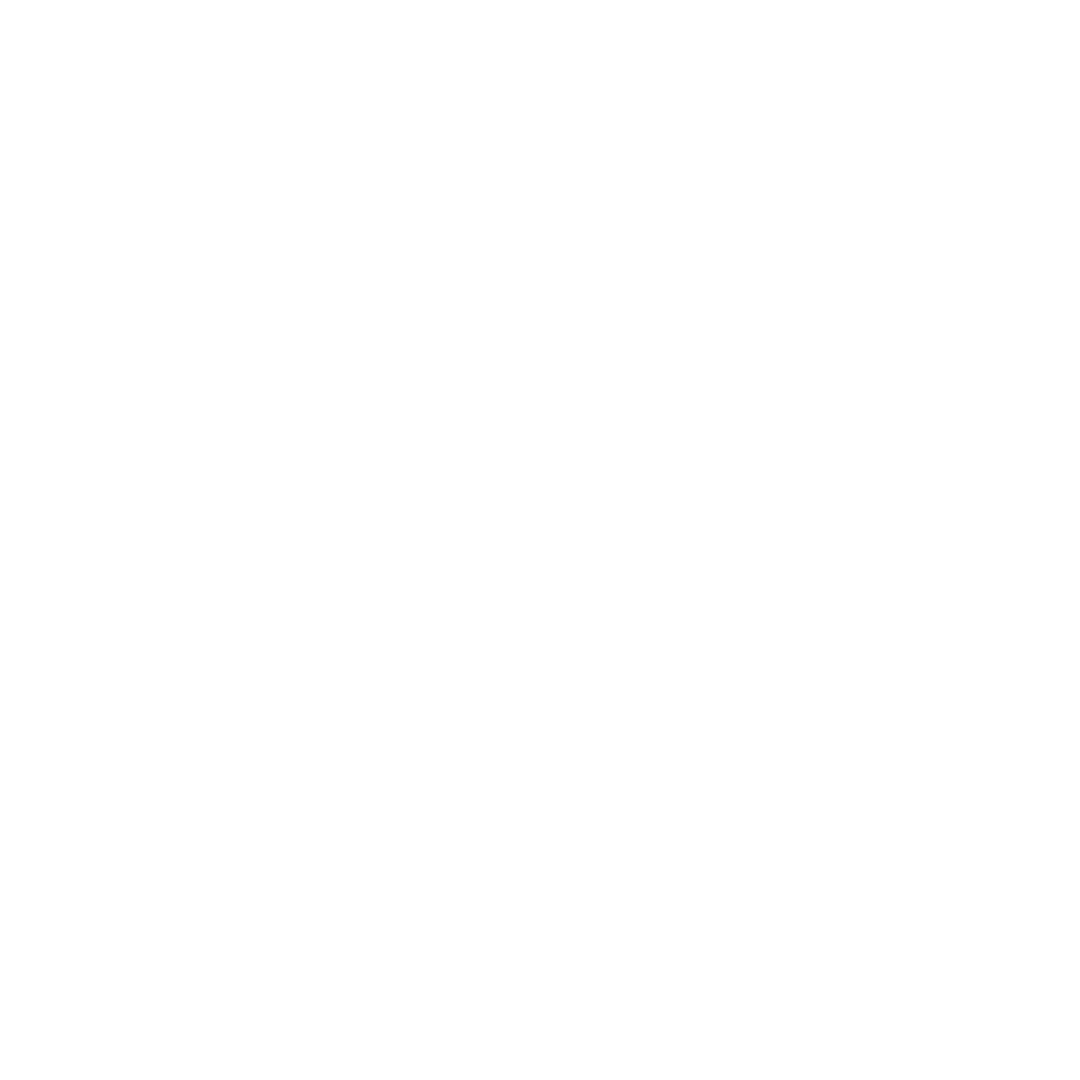
Наталья КУЛАГИНА
Родилась в 1970 г. в г. Пушкино Мос-ковской области. Номинант национальной литературной премии «Писатель года - 2024». Публикация в альманахе «Писатель года 2024». За вклад в развитие современной русской литературы награждена Российским союзом писателей медалью «Александр Блок. 145 лет» (2025).
Родилась в 1970 г. в г. Пушкино Мос-ковской области. Номинант национальной литературной премии «Писатель года - 2024». Публикация в альманахе «Писатель года 2024». За вклад в развитие современной русской литературы награждена Российским союзом писателей медалью «Александр Блок. 145 лет» (2025).
НОВЕЛЛЫ
«Местами по области заморозки…»
От Борисыча ушла жена. После двадцати трех лет совместной жизни. По этому поводу Борисыч ушел в двухнедельный запой. Закрылся в квартире, изредка выходил на балкон покурить. Алкогольный дресс-код был неизменным: треники и растянутая тельняшка («бывших матросов не бывает»).
В старой пятиэтажке все знали друг друга с рождения. И Борисыч как будто бы с пеленок носил только отчество, так крепко оно прицепилось к нему.
Сентябрь случился холодным. Балконные перекуры становились все короче. Под разглядывание созвездий на осеннем небе Борисыч думал о жизни. Его мысли прервал детский плач. Он подумал, что плачет ребенок – так жалобно, тоскливо и одиноко звучало в ночной тишине «у-а-а-а». Но прислушавшись, понял: не младенец зовет, а котенок.
– Бедолага… поди, холодно тебе, замерзнешь, – спустился вниз, взял дрожащий комочек, прижал к груди, донес до квартиры, словно драгоценный сверсток. – А ведь мне и дать тебе нечего; но потерпи, потерпи: завтра схожу в магазин, куплю молока и колбасы.
С этого дня начался трезвый период. Котенок оказался кошкой, фантазией Борисыч не обладал, поэтому имя ей так и не придумал. Вечерами они сидели на кухне, слушали старенький приемник, обязательно дожидались прогноза погоды. «Местами по области заморозки», – ласково говорил диктор.
Ночная сигарета перед сном, мысли о вечном – ничего не менялось. В одну из холодных ночей Борисыч подхватил пневмонию, попал в больницу, а когда вернулся домой, там никого не было.
Кошка несколько дней плакала перед закрытой дверью, потом ушла, и никто ее больше не видел.
Сентябрь в тот год выдался холодным.
Ночь
Это была самая обычная ночь в самом обычном городе. Электронные часы на столе у консьержки Алевтины Петровны показывали 02:45.
В квартире номер три в окружении любимых кошек спала пенсионерка Зинаида Семеновна, видя во сне значительную прибавку к пенсии, обещанную президентом.
В девятой квартире громко храпел, выводя носом сложную партию из Рахманинова, слесарь пятого разряда Степаныч; после трех кружек пива его храп был особенно музыкальным.
В семнадцатой квартире после долгих укачиваний и колыбельной сопел наследник семьи Кузнецовых Данила, трех месяцев от роду.
В двадцать четвертой под ароматы клубники с шампанским и диск с romantic collection в любовной дреме пребывали молодожены Валя и Рома.
Женщина неопределенного возраста, предпочитающая гулять в плаще и широкополой шляпе, Надежда из сорок четвертой квартиры ходила во сне на свидание с импозантным мужчиной.
Пожилая пара из пятьдесят шестой квартиры уже давно видела третий сон: они вели здоровый образ жизни и ложились рано.
Дом спал. И только такса Розалинда из шестьдесят второй квартиры не спала, а ворочалась, глядя в окно на звездное небо в попытке рассмотреть в созвездии Гончих псов красавца спаниеля Ричи, с которым сегодня встретилась на прогулке, и мечтая о большой и верной собачьей любви.
Баркарола
Верочка с детства мечтала играть на пианино. Представляла, как садится на круглый крутящийся табурет, поправляет платьице и касается клавиш. И чтобы обязательно ведущий красивым голосом объявлял ее выступление. Но мать считала уроки музыки баловством, денег на покупку инструмента не было, и все разговоры о музыкальной школе сводились к родительскому выводу: профессия должна кормить.
Поэтому после восьмого класса Верочка пошла учиться на повара. Распределилась в заводскую столовую, готовила борщи, котлеты и макароны. И только вечерами, глядя на отекшие пальцы, вспоминала о детской мечте и касалась в воздухе невидимых клавиш.
К сорокалетию Вера Михайловна накопила денег и сделала себе подарок: оплатила частные уроки у преподавателя музыки. Так в ее жизнь ворвались гаммы. Пальцы не слушались, но ей так хотелось разучить хотя бы одно произведение, и она поражала учителя своим упорством. Мечта становится все ближе, и вот уже в шкафу висит концертное платье в пол, а в ближайшем Доме культуры нарисована афиша концерта местной самодеятельности.
Вера волнуется: она первый раз играет на сцене перед зрителями. Отпросилась на работе по семейным обстоятельствам, никому не говорила о своем увлечении – засмеяли бы.
Конферансье красивым голосом объявляет: «Петр Чайковский. Времена года, Июнь, Баркарола. Играет Вера Хрусталева». В зале зависает тишина…
…– Зин, пробей борщ, макароны с котлетами и винегрет.
– Верунь, а ты вроде отпрашивалась сегодня?
– Да планы изменились.
Пальцы проворно лепили новую партию котлет, а где-то звучал несыгранный ею «Июнь» Чайковского. Баркарола – это романтично, но профессия должна кормить.
Прощай, Эдем
Я сидела за лучшим столиком на открытой веранде ресторана, небрежно крутила в руках ножку бокала с красным вином и кивала многочисленным знакомым, зашедшим, чтобы продемонстрировать свою платежеспособность. У Сержа никогда не было художественного вкуса, но было много амбиций и еще больше – денег. Его новым вложением стал ресторан на берегу моря с броским названием «Эдем».
Определить стиль заведения я так и не смогла, все здесь было перемешано: и архитектура, и кухня, и даже официанты. Меня обслуживал бразилец Педро, которого я сразу окрестила Петькой.
– Петька! Ну, где ваш босс? У меня уже устрицы остыли! – пыталась я пошутить, скрывая раздражение.
Хозяин «Эдема» был моим любовником. Я его уважала за целеустремленность и напор, он меня баловал и радовал. О любви и речи не шло, все было, как в правильно оформленной сделке: с разделением обязанностей и полномочий.
Наконец в дверях, весь в белом и с розой в петличке, показался мой благоверный. Я «включила» улыбку, сделала томный взгляд и произнесла чарующим голосом:
– Прекрасный ресторан, дорогой! Я действительно, как в раю.
Он довольно улыбнулся в ответ, поцеловал мне руку, щекоча усами запястье, и присел рядом.
– Тебе правда нравится?
– Божественно! Какая шикарная работа дизайнера, сколько красок в интерьере и гениальных задумок! Ты много потрудился, я горжусь тобой.
– Дашка, ты – прелесть! Только ты умеешь говорить мне именно то, что я сейчас хочу услышать. После ужина к тебе или ко мне?
– К тебе, если ты не против, дорогой. Твоя белоснежная яхта приютит двух голубков?
Он заржал.
– Голубков? Ну, ты даешь! Откуда в тебе столько романтики? Вроде взрослая баба, а все про любовь думаешь.
Есть уже не хотелось. Его здоровый цинизм всегда бесил меня и спускал с небес на землю.
В ресторане началось какое-то легкое, почти неуловимое движение. Присмотревшись, заметила, что по залу ходят девочки - Белоснежки с корзинками в руках и предлагают посетителям купить маленькие букетики фиалок.
– Ноу-хау. Клиентам нравится: как будто прошлый век, – опередил он мой вопрос.
Белоснежка подошла к нашему столику: «Купите букетик для вашей любимой!» Я выжидающе смотрела на ресторатора. Он лениво отмахнулся от девицы: мол, иди отсюда.
– Сереж, ну купи. Что тебе, жалко? – просящим голосом заныла я.
– Не буду.
Сказал, как отрезал.
– Ну, купи, – я начинала заводиться, – это же не бриллиантовое колье. Они такие миленькие, а потом: это же букетик для любимой.
Видимо, мое нытье перешло все границы, потому что Серж уже не только перестал улыбаться и «держать лицо», но явно закипал и злился с каждой минутой все больше.
– Пойдем отсюда!
– Я еще не поужинала.
– Я сказал, пойдем!
Тут уперлась рогами я. Достала кошелек, вытащила купюру, подала девушке.
– Дайте мне этот букетик. Спасибо.
Встала из-за стола и молча пошла к выходу.
– Ты куда? Даша!
Я не обернулась. Вышла, села в машину, поехала вдоль моря. В колонках шептал джаз. Садилось солнце. Душа хотела любви и покоя. Я смотрела на летний закат и мечтала о бедном рыбаке, который будет каждый день уходить на лодке в море за рыбой, а по выходным дарить мне букетики полевых цветов.
Разговор
– Иннокентий, ну давай поговорим, ты второй день молчишь.
Анна Сергеевна поливает из голубой леечки цветы: герань, фикус, фиалки и – как ее, ну эту, красненьким еще цветет?.. А, пуансетию!
Диалог не складывается, собеседник молчит.
– Ты обиделся на меня, что ли? За то, что я с соседкой Валькой у подъезда языками зацепилась и проболтала с ней почти час?
Порядок дел был неизменным: полить растения, смахнуть пыль, посмотреть сериал под чаёк с абрикосовым вареньем. И между делами – разговоры.
– Как думаешь, может, купить пару килограммов абрикосов и сварить еще варенья? Или дорого пока? Наверное, дорого, подождать июля надо.
Свистящий на кухне чайник прерывает тишину. Две ложки заварки (обязательно из пачки со слоном), вазочка с овсяным печеньем, вязанная крючком ажурная салфетка на столе, и начинается чаепитие в Митино.
Анна Сергеевна с грустью выключает телевизор, сочувствуя разводу главной героини, и делает очередную попытку разговорить Иннокентия.
– Я – за молоком и хлебом в гастроном; тебе чего-нибудь захватить?
Три поворота ключа, тихие шаги до лифта. Уехала.
Из комнаты сначала слышен шум, затем довольный голос с грассировкой: «Кеша! Кеша хор-р-роший! Все любят Кешу!»
«Местами по области заморозки…»
От Борисыча ушла жена. После двадцати трех лет совместной жизни. По этому поводу Борисыч ушел в двухнедельный запой. Закрылся в квартире, изредка выходил на балкон покурить. Алкогольный дресс-код был неизменным: треники и растянутая тельняшка («бывших матросов не бывает»).
В старой пятиэтажке все знали друг друга с рождения. И Борисыч как будто бы с пеленок носил только отчество, так крепко оно прицепилось к нему.
Сентябрь случился холодным. Балконные перекуры становились все короче. Под разглядывание созвездий на осеннем небе Борисыч думал о жизни. Его мысли прервал детский плач. Он подумал, что плачет ребенок – так жалобно, тоскливо и одиноко звучало в ночной тишине «у-а-а-а». Но прислушавшись, понял: не младенец зовет, а котенок.
– Бедолага… поди, холодно тебе, замерзнешь, – спустился вниз, взял дрожащий комочек, прижал к груди, донес до квартиры, словно драгоценный сверсток. – А ведь мне и дать тебе нечего; но потерпи, потерпи: завтра схожу в магазин, куплю молока и колбасы.
С этого дня начался трезвый период. Котенок оказался кошкой, фантазией Борисыч не обладал, поэтому имя ей так и не придумал. Вечерами они сидели на кухне, слушали старенький приемник, обязательно дожидались прогноза погоды. «Местами по области заморозки», – ласково говорил диктор.
Ночная сигарета перед сном, мысли о вечном – ничего не менялось. В одну из холодных ночей Борисыч подхватил пневмонию, попал в больницу, а когда вернулся домой, там никого не было.
Кошка несколько дней плакала перед закрытой дверью, потом ушла, и никто ее больше не видел.
Сентябрь в тот год выдался холодным.
Ночь
Это была самая обычная ночь в самом обычном городе. Электронные часы на столе у консьержки Алевтины Петровны показывали 02:45.
В квартире номер три в окружении любимых кошек спала пенсионерка Зинаида Семеновна, видя во сне значительную прибавку к пенсии, обещанную президентом.
В девятой квартире громко храпел, выводя носом сложную партию из Рахманинова, слесарь пятого разряда Степаныч; после трех кружек пива его храп был особенно музыкальным.
В семнадцатой квартире после долгих укачиваний и колыбельной сопел наследник семьи Кузнецовых Данила, трех месяцев от роду.
В двадцать четвертой под ароматы клубники с шампанским и диск с romantic collection в любовной дреме пребывали молодожены Валя и Рома.
Женщина неопределенного возраста, предпочитающая гулять в плаще и широкополой шляпе, Надежда из сорок четвертой квартиры ходила во сне на свидание с импозантным мужчиной.
Пожилая пара из пятьдесят шестой квартиры уже давно видела третий сон: они вели здоровый образ жизни и ложились рано.
Дом спал. И только такса Розалинда из шестьдесят второй квартиры не спала, а ворочалась, глядя в окно на звездное небо в попытке рассмотреть в созвездии Гончих псов красавца спаниеля Ричи, с которым сегодня встретилась на прогулке, и мечтая о большой и верной собачьей любви.
Баркарола
Верочка с детства мечтала играть на пианино. Представляла, как садится на круглый крутящийся табурет, поправляет платьице и касается клавиш. И чтобы обязательно ведущий красивым голосом объявлял ее выступление. Но мать считала уроки музыки баловством, денег на покупку инструмента не было, и все разговоры о музыкальной школе сводились к родительскому выводу: профессия должна кормить.
Поэтому после восьмого класса Верочка пошла учиться на повара. Распределилась в заводскую столовую, готовила борщи, котлеты и макароны. И только вечерами, глядя на отекшие пальцы, вспоминала о детской мечте и касалась в воздухе невидимых клавиш.
К сорокалетию Вера Михайловна накопила денег и сделала себе подарок: оплатила частные уроки у преподавателя музыки. Так в ее жизнь ворвались гаммы. Пальцы не слушались, но ей так хотелось разучить хотя бы одно произведение, и она поражала учителя своим упорством. Мечта становится все ближе, и вот уже в шкафу висит концертное платье в пол, а в ближайшем Доме культуры нарисована афиша концерта местной самодеятельности.
Вера волнуется: она первый раз играет на сцене перед зрителями. Отпросилась на работе по семейным обстоятельствам, никому не говорила о своем увлечении – засмеяли бы.
Конферансье красивым голосом объявляет: «Петр Чайковский. Времена года, Июнь, Баркарола. Играет Вера Хрусталева». В зале зависает тишина…
…– Зин, пробей борщ, макароны с котлетами и винегрет.
– Верунь, а ты вроде отпрашивалась сегодня?
– Да планы изменились.
Пальцы проворно лепили новую партию котлет, а где-то звучал несыгранный ею «Июнь» Чайковского. Баркарола – это романтично, но профессия должна кормить.
Прощай, Эдем
Я сидела за лучшим столиком на открытой веранде ресторана, небрежно крутила в руках ножку бокала с красным вином и кивала многочисленным знакомым, зашедшим, чтобы продемонстрировать свою платежеспособность. У Сержа никогда не было художественного вкуса, но было много амбиций и еще больше – денег. Его новым вложением стал ресторан на берегу моря с броским названием «Эдем».
Определить стиль заведения я так и не смогла, все здесь было перемешано: и архитектура, и кухня, и даже официанты. Меня обслуживал бразилец Педро, которого я сразу окрестила Петькой.
– Петька! Ну, где ваш босс? У меня уже устрицы остыли! – пыталась я пошутить, скрывая раздражение.
Хозяин «Эдема» был моим любовником. Я его уважала за целеустремленность и напор, он меня баловал и радовал. О любви и речи не шло, все было, как в правильно оформленной сделке: с разделением обязанностей и полномочий.
Наконец в дверях, весь в белом и с розой в петличке, показался мой благоверный. Я «включила» улыбку, сделала томный взгляд и произнесла чарующим голосом:
– Прекрасный ресторан, дорогой! Я действительно, как в раю.
Он довольно улыбнулся в ответ, поцеловал мне руку, щекоча усами запястье, и присел рядом.
– Тебе правда нравится?
– Божественно! Какая шикарная работа дизайнера, сколько красок в интерьере и гениальных задумок! Ты много потрудился, я горжусь тобой.
– Дашка, ты – прелесть! Только ты умеешь говорить мне именно то, что я сейчас хочу услышать. После ужина к тебе или ко мне?
– К тебе, если ты не против, дорогой. Твоя белоснежная яхта приютит двух голубков?
Он заржал.
– Голубков? Ну, ты даешь! Откуда в тебе столько романтики? Вроде взрослая баба, а все про любовь думаешь.
Есть уже не хотелось. Его здоровый цинизм всегда бесил меня и спускал с небес на землю.
В ресторане началось какое-то легкое, почти неуловимое движение. Присмотревшись, заметила, что по залу ходят девочки - Белоснежки с корзинками в руках и предлагают посетителям купить маленькие букетики фиалок.
– Ноу-хау. Клиентам нравится: как будто прошлый век, – опередил он мой вопрос.
Белоснежка подошла к нашему столику: «Купите букетик для вашей любимой!» Я выжидающе смотрела на ресторатора. Он лениво отмахнулся от девицы: мол, иди отсюда.
– Сереж, ну купи. Что тебе, жалко? – просящим голосом заныла я.
– Не буду.
Сказал, как отрезал.
– Ну, купи, – я начинала заводиться, – это же не бриллиантовое колье. Они такие миленькие, а потом: это же букетик для любимой.
Видимо, мое нытье перешло все границы, потому что Серж уже не только перестал улыбаться и «держать лицо», но явно закипал и злился с каждой минутой все больше.
– Пойдем отсюда!
– Я еще не поужинала.
– Я сказал, пойдем!
Тут уперлась рогами я. Достала кошелек, вытащила купюру, подала девушке.
– Дайте мне этот букетик. Спасибо.
Встала из-за стола и молча пошла к выходу.
– Ты куда? Даша!
Я не обернулась. Вышла, села в машину, поехала вдоль моря. В колонках шептал джаз. Садилось солнце. Душа хотела любви и покоя. Я смотрела на летний закат и мечтала о бедном рыбаке, который будет каждый день уходить на лодке в море за рыбой, а по выходным дарить мне букетики полевых цветов.
Разговор
– Иннокентий, ну давай поговорим, ты второй день молчишь.
Анна Сергеевна поливает из голубой леечки цветы: герань, фикус, фиалки и – как ее, ну эту, красненьким еще цветет?.. А, пуансетию!
Диалог не складывается, собеседник молчит.
– Ты обиделся на меня, что ли? За то, что я с соседкой Валькой у подъезда языками зацепилась и проболтала с ней почти час?
Порядок дел был неизменным: полить растения, смахнуть пыль, посмотреть сериал под чаёк с абрикосовым вареньем. И между делами – разговоры.
– Как думаешь, может, купить пару килограммов абрикосов и сварить еще варенья? Или дорого пока? Наверное, дорого, подождать июля надо.
Свистящий на кухне чайник прерывает тишину. Две ложки заварки (обязательно из пачки со слоном), вазочка с овсяным печеньем, вязанная крючком ажурная салфетка на столе, и начинается чаепитие в Митино.
Анна Сергеевна с грустью выключает телевизор, сочувствуя разводу главной героини, и делает очередную попытку разговорить Иннокентия.
– Я – за молоком и хлебом в гастроном; тебе чего-нибудь захватить?
Три поворота ключа, тихие шаги до лифта. Уехала.
Из комнаты сначала слышен шум, затем довольный голос с грассировкой: «Кеша! Кеша хор-р-роший! Все любят Кешу!»
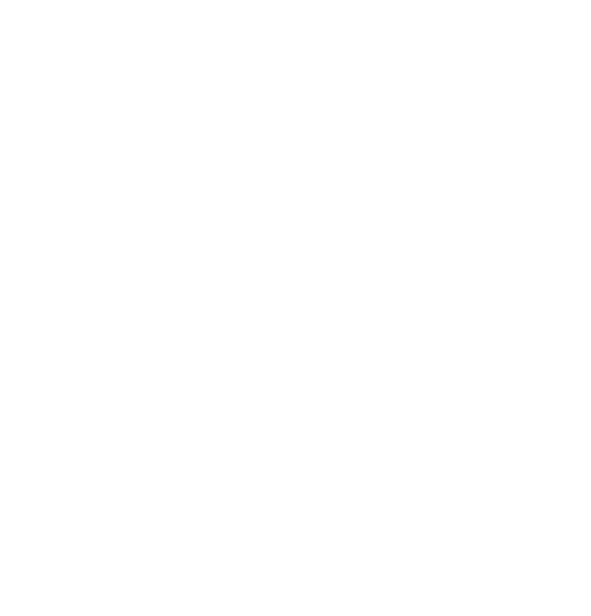
Аким ТКАЧЕНКО
Родился в 2003 году в Волгодонске Ростовской области.
Родился в 2003 году в Волгодонске Ростовской области.
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ
Уже третьи сутки моя голова гудела. Мыслительный процесс не прекращался, казалось, даже во сне. Я не мог подумать, что эссе по русскому языку может буквально вскипятить мозги. Тема была простой: «Незабываемый жизненный опыт». Получив её на занятии, я сразу же начал мысленно проматывать всю свою жизнь. Что из моего опыта действительно можно назвать незабываемым? Эссе оценивал очень строгий преподаватель, поэтому стоило вытащить из памяти что-то такое, что могло бы произвести на него сильное впечатление. Вряд ли среднего возраста мужчина, доктор педагогических наук захочет услышать про поездку на Черное море, первый поцелуй или последнюю пьянку студента-второкурсника.
На подготовку была неделя, а два с половиной дня я безуспешно пытался выудить из запутанных сетей прошлого хоть что-то ценное. Передо мной стоял ноутбук. На экране в одиночестве чернела тема эссе. Мысли стали вязкими, словно каучук.
– Пиши про детство. Там самые обычные вещи вызывали самые бурные эмоции, – пытался помочь мне сосед по комнате.
– Знаю я, только ничего вспомнить не могу. Детство как детство было. С горки катался да мороженое ел, – напряженно ответил я.
– Перечисляй дальше. Что ещё было?
– В смысле – что?
– Вспомни, чем любил заниматься, что по телевизору смотрел. В общем, любую мелочь. Может, – сосед пожал плечами, – тебе подвернется что-то такое, о чем можно это сочинение написать.
Будто последние несколько дней я не пытался перебором найти интересную тему. Так получилось, что над эссе соседа мы работали вместе. У него тема была на порядок легче: «Влияние технологий на образ жизни современного человека». Теперь он пытался своими подсказками вернуть должок.
– Может, боялся чего? Необязательно же рассказывать про что-то веселое, – продолжал размышлять сосед.
– В детстве почти всё пугает.
Про страхи было интересно. Мы с соседом вслух перебирали варианты. Собаки, высота или уколы меня не страшили.
– Моя старшая сестра рассказывала, что не могла оставаться одна даже на пятнадцать минут. Просто не переносила это, будто аллергия. Может, у тебя подобное было?
Кто-то щелкнул выключателем в одном из дальних уголков моей памяти. Передо мной всплыло то, что я искал. Удивленный таким точным попаданием, я сказал:
– Было! Не совсем про одиночество и аллергию, но ты угадал. Спасибо, Витя. Как напишу, дам почитать.
Я сомневался, что буду в состоянии написать это за вечер, но решил не откладывать: на кону был допуск к экзамену.
* * *
Я подскочил от противно пищавшего будильника. Со злости стукнул по нему; пластиковый прямоугольник замолчал. Почему меня разбудил этот прямоугольник, а не мама? Слово «будильник» напрочь забылось. Мне не хотелось думать о том, что после прекрасных выходных нужно идти в детский сад. Я поднялся с кровати, заправил постель и посмотрел на своего злейшего врага: шесть часов семнадцать минут.
На прикроватной тумбочке лежал исписанный лист бумаги. Почему я не слышу, как мама умывается или готовит завтрак? Я включил лампу и всё ещё сквозь заплывшие от сна глаза окинул листок взглядом. Внизу сразу увидел ласковое и родное: «Мама». Это писала мама? Читал я довольно хорошо для своих пяти лет, но всё же потратил на записку несколько минут.
«Саша, сегодня у тебя очень важный день! Прочитай эту записку очень внимательно. Ночью мой начальник позвонил и срочно вызвал на работу. Я не успею вернуться к утру, поэтому тебе придется пойти в детский сад без меня. Сынок, я понимаю твою обиду, но ничего не могу поделать, нужно работать. Обещаю, что заберу тебя из детского сада после сончаса, и мы вместе зайдем за твоими любимыми круассанами в пекарню! Сырники на столе, сметана – в холодильнике. Чай, к сожалению, тебе придется налить самому.
Не беспокойся, что не знаешь путь от дома до детского сада. В коридоре у зеркала лежит подсказка. Елена Олеговна встретит тебя у входа в детский сад, я её предупредила.
Я уверена, что у тебя всё получится!
Твоя мама».
Рядом было нарисовано наспех заштрихованное синей ручкой сердечко.
Я застыл на месте. Красивые, немного завивавшиеся буквы будто укололи меня. Какое-то новое чувство образовалось в груди. Что-то отчетливо ощущалось там, но я не мог понять, что. Бесформенный комок рос и поднимался к горлу. На глазах выступили слезы, обида не уходила. Я не верю! Мама спряталась у меня под кроватью или за шкафом в своей спальне, и теперь я должен найти её. Это всего лишь утренняя игра! Я быстро осмотрел комнату и, убедившись, что ни под кроватью, ни за шторой мамы нет, вышел в коридор. Слезы уже не текли, но щеки всё ещё были мокрые. Утершись майкой, я довольно громко сказал:
– Мама! Я прочитал твою записку и не верю! Выходи!
Мой голос немного охрип, поэтому прозвучал не так громко, как хотелось. Хрипоты было бы достаточно для того, чтобы мама вышла из своего укрытия и успокоила меня. Но ничего не произошло. Я просто стоял один посреди коридора с листком в руке.
Только сейчас до меня начал доходить смысл оставленной записки. Внутри неприятно жгло от страха. Как я пойду в детский сад один? Мы ведь только въехали в эту квартиру, и мама ещё не провожала меня отсюда. Внутренний голос пытался оправдать злого дядю, из-за которого придется впервые пойти в детский сад самому, но слушать не было сил. «Маму уволят, если она будет пропускать работу», – говорил он мне. «Глупости», – отвечал я.
Я поежился. В квартире было холодно, но не оттого, что батареи плохо работали. Зимой утром всегда холодно. И этот холод не такой, как на улице. Дома от него мерзнут не только ноги, но и всё внутри. Он напоминает мне что-то мягкое и противное, будто мерзкое желе, которое папа ест исключительно в Новый год. Мама знала о моем отношении к холоду, поэтому приготовила с вечера теплые носки, футболку и штаны. Мама всегда всё знает.
Делать, похоже, было нечего. Мама не вернётся, чтобы помочь мне собраться. Пора было завтракать.
Пока сырники грелись в микроволновке, а чайник закипал, я смотрел на настенные часы. Шесть часов сорок шесть минут. Секундная стрелка шла неумолимо быстро, приближая меня к самому страшному – выходу из дома. Когда папа узнает, какой героический поступок будет совершен сегодня его сыном, он точно будет мной гордиться. Вот бы он поскорее вернулся из командировки. Жаль, что у меня нет своего телефона, чтобы прямо сейчас увидеть или услышать кого-нибудь из родителей. Мама обещала подарить собственный смартфон, когда я отпраздную свой седьмой день рождения. «Во-первых, – говорила она, – ты пойдешь в школу и должен будешь писать или звонить мне после занятий, чтобы я не волновалась. А во-вторых, мы с папой хотели бы, чтобы ты больше наслаждался детством без всякой гадости из Интернета». Если ежедневные отчеты маме о своем приходе после школы домой меня устраивали, то детство без Интернета казалось совсем невозможным.
Микроволновка и чайник почти одновременно дали мне понять, что завтрак готов. Я поставил сырники на стол. Сахар я не нашёл, поэтому чай пришлось налить несладким. Кастрюля с супом и сковородка с макаронами по-флотски в холодильнике загородили от меня сметану, зато на дверной полочке я заметил малиновый джем. Почему бы не скрасить так ужасно начавшийся день?
Чай без сахара был отвратителен. От ответственности, упавшей мне на плечи, крутило живот, и сырники не лезли в горло. Кушать вообще не хотелось. Вспомнив про джем, я взял его и выдавил в рот. Приятная сладость придала сил, а чай, последовавший за джемом, оказался не так уж плох.
Часы показывали чуть больше семи утра. У меня было десять свободных минут, поэтому решил потратить их на чистку зубов. Не любил этим заниматься да и не понимал маминых наставлений по поводу того, что с каждой стороны нужно водить щёткой хотя бы шестьдесят секунд. Это слишком долго, обычно я справлялся секунд за сорок со всеми зубами и, довольный, шёл одеваться. Сегодняшнее утро исключением не было.
Одеваться я люблю. Это кажется мне своеобразной игрой, цель которой – надевать всё в правильном порядке. Если за окном зима, то сначала обязательно майка, затем колготки, на них – носки. Майку обязательно нужно заправить в колготки так, чтобы нигде не было складок. Затем снова сверху вниз: кофта, штаны. Дальше – обувь, и только в самом конце – куртка, шарф и шапка.
Сегодня моя игра была обречена на провал. Сначала я застыл с одним из носков в руках. Невыносимо было думать о том, что меня ждёт за дверью подъезда, к тому же спать хотелось жутко. Одолев носок, я запутался в свитере: голова упорно лезла в рукав, и ещё несколько минут я пытался понять, куда же её деть. Со штанами проблем не возникло. Шнурки на ботинках никак не хотели складываться в бантик. Слезы испортили всё окончательно, но я решил проблему просто: сделал два тугих узла и спрятал шнурки под язычок. На очереди была куртка. Тут меня осенило: вторая записка мамы!
Я встал со стульчика и подошел к зеркалу. На полке действительно лежал листок бумаги. Это была карта! Обида от шнурков сошла на нет, я изучал послание мамы с любопытством. Всё было нарисовано второпях, но от этого казалось только загадочнее. Представлялось, что я – искатель приключений, который должен отыскать загадочный остров под названием «Детский сад», преодолев при этом множество препятствий. От подъезда мне нужно пройти через двор, мимо школы к двум соседним домам. Следом меня ждал лесопарк. Сразу за ним находился детский сад, оттого этот «лесопарк» казался несокрушимой преградой перед целью. Я уже с оптимизмом думал о том, как буду пробираться по тайным тропам среди деревьев, обходить или даже перепрыгивать большие лужи, и никто не сможет меня остановить на моем пути. Накинув оставшуюся одежду, я взял карту в руки и вышел из квартиры.
На площадке – никого. Пусто и тихо. Дом новый, поэтому ещё не все квартиры заселены. Я напряг горло и выдавил из себя А средней громкости. Гласная эхом тут же вернулась ко мне. Каждый раз слыша отзвук своих А, О или Э, я представляю, что стены дразнят меня, посылая в ответ те же буквы. Или в стенах сидит кто-то (в детстве я всегда представлял гнома), идеально пародирует мои выкрики, потирает ручки и ехидно смеется.
Я подошёл к лифту, нажал на кнопку вызова. Вокруг неё загорелось красным. Кнопка металлическая, большая, плоская. Она мне нравилась больше, чем кнопка в старом доме. Та была некрасивая. Пластиковая, оплавленная местными подростками, и к тому же дотянуться до неё было сложнее. В общем, не любил я старую кнопку.
Энтузиазм, вызванный картой, всё ещё лился через край, когда я вышел из подъезда. Вечером я видел из окна метель, теперь же всё исчезло. Подмерзшая вода превращала весь асфальт в полосу препятствий. Я осмотрелся. Горящий надо мной фонарь создавал островок света, островок безопасности. Несмотря на наличие освещения во всём дворе, оно мне было не по душе, я бы предпочел солнечный свет. Ещё даже не рассвело, зачем люди так рано просыпаются и начинают суетиться? Сама природа ещё спит.
Впереди была детская площадка. Высокие закрученные горки напомнили мне аквапарк в Геленджике, в который меня возили летом. Это был один из самых запоминающихся дней ушедшего лета. Я подумал о том, с каким нетерпением жду наступления весны, ведь там до пляжного сезона рукой подать.
Что-то сковало мои ноги, руки сами собой сжали карту. Страх пытается атаковать меня снова. Первой мыслью было развернуться и забежать в подъезд. Остаться дома и смотреть телевизор до возвращения мамы. В таком случае придется понести наказание за прогул детского сада. Это ведь не так страшно, как необходимость идти вперед, во тьму?
Я подумал о маме. Её срочно вызвали на работу, и она трудится там с середины ночи. Ради неё нужно быть смелее. Я глубоко вдохнул. Утренний морозный воздух сжал железной хваткой горло. Выдохнул. Повторил это несколько раз, и туча, нависшая над душой, растворилась. Ободрив самого себя, я отправился в детский сад.
Через полсотни шагов по гололедице многоэтажка, стоящая справа от моей, немного отодвинулась, открыв мне вид на стройку жилого дома. На несколько секунд я остановился, рассматривая ржаво-желтый башенный кран. Накануне вечером мы с мамой впервые гуляли на детской площадке. Это была, скорее, экскурсия по двору. Я изучал горки, песочницы и качели, в то время как мама общалась по телефону с отцом. Меня заметили местные ребята и подошли, чтобы познакомиться. Самый высокий из них начал разговор:
– Здорова. Ты тут живешь или проездом?
– Что значит «проездом»? – не понял я.
– Насовсем здесь или нет? – вмешался стоявший рядом с высоким мальчишка. С виду он был чуть старше меня. Возможно, уже школьник.
– Мы переехали сюда вчера, – сказал я.
Ребята расспрашивали меня о всяком. Было весело, и мне даже показалось, что мы успели сдружиться. Вдруг высокий подошёл ко мне ближе и спросил:
– А про крановщика знаешь?
– Профессия такая, – уверенно сказал я.
– Да нет же. Про призрака крановщика слышал?
Я будто одеревенел. Призраки всегда вызывали во мне неприятный отклик. Он был чем-то между страхом и таинственностью.
– Нет, – мой голос прозвучал тише.
Высокий впечатлил меня не на шутку. Он сам это понял и сказал:
– Как так? Эту историю ведь весь город знает. Ну, слушай...
По мере его рассказа мои глаза увеличивались, по размеру всё больше напоминая пятирублевую монету. Суть истории была такой…
На кране работал мужчина, который очень много пил. В таком виде он часто появлялся на работе. И вот совсем недавно он, выпивший, оступился при подъеме на кран и полетел вниз. Спасти его не смогли. С тех пор по ночам можно много чего услышать: скрип лестницы крана, завывания со стороны стройки, а кому-то из ребят даже казалось, что краном управляют. Крановщик разозлился на своих товарищей за то, что его не смогли спасти, и так он мстит товарищам.
Страшилка оставила у меня неизгладимое впечатление. В рассказанное новым другом я не только поверил, но и проникся так, что ноги подкосились.
– Эй, Саша? Чего застыл? – с хитрой улыбкой спросил высокий.
Я огляделся в поисках мамы и рванул к ней, как только заметил. Подбежав, я врезался в неё и жалобно заскулил.
К вечеру всё забылось, но ночью воспоминания пришли. Уснуть не получалось. Я смотрел в окно, прямо на кран. С наступлением темноты он напоминал башню злодея, из которой вот-вот спустится сам крановщик. Или если он стал призраком, то вылетит. Точно, вылетит. В порыве мести устроит погром на стройке, а с рассветом успокоится.
Пока я шел и вспоминал об этом, на улице начало светать. Теней вокруг становилось всё меньше.
Я проверил карту. Следующим важным местом на моем пути был проход между двумя домами. Я убедился в этом, увидев мощные, будто корнями уходящие в землю двадцатипятиэтажки. По мере приближения к ним я задрал голову, чтобы оценить размер этих громадин. На ум тут же пришло слово «небоскреб». Теперь стало понятно, что оно означает на самом деле. Большие прямоугольные коробки упираются в небо, будто царапая его. Я остановился. Прямо надо мной стены многоэтажек уходили вверх. Они тянулись бесконечные двадцать пять этажей. Казалось, что ветер раскачивает их, и вот-вот произойдет страшное: дома завалятся друг на друга. Или на меня. Не хотелось долго смотреть вверх, от этого кружилась голова. Я вдруг подумал, что эти дома будут стоять вечно, словно памятники. Вокруг них произойдет очень много событий. Внутри будут жить самые разные люди, ещё больше будут просто проходить мимо. И лишь немногие воспримут эти небоскребы не как коробки с квартирами, а как памятники.
Нельзя было останавливаться надолго. Своими шагами я продолжил борьбу с заледенелым тротуаром за право не опоздать.
Миновав бабушку, идущую с небольшим чемоданам на колесиках мне навстречу, я вышел со двора. Здесь начинался старый район, в котором меня ждал детский сад. Лесопарк был моим последним препятствием на сегодня. Вот он, уже почти передо мной. Всего метров двадцать по льду, и тротуар перейдет в тропу из мелкого камня.
Остановившись у входа, я сверился с картой. Лесопарк я знал хорошо по многочисленным прогулкам, но от этого не становилось легче. Детский сад был с противоположной стороны от входа. Нужно было пройти по тропинке, никуда не сворачивая. Собрав остатки своей храбрости, я поспешил.
Через минуту будто из-под земли выросла развилка. Налево – небольшая свалка, это я помнил хорошо. Я, не сворачивая, продолжил идти. Интересно, почему люди несут мусор и хлам сюда, в лес? В моем новом дворе есть большие мусорки, которые остаются полупустыми. Все живут в соседних домах, но тащат мешки с мусором сюда? В голове никак не укладывалось такое. Я решил спросить об этом маму сегодня.
Взошедшее солнце улыбалось. Оно щедро грело воздух, дышалось легко. От прикосновения солнечных лучей все мои переживания таяли. Земля стала мягче, и камни под ногами немного проваливались в неё, словно в зыбучие пески. Я вновь представил себя путешественником, который пробирается по тайным тропам к заветной цели. Ни в коем случае нельзя было останавливаться, потому что зыбучий песок без колебаний поглотит меня. Кто же тогда совершит подвиг?
По правую сторону от меня виднелся пруд. Вокруг него стояли деревянные беседки. А чуть дальше, на небольшой полянке располагались мангалы. Летом мы приходили сюда с родителями, чтобы приготовить шашлык и искупаться в пруду. Сейчас же многие беседки пребывали в плачевном состоянии. Натиска дождливой осени и довольно снежной зимы они не выдержали. Многим беседкам недоставало хотя бы двух-трех досок, кое-где ситуация была хуже. Одна из лавочек была переломана пополам в центре – похоже, кто-то сел на прогнившее дерево, и оно проломилось. Вокруг беседок я заметил кучи мусора: пивные бутылки, пакеты из-под чипсов и много разного. На глаза даже попался один внушительных размеров ботинок. Мне неясно было, как его можно было потерять? Ведь обувь всегда на тебе и всегда застегнута.
Пока я размышлял, на небе появились тяжелые облака цвета железа. Они закрыли собой солнце, и на улице стало несколько темнее. Полумрак вернулся. И теперь он не один. Его верные подданные тени, воспользовавшись моментом, вышли из укрытий. Каждое дерево будто ожило, и многочисленные тонкие, когтистые, изломанные руки потянулись ко мне. Я вдруг почувствовал, что одна из них крепко схватила меня за ногу и...
Я побежал. Не думая, не оглядываясь. Казалось, что ноги погружаются в землю всё глубже. Казалось, что если остановлюсь, то больше не смогу их поднять, и тогда жилистые измученные руки доберутся до меня. Впереди уже виднелся выход из лесопарка. Было бы несправедливо остаться здесь, в плену мрака. Разве, просыпаясь утром, я мог подумать о таком? Мама будто испарилась, оставив лишь две записки, а солнце предательски ушло за облака. Я не мог так просто сдаться, особенно когда видел вдалеке спасительную арку, которая вела прочь от когтистых веток.
Следующую (по ощущениям) вечность я бежал. Со всей силы монотонно отрывал ногу от земли и снова погружал в камни впереди себя. Выход становился всё ближе.
Остановился. Почему? Вокруг не было деревьев. Передо мной лишь машины, дребезжа и пыхтя, ездили влево-вправо. Лесопарк остался позади. В глаза ударил яркий свет – солнце победило в схватке с облаками и улыбалось ещё шире. Мне осталось всего лишь перейти дорогу по светофору. После такой напряженной погони это оказалось несложно. Я услышал, как меня зовут.
– Саша! Подходи, чего боишься? – воспитательница кричала, стоя у ворот детского сада.
Шагать было легко. Я подошел к воспитательнице.
– Здравствуй, Саша. Как справился? – спросила она.
– Здравствуйте, Елена Олеговна. Вроде, хорошо.
– Если так, то почему ты по уши в грязи? – спросила Елена Олеговна, указывая на мои ботинки.
Я взглянул на них и увидел скорее комки земли с щебенкой, чем свою обувь.
– Так я через лесопарк шёл.
– Действительно, – как будто поняв меня, сказала воспитательница. – Ну что ж, пойдем. Будем тебя отмывать.
Елена Олеговна взяла меня за руку, и мы пошли в детский сад. Неожиданно для себя я обернулся и всмотрелся в лес. Теперь там и намека на что-то злое не было. Я отделался всего лишь грязными ботинками. Мама будет рада узнать, что ее сын справился, а папа так вообще назовет героем. Сердце уже не стучало бешено, но чувствовал я себя неоднозначно. Мне вдруг показалось, что я стал старше. Рост или размер ноги у меня были такие же, но вот внутри что-то переключилось. От этого всё вокруг открылось мне под каким-то новым, странным углом. Пережитое за утро путешествие показало мне, ещё такому маленькому и неопытному: надеяться можно только на себя. Преодолеть свой страх – значит чему-то научиться.
* * *
– Это действительно было или ты за ночь выдумал? — сосед глядел на монитор, бегая глазами по последнему абзацу.
– Сочинить детские фантазии не так-то просто. Конечно, я писал это не в пять лет, но старался передать то, что чувствовал, – после бессонной ночи язык будто стал чужим.
– Тогда почему ты просто не остался дома? – улыбаясь и глядя на меня, спросил сосед.
– Я был очень послушным, правильным ребенком. Пропустить детский сад было бы тяжким преступлением по отношению к маме, – ответил я, не задумываясь.
Уже третьи сутки моя голова гудела. Мыслительный процесс не прекращался, казалось, даже во сне. Я не мог подумать, что эссе по русскому языку может буквально вскипятить мозги. Тема была простой: «Незабываемый жизненный опыт». Получив её на занятии, я сразу же начал мысленно проматывать всю свою жизнь. Что из моего опыта действительно можно назвать незабываемым? Эссе оценивал очень строгий преподаватель, поэтому стоило вытащить из памяти что-то такое, что могло бы произвести на него сильное впечатление. Вряд ли среднего возраста мужчина, доктор педагогических наук захочет услышать про поездку на Черное море, первый поцелуй или последнюю пьянку студента-второкурсника.
На подготовку была неделя, а два с половиной дня я безуспешно пытался выудить из запутанных сетей прошлого хоть что-то ценное. Передо мной стоял ноутбук. На экране в одиночестве чернела тема эссе. Мысли стали вязкими, словно каучук.
– Пиши про детство. Там самые обычные вещи вызывали самые бурные эмоции, – пытался помочь мне сосед по комнате.
– Знаю я, только ничего вспомнить не могу. Детство как детство было. С горки катался да мороженое ел, – напряженно ответил я.
– Перечисляй дальше. Что ещё было?
– В смысле – что?
– Вспомни, чем любил заниматься, что по телевизору смотрел. В общем, любую мелочь. Может, – сосед пожал плечами, – тебе подвернется что-то такое, о чем можно это сочинение написать.
Будто последние несколько дней я не пытался перебором найти интересную тему. Так получилось, что над эссе соседа мы работали вместе. У него тема была на порядок легче: «Влияние технологий на образ жизни современного человека». Теперь он пытался своими подсказками вернуть должок.
– Может, боялся чего? Необязательно же рассказывать про что-то веселое, – продолжал размышлять сосед.
– В детстве почти всё пугает.
Про страхи было интересно. Мы с соседом вслух перебирали варианты. Собаки, высота или уколы меня не страшили.
– Моя старшая сестра рассказывала, что не могла оставаться одна даже на пятнадцать минут. Просто не переносила это, будто аллергия. Может, у тебя подобное было?
Кто-то щелкнул выключателем в одном из дальних уголков моей памяти. Передо мной всплыло то, что я искал. Удивленный таким точным попаданием, я сказал:
– Было! Не совсем про одиночество и аллергию, но ты угадал. Спасибо, Витя. Как напишу, дам почитать.
Я сомневался, что буду в состоянии написать это за вечер, но решил не откладывать: на кону был допуск к экзамену.
* * *
Я подскочил от противно пищавшего будильника. Со злости стукнул по нему; пластиковый прямоугольник замолчал. Почему меня разбудил этот прямоугольник, а не мама? Слово «будильник» напрочь забылось. Мне не хотелось думать о том, что после прекрасных выходных нужно идти в детский сад. Я поднялся с кровати, заправил постель и посмотрел на своего злейшего врага: шесть часов семнадцать минут.
На прикроватной тумбочке лежал исписанный лист бумаги. Почему я не слышу, как мама умывается или готовит завтрак? Я включил лампу и всё ещё сквозь заплывшие от сна глаза окинул листок взглядом. Внизу сразу увидел ласковое и родное: «Мама». Это писала мама? Читал я довольно хорошо для своих пяти лет, но всё же потратил на записку несколько минут.
«Саша, сегодня у тебя очень важный день! Прочитай эту записку очень внимательно. Ночью мой начальник позвонил и срочно вызвал на работу. Я не успею вернуться к утру, поэтому тебе придется пойти в детский сад без меня. Сынок, я понимаю твою обиду, но ничего не могу поделать, нужно работать. Обещаю, что заберу тебя из детского сада после сончаса, и мы вместе зайдем за твоими любимыми круассанами в пекарню! Сырники на столе, сметана – в холодильнике. Чай, к сожалению, тебе придется налить самому.
Не беспокойся, что не знаешь путь от дома до детского сада. В коридоре у зеркала лежит подсказка. Елена Олеговна встретит тебя у входа в детский сад, я её предупредила.
Я уверена, что у тебя всё получится!
Твоя мама».
Рядом было нарисовано наспех заштрихованное синей ручкой сердечко.
Я застыл на месте. Красивые, немного завивавшиеся буквы будто укололи меня. Какое-то новое чувство образовалось в груди. Что-то отчетливо ощущалось там, но я не мог понять, что. Бесформенный комок рос и поднимался к горлу. На глазах выступили слезы, обида не уходила. Я не верю! Мама спряталась у меня под кроватью или за шкафом в своей спальне, и теперь я должен найти её. Это всего лишь утренняя игра! Я быстро осмотрел комнату и, убедившись, что ни под кроватью, ни за шторой мамы нет, вышел в коридор. Слезы уже не текли, но щеки всё ещё были мокрые. Утершись майкой, я довольно громко сказал:
– Мама! Я прочитал твою записку и не верю! Выходи!
Мой голос немного охрип, поэтому прозвучал не так громко, как хотелось. Хрипоты было бы достаточно для того, чтобы мама вышла из своего укрытия и успокоила меня. Но ничего не произошло. Я просто стоял один посреди коридора с листком в руке.
Только сейчас до меня начал доходить смысл оставленной записки. Внутри неприятно жгло от страха. Как я пойду в детский сад один? Мы ведь только въехали в эту квартиру, и мама ещё не провожала меня отсюда. Внутренний голос пытался оправдать злого дядю, из-за которого придется впервые пойти в детский сад самому, но слушать не было сил. «Маму уволят, если она будет пропускать работу», – говорил он мне. «Глупости», – отвечал я.
Я поежился. В квартире было холодно, но не оттого, что батареи плохо работали. Зимой утром всегда холодно. И этот холод не такой, как на улице. Дома от него мерзнут не только ноги, но и всё внутри. Он напоминает мне что-то мягкое и противное, будто мерзкое желе, которое папа ест исключительно в Новый год. Мама знала о моем отношении к холоду, поэтому приготовила с вечера теплые носки, футболку и штаны. Мама всегда всё знает.
Делать, похоже, было нечего. Мама не вернётся, чтобы помочь мне собраться. Пора было завтракать.
Пока сырники грелись в микроволновке, а чайник закипал, я смотрел на настенные часы. Шесть часов сорок шесть минут. Секундная стрелка шла неумолимо быстро, приближая меня к самому страшному – выходу из дома. Когда папа узнает, какой героический поступок будет совершен сегодня его сыном, он точно будет мной гордиться. Вот бы он поскорее вернулся из командировки. Жаль, что у меня нет своего телефона, чтобы прямо сейчас увидеть или услышать кого-нибудь из родителей. Мама обещала подарить собственный смартфон, когда я отпраздную свой седьмой день рождения. «Во-первых, – говорила она, – ты пойдешь в школу и должен будешь писать или звонить мне после занятий, чтобы я не волновалась. А во-вторых, мы с папой хотели бы, чтобы ты больше наслаждался детством без всякой гадости из Интернета». Если ежедневные отчеты маме о своем приходе после школы домой меня устраивали, то детство без Интернета казалось совсем невозможным.
Микроволновка и чайник почти одновременно дали мне понять, что завтрак готов. Я поставил сырники на стол. Сахар я не нашёл, поэтому чай пришлось налить несладким. Кастрюля с супом и сковородка с макаронами по-флотски в холодильнике загородили от меня сметану, зато на дверной полочке я заметил малиновый джем. Почему бы не скрасить так ужасно начавшийся день?
Чай без сахара был отвратителен. От ответственности, упавшей мне на плечи, крутило живот, и сырники не лезли в горло. Кушать вообще не хотелось. Вспомнив про джем, я взял его и выдавил в рот. Приятная сладость придала сил, а чай, последовавший за джемом, оказался не так уж плох.
Часы показывали чуть больше семи утра. У меня было десять свободных минут, поэтому решил потратить их на чистку зубов. Не любил этим заниматься да и не понимал маминых наставлений по поводу того, что с каждой стороны нужно водить щёткой хотя бы шестьдесят секунд. Это слишком долго, обычно я справлялся секунд за сорок со всеми зубами и, довольный, шёл одеваться. Сегодняшнее утро исключением не было.
Одеваться я люблю. Это кажется мне своеобразной игрой, цель которой – надевать всё в правильном порядке. Если за окном зима, то сначала обязательно майка, затем колготки, на них – носки. Майку обязательно нужно заправить в колготки так, чтобы нигде не было складок. Затем снова сверху вниз: кофта, штаны. Дальше – обувь, и только в самом конце – куртка, шарф и шапка.
Сегодня моя игра была обречена на провал. Сначала я застыл с одним из носков в руках. Невыносимо было думать о том, что меня ждёт за дверью подъезда, к тому же спать хотелось жутко. Одолев носок, я запутался в свитере: голова упорно лезла в рукав, и ещё несколько минут я пытался понять, куда же её деть. Со штанами проблем не возникло. Шнурки на ботинках никак не хотели складываться в бантик. Слезы испортили всё окончательно, но я решил проблему просто: сделал два тугих узла и спрятал шнурки под язычок. На очереди была куртка. Тут меня осенило: вторая записка мамы!
Я встал со стульчика и подошел к зеркалу. На полке действительно лежал листок бумаги. Это была карта! Обида от шнурков сошла на нет, я изучал послание мамы с любопытством. Всё было нарисовано второпях, но от этого казалось только загадочнее. Представлялось, что я – искатель приключений, который должен отыскать загадочный остров под названием «Детский сад», преодолев при этом множество препятствий. От подъезда мне нужно пройти через двор, мимо школы к двум соседним домам. Следом меня ждал лесопарк. Сразу за ним находился детский сад, оттого этот «лесопарк» казался несокрушимой преградой перед целью. Я уже с оптимизмом думал о том, как буду пробираться по тайным тропам среди деревьев, обходить или даже перепрыгивать большие лужи, и никто не сможет меня остановить на моем пути. Накинув оставшуюся одежду, я взял карту в руки и вышел из квартиры.
На площадке – никого. Пусто и тихо. Дом новый, поэтому ещё не все квартиры заселены. Я напряг горло и выдавил из себя А средней громкости. Гласная эхом тут же вернулась ко мне. Каждый раз слыша отзвук своих А, О или Э, я представляю, что стены дразнят меня, посылая в ответ те же буквы. Или в стенах сидит кто-то (в детстве я всегда представлял гнома), идеально пародирует мои выкрики, потирает ручки и ехидно смеется.
Я подошёл к лифту, нажал на кнопку вызова. Вокруг неё загорелось красным. Кнопка металлическая, большая, плоская. Она мне нравилась больше, чем кнопка в старом доме. Та была некрасивая. Пластиковая, оплавленная местными подростками, и к тому же дотянуться до неё было сложнее. В общем, не любил я старую кнопку.
Энтузиазм, вызванный картой, всё ещё лился через край, когда я вышел из подъезда. Вечером я видел из окна метель, теперь же всё исчезло. Подмерзшая вода превращала весь асфальт в полосу препятствий. Я осмотрелся. Горящий надо мной фонарь создавал островок света, островок безопасности. Несмотря на наличие освещения во всём дворе, оно мне было не по душе, я бы предпочел солнечный свет. Ещё даже не рассвело, зачем люди так рано просыпаются и начинают суетиться? Сама природа ещё спит.
Впереди была детская площадка. Высокие закрученные горки напомнили мне аквапарк в Геленджике, в который меня возили летом. Это был один из самых запоминающихся дней ушедшего лета. Я подумал о том, с каким нетерпением жду наступления весны, ведь там до пляжного сезона рукой подать.
Что-то сковало мои ноги, руки сами собой сжали карту. Страх пытается атаковать меня снова. Первой мыслью было развернуться и забежать в подъезд. Остаться дома и смотреть телевизор до возвращения мамы. В таком случае придется понести наказание за прогул детского сада. Это ведь не так страшно, как необходимость идти вперед, во тьму?
Я подумал о маме. Её срочно вызвали на работу, и она трудится там с середины ночи. Ради неё нужно быть смелее. Я глубоко вдохнул. Утренний морозный воздух сжал железной хваткой горло. Выдохнул. Повторил это несколько раз, и туча, нависшая над душой, растворилась. Ободрив самого себя, я отправился в детский сад.
Через полсотни шагов по гололедице многоэтажка, стоящая справа от моей, немного отодвинулась, открыв мне вид на стройку жилого дома. На несколько секунд я остановился, рассматривая ржаво-желтый башенный кран. Накануне вечером мы с мамой впервые гуляли на детской площадке. Это была, скорее, экскурсия по двору. Я изучал горки, песочницы и качели, в то время как мама общалась по телефону с отцом. Меня заметили местные ребята и подошли, чтобы познакомиться. Самый высокий из них начал разговор:
– Здорова. Ты тут живешь или проездом?
– Что значит «проездом»? – не понял я.
– Насовсем здесь или нет? – вмешался стоявший рядом с высоким мальчишка. С виду он был чуть старше меня. Возможно, уже школьник.
– Мы переехали сюда вчера, – сказал я.
Ребята расспрашивали меня о всяком. Было весело, и мне даже показалось, что мы успели сдружиться. Вдруг высокий подошёл ко мне ближе и спросил:
– А про крановщика знаешь?
– Профессия такая, – уверенно сказал я.
– Да нет же. Про призрака крановщика слышал?
Я будто одеревенел. Призраки всегда вызывали во мне неприятный отклик. Он был чем-то между страхом и таинственностью.
– Нет, – мой голос прозвучал тише.
Высокий впечатлил меня не на шутку. Он сам это понял и сказал:
– Как так? Эту историю ведь весь город знает. Ну, слушай...
По мере его рассказа мои глаза увеличивались, по размеру всё больше напоминая пятирублевую монету. Суть истории была такой…
На кране работал мужчина, который очень много пил. В таком виде он часто появлялся на работе. И вот совсем недавно он, выпивший, оступился при подъеме на кран и полетел вниз. Спасти его не смогли. С тех пор по ночам можно много чего услышать: скрип лестницы крана, завывания со стороны стройки, а кому-то из ребят даже казалось, что краном управляют. Крановщик разозлился на своих товарищей за то, что его не смогли спасти, и так он мстит товарищам.
Страшилка оставила у меня неизгладимое впечатление. В рассказанное новым другом я не только поверил, но и проникся так, что ноги подкосились.
– Эй, Саша? Чего застыл? – с хитрой улыбкой спросил высокий.
Я огляделся в поисках мамы и рванул к ней, как только заметил. Подбежав, я врезался в неё и жалобно заскулил.
К вечеру всё забылось, но ночью воспоминания пришли. Уснуть не получалось. Я смотрел в окно, прямо на кран. С наступлением темноты он напоминал башню злодея, из которой вот-вот спустится сам крановщик. Или если он стал призраком, то вылетит. Точно, вылетит. В порыве мести устроит погром на стройке, а с рассветом успокоится.
Пока я шел и вспоминал об этом, на улице начало светать. Теней вокруг становилось всё меньше.
Я проверил карту. Следующим важным местом на моем пути был проход между двумя домами. Я убедился в этом, увидев мощные, будто корнями уходящие в землю двадцатипятиэтажки. По мере приближения к ним я задрал голову, чтобы оценить размер этих громадин. На ум тут же пришло слово «небоскреб». Теперь стало понятно, что оно означает на самом деле. Большие прямоугольные коробки упираются в небо, будто царапая его. Я остановился. Прямо надо мной стены многоэтажек уходили вверх. Они тянулись бесконечные двадцать пять этажей. Казалось, что ветер раскачивает их, и вот-вот произойдет страшное: дома завалятся друг на друга. Или на меня. Не хотелось долго смотреть вверх, от этого кружилась голова. Я вдруг подумал, что эти дома будут стоять вечно, словно памятники. Вокруг них произойдет очень много событий. Внутри будут жить самые разные люди, ещё больше будут просто проходить мимо. И лишь немногие воспримут эти небоскребы не как коробки с квартирами, а как памятники.
Нельзя было останавливаться надолго. Своими шагами я продолжил борьбу с заледенелым тротуаром за право не опоздать.
Миновав бабушку, идущую с небольшим чемоданам на колесиках мне навстречу, я вышел со двора. Здесь начинался старый район, в котором меня ждал детский сад. Лесопарк был моим последним препятствием на сегодня. Вот он, уже почти передо мной. Всего метров двадцать по льду, и тротуар перейдет в тропу из мелкого камня.
Остановившись у входа, я сверился с картой. Лесопарк я знал хорошо по многочисленным прогулкам, но от этого не становилось легче. Детский сад был с противоположной стороны от входа. Нужно было пройти по тропинке, никуда не сворачивая. Собрав остатки своей храбрости, я поспешил.
Через минуту будто из-под земли выросла развилка. Налево – небольшая свалка, это я помнил хорошо. Я, не сворачивая, продолжил идти. Интересно, почему люди несут мусор и хлам сюда, в лес? В моем новом дворе есть большие мусорки, которые остаются полупустыми. Все живут в соседних домах, но тащат мешки с мусором сюда? В голове никак не укладывалось такое. Я решил спросить об этом маму сегодня.
Взошедшее солнце улыбалось. Оно щедро грело воздух, дышалось легко. От прикосновения солнечных лучей все мои переживания таяли. Земля стала мягче, и камни под ногами немного проваливались в неё, словно в зыбучие пески. Я вновь представил себя путешественником, который пробирается по тайным тропам к заветной цели. Ни в коем случае нельзя было останавливаться, потому что зыбучий песок без колебаний поглотит меня. Кто же тогда совершит подвиг?
По правую сторону от меня виднелся пруд. Вокруг него стояли деревянные беседки. А чуть дальше, на небольшой полянке располагались мангалы. Летом мы приходили сюда с родителями, чтобы приготовить шашлык и искупаться в пруду. Сейчас же многие беседки пребывали в плачевном состоянии. Натиска дождливой осени и довольно снежной зимы они не выдержали. Многим беседкам недоставало хотя бы двух-трех досок, кое-где ситуация была хуже. Одна из лавочек была переломана пополам в центре – похоже, кто-то сел на прогнившее дерево, и оно проломилось. Вокруг беседок я заметил кучи мусора: пивные бутылки, пакеты из-под чипсов и много разного. На глаза даже попался один внушительных размеров ботинок. Мне неясно было, как его можно было потерять? Ведь обувь всегда на тебе и всегда застегнута.
Пока я размышлял, на небе появились тяжелые облака цвета железа. Они закрыли собой солнце, и на улице стало несколько темнее. Полумрак вернулся. И теперь он не один. Его верные подданные тени, воспользовавшись моментом, вышли из укрытий. Каждое дерево будто ожило, и многочисленные тонкие, когтистые, изломанные руки потянулись ко мне. Я вдруг почувствовал, что одна из них крепко схватила меня за ногу и...
Я побежал. Не думая, не оглядываясь. Казалось, что ноги погружаются в землю всё глубже. Казалось, что если остановлюсь, то больше не смогу их поднять, и тогда жилистые измученные руки доберутся до меня. Впереди уже виднелся выход из лесопарка. Было бы несправедливо остаться здесь, в плену мрака. Разве, просыпаясь утром, я мог подумать о таком? Мама будто испарилась, оставив лишь две записки, а солнце предательски ушло за облака. Я не мог так просто сдаться, особенно когда видел вдалеке спасительную арку, которая вела прочь от когтистых веток.
Следующую (по ощущениям) вечность я бежал. Со всей силы монотонно отрывал ногу от земли и снова погружал в камни впереди себя. Выход становился всё ближе.
Остановился. Почему? Вокруг не было деревьев. Передо мной лишь машины, дребезжа и пыхтя, ездили влево-вправо. Лесопарк остался позади. В глаза ударил яркий свет – солнце победило в схватке с облаками и улыбалось ещё шире. Мне осталось всего лишь перейти дорогу по светофору. После такой напряженной погони это оказалось несложно. Я услышал, как меня зовут.
– Саша! Подходи, чего боишься? – воспитательница кричала, стоя у ворот детского сада.
Шагать было легко. Я подошел к воспитательнице.
– Здравствуй, Саша. Как справился? – спросила она.
– Здравствуйте, Елена Олеговна. Вроде, хорошо.
– Если так, то почему ты по уши в грязи? – спросила Елена Олеговна, указывая на мои ботинки.
Я взглянул на них и увидел скорее комки земли с щебенкой, чем свою обувь.
– Так я через лесопарк шёл.
– Действительно, – как будто поняв меня, сказала воспитательница. – Ну что ж, пойдем. Будем тебя отмывать.
Елена Олеговна взяла меня за руку, и мы пошли в детский сад. Неожиданно для себя я обернулся и всмотрелся в лес. Теперь там и намека на что-то злое не было. Я отделался всего лишь грязными ботинками. Мама будет рада узнать, что ее сын справился, а папа так вообще назовет героем. Сердце уже не стучало бешено, но чувствовал я себя неоднозначно. Мне вдруг показалось, что я стал старше. Рост или размер ноги у меня были такие же, но вот внутри что-то переключилось. От этого всё вокруг открылось мне под каким-то новым, странным углом. Пережитое за утро путешествие показало мне, ещё такому маленькому и неопытному: надеяться можно только на себя. Преодолеть свой страх – значит чему-то научиться.
* * *
– Это действительно было или ты за ночь выдумал? — сосед глядел на монитор, бегая глазами по последнему абзацу.
– Сочинить детские фантазии не так-то просто. Конечно, я писал это не в пять лет, но старался передать то, что чувствовал, – после бессонной ночи язык будто стал чужим.
– Тогда почему ты просто не остался дома? – улыбаясь и глядя на меня, спросил сосед.
– Я был очень послушным, правильным ребенком. Пропустить детский сад было бы тяжким преступлением по отношению к маме, – ответил я, не задумываясь.
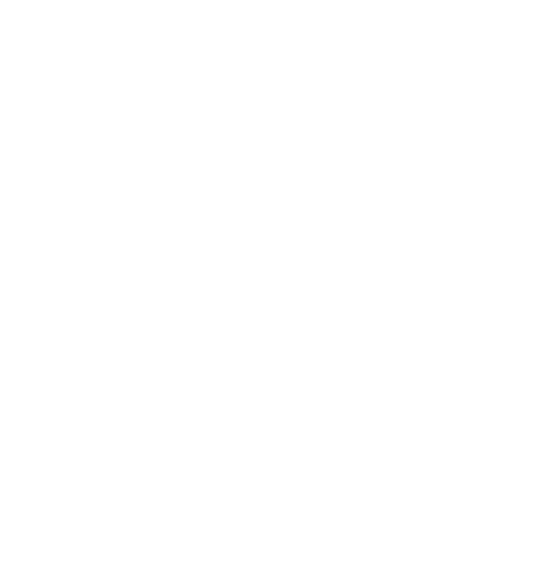
Анастасия АФОНИНА
Проза вошла в мою жизнь еще в школьные годы. Писательство для меня – это не просто увлечение. В своих рукописях я всегда стремлюсь вложить первозданный свет, который смог бы разжечь искры в сердцах читателей, побуждая желание жить и мечтать. Искренне верю, что из-под пера счастливого человека рождается настоящее волшебство, способное исцелять и вдохновлять. В 2023 году я дебютировала с первым масштабным романом «Геном дракона», а в 2024 году мир познакомился с великолепным юмористическим приключением «Оконце в Навь». Люблю писать в жанре фэнтези, шагая в неизведанные дали. Именно там в переплетении реальности и фантазии создаются зеркала, где каждый сможет найти отражение собственных надежд, почувствовать тепло и притянуть вместе с обаятельными героями чудеса.
Проза вошла в мою жизнь еще в школьные годы. Писательство для меня – это не просто увлечение. В своих рукописях я всегда стремлюсь вложить первозданный свет, который смог бы разжечь искры в сердцах читателей, побуждая желание жить и мечтать. Искренне верю, что из-под пера счастливого человека рождается настоящее волшебство, способное исцелять и вдохновлять. В 2023 году я дебютировала с первым масштабным романом «Геном дракона», а в 2024 году мир познакомился с великолепным юмористическим приключением «Оконце в Навь». Люблю писать в жанре фэнтези, шагая в неизведанные дали. Именно там в переплетении реальности и фантазии создаются зеркала, где каждый сможет найти отражение собственных надежд, почувствовать тепло и притянуть вместе с обаятельными героями чудеса.
МИР - ЭТО ЭХО
Румяная женщина стояла в ожидании, вдыхая чистый зимний воздух и поправляя на светлых локонах палантин из нежного кашемира. Вдалеке появился трамвай. Продолжая свое плавное путешествие, он плыл по заснеженным улицам, а монотонный перезвон колес подстраивался под ритм просыпающегося города. Яна вошла в теплый вагон, не ведая, что за ней наблюдают два посланника небес. Смертные не могли заметить их присутствия или услышать шепот голосов. Даже их собственные лица были сокрыты от них самих – лишь золотой свет, мерцающий из-под глубоких капюшонов, выдавал божественную суть.
– Ты в этой роли недавно, – мягко молвил ангел, обращаясь к молчаливому спутнику. – Крылья стирают не только внешние отличия, но и воспоминания о прошлой жизни. Так мы заново учимся понимать людей и видеть тончайшие грани их души.
Посланник небес тихо засмеялся. Юный ангел был уверен, что за золотистой завесой сияет добрая улыбка.
– Я позвал тебя сюда, дабы преподать ценный урок. Что ты можешь поведать о той женщине, которая только что поднялась по ступеням трамвая?
Светловолосая незнакомка заняла свободное сиденье и прильнула к окну, любуясь сплетенным на стекле морозным кружевом. В танце сыпали пушистые снежные хлопья. Мимо проплывали силуэты прохожих. Вдали, где небо сливалось с землей в единую синеву, тянулась массивная нить крыш, за которыми уже рождалась бледная лазурь рассвета. Ангел, внимая словам крылатого наставника, воспользовался дарованной небесной силой и начал постигать тайны человеческой души.
– Ее имя – Яна. Она спешит в кофейню, где работает баристой.
– Отчего у нее такой мечтательный вид?
– В ней горит огонь вдохновения, – сказал юный ангел. – Вчера возлюбленный Яны сделал ей предложение о женитьбе, и она ответила взаимностью. Окрыленная счастьем душа способна творить чудеса и сеять радость, согревающую мир. Сегодня на протяжении всей смены Яна будет рисовать птиц на кофейной пене, превращая ее в холст для своих фантазий.
– Так и есть. А еще один из посетителей кофейни, Никита, ученик одиннадцатого класса, увидит перед собой украшенный напиток в белоснежной чашке и неожиданно вспомнит о приглашении на выставку знакомого орнитолога. Там, среди фотографий, картин и зарисовок внимание Никиты привлечет потрясающий кадр: взлетающий самолет и выпорхнувшая из травы стайка скворцов, испуганных ревом турбин. В тот миг юноша окончательно утвердится в своем решении покорять небесные просторы. Осенью он поступит в летное училище и приблизится к заветной мечте – стать пилотом.
Трамвай остановился и распахнул двери, впуская новых путников. Вошла бабушка с десятилетней внучкой, молодая мама с годовалым малышом на руках, а также девушка с примечательной внешностью: смуглая, с бездонными карими глазами, густыми ресницами, улыбчивыми чертами лица и пышными, непокорными курчавыми темными волосами. Бабушка с внучкой увлеченно беседовали, и звонкий голосок девочки, словно колокольчик, разносился по всему вагону. Они направлялись в развлекательный центр, где готовились отпраздновать юбилей маленькой принцессы. Девочка с восторгом рассказывала бабушке о сказочном мире, который их ждет: огромной игровой площадке с батутами и ее любимым сухим бассейном с разноцветными шариками и горками.
Радостные возгласы девочки невольно разбудили малыша, чье утро началось с визита в поликлинику для планового медосмотра. Мама, сложив руки лодочкой, принялась укачивать сыночка, но гул трамвая и стук колес усиливали его беспокойство, заставляя выплевывать соску. Напевая колыбельную, мама ждала своей остановки. Путь от дома до поликлиники был недолгим, но ночной снегопад и заевшее колесо коляски лишили возможности для привычной прогулки. Волнение малыша нарастало, и его плач становился громче. Тогда смуглая девушка согрела дыханием озябшие пальцы и, ловко нырнув в свою вместительную сумку, извлекла из бархатного футляра флейту. Сделав робкий вдох, незнакомка коснулась губами мундштука, и полилась музыка. Легкая, воздушная, живая и игривая, она наполнила вагон волшебством. Очарованный звуками, малыш затих на руках у матери. Забыв о своей беседе, бабушка с внучкой завороженно слушали дивную мелодию. Посланники небес тоже внимали этой прекрасной импровизации.
Время пролетело незаметно. Молодая мама, прижав к себе сына, с благодарностью протянула спасительнице шоколадку и вышла из трамвая. Флейта легла на бархатное ложе. Девушка отвернулась к окну, и в ее теплых карих глазах отразился зимний пейзаж.
– Самира, студентка государственного педагогического университета, – юный ангел воззвал к небесной силе. – Сегодня она пропустит занятия ради участия в городском конкурсе флейтистов. К сожалению, она провалит прослушивание из-за жесткого отбора и взглядов членов жюри на идеальных кандидатов.
– Идея связать свою жизнь с музыкой зародилась после трагедии: ее старший брат погиб при исполнении обязанностей военной службы. Он не просто любил Самиру – он верил в нее, в ее талант и поддерживал каждое увлечение. Именно он подарил ей флейту, ставшую символом их неразрывной связи. Его смерть стала невосполнимой утратой для всей семьи, – добавил крылатый наставник с печалью в голосе. – Неудача на конкурсе не сломит девушку, а укажет новый путь. Самира окончит университет и станет логопедом-дефектологом. Ее чуткое, отзывчивое сердце поможет сотням детей преодолеть трудности, связанные с нарушениями и задержкой речи.
Юный ангел склонил голову, принимая предначертанное Самире. Наставник произнес:
– Вот тебе урок: наш мир – это эхо, бескрайнее и многогранное. Люди объединены невидимыми нитями, переплетены узами любви и долга, скованы общими воспоминаниями и надеждами, и все они связаны между собой. Даже малейшее движение, незначительное решение порождает цепь событий, охватывающих человеческие судьбы. Эхо всегда несет то, что в него вложено, – посланник небес указал на бабушку с внучкой. – Для той девочки день станет судьбоносным. Она отметит свое десятилетие. Праздник выдастся веселым, ярким и незабываемым. После него бабушка предложит внучке выбрать подарок, но вместо куклы или плюшевого медвежонка девочка попросит «дудочку, как у тети». Преодолев тридцатилетний рубеж, маленькая принцесса станет народной артисткой, мастерски владеющей флейтой. Самира неосознанно зажгла в ней эту искру, а ведь девушка всего лишь хотела побороть волнение перед прослушиванием, но еще больше – успокоить плачущего малыша.
Рассвет пролился сквозь сонный желтый туман, окутав город мягким рассеянным светом. Наставник поднес руку к капюшону и посмотрел на запястье, где обычно носят часы. Затем поднялся с места.
– Отныне Самира – твоя подопечная. А вот мой подопечный собрался переходить дорогу, уткнувшись в телефон. Эх, недотепа! Не видит несущегося к повороту автомобиля. Полечу-ка… Мальчишке еще рано обрастать крыльями, – с этими словами наставник исчез.
Трамвай остановился. Самира покинула вагон и направилась к зданию, где должен был состояться музыкальный конкурс. Тропинка вилась вдоль заснеженного парка. Юный ангел следовал за новой подопечной, закутанной в розовый пуховик, объемный темно-синий шарф в тон джинсам и такого же цвета шапку, увенчанную крупным помпоном. Посланник небес воззвал к дарованной силе. Сквозь призму возникающих в разуме образов он увидел, как Самира, стоя перед членами жюри, чуть не выронила футляр. Мгновение спустя вспыхнула новая картина: пальцы, словно бабочки, порхали над клапанами флейты, создавая мелодии, сотканные из тоски. В каждой ноте звучала память о любимом брате. Ангел слышал хруст снега под ногами спешащей Самиры и одновременно плач, рвущийся из глубин ее души.
– У этого шарфа такая крупная вязка, в нем можно утонуть! – плач сменился звонким голосом и объял округу беззаботным смехом.
«Такие шарфы лучше всего согревают зимой. Не привередничай, сестренка», – прозвучал ласковый ответ юноши. В разуме мелькнула нечеткая фигура и вручила смуглой, сияющей от счастья девочке флейту. Самира неуклюже попыталась извлечь из нее первые звуки. Раздались завораживающая музыка и тихий, горестный всхлип. В вихре видений возникла ослепительная вспышка света и присыпанный землей китель...
Воспоминания нахлынули с острой болью. Юный ангел замер.
– Самира. Тебя ждет долгая и прекрасная жизнь. Будь смелой и верь в себя.
Отчего-то девушка замедлила шаг и обернулась. Легкий ветерок коснулся ее лица. Самира поежилась, но не от холода. Что-то неуловимое витало в морозном воздухе, нечто важное и ускользающее. Она всматривалась в снежные сугробы, переплетения ветвей, погасшие фонари, уступившие место первым лучам солнца, и скамейки, укрытые белым покрывалом. Самира решительно вздохнула и, отвернувшись от необъяснимого ощущения, ускорила уверенный шаг. Ангел же, наблюдавший за ней издалека, улыбнулся, зная, что его послание достигло цели.
Румяная женщина стояла в ожидании, вдыхая чистый зимний воздух и поправляя на светлых локонах палантин из нежного кашемира. Вдалеке появился трамвай. Продолжая свое плавное путешествие, он плыл по заснеженным улицам, а монотонный перезвон колес подстраивался под ритм просыпающегося города. Яна вошла в теплый вагон, не ведая, что за ней наблюдают два посланника небес. Смертные не могли заметить их присутствия или услышать шепот голосов. Даже их собственные лица были сокрыты от них самих – лишь золотой свет, мерцающий из-под глубоких капюшонов, выдавал божественную суть.
– Ты в этой роли недавно, – мягко молвил ангел, обращаясь к молчаливому спутнику. – Крылья стирают не только внешние отличия, но и воспоминания о прошлой жизни. Так мы заново учимся понимать людей и видеть тончайшие грани их души.
Посланник небес тихо засмеялся. Юный ангел был уверен, что за золотистой завесой сияет добрая улыбка.
– Я позвал тебя сюда, дабы преподать ценный урок. Что ты можешь поведать о той женщине, которая только что поднялась по ступеням трамвая?
Светловолосая незнакомка заняла свободное сиденье и прильнула к окну, любуясь сплетенным на стекле морозным кружевом. В танце сыпали пушистые снежные хлопья. Мимо проплывали силуэты прохожих. Вдали, где небо сливалось с землей в единую синеву, тянулась массивная нить крыш, за которыми уже рождалась бледная лазурь рассвета. Ангел, внимая словам крылатого наставника, воспользовался дарованной небесной силой и начал постигать тайны человеческой души.
– Ее имя – Яна. Она спешит в кофейню, где работает баристой.
– Отчего у нее такой мечтательный вид?
– В ней горит огонь вдохновения, – сказал юный ангел. – Вчера возлюбленный Яны сделал ей предложение о женитьбе, и она ответила взаимностью. Окрыленная счастьем душа способна творить чудеса и сеять радость, согревающую мир. Сегодня на протяжении всей смены Яна будет рисовать птиц на кофейной пене, превращая ее в холст для своих фантазий.
– Так и есть. А еще один из посетителей кофейни, Никита, ученик одиннадцатого класса, увидит перед собой украшенный напиток в белоснежной чашке и неожиданно вспомнит о приглашении на выставку знакомого орнитолога. Там, среди фотографий, картин и зарисовок внимание Никиты привлечет потрясающий кадр: взлетающий самолет и выпорхнувшая из травы стайка скворцов, испуганных ревом турбин. В тот миг юноша окончательно утвердится в своем решении покорять небесные просторы. Осенью он поступит в летное училище и приблизится к заветной мечте – стать пилотом.
Трамвай остановился и распахнул двери, впуская новых путников. Вошла бабушка с десятилетней внучкой, молодая мама с годовалым малышом на руках, а также девушка с примечательной внешностью: смуглая, с бездонными карими глазами, густыми ресницами, улыбчивыми чертами лица и пышными, непокорными курчавыми темными волосами. Бабушка с внучкой увлеченно беседовали, и звонкий голосок девочки, словно колокольчик, разносился по всему вагону. Они направлялись в развлекательный центр, где готовились отпраздновать юбилей маленькой принцессы. Девочка с восторгом рассказывала бабушке о сказочном мире, который их ждет: огромной игровой площадке с батутами и ее любимым сухим бассейном с разноцветными шариками и горками.
Радостные возгласы девочки невольно разбудили малыша, чье утро началось с визита в поликлинику для планового медосмотра. Мама, сложив руки лодочкой, принялась укачивать сыночка, но гул трамвая и стук колес усиливали его беспокойство, заставляя выплевывать соску. Напевая колыбельную, мама ждала своей остановки. Путь от дома до поликлиники был недолгим, но ночной снегопад и заевшее колесо коляски лишили возможности для привычной прогулки. Волнение малыша нарастало, и его плач становился громче. Тогда смуглая девушка согрела дыханием озябшие пальцы и, ловко нырнув в свою вместительную сумку, извлекла из бархатного футляра флейту. Сделав робкий вдох, незнакомка коснулась губами мундштука, и полилась музыка. Легкая, воздушная, живая и игривая, она наполнила вагон волшебством. Очарованный звуками, малыш затих на руках у матери. Забыв о своей беседе, бабушка с внучкой завороженно слушали дивную мелодию. Посланники небес тоже внимали этой прекрасной импровизации.
Время пролетело незаметно. Молодая мама, прижав к себе сына, с благодарностью протянула спасительнице шоколадку и вышла из трамвая. Флейта легла на бархатное ложе. Девушка отвернулась к окну, и в ее теплых карих глазах отразился зимний пейзаж.
– Самира, студентка государственного педагогического университета, – юный ангел воззвал к небесной силе. – Сегодня она пропустит занятия ради участия в городском конкурсе флейтистов. К сожалению, она провалит прослушивание из-за жесткого отбора и взглядов членов жюри на идеальных кандидатов.
– Идея связать свою жизнь с музыкой зародилась после трагедии: ее старший брат погиб при исполнении обязанностей военной службы. Он не просто любил Самиру – он верил в нее, в ее талант и поддерживал каждое увлечение. Именно он подарил ей флейту, ставшую символом их неразрывной связи. Его смерть стала невосполнимой утратой для всей семьи, – добавил крылатый наставник с печалью в голосе. – Неудача на конкурсе не сломит девушку, а укажет новый путь. Самира окончит университет и станет логопедом-дефектологом. Ее чуткое, отзывчивое сердце поможет сотням детей преодолеть трудности, связанные с нарушениями и задержкой речи.
Юный ангел склонил голову, принимая предначертанное Самире. Наставник произнес:
– Вот тебе урок: наш мир – это эхо, бескрайнее и многогранное. Люди объединены невидимыми нитями, переплетены узами любви и долга, скованы общими воспоминаниями и надеждами, и все они связаны между собой. Даже малейшее движение, незначительное решение порождает цепь событий, охватывающих человеческие судьбы. Эхо всегда несет то, что в него вложено, – посланник небес указал на бабушку с внучкой. – Для той девочки день станет судьбоносным. Она отметит свое десятилетие. Праздник выдастся веселым, ярким и незабываемым. После него бабушка предложит внучке выбрать подарок, но вместо куклы или плюшевого медвежонка девочка попросит «дудочку, как у тети». Преодолев тридцатилетний рубеж, маленькая принцесса станет народной артисткой, мастерски владеющей флейтой. Самира неосознанно зажгла в ней эту искру, а ведь девушка всего лишь хотела побороть волнение перед прослушиванием, но еще больше – успокоить плачущего малыша.
Рассвет пролился сквозь сонный желтый туман, окутав город мягким рассеянным светом. Наставник поднес руку к капюшону и посмотрел на запястье, где обычно носят часы. Затем поднялся с места.
– Отныне Самира – твоя подопечная. А вот мой подопечный собрался переходить дорогу, уткнувшись в телефон. Эх, недотепа! Не видит несущегося к повороту автомобиля. Полечу-ка… Мальчишке еще рано обрастать крыльями, – с этими словами наставник исчез.
Трамвай остановился. Самира покинула вагон и направилась к зданию, где должен был состояться музыкальный конкурс. Тропинка вилась вдоль заснеженного парка. Юный ангел следовал за новой подопечной, закутанной в розовый пуховик, объемный темно-синий шарф в тон джинсам и такого же цвета шапку, увенчанную крупным помпоном. Посланник небес воззвал к дарованной силе. Сквозь призму возникающих в разуме образов он увидел, как Самира, стоя перед членами жюри, чуть не выронила футляр. Мгновение спустя вспыхнула новая картина: пальцы, словно бабочки, порхали над клапанами флейты, создавая мелодии, сотканные из тоски. В каждой ноте звучала память о любимом брате. Ангел слышал хруст снега под ногами спешащей Самиры и одновременно плач, рвущийся из глубин ее души.
– У этого шарфа такая крупная вязка, в нем можно утонуть! – плач сменился звонким голосом и объял округу беззаботным смехом.
«Такие шарфы лучше всего согревают зимой. Не привередничай, сестренка», – прозвучал ласковый ответ юноши. В разуме мелькнула нечеткая фигура и вручила смуглой, сияющей от счастья девочке флейту. Самира неуклюже попыталась извлечь из нее первые звуки. Раздались завораживающая музыка и тихий, горестный всхлип. В вихре видений возникла ослепительная вспышка света и присыпанный землей китель...
Воспоминания нахлынули с острой болью. Юный ангел замер.
– Самира. Тебя ждет долгая и прекрасная жизнь. Будь смелой и верь в себя.
Отчего-то девушка замедлила шаг и обернулась. Легкий ветерок коснулся ее лица. Самира поежилась, но не от холода. Что-то неуловимое витало в морозном воздухе, нечто важное и ускользающее. Она всматривалась в снежные сугробы, переплетения ветвей, погасшие фонари, уступившие место первым лучам солнца, и скамейки, укрытые белым покрывалом. Самира решительно вздохнула и, отвернувшись от необъяснимого ощущения, ускорила уверенный шаг. Ангел же, наблюдавший за ней издалека, улыбнулся, зная, что его послание достигло цели.
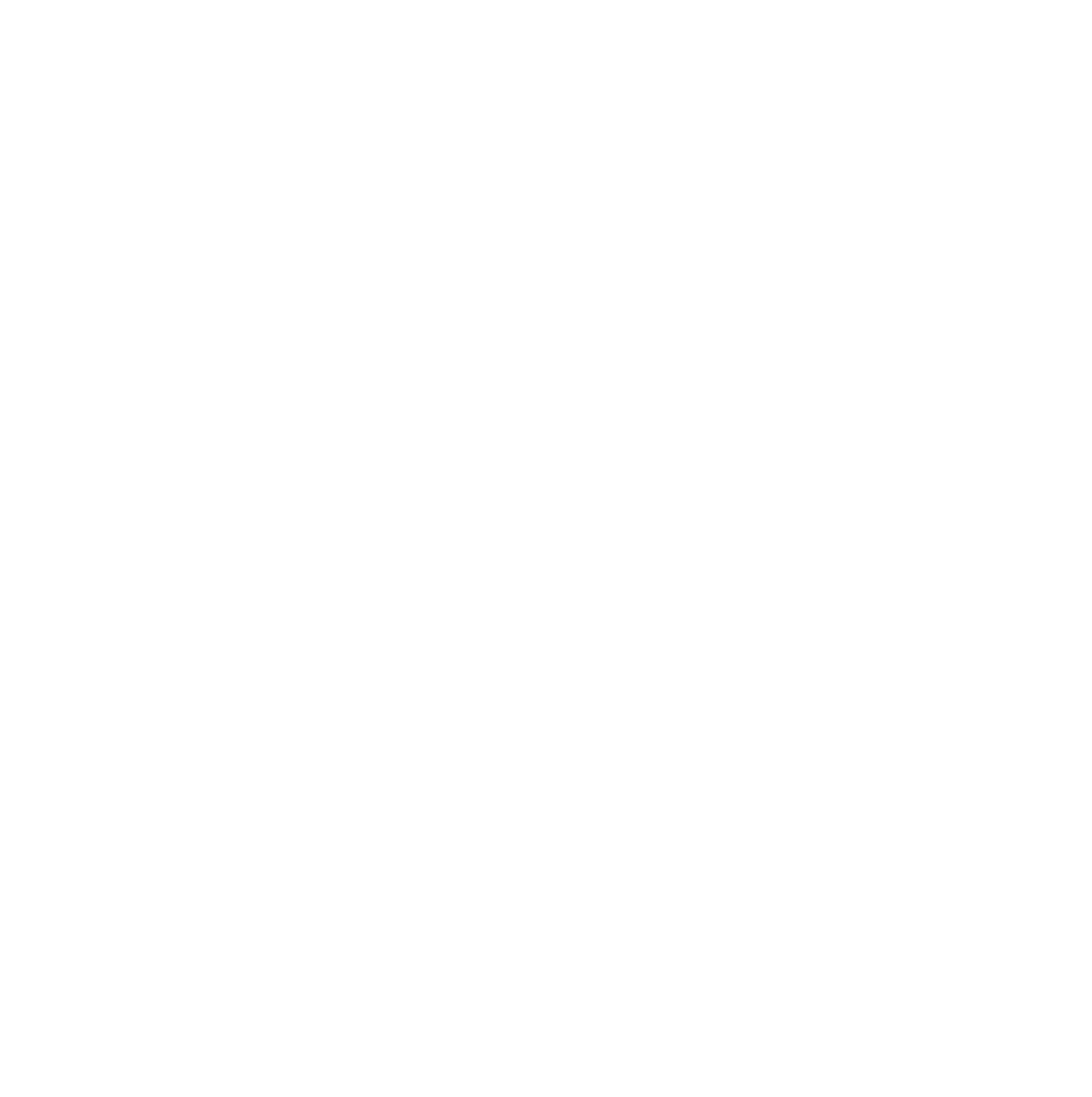
Юся КАРНОВА
Юся (Юлия) Карнова – банковский сотрудник и писатель. Написала не один десяток захватывающих приключенческих историй. Обычно это сплетение двух противоположностей: мира фантастического и мира реального. В своих произведениях сталкивает лбами добро и зло, любовь и ненависть, сердце и разум. Пишет сразу в двух жанрах: любовная лирика и магия фэнтези. При этом даже в обычном романе присутствует маленькая капелька волшебства.
Самое большое произведение Юси на данный момент это трилогия «Стражи Стихий», на которой она не собирается останавливаться. Произведения Юси можно почитать не только в альманахах, но и на портале Ridero.
Юся (Юлия) Карнова – банковский сотрудник и писатель. Написала не один десяток захватывающих приключенческих историй. Обычно это сплетение двух противоположностей: мира фантастического и мира реального. В своих произведениях сталкивает лбами добро и зло, любовь и ненависть, сердце и разум. Пишет сразу в двух жанрах: любовная лирика и магия фэнтези. При этом даже в обычном романе присутствует маленькая капелька волшебства.
Самое большое произведение Юси на данный момент это трилогия «Стражи Стихий», на которой она не собирается останавливаться. Произведения Юси можно почитать не только в альманахах, но и на портале Ridero.
ПРОКЛЯТЬЕ ПЕРВОГО ШАМАНА (фрагмент)
Глава 16.
Новая семья Зака была самой обычной. Среди них никогда не было шаманов, а вот сосед их был шаманом. У него был прекрасный дух Грифона. Его звали Берт. Большой белоснежный Грифон – с хозяина ростом, с телом взрослого грозного льва и головой гордого орла.
Глядя на соседа, Зак понял, что в этом мире ему не нужно скрывать свои шаманские способности, но всё же не выпускал Орочи на людях. Как только ему исполнилось пять лет, он приступил к тренировкам. Причём не только дракона, но и собственного тела. К семнадцати годам на его теле появились отчётливые кубики пресса и небывалая выносливость.
Только вот отношения с другими ребятами так и не ладились. В школе он был изгоем. Никто не хотел сидеть с ним за одной партой. Да и дружить, собственно, тоже...
Впрочем, шаману это и не нужно было. Всё свободное от учёбы время он посвящал либо тренировкам, либо его новой страсти – чтению. Оказалось, что на земле его не было около полувека. За это время появилось огромное количество книг о шаманах и драконах. Он с жадностью впитывал в себя новые знания.
Однажды на большой перемене он засиделся в школьной библиотеке за очередной книжкой о драконах. И тут прозвенел звонок на урок, и он пулей вылетел в коридор. В спешке он налетел на девушку-школьницу и упал на пол, выронив книгу. Это была милая блондинка, чуть ниже Зака ростом. На левой щеке у неё была небольшая коричневая родинка.
Стоящие недалеко парни громко засмеялись. Девушка присела на корточки. Подол её клетчатой юбки-клёш коснулся пола.
– Ты не сильно ударился? – нежным голоском спросила она.
Зак сел на пол и потёр свой локоть.
– Да ладно, заживёт, – улыбнулся он и посмотрел в невероятно голубые глаза девушки.
Он встал и протянул ей руку. А затем помог ей встать.
– Прости, я не заметил тебя.
– Ничего, бывает, – улыбнулась она в ответ. – Меня Кими зовут. А тебя?
– Неудачник! – вновь засмеялась кучка парней.
Зак бросил в их сторону испепеляющий взгляд. Затем он подошёл к одному из них. Тому самому, что только что назвал его неудачником.
– Готов поспорить, что единственными неудачниками являетесь здесь вы, кучка недоумков!
Тот парень оскалил зубы и схватил Зака за свитер в районе груди.
– Сегодня в пять. Во дворе школы, – сказал он, с ненавистью глядя на Зака.
Он кивнул в ответ. Тогда парень отпустил его и с друзьями направился к выходу.
– Не забудь надеть памперсы! Они тебе точно пригодятся! – смеялся парень, уходя.
– Это мы ещё посмотрим... – тихо, но со злостью в голосе сказал Зак.
Кими протянула руку, чтобы поднять книгу Зака. Она осторожно закрыла книгу, но обратила внимание на название. Оно звучало так: «Классификация драконов, и где они обитают». Подняв книгу, девушка подошла к парню и, положив руку на его плечо, так же тихо добавила:
– Не обращай на них внимания. Им лишь бы поиздеваться.
Парень повернулся к ней. Она с милой улыбкой на лице протянула ему книгу.
– Вижу ты интересуешься драконами? – спросила она.
Он задумчиво почесал затылок и забрал у неё книгу.
– Есть немного, – улыбнулся парень. – Меня, кстати, Зак зовут.
– Очень приятно.
– Хочешь, приходи сегодня на задний двор...
Кими кивнула, и они разошлись.
Глава 17
После уроков они встретились на заднем дворе школы. Те парни, что смеялись над Заком в школе, Кими и сам Зак. Все пятеро парней с кулаками побежали на шамана, едва увидев его. Он ухмыльнулся и схватился за свой кулон.
– Орочи! – воскликнул он, и за его спиной появился чёрный дракон.
Школьники остановились. Их глаза округлились от удивления. Невероятно огромный дракон смотрел прямо на них. Из его пасти виднелись острые белые клыки. В его змеином взгляде чувствовалось желание убивать.
Зак скрестил руки на груди.
– Орочи, покажи им, кто тут главный!
Дракон дыхнул пламенем на ребят. Они разбежались врассыпную. Но Орочи не унимался. Пламя преследовало каждого из них. Постепенно весь двор был объят огнём. У парней не оставалось шансов выбраться. Они оказались в западне, из которой не было выхода. Дракон внимательно наблюдал с высоты своего роста за метаниями перепуганных школьников. Они в ужасе перебегали с места на место, но яркий огонь был повсюду. Пот лился с них градом. Им было жарко, словно в Аду...
– Хватит! – вдруг закричала Кими. – Нори, на помощь!
Рядом с ней появился Дух Воды. Невероятной красоты молодая русалочка. Её зелёный хвост блестел перламутром на солнце. Синие волосы ниспадали до поясницы, а на груди красовались жемчужные бусы. Парень с удивлением посмотрел на неё.
– Довольно, Орочи, – выдавил он.
Орочи уменьшился до размера маленького котёнка и вернулся к хозяину. Он обвился вокруг его шеи. Зак улыбнулся и аккуратно погладил его по голове.
– Нори, потуши огонь, – сказала Кими.
– Хорошо, моя Госпожа.
Русалка взлетела вверх. Из земли появилась огромная водяная волна. Нори вильнула своим перламутровым хвостом в сторону огня. Вода накрыла собой всю площадку, моментально потушив собой пламя. Промокших до нитки парней волной прибило ближе к Заку. Они с ужасом смотрели на юного шамана. Они были уверены, что сейчас его дракон прикончит их.
– Считайте это первым предупреждением, – сказал он. – Пойдем, Орочи.
Он медленно направился в сторону Кими. Поравнявшись с ней, он бросил на неё мимолётный взгляд и пошёл дальше.
Он бесцельно бродил по улочкам города. Мысли о Кими и её русалке не покидали его голову. Неужели она одна из тех сирен, что привели его сюда? Нет, не может быть. Она ведь дух. А они – живые. Были тогда, по крайней мере.
Ноги сами привели его на заброшенный пляж. Тот самый, с которого всё началось. Был уже вечер. На небе появлялись первые признаки заката. Когда-то яркое горячее солнце спускалось всё ближе и ближе к горизонту. Последними своими лучами оно согревало облака, придавая им розоватый оттенок.
Парень сел на траву. Отсюда было прекрасно видно и море, и заполненный людьми соседний пляж.
– Значит, она тоже шаманка, – тихо обратился он к своему дракону. – Ты видел её духа?
Орочи кивнул в ответ и спрыгнул на землю. Зак гладил его и рассуждал о чём-то своём, как вдруг услышал шаги за спиной. Он напрягся всем телом и прикрыл дракона ладошками.
– Вот ты где, – произнёс юный девичий голосок. – А я тебя по всему городу ищу. Даже домой к тебе проходила, но родители твои сказали, что ты не приходил после школы.
Зак обернулся. Это была Кими. Всё так же красива. Её длинные, слегка кудрявые волосы были заколоты с одной стороны жемчужного цвета заколкой и развивались под лёгким тёплым ветром. Одежда тоже была уже другая. На этот раз это был джинсовый сарафан длиной до колен.
– Я решил прогуляться, – буркнул он и отвернулся к морю.
Волны красиво омывали песчаный берег.
– Можно присоединиться? – робко спросила девушка, подойдя к Заку почти вплотную.
Он лишь кивнул в ответ и продолжил тискать дракончика.
Они сидели молча. Но тишина не напрягала их... Наоборот, она сближала своей таинственностью. Ведь друг для друга они были загадками.
– Значит, ты тоже шаман? – наконец прервала молчание Кими, посмотрев в лицо парня.
– Тоже – это ты, а я – первый шаман на этой земле... – загадочно произнёс он, и между ними вновь воцарилось молчание.
Девушка посмотрела на розовые облака. Они так красиво отражались в морских волнах, что было сложно оторвать от них взгляд.
– Шаманы появились на земле более пятисот лет назад... – вдруг сказала она. – А тебе всего семнадцать.
– Так и есть, – улыбнулся Зак. – Видишь ли, Кими, это не первая моя жизнь...
Она с удивлением посмотрела на него, но Зак не обратил на неё никакого внимания. Он лёг на траву и, смотря в небо, продолжил:
– Это моя пятая реинкарнация. Впервые я появился на свет семьсот лет назад. Это было за тысячи километров отсюда, в городе под названием Киото... – вдруг он замолчал.
Он вдруг засомневался, стоит ли рассказывать девушке, с которой он едва знаком, такие подробности своей биографии. Что, если она не поймёт? Или расскажет другим? И ему снова придётся вступить в схватку с духами... Сотнями разных духов...
– Я читала про реинкарнацию в книге по истории магии. Там писали, что на неё требуется очень много сил. Не каждый шаман владеет таким количеством сил...
Парень пожал плечами. Он и вправду не знал границ своих шаманских способностей.
– У тебя, наверное, были очень интересные жизни, если ты решился на реинкарнацию?
Зак резко поднялся. Их глаза встретились.
– Вовсе нет! – отрезал он и отвернулся. – Всё, что я видел на протяжении сотен лет, это людская жестокость и предательство...
Девушка расстроилась, услышав эти слова. Она осторожно коснулась плеча парня и прошептала ему на ухо:
– Но зачем тогда ты вновь и вновь возвращаешься в этот мир? Если он так жесток к тебе...
– Чтобы отомстить!
Он вновь обернулся. Глаза Кими наполнились слезами. Она искренне не понимала такого отношения к этому чудесному миру. Она искренне любила жизнь. Так сильно, как только могла, со всей своей детской непосредственностью.
– За что? В мире так много прекрасного! – шептала она себе под нос.
Но Зак, услышав её слова, просто взбесился. Он вскочил на ноги и воскликнул:
– Ты ещё слишком молода и ничего не понимаешь! Люди злые и жестокие! Они не достойны жить в этом мире. Мы с Орочи хотим создать новый, идеальный мир. Мир, где не будет человеческой жестокости. Мир только для Духов.
По щеке девушки покатилась слеза. Она коснулась её пухлых розовых губ и мгновенно растворилась.
– Почему ты так ненавидишь людей? – прошептала она.
Зак сел перед ней на колени и нежно взял её за руку.
– Моих родителей, как и родителей Орочи, убили просто так, ради забавы. Тогда на гладиаторской арене я поклялся отомстить за их смерть и смерть родителей Орочи. Тогда я ещё не знал, что он дух, а не настоящий дракон. Его не видел никто, кроме меня. Меня убили в тот же день, что и маму с папой, только с разницей в несколько часов. Орочи изо всех сил пытался спасти меня, но не смог. Поэтому своей первой реинкарнацией я обязан ему. На протяжении следующих своих жизней я только и делал, что пытался выжить в этом мире. Человечество не знает границ своей жестокости. Поэтому людям не место в этом мире.
– А как же духи? Они разве не жестокие? – сквозь лившиеся градом слёзы спросила Кими.
– Духи не хорошие и не плохие. Они нейтральны. Жестокими их делают шаманы! Я был однажды в Мире Духов и видел, как шаманы по своей прихоти забирают их из этого райского места, заставляя сражаться ради их интереса.
Зак отпустил её руку. Он встал и невольно поднял голову в небо. На нём уже ярко блестели первые звезды. Кими молчала, утирая слёзы ладошками.
Вдруг она встала и подошла к парню, заглянув ему прямо в глаза.
– Прошу тебя, – нежно сказала она. – Дай человечеству шанс. Последний шанс. Я покажу тебе, что в мире есть много прекрасного...
Сказав это, она максимально приблизилась к его губам. Он почувствовал её тёплое дыхание, и они слились в медленном поцелуе.
Глава 16.
Новая семья Зака была самой обычной. Среди них никогда не было шаманов, а вот сосед их был шаманом. У него был прекрасный дух Грифона. Его звали Берт. Большой белоснежный Грифон – с хозяина ростом, с телом взрослого грозного льва и головой гордого орла.
Глядя на соседа, Зак понял, что в этом мире ему не нужно скрывать свои шаманские способности, но всё же не выпускал Орочи на людях. Как только ему исполнилось пять лет, он приступил к тренировкам. Причём не только дракона, но и собственного тела. К семнадцати годам на его теле появились отчётливые кубики пресса и небывалая выносливость.
Только вот отношения с другими ребятами так и не ладились. В школе он был изгоем. Никто не хотел сидеть с ним за одной партой. Да и дружить, собственно, тоже...
Впрочем, шаману это и не нужно было. Всё свободное от учёбы время он посвящал либо тренировкам, либо его новой страсти – чтению. Оказалось, что на земле его не было около полувека. За это время появилось огромное количество книг о шаманах и драконах. Он с жадностью впитывал в себя новые знания.
Однажды на большой перемене он засиделся в школьной библиотеке за очередной книжкой о драконах. И тут прозвенел звонок на урок, и он пулей вылетел в коридор. В спешке он налетел на девушку-школьницу и упал на пол, выронив книгу. Это была милая блондинка, чуть ниже Зака ростом. На левой щеке у неё была небольшая коричневая родинка.
Стоящие недалеко парни громко засмеялись. Девушка присела на корточки. Подол её клетчатой юбки-клёш коснулся пола.
– Ты не сильно ударился? – нежным голоском спросила она.
Зак сел на пол и потёр свой локоть.
– Да ладно, заживёт, – улыбнулся он и посмотрел в невероятно голубые глаза девушки.
Он встал и протянул ей руку. А затем помог ей встать.
– Прости, я не заметил тебя.
– Ничего, бывает, – улыбнулась она в ответ. – Меня Кими зовут. А тебя?
– Неудачник! – вновь засмеялась кучка парней.
Зак бросил в их сторону испепеляющий взгляд. Затем он подошёл к одному из них. Тому самому, что только что назвал его неудачником.
– Готов поспорить, что единственными неудачниками являетесь здесь вы, кучка недоумков!
Тот парень оскалил зубы и схватил Зака за свитер в районе груди.
– Сегодня в пять. Во дворе школы, – сказал он, с ненавистью глядя на Зака.
Он кивнул в ответ. Тогда парень отпустил его и с друзьями направился к выходу.
– Не забудь надеть памперсы! Они тебе точно пригодятся! – смеялся парень, уходя.
– Это мы ещё посмотрим... – тихо, но со злостью в голосе сказал Зак.
Кими протянула руку, чтобы поднять книгу Зака. Она осторожно закрыла книгу, но обратила внимание на название. Оно звучало так: «Классификация драконов, и где они обитают». Подняв книгу, девушка подошла к парню и, положив руку на его плечо, так же тихо добавила:
– Не обращай на них внимания. Им лишь бы поиздеваться.
Парень повернулся к ней. Она с милой улыбкой на лице протянула ему книгу.
– Вижу ты интересуешься драконами? – спросила она.
Он задумчиво почесал затылок и забрал у неё книгу.
– Есть немного, – улыбнулся парень. – Меня, кстати, Зак зовут.
– Очень приятно.
– Хочешь, приходи сегодня на задний двор...
Кими кивнула, и они разошлись.
Глава 17
После уроков они встретились на заднем дворе школы. Те парни, что смеялись над Заком в школе, Кими и сам Зак. Все пятеро парней с кулаками побежали на шамана, едва увидев его. Он ухмыльнулся и схватился за свой кулон.
– Орочи! – воскликнул он, и за его спиной появился чёрный дракон.
Школьники остановились. Их глаза округлились от удивления. Невероятно огромный дракон смотрел прямо на них. Из его пасти виднелись острые белые клыки. В его змеином взгляде чувствовалось желание убивать.
Зак скрестил руки на груди.
– Орочи, покажи им, кто тут главный!
Дракон дыхнул пламенем на ребят. Они разбежались врассыпную. Но Орочи не унимался. Пламя преследовало каждого из них. Постепенно весь двор был объят огнём. У парней не оставалось шансов выбраться. Они оказались в западне, из которой не было выхода. Дракон внимательно наблюдал с высоты своего роста за метаниями перепуганных школьников. Они в ужасе перебегали с места на место, но яркий огонь был повсюду. Пот лился с них градом. Им было жарко, словно в Аду...
– Хватит! – вдруг закричала Кими. – Нори, на помощь!
Рядом с ней появился Дух Воды. Невероятной красоты молодая русалочка. Её зелёный хвост блестел перламутром на солнце. Синие волосы ниспадали до поясницы, а на груди красовались жемчужные бусы. Парень с удивлением посмотрел на неё.
– Довольно, Орочи, – выдавил он.
Орочи уменьшился до размера маленького котёнка и вернулся к хозяину. Он обвился вокруг его шеи. Зак улыбнулся и аккуратно погладил его по голове.
– Нори, потуши огонь, – сказала Кими.
– Хорошо, моя Госпожа.
Русалка взлетела вверх. Из земли появилась огромная водяная волна. Нори вильнула своим перламутровым хвостом в сторону огня. Вода накрыла собой всю площадку, моментально потушив собой пламя. Промокших до нитки парней волной прибило ближе к Заку. Они с ужасом смотрели на юного шамана. Они были уверены, что сейчас его дракон прикончит их.
– Считайте это первым предупреждением, – сказал он. – Пойдем, Орочи.
Он медленно направился в сторону Кими. Поравнявшись с ней, он бросил на неё мимолётный взгляд и пошёл дальше.
Он бесцельно бродил по улочкам города. Мысли о Кими и её русалке не покидали его голову. Неужели она одна из тех сирен, что привели его сюда? Нет, не может быть. Она ведь дух. А они – живые. Были тогда, по крайней мере.
Ноги сами привели его на заброшенный пляж. Тот самый, с которого всё началось. Был уже вечер. На небе появлялись первые признаки заката. Когда-то яркое горячее солнце спускалось всё ближе и ближе к горизонту. Последними своими лучами оно согревало облака, придавая им розоватый оттенок.
Парень сел на траву. Отсюда было прекрасно видно и море, и заполненный людьми соседний пляж.
– Значит, она тоже шаманка, – тихо обратился он к своему дракону. – Ты видел её духа?
Орочи кивнул в ответ и спрыгнул на землю. Зак гладил его и рассуждал о чём-то своём, как вдруг услышал шаги за спиной. Он напрягся всем телом и прикрыл дракона ладошками.
– Вот ты где, – произнёс юный девичий голосок. – А я тебя по всему городу ищу. Даже домой к тебе проходила, но родители твои сказали, что ты не приходил после школы.
Зак обернулся. Это была Кими. Всё так же красива. Её длинные, слегка кудрявые волосы были заколоты с одной стороны жемчужного цвета заколкой и развивались под лёгким тёплым ветром. Одежда тоже была уже другая. На этот раз это был джинсовый сарафан длиной до колен.
– Я решил прогуляться, – буркнул он и отвернулся к морю.
Волны красиво омывали песчаный берег.
– Можно присоединиться? – робко спросила девушка, подойдя к Заку почти вплотную.
Он лишь кивнул в ответ и продолжил тискать дракончика.
Они сидели молча. Но тишина не напрягала их... Наоборот, она сближала своей таинственностью. Ведь друг для друга они были загадками.
– Значит, ты тоже шаман? – наконец прервала молчание Кими, посмотрев в лицо парня.
– Тоже – это ты, а я – первый шаман на этой земле... – загадочно произнёс он, и между ними вновь воцарилось молчание.
Девушка посмотрела на розовые облака. Они так красиво отражались в морских волнах, что было сложно оторвать от них взгляд.
– Шаманы появились на земле более пятисот лет назад... – вдруг сказала она. – А тебе всего семнадцать.
– Так и есть, – улыбнулся Зак. – Видишь ли, Кими, это не первая моя жизнь...
Она с удивлением посмотрела на него, но Зак не обратил на неё никакого внимания. Он лёг на траву и, смотря в небо, продолжил:
– Это моя пятая реинкарнация. Впервые я появился на свет семьсот лет назад. Это было за тысячи километров отсюда, в городе под названием Киото... – вдруг он замолчал.
Он вдруг засомневался, стоит ли рассказывать девушке, с которой он едва знаком, такие подробности своей биографии. Что, если она не поймёт? Или расскажет другим? И ему снова придётся вступить в схватку с духами... Сотнями разных духов...
– Я читала про реинкарнацию в книге по истории магии. Там писали, что на неё требуется очень много сил. Не каждый шаман владеет таким количеством сил...
Парень пожал плечами. Он и вправду не знал границ своих шаманских способностей.
– У тебя, наверное, были очень интересные жизни, если ты решился на реинкарнацию?
Зак резко поднялся. Их глаза встретились.
– Вовсе нет! – отрезал он и отвернулся. – Всё, что я видел на протяжении сотен лет, это людская жестокость и предательство...
Девушка расстроилась, услышав эти слова. Она осторожно коснулась плеча парня и прошептала ему на ухо:
– Но зачем тогда ты вновь и вновь возвращаешься в этот мир? Если он так жесток к тебе...
– Чтобы отомстить!
Он вновь обернулся. Глаза Кими наполнились слезами. Она искренне не понимала такого отношения к этому чудесному миру. Она искренне любила жизнь. Так сильно, как только могла, со всей своей детской непосредственностью.
– За что? В мире так много прекрасного! – шептала она себе под нос.
Но Зак, услышав её слова, просто взбесился. Он вскочил на ноги и воскликнул:
– Ты ещё слишком молода и ничего не понимаешь! Люди злые и жестокие! Они не достойны жить в этом мире. Мы с Орочи хотим создать новый, идеальный мир. Мир, где не будет человеческой жестокости. Мир только для Духов.
По щеке девушки покатилась слеза. Она коснулась её пухлых розовых губ и мгновенно растворилась.
– Почему ты так ненавидишь людей? – прошептала она.
Зак сел перед ней на колени и нежно взял её за руку.
– Моих родителей, как и родителей Орочи, убили просто так, ради забавы. Тогда на гладиаторской арене я поклялся отомстить за их смерть и смерть родителей Орочи. Тогда я ещё не знал, что он дух, а не настоящий дракон. Его не видел никто, кроме меня. Меня убили в тот же день, что и маму с папой, только с разницей в несколько часов. Орочи изо всех сил пытался спасти меня, но не смог. Поэтому своей первой реинкарнацией я обязан ему. На протяжении следующих своих жизней я только и делал, что пытался выжить в этом мире. Человечество не знает границ своей жестокости. Поэтому людям не место в этом мире.
– А как же духи? Они разве не жестокие? – сквозь лившиеся градом слёзы спросила Кими.
– Духи не хорошие и не плохие. Они нейтральны. Жестокими их делают шаманы! Я был однажды в Мире Духов и видел, как шаманы по своей прихоти забирают их из этого райского места, заставляя сражаться ради их интереса.
Зак отпустил её руку. Он встал и невольно поднял голову в небо. На нём уже ярко блестели первые звезды. Кими молчала, утирая слёзы ладошками.
Вдруг она встала и подошла к парню, заглянув ему прямо в глаза.
– Прошу тебя, – нежно сказала она. – Дай человечеству шанс. Последний шанс. Я покажу тебе, что в мире есть много прекрасного...
Сказав это, она максимально приблизилась к его губам. Он почувствовал её тёплое дыхание, и они слились в медленном поцелуе.
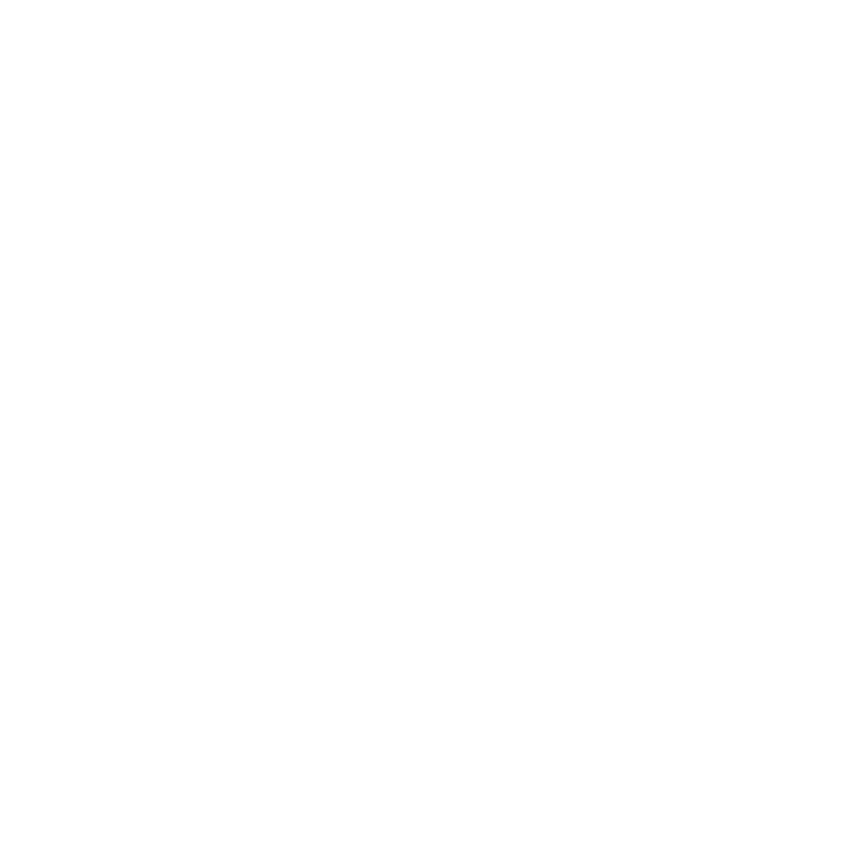
Рустем НАБИЕВ
Первый роман «Эрос&Танатос» написан в 2021 году. В 2023 году вышел под редакцией Eksmo Digital в серии RED от Эксмо, опубликован на Литрес.
Планов на новый большой роман пока нет. Написал несколько коротких рассказов.
Первый роман «Эрос&Танатос» написан в 2021 году. В 2023 году вышел под редакцией Eksmo Digital в серии RED от Эксмо, опубликован на Литрес.
Планов на новый большой роман пока нет. Написал несколько коротких рассказов.
БАБОЧКА НА СНЕГУ
Весна в этом году торопилась изо всех сил. К середине марта непривычно потеплело, снег таял на глазах, обрадованная флора приготовилась совсем не ко времени зазеленеть. А воздух, наполненный влагой и особенными весенними запахами, казалось, приобрел физическую осязаемость.
В распахнутое окно нещадно палило солнце, добавляя в адскую духоту кабинета дополнительную порцию жары. Основную роль в создании невыносимой атмосферы, конечно, играли раскаленные батареи отопления. Огромное, в полстены окно призвано было впустить свежий весенний ветер, но за полным отсутствием такового лишь предательски подставляло внутренности кабинета вместе с его обитателями под яркие лучи.
Сергей понял, что работать он сейчас все равно не сможет. Мысли едва шевелились точно, как сонные мухи, невесть откуда выползшие на оконные стекла. Он пробурчал что-то неопределенное Тамаре Петровне, подхватил пальто и бросился вон из кабинета. Коридор редакции был непривычно пуст. То ли все разомлели на весенней жаре настолько, что не могли оторваться от кресел, то ли давно сбежали.
Вырвавшись на улицу, Сергей какое-то время просто бездумно фланировал. Наслаждался свободой. Потом свернул к ближайшему скверу. Довольно высокие ели, посаженные вдоль дорожек, давали спасительную тень. Вот удивительно! Всю зиму ждешь тепла, но в первые же жаркие дни начинаешь прятаться от солнца.
Дорожки в сквере успели почистить, местами они даже подсохли. После гололеда и слякоти было особенно приятно идти по ровным плиточкам, не боясь поскользнуться или набрать в туфли воды. Сергей совсем замедлил шаг и прикрыл глаза. Чудесно!
Яркое пятно впереди заставило его разомкнуть смеженные веки. Изящная женская фигурка в терракотовом пальто. Прямо посреди дорожки стояла, оглядываясь, миниатюрная молодая женщина. Красивая. Одета изысканно, со вкусом и, судя по всему, дорого. Подойдя ближе, Сергей понял причину нерешительности молодой дамы. Путь преграждала огромная лужа, которая, очевидно, натекла из окаймляющих дорожку и таящих на весеннем солнце сугробов. Лужа заполнила дорожку по всей ширине и простиралась на несколько метров вперед. Изящные замшевые сапожки топтались на ее краю, справедливо опасаясь за свое будущее.
– Простите! Позволите вам помочь? – спросил Сергей.
– Было бы неплохо! – ответила дама, вдруг широко и открыто улыбнувшись. – Только как?
Трудно сказать, виновен ли был особенный весенний воздух или неожиданная открытость красивой женщины. Но Сергей сделал то, чего сам от себя не ожидал, предлагая помощь. Он подхватил миниатюрную фигурку на руки и пошел прямо через лужу. Дама охнула, однако вырываться не стала. Она вдруг внимательно посмотрела Сергею в глаза. Сначала как будто строго, а потом весело, даже озорно.
– Это было неожиданно и отчаянно смело! – прошептала она, почти касаясь губами уха.
Сергей, совершенно одуревший от собственного поступка, окутавшего его запаха дорогих духов и близости теплых женских губ, давно вышел из лужи, но продолжал идти. Остановился он только после того, как спутница потрепала его по щеке.
– Вы меня спасли, – дама улыбалась.
Они шли по скверу, разговаривая о каких-то пустяках. Луж больше не попадалось. Иначе Сергей бы непременно воспользовался возможностью снова подхватить даму на руки. Он чувствовал себя легко и уверенно с этой совершено незнакомой женщиной. Возможно, благодаря ее удивительной открытости. Она представилась Леной. Не Еленой (не говоря уже об отчестве), а вот так просто – Леной. Ее гардероб и некоторые детали, всплывающие в разговоре, ясно указывали на серьезную социальную дистанцию между ними. Не в смысле образования или культуры. Их вне сомнения разделяла пропасть в плане материального благополучия. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения.
Незаметно сделав круг по всему скверу, они оказались у выхода.
– Я стараюсь гулять здесь каждый день, – сообщила как бы между прочим Лена, – в обеденный перерыв или если совсем уже невмоготу становится сидеть в офисе.
«Она работает?! В офисе?» – удивился Сергей. Вслух сказал:
– Я бы тоже с удовольствием проводил здесь обеденный перерыв.
– Приходите завтра! – просто предложила Лена.
– Да-да, конечно! Я обязательно приду, – торопливо согласился Сергей.
На следующий день он задолго до назначенного времени стоял перед входом в сквер. Дурацкая мысль купить цветы была отметена еще утром. Почему-то это казалось неуместным и даже пошлым.
В ожидании Сергей топтался на месте, убивая время тем, что пытался отчетливо вспомнить лицо Лены. Правильный овал, тонкие черты, чуть припухлые губы, чудесные глаза серо-голубого цвета и скрывающие их огромные ресницы. Несомненно, красавица. Но в целом образ ускользал, рассыпаясь на детали и оставляя в сухом остатке только ощущение легкости, изящества и почему-то детскости. Ах, да! Наверное, из-за чудесных ямочек, появляющихся на щеках при улыбке.
Когда Лена появилась из припарковавшегося неподалеку роскошного белоснежного Лексуса, Сергей нисколько не удивился. Кто бы сомневался! Гораздо большее впечатление на него произвело то, что Лена несла два стаканчика кофе.
– Привет! Не знала, какой кофе ты любишь. Взяла капучино и американо. Выбирай! – она протянула вперед капхолдер. – Ой! Ничего, что на «ты»?
– Конечно! Давай на «ты», – Сергей взял ближний стаканчик. – Спасибо! Мне даже как-то неудобно. Меня никогда не угощали девушки на свидании.
Это было чистой правдой. Все модели отношений, знакомые Сергею, предполагали если не потребительское отношение женщины к мужчине, то уж точно галантных поступков, подарков и угощения (слово-то какое пошлое!) именно со стороны мужчины.
– Ох! У нас свидание? – Лена смотрела лукаво.
Сергей смутился, не зная, что ответить.
– Ну, ты же не сексист, я надеюсь? Хотела кофе, купила и тебе заодно.
– Да, спасибо! Просто неожиданно, – с облегчением выдохнул Сергей.
Они гуляли, пили кофе и снова болтали о разной ерунде. Но, эти, казалось бы, пустяшные разговоры небольшими мазочками создавали общую картину. Оказалось, что их объединяет любовь к литературе (и писатели совпали), кино, Италии, в том числе ее кухне, и даже к кофе, как бы банально это ни звучало. И импрессионисты! Это особенно зацепило Сергея. Подобное единодушие радовало и пугало. Он находился в некотором ступоре от происходящего.
Что эта красивая, утонченная женщина в нем нашла? Почему тратит на него свое время? Сергея трудно было назвать красавцем. Или интересным мужчиной, как любят выражаться редакционные тетки. Высокий, спортивный, крепкого, если не сказать могучего сложения, но с совершенно обыкновенным, невыразительным лицом, он никогда не пользовался успехом у женщин. В романтическом смысле. Как надежный товарищ – да. В этом плане женщины его ценили и зачастую беззастенчиво им пользовались. Особенно, если требовалась физическая сила. Ну, там… перетащить что-то тяжелое.
…Встречи стали почти регулярными. Лена с Сергеем все больше сближались. Казалось, темы для разговоров не иссякнут никогда. Сергей перестал мучать себя сомнениями, решив, что блистательной светской дамочке просто не хватает обычного дружеского общения. Искреннего и естественного. Что вполне объяснимо. Мир, в котором Лена порхала (а, узнав ее поближе, Сергей не сомневался, что она именно порхает, как бабочка, в роскоши и благополучии), представлялся ему тем еще гадюшником, наполненным меркантильностью, лицемерием и цинизмом. Лена была замужем и, видимо, очень удачно. Муж – крупный бизнесмен. Она упоминала о нем пару раз и только вскользь. Но, судя по всему, он не контролировал ни ее время, ни ее расходы. Даже по обрывочным сведениям Сергей сделал вывод, что Лена очень самостоятельна и живет своей жизнью.
В какие-то моменты внутри у него появлялся едва заметный сквознячок угрызений совести. Он был давно и счастливо женат. Элла, конечно, не красавица. Но свой, надежный и верный человек. Близкий и родной. Еще сынишка. Эти двое были частью его. Частью неотделимой. Но при встречах с Леной та сторона жизни казалось далекой и никак не пересекающейся с этой. Ну и ничего криминального, собственно, пока не происходило.
За все время Сергей лишь раз решился подарить Лене цветы. И то потому что его взгляд случайно зацепил в витрине цветочного магазина крошечный букетик, размещенный в кофейном стаканчике. Скромность и элегантность этой композиции дополнялась и знаковостью. Пить кофе из бумажных стаканчиков на прогулках стало уже традицией. А большие букеты казались Сергею пошлостью. Кроме того, Лена была замужем, и букет явно ставил ее в неловкое положение.
Тем не менее он взял на себя смелость сделать девушке подарок. Она как-то обмолвилась, что обожает Моне. Все его пруды с лилиями. Но особенно «Японский мостик» во всех вариациях. Сергей знал, где заказать очень хорошую репродукцию. Сам подобрал багет. Принес упакованную картину на встречу в кафе.
Лена повела себя, как ребенок. Разорвала оберточную бумагу прямо за столиком. И пришла в полный восторг. Не обращая внимания на недоуменные и насмешливые взгляды других посетителей кафе, она пристраивала картину в разных углах, рассматривала ее издалека и вблизи. Потом немного посидела с ней в обнимку. Ее детская непосредственность была настолько искренна, что подкупала и влюбляла в себя мгновенно. Лена вообще очень часто напоминала маленькую девочку. Иногда она доверчиво жалась к нему, заглядывая в глаза; чаще по-детски веселилась, строила рожицы, превращая серьезный разговор в балаган.
Не случайно Сергею пришла на ум метафора с бабочкой. Лена и правда, как будто порхала. Миниатюрная, легкая, прямо воздушная, готовая в любую секунду разразиться веселым смехом. Ей ничего не стоило отправиться по аллее парка вприпрыжку. Казалось, что у нее не бывает плохого настроения. Она никогда не хмурилась. Даже рассказывая о каких-то житейских проблемах, она делала это с улыбкой.
Вместе с тем упоминания о решении бытовых вопросов проскальзывали все чаще. В этом не было никаких жалоб или намеков на необходимость помощи. Лена просто иногда рассказывала в том числе и о том, чем занималась, пока они не виделись. По всему выходило, что она все решает и делает сама. Без какого бы то ни было участия мужа. Поначалу это казалось вполне естественным. Муж обеспечивал супругу почти неограниченными ресурсами и делегировал ей все полномочия в решении бытовых проблем, так как сам был занят бизнесом. Однако кое-какие вопросы явно требовали мужского участия.
Сергея стали одолевать сомнения. Вскоре он почти уверился в том, что с мужем Лена уже в разводе и потому такая самостоятельная. Или в процессе развода, потому что опять же по обмолвкам выходило, что живут они вместе. «Но зачем я-то ей нужен? – терзал себя Сергей. – Она должна бы искать нового кандидата в своем кругу, человека богатого, чтобы продолжить порхать так же беспечно». Лена прекрасно знала, что Сергей – рядовой журналист ничем не выдающегося издания, к тому же обремененный женой и ребенком. А его месячного оклада не хватило бы даже на ее шляпку.
На всякий случай он пару раз, воспользовавшись подходящей темой разговора, твердо заявил, что не оставит жену и ребенка ни при каких обстоятельствах. Лена восприняла это как само собой разумеющееся и в свою очередь прямо сказала, что не расстанется с мужем. Это ввергло Сергея в еще большие сомнения. Он перестал понимать, что происходит. Это была странная дружба двух совершенно разных людей. Им было хорошо вместе. Глупо было это отрицать. Но мнительность не давала ему покоя. Кроме того, он вполне был согласен с сентенцией циника Астрова из чеховского «Дяди Вани» о том, что мужчина и женщина могут стать друзьями только в одной последовательности: приятели – любовники – друзья. Что, впрочем, не меняло сути его сомнений. Зачем он нужен Лене в любом из этих качеств? Одно несомненно: какая-то тайна у Лены была.
Разрешилось все неожиданно и просто. При очередной встрече Лена сама все рассказала. Как обычно, легко, с улыбкой.
Мужа-бизнесмена полтора года назад хватил инсульт. Все было настолько серьезно, что он буквально превратился в овощ. Лена положила его в лучшую клинику, пригасила светил медицинской науки, наняла сиделок. Сама ездила к нему каждый день, проводила у постели по несколько часов. Несколько месяцев все эти усилия ни к чему не приводили. Но Лена была упорна. Меняла врачей, нашла других светил. Постепенно начались улучшения. Через полгода его выписали домой. Он стал понимать, кто он, уже узнавал Лену. Но ходить и говорить по-прежнему не мог.
Весь бизнес за это время подчистую растащили друзья-партнеры. Когда у Лены закончились деньги, никто из них не дал ни копейки. Она устроилась на работу. Платили, естественно, какие-то гроши. Мужнина мама и всегда завидовавший его успеху младший брат заявили: «У вас несметные богатства: загородные дома, яхты, машины. Продавай имущество». Лена продавала. В итоге из всего остались только квартира, в которой они жили, и ее машина.
– Наверное, можно было бы продать и ее, поменять на что-то более скромное. Но я не могу с ней расстаться. Это последний осколок прежней жизни. В квартире с сиделками, кучей лекарств и огромной больничной кроватью со всеми этими прибамбасами я как будто в очередной клинике. А в машине – дома, – простодушно призналась Лена, – я пока выкручиваюсь, траты на лечение уже не такие большие. Если станет совсем туго, продам и машину.
Сергей не знал, что можно сказать в такой ситуации.
– Если нужна какая-то помощь… – промямлил он,
– Нет-нет. Я справляюсь, – почти беспечно ответила Лена, – помощь не нужна. Мне нужно только поговорить с кем-то иногда. Хочется, чтобы это был мужчина. Большой и сильный, как ты. Чтобы отвлечься от всего.
Она заглянула Сергею в глаза и стала говорить быстро-быстро:
– Сережа! Я понимаю, у нас не совсем полноценные отношения… Ты мужчина…Тебе нужно… Я на все согласна. Мы можем встретиться, когда ты захочешь. И вообще всегда… Я ни в чем не буду виновата перед мужем. Мне не в чем себя упрекнуть. Я сделала и делаю все, что могу. Но и жить без всего тоже не могу. Я не потревожу твою семью. Мне от тебя ничего не нужно. Только чуточку теплоты.
Сергей заглянул в ее глаза и понял, что пропал. Пропал навсегда и безвозвратно. Что готов бросить Эллу и маленького Игорешку. Только бы видеть эти глаза каждый день.
Он плохо помнил, как они попрощались в этот день, о чем еще говорили.
Несколько дней он не звонил Лене и не отвечал на ее звонки. Потом, поняв, что никогда не сможет сказать ей в глаза то, что собирался, набрал ее номер.
– Привет! – радостный, как обычно, голосок, словно и не было нескольких дней отчуждения.
– Здравствуй, Лена! Прости, что говорю это по телефону. Но, если я тебя увижу, у меня не хватит решимости. Так, кажется, проще. Мы не сможем больше видеться… Потому что я тебя люблю! Я не смогу делить тебя ни с кем другим. И сам не смогу разорваться между семьей и тобой. Если мы увидимся еще хоть раз, станем хоть чуть-чуть ближе, я боюсь, что выберу тебя, а не их. Поэтому это – все! Наверное, я струсил. Прости!
Лена помолчала.
– Спасибо, что позвонил. Не сбежал молча. Может все-же?..
Сергей повесил трубку, не дослушав. Откинулся в кресле, тупо уставившись в редакционный потолок. В одном углу на белоснежной штукатурке проступило небольшое ржавое пятнышко. Ярко-оранжевое на белом.
Он вдруг вспомнил первую встречу с Леной. Они шли по аллее и вдруг увидели на огромном сугробе оранжевую бабочку. Солнце в тот день припекало так сильно, что капустница очнулась от спячки и выпорхнула из своего укрытия. Навстречу теплу, свету и радости.
Только вокруг не было ничего, кроме снега.
Весна в этом году торопилась изо всех сил. К середине марта непривычно потеплело, снег таял на глазах, обрадованная флора приготовилась совсем не ко времени зазеленеть. А воздух, наполненный влагой и особенными весенними запахами, казалось, приобрел физическую осязаемость.
В распахнутое окно нещадно палило солнце, добавляя в адскую духоту кабинета дополнительную порцию жары. Основную роль в создании невыносимой атмосферы, конечно, играли раскаленные батареи отопления. Огромное, в полстены окно призвано было впустить свежий весенний ветер, но за полным отсутствием такового лишь предательски подставляло внутренности кабинета вместе с его обитателями под яркие лучи.
Сергей понял, что работать он сейчас все равно не сможет. Мысли едва шевелились точно, как сонные мухи, невесть откуда выползшие на оконные стекла. Он пробурчал что-то неопределенное Тамаре Петровне, подхватил пальто и бросился вон из кабинета. Коридор редакции был непривычно пуст. То ли все разомлели на весенней жаре настолько, что не могли оторваться от кресел, то ли давно сбежали.
Вырвавшись на улицу, Сергей какое-то время просто бездумно фланировал. Наслаждался свободой. Потом свернул к ближайшему скверу. Довольно высокие ели, посаженные вдоль дорожек, давали спасительную тень. Вот удивительно! Всю зиму ждешь тепла, но в первые же жаркие дни начинаешь прятаться от солнца.
Дорожки в сквере успели почистить, местами они даже подсохли. После гололеда и слякоти было особенно приятно идти по ровным плиточкам, не боясь поскользнуться или набрать в туфли воды. Сергей совсем замедлил шаг и прикрыл глаза. Чудесно!
Яркое пятно впереди заставило его разомкнуть смеженные веки. Изящная женская фигурка в терракотовом пальто. Прямо посреди дорожки стояла, оглядываясь, миниатюрная молодая женщина. Красивая. Одета изысканно, со вкусом и, судя по всему, дорого. Подойдя ближе, Сергей понял причину нерешительности молодой дамы. Путь преграждала огромная лужа, которая, очевидно, натекла из окаймляющих дорожку и таящих на весеннем солнце сугробов. Лужа заполнила дорожку по всей ширине и простиралась на несколько метров вперед. Изящные замшевые сапожки топтались на ее краю, справедливо опасаясь за свое будущее.
– Простите! Позволите вам помочь? – спросил Сергей.
– Было бы неплохо! – ответила дама, вдруг широко и открыто улыбнувшись. – Только как?
Трудно сказать, виновен ли был особенный весенний воздух или неожиданная открытость красивой женщины. Но Сергей сделал то, чего сам от себя не ожидал, предлагая помощь. Он подхватил миниатюрную фигурку на руки и пошел прямо через лужу. Дама охнула, однако вырываться не стала. Она вдруг внимательно посмотрела Сергею в глаза. Сначала как будто строго, а потом весело, даже озорно.
– Это было неожиданно и отчаянно смело! – прошептала она, почти касаясь губами уха.
Сергей, совершенно одуревший от собственного поступка, окутавшего его запаха дорогих духов и близости теплых женских губ, давно вышел из лужи, но продолжал идти. Остановился он только после того, как спутница потрепала его по щеке.
– Вы меня спасли, – дама улыбалась.
Они шли по скверу, разговаривая о каких-то пустяках. Луж больше не попадалось. Иначе Сергей бы непременно воспользовался возможностью снова подхватить даму на руки. Он чувствовал себя легко и уверенно с этой совершено незнакомой женщиной. Возможно, благодаря ее удивительной открытости. Она представилась Леной. Не Еленой (не говоря уже об отчестве), а вот так просто – Леной. Ее гардероб и некоторые детали, всплывающие в разговоре, ясно указывали на серьезную социальную дистанцию между ними. Не в смысле образования или культуры. Их вне сомнения разделяла пропасть в плане материального благополучия. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения.
Незаметно сделав круг по всему скверу, они оказались у выхода.
– Я стараюсь гулять здесь каждый день, – сообщила как бы между прочим Лена, – в обеденный перерыв или если совсем уже невмоготу становится сидеть в офисе.
«Она работает?! В офисе?» – удивился Сергей. Вслух сказал:
– Я бы тоже с удовольствием проводил здесь обеденный перерыв.
– Приходите завтра! – просто предложила Лена.
– Да-да, конечно! Я обязательно приду, – торопливо согласился Сергей.
На следующий день он задолго до назначенного времени стоял перед входом в сквер. Дурацкая мысль купить цветы была отметена еще утром. Почему-то это казалось неуместным и даже пошлым.
В ожидании Сергей топтался на месте, убивая время тем, что пытался отчетливо вспомнить лицо Лены. Правильный овал, тонкие черты, чуть припухлые губы, чудесные глаза серо-голубого цвета и скрывающие их огромные ресницы. Несомненно, красавица. Но в целом образ ускользал, рассыпаясь на детали и оставляя в сухом остатке только ощущение легкости, изящества и почему-то детскости. Ах, да! Наверное, из-за чудесных ямочек, появляющихся на щеках при улыбке.
Когда Лена появилась из припарковавшегося неподалеку роскошного белоснежного Лексуса, Сергей нисколько не удивился. Кто бы сомневался! Гораздо большее впечатление на него произвело то, что Лена несла два стаканчика кофе.
– Привет! Не знала, какой кофе ты любишь. Взяла капучино и американо. Выбирай! – она протянула вперед капхолдер. – Ой! Ничего, что на «ты»?
– Конечно! Давай на «ты», – Сергей взял ближний стаканчик. – Спасибо! Мне даже как-то неудобно. Меня никогда не угощали девушки на свидании.
Это было чистой правдой. Все модели отношений, знакомые Сергею, предполагали если не потребительское отношение женщины к мужчине, то уж точно галантных поступков, подарков и угощения (слово-то какое пошлое!) именно со стороны мужчины.
– Ох! У нас свидание? – Лена смотрела лукаво.
Сергей смутился, не зная, что ответить.
– Ну, ты же не сексист, я надеюсь? Хотела кофе, купила и тебе заодно.
– Да, спасибо! Просто неожиданно, – с облегчением выдохнул Сергей.
Они гуляли, пили кофе и снова болтали о разной ерунде. Но, эти, казалось бы, пустяшные разговоры небольшими мазочками создавали общую картину. Оказалось, что их объединяет любовь к литературе (и писатели совпали), кино, Италии, в том числе ее кухне, и даже к кофе, как бы банально это ни звучало. И импрессионисты! Это особенно зацепило Сергея. Подобное единодушие радовало и пугало. Он находился в некотором ступоре от происходящего.
Что эта красивая, утонченная женщина в нем нашла? Почему тратит на него свое время? Сергея трудно было назвать красавцем. Или интересным мужчиной, как любят выражаться редакционные тетки. Высокий, спортивный, крепкого, если не сказать могучего сложения, но с совершенно обыкновенным, невыразительным лицом, он никогда не пользовался успехом у женщин. В романтическом смысле. Как надежный товарищ – да. В этом плане женщины его ценили и зачастую беззастенчиво им пользовались. Особенно, если требовалась физическая сила. Ну, там… перетащить что-то тяжелое.
…Встречи стали почти регулярными. Лена с Сергеем все больше сближались. Казалось, темы для разговоров не иссякнут никогда. Сергей перестал мучать себя сомнениями, решив, что блистательной светской дамочке просто не хватает обычного дружеского общения. Искреннего и естественного. Что вполне объяснимо. Мир, в котором Лена порхала (а, узнав ее поближе, Сергей не сомневался, что она именно порхает, как бабочка, в роскоши и благополучии), представлялся ему тем еще гадюшником, наполненным меркантильностью, лицемерием и цинизмом. Лена была замужем и, видимо, очень удачно. Муж – крупный бизнесмен. Она упоминала о нем пару раз и только вскользь. Но, судя по всему, он не контролировал ни ее время, ни ее расходы. Даже по обрывочным сведениям Сергей сделал вывод, что Лена очень самостоятельна и живет своей жизнью.
В какие-то моменты внутри у него появлялся едва заметный сквознячок угрызений совести. Он был давно и счастливо женат. Элла, конечно, не красавица. Но свой, надежный и верный человек. Близкий и родной. Еще сынишка. Эти двое были частью его. Частью неотделимой. Но при встречах с Леной та сторона жизни казалось далекой и никак не пересекающейся с этой. Ну и ничего криминального, собственно, пока не происходило.
За все время Сергей лишь раз решился подарить Лене цветы. И то потому что его взгляд случайно зацепил в витрине цветочного магазина крошечный букетик, размещенный в кофейном стаканчике. Скромность и элегантность этой композиции дополнялась и знаковостью. Пить кофе из бумажных стаканчиков на прогулках стало уже традицией. А большие букеты казались Сергею пошлостью. Кроме того, Лена была замужем, и букет явно ставил ее в неловкое положение.
Тем не менее он взял на себя смелость сделать девушке подарок. Она как-то обмолвилась, что обожает Моне. Все его пруды с лилиями. Но особенно «Японский мостик» во всех вариациях. Сергей знал, где заказать очень хорошую репродукцию. Сам подобрал багет. Принес упакованную картину на встречу в кафе.
Лена повела себя, как ребенок. Разорвала оберточную бумагу прямо за столиком. И пришла в полный восторг. Не обращая внимания на недоуменные и насмешливые взгляды других посетителей кафе, она пристраивала картину в разных углах, рассматривала ее издалека и вблизи. Потом немного посидела с ней в обнимку. Ее детская непосредственность была настолько искренна, что подкупала и влюбляла в себя мгновенно. Лена вообще очень часто напоминала маленькую девочку. Иногда она доверчиво жалась к нему, заглядывая в глаза; чаще по-детски веселилась, строила рожицы, превращая серьезный разговор в балаган.
Не случайно Сергею пришла на ум метафора с бабочкой. Лена и правда, как будто порхала. Миниатюрная, легкая, прямо воздушная, готовая в любую секунду разразиться веселым смехом. Ей ничего не стоило отправиться по аллее парка вприпрыжку. Казалось, что у нее не бывает плохого настроения. Она никогда не хмурилась. Даже рассказывая о каких-то житейских проблемах, она делала это с улыбкой.
Вместе с тем упоминания о решении бытовых вопросов проскальзывали все чаще. В этом не было никаких жалоб или намеков на необходимость помощи. Лена просто иногда рассказывала в том числе и о том, чем занималась, пока они не виделись. По всему выходило, что она все решает и делает сама. Без какого бы то ни было участия мужа. Поначалу это казалось вполне естественным. Муж обеспечивал супругу почти неограниченными ресурсами и делегировал ей все полномочия в решении бытовых проблем, так как сам был занят бизнесом. Однако кое-какие вопросы явно требовали мужского участия.
Сергея стали одолевать сомнения. Вскоре он почти уверился в том, что с мужем Лена уже в разводе и потому такая самостоятельная. Или в процессе развода, потому что опять же по обмолвкам выходило, что живут они вместе. «Но зачем я-то ей нужен? – терзал себя Сергей. – Она должна бы искать нового кандидата в своем кругу, человека богатого, чтобы продолжить порхать так же беспечно». Лена прекрасно знала, что Сергей – рядовой журналист ничем не выдающегося издания, к тому же обремененный женой и ребенком. А его месячного оклада не хватило бы даже на ее шляпку.
На всякий случай он пару раз, воспользовавшись подходящей темой разговора, твердо заявил, что не оставит жену и ребенка ни при каких обстоятельствах. Лена восприняла это как само собой разумеющееся и в свою очередь прямо сказала, что не расстанется с мужем. Это ввергло Сергея в еще большие сомнения. Он перестал понимать, что происходит. Это была странная дружба двух совершенно разных людей. Им было хорошо вместе. Глупо было это отрицать. Но мнительность не давала ему покоя. Кроме того, он вполне был согласен с сентенцией циника Астрова из чеховского «Дяди Вани» о том, что мужчина и женщина могут стать друзьями только в одной последовательности: приятели – любовники – друзья. Что, впрочем, не меняло сути его сомнений. Зачем он нужен Лене в любом из этих качеств? Одно несомненно: какая-то тайна у Лены была.
Разрешилось все неожиданно и просто. При очередной встрече Лена сама все рассказала. Как обычно, легко, с улыбкой.
Мужа-бизнесмена полтора года назад хватил инсульт. Все было настолько серьезно, что он буквально превратился в овощ. Лена положила его в лучшую клинику, пригасила светил медицинской науки, наняла сиделок. Сама ездила к нему каждый день, проводила у постели по несколько часов. Несколько месяцев все эти усилия ни к чему не приводили. Но Лена была упорна. Меняла врачей, нашла других светил. Постепенно начались улучшения. Через полгода его выписали домой. Он стал понимать, кто он, уже узнавал Лену. Но ходить и говорить по-прежнему не мог.
Весь бизнес за это время подчистую растащили друзья-партнеры. Когда у Лены закончились деньги, никто из них не дал ни копейки. Она устроилась на работу. Платили, естественно, какие-то гроши. Мужнина мама и всегда завидовавший его успеху младший брат заявили: «У вас несметные богатства: загородные дома, яхты, машины. Продавай имущество». Лена продавала. В итоге из всего остались только квартира, в которой они жили, и ее машина.
– Наверное, можно было бы продать и ее, поменять на что-то более скромное. Но я не могу с ней расстаться. Это последний осколок прежней жизни. В квартире с сиделками, кучей лекарств и огромной больничной кроватью со всеми этими прибамбасами я как будто в очередной клинике. А в машине – дома, – простодушно призналась Лена, – я пока выкручиваюсь, траты на лечение уже не такие большие. Если станет совсем туго, продам и машину.
Сергей не знал, что можно сказать в такой ситуации.
– Если нужна какая-то помощь… – промямлил он,
– Нет-нет. Я справляюсь, – почти беспечно ответила Лена, – помощь не нужна. Мне нужно только поговорить с кем-то иногда. Хочется, чтобы это был мужчина. Большой и сильный, как ты. Чтобы отвлечься от всего.
Она заглянула Сергею в глаза и стала говорить быстро-быстро:
– Сережа! Я понимаю, у нас не совсем полноценные отношения… Ты мужчина…Тебе нужно… Я на все согласна. Мы можем встретиться, когда ты захочешь. И вообще всегда… Я ни в чем не буду виновата перед мужем. Мне не в чем себя упрекнуть. Я сделала и делаю все, что могу. Но и жить без всего тоже не могу. Я не потревожу твою семью. Мне от тебя ничего не нужно. Только чуточку теплоты.
Сергей заглянул в ее глаза и понял, что пропал. Пропал навсегда и безвозвратно. Что готов бросить Эллу и маленького Игорешку. Только бы видеть эти глаза каждый день.
Он плохо помнил, как они попрощались в этот день, о чем еще говорили.
Несколько дней он не звонил Лене и не отвечал на ее звонки. Потом, поняв, что никогда не сможет сказать ей в глаза то, что собирался, набрал ее номер.
– Привет! – радостный, как обычно, голосок, словно и не было нескольких дней отчуждения.
– Здравствуй, Лена! Прости, что говорю это по телефону. Но, если я тебя увижу, у меня не хватит решимости. Так, кажется, проще. Мы не сможем больше видеться… Потому что я тебя люблю! Я не смогу делить тебя ни с кем другим. И сам не смогу разорваться между семьей и тобой. Если мы увидимся еще хоть раз, станем хоть чуть-чуть ближе, я боюсь, что выберу тебя, а не их. Поэтому это – все! Наверное, я струсил. Прости!
Лена помолчала.
– Спасибо, что позвонил. Не сбежал молча. Может все-же?..
Сергей повесил трубку, не дослушав. Откинулся в кресле, тупо уставившись в редакционный потолок. В одном углу на белоснежной штукатурке проступило небольшое ржавое пятнышко. Ярко-оранжевое на белом.
Он вдруг вспомнил первую встречу с Леной. Они шли по аллее и вдруг увидели на огромном сугробе оранжевую бабочку. Солнце в тот день припекало так сильно, что капустница очнулась от спячки и выпорхнула из своего укрытия. Навстречу теплу, свету и радости.
Только вокруг не было ничего, кроме снега.
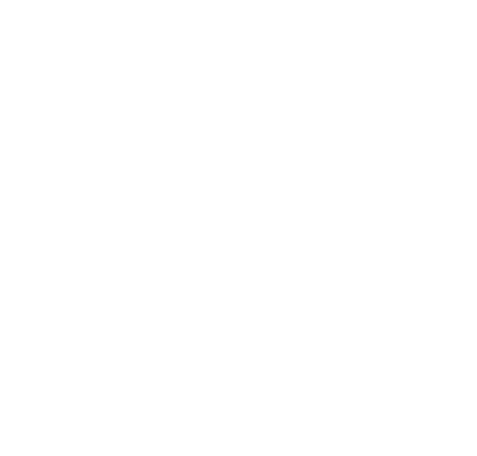
Руслана МАРОЧКИНА
Марочкина Руслана Рамилевна. Родилась в Казани в 1994 году. Окончила факультет прикладной филологии в Казанском Федеральном Университете. Работаю в генеалогическом центре автором-журналистом. Увлекаюсь литературой и историей. Меня вдохновляют люди, события, любовь.
Марочкина Руслана Рамилевна. Родилась в Казани в 1994 году. Окончила факультет прикладной филологии в Казанском Федеральном Университете. Работаю в генеалогическом центре автором-журналистом. Увлекаюсь литературой и историей. Меня вдохновляют люди, события, любовь.
ПОДКОВА
Завод. Осень 1985 года.
Дело было в самый обычный день… В разгар смены никто бы не подошёл с таким вопросом, однако время близилось к обеду. В цех вошла новенькая; она приступила к работе меньше, чем месяц назад, и уже многое умела. На её появление никто не обратил внимание, думы рабочих были заняты предстоящим обедом и желанием побыстрее пойти в столовую. Мой дед тогда контролировал качество производимой продукции, поэтому находился в цехе. Девушка громко поприветствовала тружеников, хотя все уже здоровались друг с другом перед тем, как заступить на утреннюю смену.
Она собралась с силами и, поборов природную робость, начала:
– Товарищи, никому не нужна золотая подвеска, отдам буквально даром! За пол цены, забирайте.
Никто и ухом не повёл; вскоре цех опустел: рабочие спешно двинулись по направлению к столовой, лишь дед остался, замешкавшись с блокнотом и ручкой в руках.
Девушка подошла и, посмотрев с надеждой в глазах, повторила:
– Виталий Палыч, возьмите за четыре рубля, она золотая, куплена в центральном ювелирном, том, что на Баумана. Отстояла в очереди за ней о-го-го сколько, мама не горюй, брала за семь рублей. Жаль расставаться, да деньги срочно понадобились, до получки-то уйма времени, не сведу концы с концами. Выручайте! У вас же жена есть, и дочка подрастает, пригодится.
– Я бы с радостью, да у меня они не любительницы побрякушек, часы наручные носят, и на этом – всё.
– Как же быть… Никто не берёт, продать не могу, обошла почти весь завод.
– В мясном, холодном, значит, была?
– Была.
– А до кадровиков, бухгалтерии добралась?
– Как-то боязно туда соваться, да и не знаю я там никого…
– Никогда не тушуйся! Пошли, потолкуем, с ними подход особый нужен.
– Да не станут там даже слушать, если уж в цехах не продала.
– Смотри и учись, как надо.
Пошли они вместе; дед уверенно ступал по знакомым коридорам, девушка плелась сзади, еле поспевая. Остановились возле двери в бухгалтерию, постучались, вошли, не дождавшись ответа.
Внутри бухгалтерша с завхозом распивали чай: в руках – чашки с цветочками, в заварочном чайнике – чай. «Небось, индийский», – подумала девушка. В пиалушках – сушки и конфеты «Мишка косолапый».
Дед лучезарно улыбнулся и со свойственной ему энергичностью начал приветствовать обитательниц кабинета. Как-никак здорово, что обе здесь оказались, не придётся по сто раз повторять. Сделав пару комплиментов тучной женщине у окна и уловив ответную улыбку, перешёл к делу:
– Милые женщины, прошу минуточку внимания!
Бухгалтер и завхоз с интересом посмотрели на деда, выжидая, с чем же пришли гости в кабинет.
– У нас есть к вам серьёзное предложение, экономически взаимовыгодное, так сказать.
Он протянул широкую ладонь, и девушка, смекнув, положила на нее золотую подковку. В тот момент ей казалось, что всё зазря, уж очень маленькой была подвеска в сравнении с трудовой рукой.
Дед продолжал…
– Каждый из нас о чём-то грезит: кто-то в тайне о богатстве, – он подмигнул бухгалтеру, – кто-то – о путешествиях, кто-то – о везении. Мы же предлагаем вам лучший вариант: удачу!
Глаза завхоза и бухгалтера заметно расширились от удивления, они быстро встали со стульев и придвинулись к деду. Маленькая подкова поблёскивала, словно суля своей обладательнице незамедлительное исполнение желаний. Дед предусмотрительно стоял под лампочкой, но кроме девушки на это никто не обратил внимания.
Он махнул свободной рукой в её сторону и продолжил:
– Добро было подарено её кавалером. Будучи человеком выездным, разжился за границей этакой штучкой – чистое золото, сами посмотрите! Девушки у нас на заводе, знаете какие: комсомолки, коммунистки, ярые атеистки, не признают подковы по идеологическим причинам! Посему символ удачи предлагаем совсем даром: цена вопроса – десять рублей.
Девушка стояла в углу краснее варёного рака, однако из-за широких плеч деда её было не разглядеть. Казалось, работницы верхнего этажа совсем потеряли головы, они потирали руки от нетерпения, жадно поглядывая на подвеску. Видно было, что каждая хотела заполучить удачу себе. Однако завхозу пришлось унять свои аппетиты, так как бухгалтерша, громко откашлявшись, на правах хозяйки кабинета констатировала:
– Беру!
Девушка вышла из кабинета вприпрыжку, с десятью рублями в кармане. Она была несказанно довольна своей удачей. Вот ведь как: говорят, не в деньгах счастье, но подкову-то как-никак на что-то купить надо…
Завод. Осень 1985 года.
Дело было в самый обычный день… В разгар смены никто бы не подошёл с таким вопросом, однако время близилось к обеду. В цех вошла новенькая; она приступила к работе меньше, чем месяц назад, и уже многое умела. На её появление никто не обратил внимание, думы рабочих были заняты предстоящим обедом и желанием побыстрее пойти в столовую. Мой дед тогда контролировал качество производимой продукции, поэтому находился в цехе. Девушка громко поприветствовала тружеников, хотя все уже здоровались друг с другом перед тем, как заступить на утреннюю смену.
Она собралась с силами и, поборов природную робость, начала:
– Товарищи, никому не нужна золотая подвеска, отдам буквально даром! За пол цены, забирайте.
Никто и ухом не повёл; вскоре цех опустел: рабочие спешно двинулись по направлению к столовой, лишь дед остался, замешкавшись с блокнотом и ручкой в руках.
Девушка подошла и, посмотрев с надеждой в глазах, повторила:
– Виталий Палыч, возьмите за четыре рубля, она золотая, куплена в центральном ювелирном, том, что на Баумана. Отстояла в очереди за ней о-го-го сколько, мама не горюй, брала за семь рублей. Жаль расставаться, да деньги срочно понадобились, до получки-то уйма времени, не сведу концы с концами. Выручайте! У вас же жена есть, и дочка подрастает, пригодится.
– Я бы с радостью, да у меня они не любительницы побрякушек, часы наручные носят, и на этом – всё.
– Как же быть… Никто не берёт, продать не могу, обошла почти весь завод.
– В мясном, холодном, значит, была?
– Была.
– А до кадровиков, бухгалтерии добралась?
– Как-то боязно туда соваться, да и не знаю я там никого…
– Никогда не тушуйся! Пошли, потолкуем, с ними подход особый нужен.
– Да не станут там даже слушать, если уж в цехах не продала.
– Смотри и учись, как надо.
Пошли они вместе; дед уверенно ступал по знакомым коридорам, девушка плелась сзади, еле поспевая. Остановились возле двери в бухгалтерию, постучались, вошли, не дождавшись ответа.
Внутри бухгалтерша с завхозом распивали чай: в руках – чашки с цветочками, в заварочном чайнике – чай. «Небось, индийский», – подумала девушка. В пиалушках – сушки и конфеты «Мишка косолапый».
Дед лучезарно улыбнулся и со свойственной ему энергичностью начал приветствовать обитательниц кабинета. Как-никак здорово, что обе здесь оказались, не придётся по сто раз повторять. Сделав пару комплиментов тучной женщине у окна и уловив ответную улыбку, перешёл к делу:
– Милые женщины, прошу минуточку внимания!
Бухгалтер и завхоз с интересом посмотрели на деда, выжидая, с чем же пришли гости в кабинет.
– У нас есть к вам серьёзное предложение, экономически взаимовыгодное, так сказать.
Он протянул широкую ладонь, и девушка, смекнув, положила на нее золотую подковку. В тот момент ей казалось, что всё зазря, уж очень маленькой была подвеска в сравнении с трудовой рукой.
Дед продолжал…
– Каждый из нас о чём-то грезит: кто-то в тайне о богатстве, – он подмигнул бухгалтеру, – кто-то – о путешествиях, кто-то – о везении. Мы же предлагаем вам лучший вариант: удачу!
Глаза завхоза и бухгалтера заметно расширились от удивления, они быстро встали со стульев и придвинулись к деду. Маленькая подкова поблёскивала, словно суля своей обладательнице незамедлительное исполнение желаний. Дед предусмотрительно стоял под лампочкой, но кроме девушки на это никто не обратил внимания.
Он махнул свободной рукой в её сторону и продолжил:
– Добро было подарено её кавалером. Будучи человеком выездным, разжился за границей этакой штучкой – чистое золото, сами посмотрите! Девушки у нас на заводе, знаете какие: комсомолки, коммунистки, ярые атеистки, не признают подковы по идеологическим причинам! Посему символ удачи предлагаем совсем даром: цена вопроса – десять рублей.
Девушка стояла в углу краснее варёного рака, однако из-за широких плеч деда её было не разглядеть. Казалось, работницы верхнего этажа совсем потеряли головы, они потирали руки от нетерпения, жадно поглядывая на подвеску. Видно было, что каждая хотела заполучить удачу себе. Однако завхозу пришлось унять свои аппетиты, так как бухгалтерша, громко откашлявшись, на правах хозяйки кабинета констатировала:
– Беру!
Девушка вышла из кабинета вприпрыжку, с десятью рублями в кармане. Она была несказанно довольна своей удачей. Вот ведь как: говорят, не в деньгах счастье, но подкову-то как-никак на что-то купить надо…
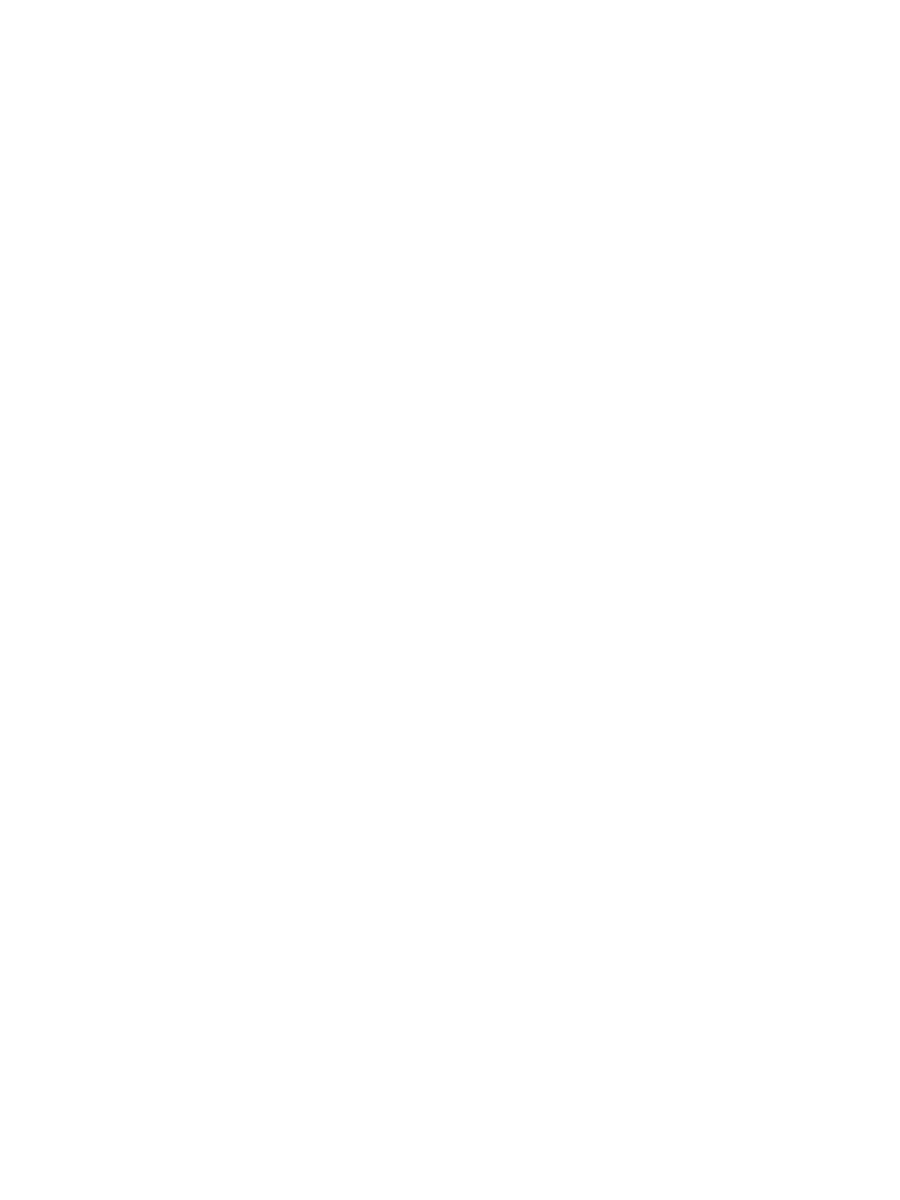
Екатерина ФИЛЮК
Родилась в 1981 г. в городе Шелехов Иркутской области. Закончила Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт экономики и права, Татарский институт содействия бизнесу. Индивидуальный предприниматель, занимается бухгалтерским, юридическим сопровождением малого и среднего бизнеса. Номинирована на премии: «Поэт года» (2023), «Поэт года» (2024), «Писатель года» (2024), «Наследие» (2024), «Наследие» (2025), «Русь моя» (2024), «Русь моя» (2025); вошла в «Антологию русской поэзии» (2024), «Антологию русской прозы» (2024), «Современные писатели» (2024). Награждена общественными наградами: медаль Лермонтова, медаль Пушкина, медаль Есенина, двумя звездами третьего ранга «Наследие 2024». Издан сборник стихов автора под названием «Тетрадь». Произведения автора вошли в сборники: «Дикие лепестки», «Любовь-сокровище души», «Золотая раса», «По снежной тропинке», литературно-художественный журнал «Культурная Россия». Периодически публикуется в интернет-журнале «Женский шарм». Член Российского союза писателей.
Родилась в 1981 г. в городе Шелехов Иркутской области. Закончила Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт экономики и права, Татарский институт содействия бизнесу. Индивидуальный предприниматель, занимается бухгалтерским, юридическим сопровождением малого и среднего бизнеса. Номинирована на премии: «Поэт года» (2023), «Поэт года» (2024), «Писатель года» (2024), «Наследие» (2024), «Наследие» (2025), «Русь моя» (2024), «Русь моя» (2025); вошла в «Антологию русской поэзии» (2024), «Антологию русской прозы» (2024), «Современные писатели» (2024). Награждена общественными наградами: медаль Лермонтова, медаль Пушкина, медаль Есенина, двумя звездами третьего ранга «Наследие 2024». Издан сборник стихов автора под названием «Тетрадь». Произведения автора вошли в сборники: «Дикие лепестки», «Любовь-сокровище души», «Золотая раса», «По снежной тропинке», литературно-художественный журнал «Культурная Россия». Периодически публикуется в интернет-журнале «Женский шарм». Член Российского союза писателей.
ДЕНЬ БЕЗ РАССВЕТА
Кажется, она уже слишком долго спит, но такое чувство у нее не впервые. Она слишком часто просыпается ночами с ложным чувством того, что уже проспала. Не хочется вытаскивать руку из-под одеяла, лучше перевернуться на другой бок и спать дальше.
«Морфей, прими меня еще раз», – пробурчала Алиса себе под нос и попыталась уснуть. Спустя полчаса она все-таки достала телефон из-под подушки и убедилась, что уже полдень.
«Какого черта здесь происходит?» – Алиса подняла глаза на окно и убедилась, что свет не проникает сквозь жалюзи, а, значит, солнце еще не взошло.
«Климат изменился настолько, что к нам нагрянула полярная ночь?»
Девушка медленно вылезла из-под одеяла и пошла на кухню. За стеклянными дверями в кухне был не мрак, там была песчаная буря.
«Песчаная буря зимой?»
«Морфей, сколько времени я пробыла в твоем царстве, чтоб проспать все самое интересное. Откуда песок? Где мой любимый снег?»
Тут Алиса поняла, что в момент определения времени по телефону заметила огромное количество сообщений и звонков.
«Кто-то еще помнит обо мне», – подумала она с ухмылкой, положила телефон на стол и пошла в ванну для проведения утренних процедур.
Ничто не могло вывести из себя человека, который потерял все и уже больше года жил в абсолютном уединении. Тишина не пугала Алису – тишина стала ее миром. Одиночество стало ее защитным механизмом, ведь только люди приносили в жизнь боль и страдания. Она всеми силами не пускала в свой мир никого, чтобы не наступил момент потерь.
Окончив свой утренний ритуал в ванной, Алиса вернулась на кухню, где ничего не изменилось: буря за окнами квартиры поднимала песок в небо. Слышно было только завывание ветра, как будто раненый зверь плакал от боли перед своей кончиной.
Ничто ее больше не пугало. Алисе давно уже стало все равно. Еще совсем молодая, но уже просто отчаялась стать счастливой хоть на мгновенье. Девушка давно приняла для себя принцип: «Я просто доживаю свою никому не нужную жизнь». По этому принципу она и продолжала писать свою историю.
Включив чайник, Алиса порадовалась, что из-за ветра не отключили электричество. От благ цивилизации отказаться сложнее, чем кажется. Она налила себе растворимый кофе, оставив кофеварку в молчаливом недоумении, взяла кружку с горячим напитком, прикурила сигарету, подошла к окну и задумалась: «Может, это конец света или наказание всем нам?»
Выпив кофе, она наконец обратила свой взор на телефон. Понимание, что там можно почерпнуть информацию о сложившейся ситуации, ее не подстегивало к тому, чтоб общаться с окружающим миром, но выхода не было.
Ей писали даже те, кого она не видела годами, но парадокс ситуации был не в этом: площадь пыльной бури выходила за все рамки ее понимания. В других городах и даже странах ситуация была однозначной – буря была повсюду. Хотя единственный факт, который доставлял Алисе беспокойство, это сообщения о том, что все, кто попытался выйти на улицу в попытке добраться до работы, обратно не вернулись.
За себя она не боялась, но родственники, они у нее были. И ее затворничество – не их выбор.
Девушка окончательно проснулась и вышла из своего обычного состояния бесчувственного спокойствия. Что приводит к тому, что люди не могут вернуться обратно? Неужели теряют ориентир в пыльной буре, но куда-то бы они дошли и сообщили о своем местоположении. Насколько длинной будет эта буря, если она бушует на всей планете? Как это вообще возможно?
Спутав себя с последовательности рассуждений, Алиса стала изучать Интернет в поисках ответов, но нашла только массовую истерию и призыв готовиться к концу света.
Все религиозные течения призывали молиться и каяться, священники проводили онлайн литургии. Особо одаренные мошенники предлагали перевести им все свои деньги за отпущение грехов. Кто-то рекламировал доставку продуктов через бурю за бешеные деньги, но ничего не привозил.
Потеряв пару часов в сети, ответив в чатах близким, что она жива, и окончательно отчаявшись найти ответы о буре, Алиса тяжело вздохнула. Ведь если это конец, она могла хоть последний год пожить. Не так, как она жила, а по-настоящему. Встречаться с друзьями, возможно, найти любовь или хотя бы путешествовать.
Но едва проговорив все это про себя, девушка улыбнулась: «Что за бред на пороге конца света? У меня все отлично, и пусть это отлично от других, но для меня конкретно именно это «отлично»».
Алиса снова налила себе кофе и подошла к окну. Она пристально всмотрелась в бурю, словно пыталась понять ее.
Вдруг что-то промелькнуло. Может, ей просто показалось? Или ветер поднял с земли какой-то предмет и решил поиграть с ним. В любом случае с ее зрением экспертом в увиденном быть не приходится.
Девушке наскучило смотреть на полет песчинок, и она решила еще поспать.
Утро вечера мудренее, вспомнила она старую русскую пословицу, снова улыбнулась и задумалась: «А наступит ли оно когда-нибудь? Утро?»
Проснувшись через пару часов, Алиса обнаружила, что ничего не изменилось, песчаная буря не окончилась.
«Значит, это не был дурной сон», – подумала девушка.
Проверив телефон, Алиса удивилась, что сообщений и пропущенных звонков стало еще больше, чем было при первом пробуждении.
«Народ совсем теряет самообладание. Скоро начнется всеобщая паника, а потом – отчаяние».
Это крайне расстроило девушку: несмотря на ее крайне замкнутый образ жизни, она никому не желала зла. Раньше ей просто было все равно на происходящие вокруг перемены, но теперь ситуация ее затрагивала. Если буря не успокоится, людям, рано или поздно, просто станет нечего кушать.
Мысль о бесконечности данной бури не казалась такой бредовой, потому что само по себе наличие такой аномалии – уже далеко за рамками нормы.
Алиса все еще находилась в собственных мыслительных процессах, пытаясь ухватиться хоть за какую-то логику, но тут она увидела своего кота. Он сидел с другой стороны стеклянной двери, как ни в чем не бывало. Ветер едва шевелил его шерстку и некоторые песчинки падали на него, отчего кот недовольно корчил мордочку.
Ни на секунду не задумываясь, девушка подбежала к двери и открыла ее коту. И тут ее ожидания снова не оправдались. Алиса держала дверь двумя руками, предполагая, что такой ветер попытается ворваться в дом и будет рушить все на кухне, пока в тяжелейшей схватке ей не удастся снова закрыть дверь за котом, но этого не последовало.
Буря не пересекала границы дома, только единичные песчинки залетели, пока кот важной походкой проходил в «свою» квартиру.
Девушка совсем отчаялась понимать происходящее, она пыталась собрать хоть какие-то факты в своей голове, пока кормила голодное животное.
«Как эта аномалия понимает границу дома? Свет? Но он горел не во всех комнатах. Разница температур? Но не может быть такой резкой границы на входе в дом».
Ответов не было. Поэтому Алиса снова подошла к двери и открыла ее настежь.
То, что предстало перед ней, было и прекрасным, и ужасным одновременно.
«Это не буря! Пыль и песок подвешены в воздухе практически без движения. Кажется, что где-то рядом ветер все-таки безумно воет, но ветер ли это вообще? Может, мы действительно попали в ад?»
Солнца не было, или его лучи не могли проникнуть через столь плотный слой песка и пыли. Вдалеке мелькали какие-то светящиеся предметы или фигуры. Пыль и песок были подвешены в воздухе плотной завесой. Они практически не двигались без усилия со стороны, движением руки их легко можно было переместить в сторону, но через некоторое время эти частицы возвращались на то же место и наверняка в том же порядке.
Девушка какое-то время продолжала играть с песчинками в воздухе. «Снова нарушены законы физики», – с горечью подумала она. Алиса очень любила науку, и ее развитие считала основой залога выживания человечества.
Осознавать, что разрушено что-то столь фундаментальное в мировом понимании, для нее было крайне тяжело. Вероятно, за сегодняшний день это был самый тяжелый удар для девушки, но в то же время игра с песчинками была столь превосходной, что она была даже поражена этим новым миром.
Алиса читала предупреждения представителей правительств разных стран, что выходить в бурю крайне опасно.
– Но это не так опасно, как доверять людям, которые предадут тебя при любом удобном случае; просто человеку нужно время для предательства, – сказала она вслух, чтоб прогнать последние сомнения, и вошла в пыльную бурю.
Кажется, она уже слишком долго спит, но такое чувство у нее не впервые. Она слишком часто просыпается ночами с ложным чувством того, что уже проспала. Не хочется вытаскивать руку из-под одеяла, лучше перевернуться на другой бок и спать дальше.
«Морфей, прими меня еще раз», – пробурчала Алиса себе под нос и попыталась уснуть. Спустя полчаса она все-таки достала телефон из-под подушки и убедилась, что уже полдень.
«Какого черта здесь происходит?» – Алиса подняла глаза на окно и убедилась, что свет не проникает сквозь жалюзи, а, значит, солнце еще не взошло.
«Климат изменился настолько, что к нам нагрянула полярная ночь?»
Девушка медленно вылезла из-под одеяла и пошла на кухню. За стеклянными дверями в кухне был не мрак, там была песчаная буря.
«Песчаная буря зимой?»
«Морфей, сколько времени я пробыла в твоем царстве, чтоб проспать все самое интересное. Откуда песок? Где мой любимый снег?»
Тут Алиса поняла, что в момент определения времени по телефону заметила огромное количество сообщений и звонков.
«Кто-то еще помнит обо мне», – подумала она с ухмылкой, положила телефон на стол и пошла в ванну для проведения утренних процедур.
Ничто не могло вывести из себя человека, который потерял все и уже больше года жил в абсолютном уединении. Тишина не пугала Алису – тишина стала ее миром. Одиночество стало ее защитным механизмом, ведь только люди приносили в жизнь боль и страдания. Она всеми силами не пускала в свой мир никого, чтобы не наступил момент потерь.
Окончив свой утренний ритуал в ванной, Алиса вернулась на кухню, где ничего не изменилось: буря за окнами квартиры поднимала песок в небо. Слышно было только завывание ветра, как будто раненый зверь плакал от боли перед своей кончиной.
Ничто ее больше не пугало. Алисе давно уже стало все равно. Еще совсем молодая, но уже просто отчаялась стать счастливой хоть на мгновенье. Девушка давно приняла для себя принцип: «Я просто доживаю свою никому не нужную жизнь». По этому принципу она и продолжала писать свою историю.
Включив чайник, Алиса порадовалась, что из-за ветра не отключили электричество. От благ цивилизации отказаться сложнее, чем кажется. Она налила себе растворимый кофе, оставив кофеварку в молчаливом недоумении, взяла кружку с горячим напитком, прикурила сигарету, подошла к окну и задумалась: «Может, это конец света или наказание всем нам?»
Выпив кофе, она наконец обратила свой взор на телефон. Понимание, что там можно почерпнуть информацию о сложившейся ситуации, ее не подстегивало к тому, чтоб общаться с окружающим миром, но выхода не было.
Ей писали даже те, кого она не видела годами, но парадокс ситуации был не в этом: площадь пыльной бури выходила за все рамки ее понимания. В других городах и даже странах ситуация была однозначной – буря была повсюду. Хотя единственный факт, который доставлял Алисе беспокойство, это сообщения о том, что все, кто попытался выйти на улицу в попытке добраться до работы, обратно не вернулись.
За себя она не боялась, но родственники, они у нее были. И ее затворничество – не их выбор.
Девушка окончательно проснулась и вышла из своего обычного состояния бесчувственного спокойствия. Что приводит к тому, что люди не могут вернуться обратно? Неужели теряют ориентир в пыльной буре, но куда-то бы они дошли и сообщили о своем местоположении. Насколько длинной будет эта буря, если она бушует на всей планете? Как это вообще возможно?
Спутав себя с последовательности рассуждений, Алиса стала изучать Интернет в поисках ответов, но нашла только массовую истерию и призыв готовиться к концу света.
Все религиозные течения призывали молиться и каяться, священники проводили онлайн литургии. Особо одаренные мошенники предлагали перевести им все свои деньги за отпущение грехов. Кто-то рекламировал доставку продуктов через бурю за бешеные деньги, но ничего не привозил.
Потеряв пару часов в сети, ответив в чатах близким, что она жива, и окончательно отчаявшись найти ответы о буре, Алиса тяжело вздохнула. Ведь если это конец, она могла хоть последний год пожить. Не так, как она жила, а по-настоящему. Встречаться с друзьями, возможно, найти любовь или хотя бы путешествовать.
Но едва проговорив все это про себя, девушка улыбнулась: «Что за бред на пороге конца света? У меня все отлично, и пусть это отлично от других, но для меня конкретно именно это «отлично»».
Алиса снова налила себе кофе и подошла к окну. Она пристально всмотрелась в бурю, словно пыталась понять ее.
Вдруг что-то промелькнуло. Может, ей просто показалось? Или ветер поднял с земли какой-то предмет и решил поиграть с ним. В любом случае с ее зрением экспертом в увиденном быть не приходится.
Девушке наскучило смотреть на полет песчинок, и она решила еще поспать.
Утро вечера мудренее, вспомнила она старую русскую пословицу, снова улыбнулась и задумалась: «А наступит ли оно когда-нибудь? Утро?»
Проснувшись через пару часов, Алиса обнаружила, что ничего не изменилось, песчаная буря не окончилась.
«Значит, это не был дурной сон», – подумала девушка.
Проверив телефон, Алиса удивилась, что сообщений и пропущенных звонков стало еще больше, чем было при первом пробуждении.
«Народ совсем теряет самообладание. Скоро начнется всеобщая паника, а потом – отчаяние».
Это крайне расстроило девушку: несмотря на ее крайне замкнутый образ жизни, она никому не желала зла. Раньше ей просто было все равно на происходящие вокруг перемены, но теперь ситуация ее затрагивала. Если буря не успокоится, людям, рано или поздно, просто станет нечего кушать.
Мысль о бесконечности данной бури не казалась такой бредовой, потому что само по себе наличие такой аномалии – уже далеко за рамками нормы.
Алиса все еще находилась в собственных мыслительных процессах, пытаясь ухватиться хоть за какую-то логику, но тут она увидела своего кота. Он сидел с другой стороны стеклянной двери, как ни в чем не бывало. Ветер едва шевелил его шерстку и некоторые песчинки падали на него, отчего кот недовольно корчил мордочку.
Ни на секунду не задумываясь, девушка подбежала к двери и открыла ее коту. И тут ее ожидания снова не оправдались. Алиса держала дверь двумя руками, предполагая, что такой ветер попытается ворваться в дом и будет рушить все на кухне, пока в тяжелейшей схватке ей не удастся снова закрыть дверь за котом, но этого не последовало.
Буря не пересекала границы дома, только единичные песчинки залетели, пока кот важной походкой проходил в «свою» квартиру.
Девушка совсем отчаялась понимать происходящее, она пыталась собрать хоть какие-то факты в своей голове, пока кормила голодное животное.
«Как эта аномалия понимает границу дома? Свет? Но он горел не во всех комнатах. Разница температур? Но не может быть такой резкой границы на входе в дом».
Ответов не было. Поэтому Алиса снова подошла к двери и открыла ее настежь.
То, что предстало перед ней, было и прекрасным, и ужасным одновременно.
«Это не буря! Пыль и песок подвешены в воздухе практически без движения. Кажется, что где-то рядом ветер все-таки безумно воет, но ветер ли это вообще? Может, мы действительно попали в ад?»
Солнца не было, или его лучи не могли проникнуть через столь плотный слой песка и пыли. Вдалеке мелькали какие-то светящиеся предметы или фигуры. Пыль и песок были подвешены в воздухе плотной завесой. Они практически не двигались без усилия со стороны, движением руки их легко можно было переместить в сторону, но через некоторое время эти частицы возвращались на то же место и наверняка в том же порядке.
Девушка какое-то время продолжала играть с песчинками в воздухе. «Снова нарушены законы физики», – с горечью подумала она. Алиса очень любила науку, и ее развитие считала основой залога выживания человечества.
Осознавать, что разрушено что-то столь фундаментальное в мировом понимании, для нее было крайне тяжело. Вероятно, за сегодняшний день это был самый тяжелый удар для девушки, но в то же время игра с песчинками была столь превосходной, что она была даже поражена этим новым миром.
Алиса читала предупреждения представителей правительств разных стран, что выходить в бурю крайне опасно.
– Но это не так опасно, как доверять людям, которые предадут тебя при любом удобном случае; просто человеку нужно время для предательства, – сказала она вслух, чтоб прогнать последние сомнения, и вошла в пыльную бурю.
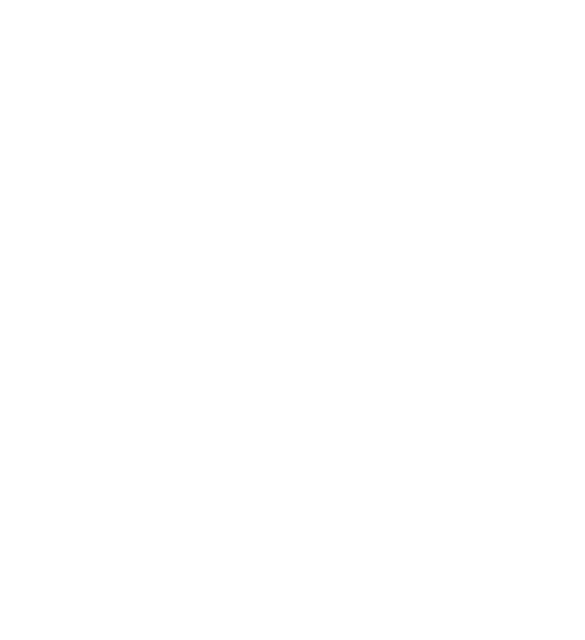
Виталий КУВШИНОВ
Писатель из посёлка городского типа Сабурово (Московская область). Родился и вырос в Шатуре, где сформировался его взгляд на мир, позже ставший основой творчества. По образованию — бакалавр в сфере государственного и муниципального управления, а в профессиональной жизни занимается внедрением новых и модифицированных продуктов в компании ITMS Россия.
Как автор отмечен медалью «Иван Бунин 150 лет» (Российский союз писателей, 2021), дважды номинировался на премию «Поэт года» (2020, 2021), а также стал призёром международного проекта «Тысячи добрых страниц». Участвовал в научной публикации, анализирующей влияние пандемии на цифровую экономику. В прозе Виталий исследует мироощущение поколения 2000-х: баланс между мечтой и реальностью, ностальгией и современностью. Во многом вдохновляется работами Ф.М. Достоевского и Виктора Пелевина. Связаться с автором можно через Telegram: @vkuvshinov.
Писатель из посёлка городского типа Сабурово (Московская область). Родился и вырос в Шатуре, где сформировался его взгляд на мир, позже ставший основой творчества. По образованию — бакалавр в сфере государственного и муниципального управления, а в профессиональной жизни занимается внедрением новых и модифицированных продуктов в компании ITMS Россия.
Как автор отмечен медалью «Иван Бунин 150 лет» (Российский союз писателей, 2021), дважды номинировался на премию «Поэт года» (2020, 2021), а также стал призёром международного проекта «Тысячи добрых страниц». Участвовал в научной публикации, анализирующей влияние пандемии на цифровую экономику. В прозе Виталий исследует мироощущение поколения 2000-х: баланс между мечтой и реальностью, ностальгией и современностью. Во многом вдохновляется работами Ф.М. Достоевского и Виктора Пелевина. Связаться с автором можно через Telegram: @vkuvshinov.
ДЕВОЧКА С СЕДЫМИ ВОЛОСАМИ
Быстрые переборы и удары пальцев о клавиатуру ноутбука начинали действовать на нервы своей однотипностью и назойливостью, которая своими постукиваниями поднималась с самого низа, от рук и постепенно доходила до головы, отзываясь глухими ударами, будто кто-то решил сыграть партию на ударных, пока ты крепко спал.
Ну а что ещё можно ожидать от одного из самых неоднозначных периодов в жизни каждого из студентов, который повторяется и повторяется каждые полгода, будто много тысячелетий назад какой-то юноша, а, может, и девушка, разгневал коварного волшебника, взамен на что последовало проклятие страдать каждые полгода на пути получения гранита науки, необходимого для самоудовлетворения одной из миллиона потребностей живого человека.
Вдруг по языку резануло странной кислой сладостью, которая помогла вернуться из полусонного состояния. Я немного закашлялся и необдуманным движением взял в руки стальную банку с леденцами, как те, в которых хранят замасленные шпроты, и прочитал надпись, первую попавшуюся на глаза: «Изделия кондитерские сахаристые «Монпансье»».
Так, ладно, пора бы отбросить на другой раз все эти размышления о бренности бытия студента и ублажение мыслями о том, что всё могло бы быть и лучше. На самом деле я хотел рассказать историю, которая случилась уже ни один год назад. Даже попробую посчитать: на тот момент я готовился к одиннадцатому классу в московской школе №1747, получается, что произошло это в 2019 году. Не верится, что сейчас на дворе уже 2022 год, пусть он и только наступил.
Как сейчас помню, был это август месяц. Тогда я пошёл на одну из первых своих подработок… Ну, как пошёл: мой старший двоюродный брат помог мне её найти через собственные знакомства. Жил я тогда уже в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области и при подборке наиболее близких ко мне точек для распространения листовок мне выпали две позиции: широкое пространство, которое, чтобы хоть как-то себя успокаивать, я называл площадью между выходом с железнодорожной платформы Крюково, находящейся в Зеленограде, и автобусной остановкой, на которой останавливался единственный автобус из Митино, на котором я мог сюда добраться, предварительно совершив небольшое путешествие до метро Пятницкое шоссе, и торговый центр, который представлял собой пережиток нулевых годов, как я обычно называю такие магазины, ведь это было двухэтажное небольшое здание, внутри которого были маленькие магазинчики, большинство которых представляют собой мастерские для замены стекла на телефоне, либо продажа страшных шерстяных носков, будто украденных из заброшенного дома в деревне.
В один из таких рабочих дней я забрал с самого утра в ресторане одной сети пиццерий несколько скреплённых резинками упаковок листовок. Было там, как это обычно и бывает, около одной тысячи штук в каждой пачке. С этим своим «оборудованием» мне необходимо было стоять весь день около торгового центра, описанного выше. Но у меня существовал собственный секрет успеха выполнения поставленных задач на этой подработке, который подразумевал сохранение своих сил.
Ещё на второй день работы я обнаружил, что за мной не происходило никакого контроля со стороны ресторана, в котором забирались материалы для раздачи. Когда мне выпадал день около торгового центра, то я, постояв ровно час, постепенно уходил вглубь дворов. Приходилось ради уменьшения страха и тревоги, что кто-то увидит эти листовки в неположенном месте, проходить дворами до нескольких кварталов, перебираясь через достаточно неприятные на вид и по своей атмосфере детские площадки Зеленограда. По сторонам мелькали типичные для данной части Москвы таблички домов, на которых красовались только слово «корпус» и соответствующий номер. Город без улиц, мёртвый город, а точнее, его дворы, в которых за всё время работы мне не удалось встретить ни единого человека. Такими путешествиями я дошёл именно в тот день до новых районов. Определить это было легко по новым жилым комплексам, которые возвышались по сторонам и впереди – в поле, которое ещё недавно было замечательным местом встречи для местной молодёжи, которая уходила подальше от надоедливой цивилизации ради великого чувства бытия с самим собой наедине либо со своими друзьями, которые как никто другой могли понимать тебя. И вот я поворачиваю голову направо и вижу то, ради чего был совершён этот маршрут: новенькая свалка для раздельного сбора мусора. Дальше слышен звук молнии рюкзака, шелест от пачек бумаги, и на минуту мой взор зависает на одном из свёртков, и я представляю, что в моей руке прямо сейчас – тысяча американских долларов, которые были добыты не самым честным путём, но меня загнали в тупик, и вот я стою и выкидываю их, чтобы их судьба больше не соприкоснулась с моей, и мы больше не встретились. Глухой удар о стальной пол ящика помойки. Последний, а точнее, третий свёрток листовок упал и исчез в небытие. На сегодня я свободен, главное, не забыть ровно в 19:00 отписаться женщине, которая контролирует, во сколько я начинаю работать и во сколько заканчиваю.
Спустя всего каких-то тридцать минут я стоял на автобусной остановке через дорогу от злополучного торгового центра, который уже не вызывал никакого внимания с моей стороны. Мой взор был устремлён в мобильное приложение, в котором я пытался понять, через сколько будет подходящий мне автобус, чтобы я мог добраться до Крюково, а оттуда уже умчаться со спокойной душой в Митино и дожидаться окончания рабочего дня в компании своих школьных друзей. Скрежет тормозов маленького автобуса заставил меня поднять мой взгляд, и на табличке с остановками я увидел такое желанное: «Ж/Д Крюково».
Оказавшись внутри, я оглянулся по сторонам и приметил место наиболее близкое к передней стороне автобуса, которое чаще всего помечено как места для пенсионеров в наземном общественном транспорте. На момент, когда я очутился в сидячем положении, пришло осознание, что сегодня не взял с собой наушники, которые всегда спасали от долгих и даже коротких поездок, ведь именно под музыку у меня получается расслабить свою голову и дать мыслям, которые бесконечными потоками гуляют в голове, отдохнуть, либо наоборот – выйти наружу в форме сцен, которые я обычно разыгрываю у себя в голове под ритм либо напор музыкальных произведений. Автобус двинулся вперёд и медленно покатился, сменяя сбоку от себя один дом за другим. На такой достаточно спокойной скорости мы подобрались к следующей остановке. Внутрь начали заходить люди, и прямо перед мной села пожилая женщина в очень преклонном возрасте, я бы даже сказал, бабушка.
Сколько бы я ни пытался, не получается сейчас уже вспомнить, под каким предлогом у нас завязался разговор, на чём он был основан, но могу сказать одно: через пару минут мы с ней уже очень активно разговаривали. И именно в тот момент она начала свой простой, короткий рассказ, который отложился в моей голове на долгие и долгие годы. Когда-то давно, очень много лет назад она проживала со своими родителями в одной из южных отдалённых республик бывшего советского государства. Даже не вспомню сейчас, но, по обрывкам воспоминаний, она упоминала то ли Узбекистан, то ли Таджикистан. Её родителей туда сослали за один из проступков, за которые в то время могли отправить подальше с глаз, и именно по этой причине детство маленькой девочки проходило на краю империи, в жаркой земле, но со своей обстановкой и историей, которая оставила отпечаток в ней на всю жизнь.
Будучи ребёнком, бабушка увлекалась рисованием, которое быстро переросло в её талант, который, по-хорошему, ей надо было развивать. Видели бы вы её в тот момент, когда она перешла к части рассказа именно про рисунки и то, как именно она рисовала. Её глаза сразу раскрылись, наполнились жизнью и засияли. На меня в этом маленьком автобусе смотрела уже не старая женщина, прожившая не один десяток лет на этой земле, а та самая маленькая девочка, которая вот-вот могла сорваться, растолкать толпу угрюмых людей и умчаться за карандашами и кисточкой, чтобы начать рисовать. Её движения оживились, она начала активно жестикулировать, и со мной разговаривала в тот момент не она сама, а та девочка из прошлого, как бы призывая меня окунуться в то время, именно в тот этап её жизни, возможно, самый яркий этап за всю её историю. Я сидел и слушал прекрасную талантливую девочку, девочку с седыми волосами.
В своём ярком и оживлённом рассказе женщина говорила о том, как быстро ей давались новые техники в рисовании, как её картины начали замечать люди в пределах того небольшого городка, в котором они с родителями проживали. Но тут её история подошла к одному очень ключевому моменту, перед которым она буквально на пару секунд умолкла. Руки, изрезанные морщинами, отпечатками, которые в тот момент были единственным, что напоминало о том, что перед мной сидела не та маленькая девочка, а уже старый, проживший свою часть жизни человек, человек, который успел вырасти, завести семью, воспитать детей и внуков, а сейчас сидел в маленьком автобусе, медленно передвигающемся по улочкам Зеленограда, останавливаясь на остановках и подбирая всё больше людей, которым на самом деле и дела-то никакого нет до того, что рассказывает эта женщина. Спустя мгновение её взгляд снова поднялся на меня, и она начала говорить о том, что в один из дней в местном Доме культуры, небольшом здании, которое было во многих маленьких городах того времени, в котором проводились различные мероприятия, проходила выставка художеств, созданных жителями этого города и других поселений, которые находились в том же районе.
На такой выставке находились и её работы, которые были даже выделены отдельным стендом и тем самым привлекали внимание посетителей, которые спокойно передвигались и рассматривали работы. Среди таких посетителей оказалось и несколько мужчин – представителей местного населения, которые очень долго рассматривали картины девочки, не обратив внимание на то, что рядом с ними стояла именно она. Спустя какое-то время один из них начал говорить о том, что это отвратительные работы, потому что они написаны не представителем их народа, а какой-то русской девочкой. Наша героиня никогда до этого не слышала негатива, который мог быть основан исключительно на национальной ненависти, и это начало её пугать. Другие мужчины начали поддерживать слова своего товарища, и в конечном итоге они уже говорили не о картинах, а о том, как они недовольны тем, что сюда присылают жить чужих людей, что достижения этих людей выделяют на фоне народа – народа, который испокон веков проживает на этой земле.
Девочка стояла в тумане, она не знала, как ей реагировать, ей было страшно. Она никогда не думала, что будет ощущать себя виноватой не в каком-то проступке, не в преступлении, а только в том, что она – не такая, как они, в том, что она творит, и ей это нравится, что она создаёт прекрасное и хочет делиться этим с миром. Невозможно предположить, как бы сложилась её дальнейшая жизнь, но тот день, к великому сожалению, стал роковым. Именно тогда закончился её путь начинающего художника, обрушились детские мечты, и единственное, что ей хотелось на тот момент, это убежать и бежать, пока ноги не изотрутся в кровь, а рассудок не помутнеет, чтобы помочь забыть весь тот ужас и абсурд, который ей пришлось пережить.
Двери автобуса закрылись, он начал отъезжать, поднимая грязный дым с дороги, а я смотрел ему вслед. Вместе с тем автобусом уезжала и та бабушка, которая просто так поделилась со мной небольшой частью своей жизни, пригласила с собой в небольшое путешествие, которое вызвало огромное количество смешанных чувств. И даже сейчас, вспоминая тот день, я поражаюсь, насколько ярко в моей голове отпечаталось то, что она рассказала, то, что и по сей день заставляет задуматься. Я не знаю, что сейчас с этой женщиной, где она, но могу сказать с уверенностью только одно: её история живёт со мной, и я не позволю ей уйти в небытие, не рассказанной другим. Маленькая художница жила, живёт до сих пор и будет жить в моей голове, каждый раз напоминая о том, что вокруг нас могут быть простые люди с великими историями.
Быстрые переборы и удары пальцев о клавиатуру ноутбука начинали действовать на нервы своей однотипностью и назойливостью, которая своими постукиваниями поднималась с самого низа, от рук и постепенно доходила до головы, отзываясь глухими ударами, будто кто-то решил сыграть партию на ударных, пока ты крепко спал.
Ну а что ещё можно ожидать от одного из самых неоднозначных периодов в жизни каждого из студентов, который повторяется и повторяется каждые полгода, будто много тысячелетий назад какой-то юноша, а, может, и девушка, разгневал коварного волшебника, взамен на что последовало проклятие страдать каждые полгода на пути получения гранита науки, необходимого для самоудовлетворения одной из миллиона потребностей живого человека.
Вдруг по языку резануло странной кислой сладостью, которая помогла вернуться из полусонного состояния. Я немного закашлялся и необдуманным движением взял в руки стальную банку с леденцами, как те, в которых хранят замасленные шпроты, и прочитал надпись, первую попавшуюся на глаза: «Изделия кондитерские сахаристые «Монпансье»».
Так, ладно, пора бы отбросить на другой раз все эти размышления о бренности бытия студента и ублажение мыслями о том, что всё могло бы быть и лучше. На самом деле я хотел рассказать историю, которая случилась уже ни один год назад. Даже попробую посчитать: на тот момент я готовился к одиннадцатому классу в московской школе №1747, получается, что произошло это в 2019 году. Не верится, что сейчас на дворе уже 2022 год, пусть он и только наступил.
Как сейчас помню, был это август месяц. Тогда я пошёл на одну из первых своих подработок… Ну, как пошёл: мой старший двоюродный брат помог мне её найти через собственные знакомства. Жил я тогда уже в деревне Сабурово городского округа Красногорск Московской области и при подборке наиболее близких ко мне точек для распространения листовок мне выпали две позиции: широкое пространство, которое, чтобы хоть как-то себя успокаивать, я называл площадью между выходом с железнодорожной платформы Крюково, находящейся в Зеленограде, и автобусной остановкой, на которой останавливался единственный автобус из Митино, на котором я мог сюда добраться, предварительно совершив небольшое путешествие до метро Пятницкое шоссе, и торговый центр, который представлял собой пережиток нулевых годов, как я обычно называю такие магазины, ведь это было двухэтажное небольшое здание, внутри которого были маленькие магазинчики, большинство которых представляют собой мастерские для замены стекла на телефоне, либо продажа страшных шерстяных носков, будто украденных из заброшенного дома в деревне.
В один из таких рабочих дней я забрал с самого утра в ресторане одной сети пиццерий несколько скреплённых резинками упаковок листовок. Было там, как это обычно и бывает, около одной тысячи штук в каждой пачке. С этим своим «оборудованием» мне необходимо было стоять весь день около торгового центра, описанного выше. Но у меня существовал собственный секрет успеха выполнения поставленных задач на этой подработке, который подразумевал сохранение своих сил.
Ещё на второй день работы я обнаружил, что за мной не происходило никакого контроля со стороны ресторана, в котором забирались материалы для раздачи. Когда мне выпадал день около торгового центра, то я, постояв ровно час, постепенно уходил вглубь дворов. Приходилось ради уменьшения страха и тревоги, что кто-то увидит эти листовки в неположенном месте, проходить дворами до нескольких кварталов, перебираясь через достаточно неприятные на вид и по своей атмосфере детские площадки Зеленограда. По сторонам мелькали типичные для данной части Москвы таблички домов, на которых красовались только слово «корпус» и соответствующий номер. Город без улиц, мёртвый город, а точнее, его дворы, в которых за всё время работы мне не удалось встретить ни единого человека. Такими путешествиями я дошёл именно в тот день до новых районов. Определить это было легко по новым жилым комплексам, которые возвышались по сторонам и впереди – в поле, которое ещё недавно было замечательным местом встречи для местной молодёжи, которая уходила подальше от надоедливой цивилизации ради великого чувства бытия с самим собой наедине либо со своими друзьями, которые как никто другой могли понимать тебя. И вот я поворачиваю голову направо и вижу то, ради чего был совершён этот маршрут: новенькая свалка для раздельного сбора мусора. Дальше слышен звук молнии рюкзака, шелест от пачек бумаги, и на минуту мой взор зависает на одном из свёртков, и я представляю, что в моей руке прямо сейчас – тысяча американских долларов, которые были добыты не самым честным путём, но меня загнали в тупик, и вот я стою и выкидываю их, чтобы их судьба больше не соприкоснулась с моей, и мы больше не встретились. Глухой удар о стальной пол ящика помойки. Последний, а точнее, третий свёрток листовок упал и исчез в небытие. На сегодня я свободен, главное, не забыть ровно в 19:00 отписаться женщине, которая контролирует, во сколько я начинаю работать и во сколько заканчиваю.
Спустя всего каких-то тридцать минут я стоял на автобусной остановке через дорогу от злополучного торгового центра, который уже не вызывал никакого внимания с моей стороны. Мой взор был устремлён в мобильное приложение, в котором я пытался понять, через сколько будет подходящий мне автобус, чтобы я мог добраться до Крюково, а оттуда уже умчаться со спокойной душой в Митино и дожидаться окончания рабочего дня в компании своих школьных друзей. Скрежет тормозов маленького автобуса заставил меня поднять мой взгляд, и на табличке с остановками я увидел такое желанное: «Ж/Д Крюково».
Оказавшись внутри, я оглянулся по сторонам и приметил место наиболее близкое к передней стороне автобуса, которое чаще всего помечено как места для пенсионеров в наземном общественном транспорте. На момент, когда я очутился в сидячем положении, пришло осознание, что сегодня не взял с собой наушники, которые всегда спасали от долгих и даже коротких поездок, ведь именно под музыку у меня получается расслабить свою голову и дать мыслям, которые бесконечными потоками гуляют в голове, отдохнуть, либо наоборот – выйти наружу в форме сцен, которые я обычно разыгрываю у себя в голове под ритм либо напор музыкальных произведений. Автобус двинулся вперёд и медленно покатился, сменяя сбоку от себя один дом за другим. На такой достаточно спокойной скорости мы подобрались к следующей остановке. Внутрь начали заходить люди, и прямо перед мной села пожилая женщина в очень преклонном возрасте, я бы даже сказал, бабушка.
Сколько бы я ни пытался, не получается сейчас уже вспомнить, под каким предлогом у нас завязался разговор, на чём он был основан, но могу сказать одно: через пару минут мы с ней уже очень активно разговаривали. И именно в тот момент она начала свой простой, короткий рассказ, который отложился в моей голове на долгие и долгие годы. Когда-то давно, очень много лет назад она проживала со своими родителями в одной из южных отдалённых республик бывшего советского государства. Даже не вспомню сейчас, но, по обрывкам воспоминаний, она упоминала то ли Узбекистан, то ли Таджикистан. Её родителей туда сослали за один из проступков, за которые в то время могли отправить подальше с глаз, и именно по этой причине детство маленькой девочки проходило на краю империи, в жаркой земле, но со своей обстановкой и историей, которая оставила отпечаток в ней на всю жизнь.
Будучи ребёнком, бабушка увлекалась рисованием, которое быстро переросло в её талант, который, по-хорошему, ей надо было развивать. Видели бы вы её в тот момент, когда она перешла к части рассказа именно про рисунки и то, как именно она рисовала. Её глаза сразу раскрылись, наполнились жизнью и засияли. На меня в этом маленьком автобусе смотрела уже не старая женщина, прожившая не один десяток лет на этой земле, а та самая маленькая девочка, которая вот-вот могла сорваться, растолкать толпу угрюмых людей и умчаться за карандашами и кисточкой, чтобы начать рисовать. Её движения оживились, она начала активно жестикулировать, и со мной разговаривала в тот момент не она сама, а та девочка из прошлого, как бы призывая меня окунуться в то время, именно в тот этап её жизни, возможно, самый яркий этап за всю её историю. Я сидел и слушал прекрасную талантливую девочку, девочку с седыми волосами.
В своём ярком и оживлённом рассказе женщина говорила о том, как быстро ей давались новые техники в рисовании, как её картины начали замечать люди в пределах того небольшого городка, в котором они с родителями проживали. Но тут её история подошла к одному очень ключевому моменту, перед которым она буквально на пару секунд умолкла. Руки, изрезанные морщинами, отпечатками, которые в тот момент были единственным, что напоминало о том, что перед мной сидела не та маленькая девочка, а уже старый, проживший свою часть жизни человек, человек, который успел вырасти, завести семью, воспитать детей и внуков, а сейчас сидел в маленьком автобусе, медленно передвигающемся по улочкам Зеленограда, останавливаясь на остановках и подбирая всё больше людей, которым на самом деле и дела-то никакого нет до того, что рассказывает эта женщина. Спустя мгновение её взгляд снова поднялся на меня, и она начала говорить о том, что в один из дней в местном Доме культуры, небольшом здании, которое было во многих маленьких городах того времени, в котором проводились различные мероприятия, проходила выставка художеств, созданных жителями этого города и других поселений, которые находились в том же районе.
На такой выставке находились и её работы, которые были даже выделены отдельным стендом и тем самым привлекали внимание посетителей, которые спокойно передвигались и рассматривали работы. Среди таких посетителей оказалось и несколько мужчин – представителей местного населения, которые очень долго рассматривали картины девочки, не обратив внимание на то, что рядом с ними стояла именно она. Спустя какое-то время один из них начал говорить о том, что это отвратительные работы, потому что они написаны не представителем их народа, а какой-то русской девочкой. Наша героиня никогда до этого не слышала негатива, который мог быть основан исключительно на национальной ненависти, и это начало её пугать. Другие мужчины начали поддерживать слова своего товарища, и в конечном итоге они уже говорили не о картинах, а о том, как они недовольны тем, что сюда присылают жить чужих людей, что достижения этих людей выделяют на фоне народа – народа, который испокон веков проживает на этой земле.
Девочка стояла в тумане, она не знала, как ей реагировать, ей было страшно. Она никогда не думала, что будет ощущать себя виноватой не в каком-то проступке, не в преступлении, а только в том, что она – не такая, как они, в том, что она творит, и ей это нравится, что она создаёт прекрасное и хочет делиться этим с миром. Невозможно предположить, как бы сложилась её дальнейшая жизнь, но тот день, к великому сожалению, стал роковым. Именно тогда закончился её путь начинающего художника, обрушились детские мечты, и единственное, что ей хотелось на тот момент, это убежать и бежать, пока ноги не изотрутся в кровь, а рассудок не помутнеет, чтобы помочь забыть весь тот ужас и абсурд, который ей пришлось пережить.
Двери автобуса закрылись, он начал отъезжать, поднимая грязный дым с дороги, а я смотрел ему вслед. Вместе с тем автобусом уезжала и та бабушка, которая просто так поделилась со мной небольшой частью своей жизни, пригласила с собой в небольшое путешествие, которое вызвало огромное количество смешанных чувств. И даже сейчас, вспоминая тот день, я поражаюсь, насколько ярко в моей голове отпечаталось то, что она рассказала, то, что и по сей день заставляет задуматься. Я не знаю, что сейчас с этой женщиной, где она, но могу сказать с уверенностью только одно: её история живёт со мной, и я не позволю ей уйти в небытие, не рассказанной другим. Маленькая художница жила, живёт до сих пор и будет жить в моей голове, каждый раз напоминая о том, что вокруг нас могут быть простые люди с великими историями.
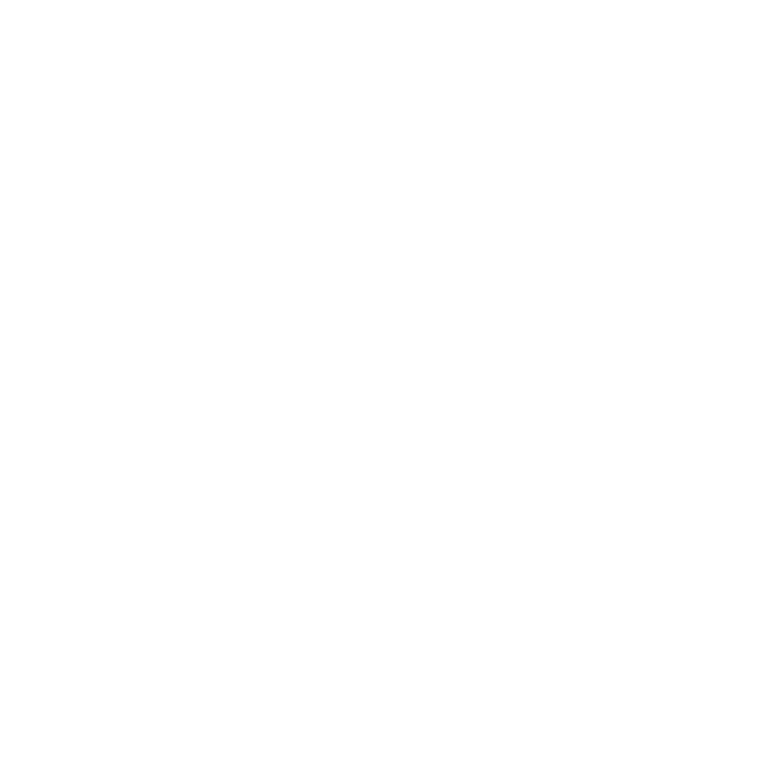
Любовь ФЕДОСЕЕВА
Родилась в Москве в 1977 году. Окончила Институт лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ, по образованию «лингвист». В 2024 году в альманахе «Линии» издательства «Новое слово» был впервые опубликован блок стихов на тему философии жизни. В своих произведениях поднимает вечные вопросы жизни и смерти, земного бытия, отношений и при помощи точных образов, вызывающих искренние эмоции у читателей, передаёт свой необычный взгляд на простые вещи. На данный момент имеет публикации в альманахах «Всё будет хорошо» и «Новое слово» издательства «Новое слово». Является номинантом национальной литературной премии «Поэт года» за 2024 год и номинантом литературной премии «Георгиевская лента».
Родилась в Москве в 1977 году. Окончила Институт лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ, по образованию «лингвист». В 2024 году в альманахе «Линии» издательства «Новое слово» был впервые опубликован блок стихов на тему философии жизни. В своих произведениях поднимает вечные вопросы жизни и смерти, земного бытия, отношений и при помощи точных образов, вызывающих искренние эмоции у читателей, передаёт свой необычный взгляд на простые вещи. На данный момент имеет публикации в альманахах «Всё будет хорошо» и «Новое слово» издательства «Новое слово». Является номинантом национальной литературной премии «Поэт года» за 2024 год и номинантом литературной премии «Георгиевская лента».
ЖЕНЬКА
Жара и яркое солнце втекало в комнату, лучами переливаясь в гранях стаканов и графина, стоящих на столе. Вместе с теплым воздухом в комнату проникали те самые звуки летнего пекла: шуршание высоких трав, стрекотание насекомых, крики птиц, эхо ударов топора и треск дерева.
На диване в летнем халате дремала молодая женщина. Её русые волосы разметались по подушке, а лоб блестел от пота.
– Лариса-а-а, – послышался мужской голос под окном.
Женщина перевернулась на спину, но глаза не открыла. Сон был глубокий, как один из тех в жару, когда по пробуждению голова кажется чугунным сосудом.
– Лариса-а-а-а,– настойчивее позвал голос.
В этот раз голос достиг цели, и женщина открыла глаза. Она встала с кровати и подошла к окну, по пути собирая в хвост распущенные волосы.
– Чего тебе? – выкрикнула она, скорее, машинально, ещё не до конца сообразив, кто её зовёт.
– Я… это… ну, поговорить пришёл, – ответил голос.
Женщина выглянула в окно; её взору предстал молодой человек. Был он высокий, чернобородый, одетый в резиновые тапки на носки и спортивный костюм.
– Не о чем нам с тобой разговаривать, – бросила зло Лариса, скрывшись из окна в просторы душной комнаты.
– Ларис, подожди! Я пить бросил! Вот уже две недели в завязке! – крикнул молодой человек вслед.
В ответ последовало молчание. Женщина сидела на диване, откинувшись на спинку и сложив руки на груди. По щекам её текли слёзы, но она давила в себе всхлипы, чтобы не выдать себя.
– Ларис, ну выйди, поговорим! – молодой человек не прекращал попытки добиться внимания.
– Занята я, уходи! – набрав полную грудь воздуха, выкрикнула женщина.
– Ларис, ты не серчай! Я тогда вечером зайду! – ответил голос с улицы.
За окном послышались удаляющиеся шаги. Женщина встала с дивана, налила из графина в стакан воды и стала жадно пить, сдерживая рвущийся изнутри плач. Поставив стакан, она нагрудной частью халата вытерла пот и слёзы, подтянув его вверх на лицо.
Молодой человек, недавно кричавший под окном, был её мужем. Жили они вместе пять лет, и в целом она считала свой брак вполне удачным. Ну как у всех, не без проблем. Жили не богато, но и не бедствовали. Женька, так звали её мужа, был рукастый, и в доме всё было прибито и подкручено. На работу ходил, деньги приносил, чего еще хотеть? Так все и говорили: «Женька у тебя молодец! Вон, и руки откуда надо, и деньги приносит, чего ты всё нос морщишь? Ну пьет, так у всех пьют. Вон, смотри, у Ленки тоже пьет, только и дом весь покосился. А у тебя он молодец, счастья своего не понимаешь». А она и правда не понимала: в чем счастье-то?
Женька пил и бил. По трезвому-то он спокойный был, пальцем не трогал, а как зальёт глаза и – всё. То ему ревность примерещиться, то суп недосолен; цеплялся, в общем. Вот и месяц назад опять подвыпил и изводил, пока на скандал не вывел, а там, как обычно, кулаком. На следующий день она и ушла – к мамке, обратно.
Жара к вечеру начала спадать. Лариса стояла на кухне, замешивая тесто. В памяти то и дело всплывали картинки прошлого: вот они познакомились, вот в ЗАГС заявление пошли подавать, потом и первые побои, и сломанный нос. Но и хорошего вспоминалось немало: как заболела, и Женька бульоном отпаивал; как на руках через грязную лужу переносил; и цветы в окне полевые – просто так утром, без повода. Она поймала себя на мысли, что ждёт его прихода: сказал же – вечером. Подумав об этом, Лариса сама на себя разозлилась.
Вечер близился к концу, и вдоль улиц потянулось стадо коров. Лариса вышла на улицу за калитку встретить мамкину корову, возвращавшуюся с пастбища. Пекло накалило воздух и землю. В отдалении были слышны раскаты грома, возвещавшие приближение грозы. На другом конце деревни послышались крики и лай собак. Лариса посмотрела в сторону, откуда они доносились, и увидела бегущую соседскую девчонку. Она махала руками в воздухе и кричала:
– Теть Ларис, теть Ларис, скорее!
– Чего случилось? – крикнула в ответ Лариса.
– Теть Ларис, дядь Женю бык бабки Веры на рог надел! Его председатель в больницу повез на своей машине!
Лариса осела возле забора, крик вырвался наружу, перекрывая раскаты грома, сверчков и мычание коров, возвращавшихся с пастбища домой…
На третий день Женьку хоронили. Поминки тянулись с полудня; поминали, как водится, всей деревней. В комнате стоял стол, вокруг – лавки, на тумбочке стояла фотография Женьки с траурной лентой, а рядом стоял стакан с водкой и черным хлебом. Народ заходил по очереди, садился, пил, не чокаясь, закусывал и негромко разговаривал. Через полчаса-час группа вставала и выходила, а её сменяла следующая.
Вспоминали Женьку хорошо, по-доброму: о мёртвых либо хорошо, либо никак. Мужики вспоминали праздники, рыбалку и баню, их жёны ставили Женьку в пример хозяйственностью, а бабки с дедами поминали уважительное отношение.
О Ларисе сначала просто шушукались, вспоминая, как она незадолго до случившегося ушла обратно к мамке. Потом сплетни стали обрастать подробностями.
– Да знаю я, почему Женька пил, – прошептала бабка Нина своей соседке бабке Нюре.
– Да ты шо, – вторила ей шёпотом бабка Нюра.
– Знамо дело: Лариска ему изменяла, – прошипела бабка Нина.
Сидящая радом с ней Татьяна, жена председателя, обернулась к говорившей.
– Полно тебе, бабка Нина: поминки! – попыталась пресечь дальнейшие разговоры.
Но бабка Нина уже почуяла разгорающийся к её версии интерес и села на свой конёк. Она стала с оживлением рассказывать, что видела несколько раз, как Ларису на своей машине домой подвозил муж другой соседки – Ленки. По возрасту Ленка была на десяток лет помладше бабок, дюже умная баба, как о ней говорили сплетницы. Работала Ленка бухгалтершей, а её муж Витька таксовал. Был он, конечно, мужик видный, но, несмотря на сплетни, повода усомниться в порядочности не давал.
– Так вот, затемно уже было, когда фары – нырк в щель занавесок. Я выглянула в окно-то, а там Лариска из Витькиной машины вылезает, – продолжала обрастать подробностями сплетня.
– Ой, да все видели, изводила она мужика-то, – сидевшая напротив тётка Тамара, так её кличали в деревне, присоединилась к обсуждению. – За что любил её, непонятно. Она ж сама его и спаивала, так на себе и женила.
Проходившая мимо Лариса услышала разговоры, которые уже переросли в открытое обсуждение в полный голос. Первым её желанием было высказать всё в лицо, пристыдить разошедшихся соседок, но она себя одёрнула. Не в чем ей было оправдываться, не было всего этого. Витька и правда подвозил несколько раз, но за небольшую плату, по-соседски. Один раз она с города поздно ехала, продукты покупала на стол, Женькин день рождения отмечали; второй в аптеку ездила, электричку отменили. И не женила она Женьку на себе, отказывала из-за того, что пил и скандалил.
Жаркий день и поминки выжали Ларису до предела: физическая усталость была настолько сильной, что горе от потери мужа перестало быть острым и растекалось головной болью и тошнотой. Желающие помянуть шли нескончаемой вереницей: некоторые уже и по второму, а то и по третьему разу присаживались на лавку с благочестивым видом. Разговоры уже были шумными, где-то уже затянули песню, и казалось, все уже забыли, по какому поводу собрание. К этому времени Женька уже чуть ли не был причислен к лику святых, а Ларису обвиняли во всех грехах: и приворожила, и изменяла, и спаивала, житья не давала, скандалы учиняла, а потом жаловалась на семейную жизнь.
…– Так вот он её и выгнал обратно к матери, – судачили бабки за столом, – а она в ночь – шасть: под дверь евойную, смотрю, мешочек закапывает. Так он на утро к ней, смотрю, пошёл! Она ему из окна водой заговорённой брызнула, он весь не свой шёл, спотыкался. А в дом зашёл и сразу из бутылки – в рот, ханку заливать. А вечером он к ней опять направился; подействовал заговор, видно, а тут – бык. На смерть, видно, заговор был, со свету сжила мужика. Теперь и дом свой будет, и полюбовничка есть, куда привести.
В этот момент терпению Ларисы пришёл конец.
Жара и яркое солнце втекало в комнату, лучами переливаясь в гранях стаканов и графина, стоящих на столе. Вместе с теплым воздухом в комнату проникали те самые звуки летнего пекла: шуршание высоких трав, стрекотание насекомых, крики птиц, эхо ударов топора и треск дерева.
На диване в летнем халате дремала молодая женщина. Её русые волосы разметались по подушке, а лоб блестел от пота.
– Лариса-а-а, – послышался мужской голос под окном.
Женщина перевернулась на спину, но глаза не открыла. Сон был глубокий, как один из тех в жару, когда по пробуждению голова кажется чугунным сосудом.
– Лариса-а-а-а,– настойчивее позвал голос.
В этот раз голос достиг цели, и женщина открыла глаза. Она встала с кровати и подошла к окну, по пути собирая в хвост распущенные волосы.
– Чего тебе? – выкрикнула она, скорее, машинально, ещё не до конца сообразив, кто её зовёт.
– Я… это… ну, поговорить пришёл, – ответил голос.
Женщина выглянула в окно; её взору предстал молодой человек. Был он высокий, чернобородый, одетый в резиновые тапки на носки и спортивный костюм.
– Не о чем нам с тобой разговаривать, – бросила зло Лариса, скрывшись из окна в просторы душной комнаты.
– Ларис, подожди! Я пить бросил! Вот уже две недели в завязке! – крикнул молодой человек вслед.
В ответ последовало молчание. Женщина сидела на диване, откинувшись на спинку и сложив руки на груди. По щекам её текли слёзы, но она давила в себе всхлипы, чтобы не выдать себя.
– Ларис, ну выйди, поговорим! – молодой человек не прекращал попытки добиться внимания.
– Занята я, уходи! – набрав полную грудь воздуха, выкрикнула женщина.
– Ларис, ты не серчай! Я тогда вечером зайду! – ответил голос с улицы.
За окном послышались удаляющиеся шаги. Женщина встала с дивана, налила из графина в стакан воды и стала жадно пить, сдерживая рвущийся изнутри плач. Поставив стакан, она нагрудной частью халата вытерла пот и слёзы, подтянув его вверх на лицо.
Молодой человек, недавно кричавший под окном, был её мужем. Жили они вместе пять лет, и в целом она считала свой брак вполне удачным. Ну как у всех, не без проблем. Жили не богато, но и не бедствовали. Женька, так звали её мужа, был рукастый, и в доме всё было прибито и подкручено. На работу ходил, деньги приносил, чего еще хотеть? Так все и говорили: «Женька у тебя молодец! Вон, и руки откуда надо, и деньги приносит, чего ты всё нос морщишь? Ну пьет, так у всех пьют. Вон, смотри, у Ленки тоже пьет, только и дом весь покосился. А у тебя он молодец, счастья своего не понимаешь». А она и правда не понимала: в чем счастье-то?
Женька пил и бил. По трезвому-то он спокойный был, пальцем не трогал, а как зальёт глаза и – всё. То ему ревность примерещиться, то суп недосолен; цеплялся, в общем. Вот и месяц назад опять подвыпил и изводил, пока на скандал не вывел, а там, как обычно, кулаком. На следующий день она и ушла – к мамке, обратно.
Жара к вечеру начала спадать. Лариса стояла на кухне, замешивая тесто. В памяти то и дело всплывали картинки прошлого: вот они познакомились, вот в ЗАГС заявление пошли подавать, потом и первые побои, и сломанный нос. Но и хорошего вспоминалось немало: как заболела, и Женька бульоном отпаивал; как на руках через грязную лужу переносил; и цветы в окне полевые – просто так утром, без повода. Она поймала себя на мысли, что ждёт его прихода: сказал же – вечером. Подумав об этом, Лариса сама на себя разозлилась.
Вечер близился к концу, и вдоль улиц потянулось стадо коров. Лариса вышла на улицу за калитку встретить мамкину корову, возвращавшуюся с пастбища. Пекло накалило воздух и землю. В отдалении были слышны раскаты грома, возвещавшие приближение грозы. На другом конце деревни послышались крики и лай собак. Лариса посмотрела в сторону, откуда они доносились, и увидела бегущую соседскую девчонку. Она махала руками в воздухе и кричала:
– Теть Ларис, теть Ларис, скорее!
– Чего случилось? – крикнула в ответ Лариса.
– Теть Ларис, дядь Женю бык бабки Веры на рог надел! Его председатель в больницу повез на своей машине!
Лариса осела возле забора, крик вырвался наружу, перекрывая раскаты грома, сверчков и мычание коров, возвращавшихся с пастбища домой…
На третий день Женьку хоронили. Поминки тянулись с полудня; поминали, как водится, всей деревней. В комнате стоял стол, вокруг – лавки, на тумбочке стояла фотография Женьки с траурной лентой, а рядом стоял стакан с водкой и черным хлебом. Народ заходил по очереди, садился, пил, не чокаясь, закусывал и негромко разговаривал. Через полчаса-час группа вставала и выходила, а её сменяла следующая.
Вспоминали Женьку хорошо, по-доброму: о мёртвых либо хорошо, либо никак. Мужики вспоминали праздники, рыбалку и баню, их жёны ставили Женьку в пример хозяйственностью, а бабки с дедами поминали уважительное отношение.
О Ларисе сначала просто шушукались, вспоминая, как она незадолго до случившегося ушла обратно к мамке. Потом сплетни стали обрастать подробностями.
– Да знаю я, почему Женька пил, – прошептала бабка Нина своей соседке бабке Нюре.
– Да ты шо, – вторила ей шёпотом бабка Нюра.
– Знамо дело: Лариска ему изменяла, – прошипела бабка Нина.
Сидящая радом с ней Татьяна, жена председателя, обернулась к говорившей.
– Полно тебе, бабка Нина: поминки! – попыталась пресечь дальнейшие разговоры.
Но бабка Нина уже почуяла разгорающийся к её версии интерес и села на свой конёк. Она стала с оживлением рассказывать, что видела несколько раз, как Ларису на своей машине домой подвозил муж другой соседки – Ленки. По возрасту Ленка была на десяток лет помладше бабок, дюже умная баба, как о ней говорили сплетницы. Работала Ленка бухгалтершей, а её муж Витька таксовал. Был он, конечно, мужик видный, но, несмотря на сплетни, повода усомниться в порядочности не давал.
– Так вот, затемно уже было, когда фары – нырк в щель занавесок. Я выглянула в окно-то, а там Лариска из Витькиной машины вылезает, – продолжала обрастать подробностями сплетня.
– Ой, да все видели, изводила она мужика-то, – сидевшая напротив тётка Тамара, так её кличали в деревне, присоединилась к обсуждению. – За что любил её, непонятно. Она ж сама его и спаивала, так на себе и женила.
Проходившая мимо Лариса услышала разговоры, которые уже переросли в открытое обсуждение в полный голос. Первым её желанием было высказать всё в лицо, пристыдить разошедшихся соседок, но она себя одёрнула. Не в чем ей было оправдываться, не было всего этого. Витька и правда подвозил несколько раз, но за небольшую плату, по-соседски. Один раз она с города поздно ехала, продукты покупала на стол, Женькин день рождения отмечали; второй в аптеку ездила, электричку отменили. И не женила она Женьку на себе, отказывала из-за того, что пил и скандалил.
Жаркий день и поминки выжали Ларису до предела: физическая усталость была настолько сильной, что горе от потери мужа перестало быть острым и растекалось головной болью и тошнотой. Желающие помянуть шли нескончаемой вереницей: некоторые уже и по второму, а то и по третьему разу присаживались на лавку с благочестивым видом. Разговоры уже были шумными, где-то уже затянули песню, и казалось, все уже забыли, по какому поводу собрание. К этому времени Женька уже чуть ли не был причислен к лику святых, а Ларису обвиняли во всех грехах: и приворожила, и изменяла, и спаивала, житья не давала, скандалы учиняла, а потом жаловалась на семейную жизнь.
…– Так вот он её и выгнал обратно к матери, – судачили бабки за столом, – а она в ночь – шасть: под дверь евойную, смотрю, мешочек закапывает. Так он на утро к ней, смотрю, пошёл! Она ему из окна водой заговорённой брызнула, он весь не свой шёл, спотыкался. А в дом зашёл и сразу из бутылки – в рот, ханку заливать. А вечером он к ней опять направился; подействовал заговор, видно, а тут – бык. На смерть, видно, заговор был, со свету сжила мужика. Теперь и дом свой будет, и полюбовничка есть, куда привести.
В этот момент терпению Ларисы пришёл конец.
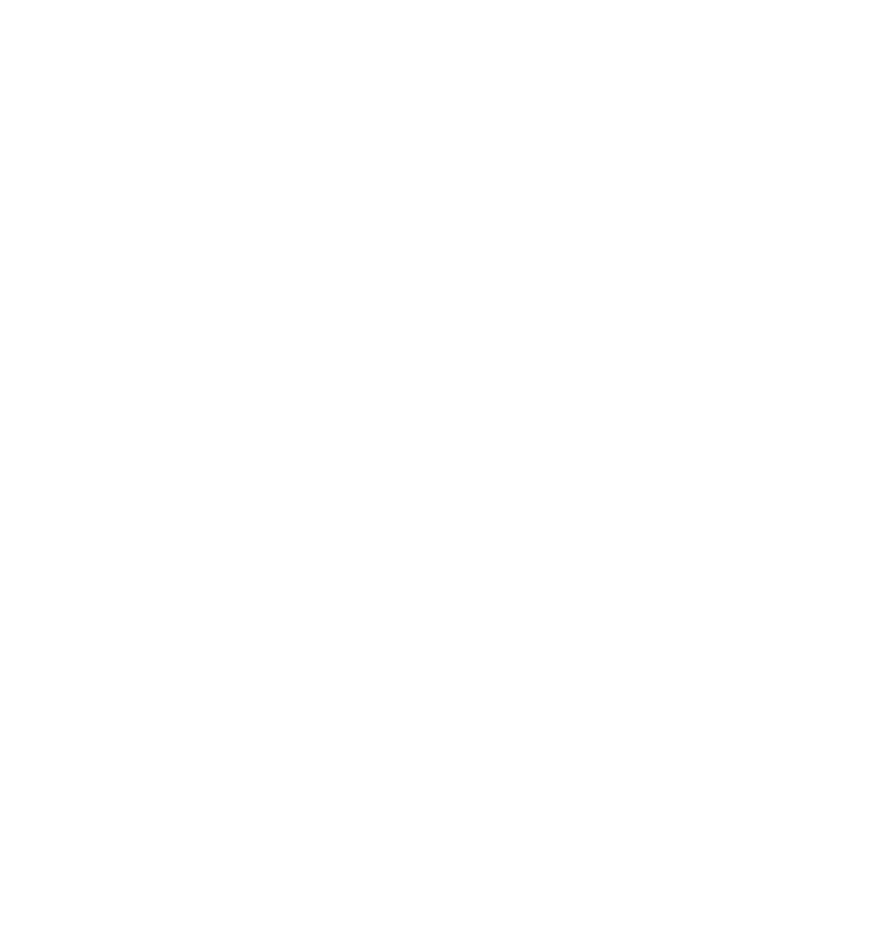
Маир МАХАЕВ
Родился в 1987 году в Октябрьском районе ЧИАССР (РСФСР) в семье томского предпринимателя Махаева Руслана Якубовича. Тридцать лет прожил в Томской области, а в 2018 году переехал в Ингушетию. В 2010 году окончил филфак Томского государственного университета (отделение журналистики), а в 2016 г. – аспирантуру философского факультета Томского государственного университета. С детства увлекался художественной литературой, писал сказки и рассказы, подражал Л. Толстому, А. Крылову, А. Пушкину. В различных региональных и федеральных газетах и журналах публиковал репортажи, новостные заметки, памфлеты, фельетоны, очерки, эссе. Печатался в газетах «Красное знамя» (Томск), «Литературная Россия» (Москва), «Вечерний Томск», «Томские Ведомости». Член Союза журналистов России с 2005 года. Доктор философии (с 2023 года). Рассказ «Доигрались» является дебютом в художественной литературе.
Для писем – super-mahaev@yandex.ru
Родился в 1987 году в Октябрьском районе ЧИАССР (РСФСР) в семье томского предпринимателя Махаева Руслана Якубовича. Тридцать лет прожил в Томской области, а в 2018 году переехал в Ингушетию. В 2010 году окончил филфак Томского государственного университета (отделение журналистики), а в 2016 г. – аспирантуру философского факультета Томского государственного университета. С детства увлекался художественной литературой, писал сказки и рассказы, подражал Л. Толстому, А. Крылову, А. Пушкину. В различных региональных и федеральных газетах и журналах публиковал репортажи, новостные заметки, памфлеты, фельетоны, очерки, эссе. Печатался в газетах «Красное знамя» (Томск), «Литературная Россия» (Москва), «Вечерний Томск», «Томские Ведомости». Член Союза журналистов России с 2005 года. Доктор философии (с 2023 года). Рассказ «Доигрались» является дебютом в художественной литературе.
Для писем – super-mahaev@yandex.ru
ДОИГРАЛИСЬ
Юмористический рассказ
Выпускница театрального училища Прасковья Фёдорова, белокурая высокая девушка со впалыми щеками и причёской «под горшок», долго искала работу актрисы.
Однажды в её родном городе К* открыли частный театр. Он располагался в большом бревенчатом здании с зелёной крышей и маленькими балконами. На её фасаде вчера вывесили афиши спектаклей «Недоросль» и «Гроза» по пьесам Фонвизина и Островского. Прасковья мечтательно разглядывала их, воображая себя то в роли госпожи Простаковой, то в роли Кабанихи. Она загорелась желанием стать актрисой этого театра и была уверена, что у нее получится.
В один из летних вечеров Фёдорова встретила у входной двери театра главного режиссёра – тучного и низенького мужчину с лысиной на макушке, лет пятидесяти, по фамилии Шахов. Прасковья сказала, что хотела бы работать в этом театре актрисой.
Шахов со страстным любопытством оглянул Федорову (она была обута в розовые кеды на босу ногу и одета в чёрное обтягивающее платье чуть ниже колен) и произнёс:
– Ну, покажите, что умеете. Идите за мной.
Прасковья с радостным лицом направилась вслед за Шаховым. Режиссёр предложил ей сыграть любую сцену из «Недоросля» и дал нужный реквизит.
И вот на небольшой сцене появляется худощавая фигура Фёдоровой. Она в парике; садится на стул и начинает пристально осматривать перчатку, надетую на правую руку. В зрительном зале в одиночестве сидит Шахов, подперев подбородок пальцами правой руки.
– Перчатка вся испорчена... Еремеевна! Еремеевна!.. Веди сюда этого негодяя Тришку… Опять всё испортил, болван! Вы только гляньте, а! Эта воровская харя только вредить умеет. Больше ни на что не способен… Еремеевна!.. Куда тебя черти унесли?!
Снимает перчатку, кидает её на пол, вскакивает и бежит за сцену… Секунд тридцать спустя возвращается в сарафане и платке. Стоя перед стулом, произносит:
– Матушка, помилуй, Тришка в пивной паб ушёл с утра. Ещё и Митрофанушку с собой взял, греховодник такой.
Сбрасывает с себя платок, снимает сарафан, садится на стул, надевает перчатку.
– Ты помнишь, Еремеевна, как этот скот кафтан испоганил Митрофанушке? Глянь! Перчатку мою тоже испортить успел этот балбес. Как он в этот раз будет оправдываться? Опять скажет, что надо было портному отдавать? Самоучка, понимаете ли!
Вскакивает, кладёт перчатку на стул, надевает платок и сарафан – теперь она снова в роли Еремеевны:
– Страшное дело, говорю, матушка: в паб увёл Митрофанушку этот Тришка. Спаси, Бог! Помилуй души грешные.
В роли госпожи Простаковой:
– Что ты говоришь, недотёпа старая! Маменькин сыночек ещё молод, пусть резвится! Но неужели, бестия, не видишь ты, откуда беда пришла?
Показывает перчатку.
– Неужели ослепла совсем?.. Ай! – махнув рукой. – Не твоя перчатка, тебе и всё равно.
В роли Еремеевны:
– Ох, горе мне! Как же надо служить, чтобы довольны вы были, матушка, даже не знаю, – плачет и опускается на колени. – Спаси и помилуй, Создатель наш!
В роли госпожи Простаковой (топнув ногой):
– Ведьма ты старая, пойди Тришку лучше сюда притащи!.. Слышишь?.. – очень громко. – Тришку сюда, говорю! А я пойду за ремнём. Пороть буду этого оболтуса! Может, тогда нормально шить начнёт.
В роли Еремеевны (глядя в зал):
– Пятьдесят лет служу, а милость… – вздыхая, – милость всё та же!
Тишина. Федорова снимает платок, встаёт, раскланивается и произносит:
– Вот и сказке конец... У меня на этом – всё.
Шахов сидел, сложив руки на груди. Затем он стал медленно хлопать в ладоши.
– Неплохо… очень даже неплохо. Сценарий сами сочинили?
– Конечно, сударь. Называется «Недоросль-2: десять лет спустя», – ответила Фёдорова, снимая парик.
– Интересно, интересно… С удовольствием посмотрел бы, как Простакова лупит этого мерзавца Тришку, – сказал Шахов, а затем закричал громким голосом. – Ремнём его! Ремнём пороть этого мошенника!
Прасковья улыбнулась.
– Но не в этом суть моего сочинения, сударь.
– М-м-м, даже так? Ну, расскажите, в чём же тогда суть? – спросил Шахов после того, как слегка зевнул.
Фёдорова села на стул, закинула ногу на ногу и пустилась рассуждать.
– Смотрите, Простакова переживает из-за какой-то дырки в перчатке. Видите, Простакова – одномерный человек, она думает только о вещах. Она – невежда без души и без веры. То, что Митрофанушка загулял, запил, её не волнует. Хотя это грешное дело, и она как мать должна волноваться об этом. Тришка тоже негодяй ещё тот – ушел в запой и Митрофанушку затянул в это грешное дело. Тришку, честно говоря, я ненавижу больше всего…
Прасковья говорила увлеченно, а Шахов в это время жадно разглядывал всю её фигуру. Похоже, что его совершенно не занимали мысли о грехопадении Тришки и бездушии Простаковой. Внимание его было приковано к вещам вполне осязаемым.
Федорова умолкла, скрестила руки на груди и так пристально посмотрела на Шахова, будто заподозрила его в дурном замысле.
– Эх… талантливый вы человек, Прасковья, чрезвычайно талантливый! – промолвил уставшим голосом Шахов. – У Фонвизина Еремеевна сорок лет служила, а у вас она уже пятидесятый год служит. А Тришка, видать, за эти десять лет так настрадался от Простаковой, что ушёл в запой. Шить нормально он так и не научился. Бездарем родился, бездарем и помрёт. Что ж, фантазия горячо работает у вас, Прасковья. Вам бы в писатели податься. Не думали об этом?
– Зачем мне думать об этом? Я актрисой хочу стать. Так что, берёте меня на работу или нет? – спросила Фёдорова раздражённым голосом.
Шахов молча сидел и улыбался. Он лениво вздохнул, затем скрестил руки и произнёс:
– Прасковья, а вы не могли бы сыграть ещё одну сценочку?
– Могу, конечно.
– Значит, представим, что госпожа Простакова… как бы это сказать… решила раздеться… Э-э-э… ну, как сказать…Э-э-э, она решила полностью раздеться и встретить в таком виде Тришку… Ну, чтобы удивить его.
Когда Шахов замолчал, на его щеках начали выступать красные пятна, а на лбу заблестели первые капельки пота. У Фёдоровой покраснели не только щёки, но и лоб, и уши, и даже её худенькая шея. Она всё так же, скрестив руки, неподвижно смотрела на него и думала: «Какой же ты мерзкий нахал, Шахов… Думаешь, я такая легкомысленная дурочка? Поиграться со мной решил, да?»
– Простите, Прасковья, мне кажется, вы снова погрузились в образ Простаковой, – прервал тишину Шахов. – Вы явно нервничаете, как Простакова… Расслабьтесь вы уже.
Шахов вытер лоб платком и тихо засмеялся.
– Кажется, вы правы, сударь. Образ Простаковой снова овладел мной и не отпускает, – произнесла Фёдорова голосом Простаковой, а сама подумала: «Ну, и гадёныш же ты, Шахов. Вместо того, чтобы извиниться, решил поиздеваться? Говори ты уже, демон: берёшь меня на работу или нет?»
– Знаете, в вашей пьесе мне больше всех понравилась Еремеевна, – сказал Шахов, глядя в сторону. – Какой же она порядочный человек. Особенно вот эти слова понравились: «Пятьдесят лет служу, а милость … милость всё та же».
– Причём тут теперь Еремеевна, господин Шахов? Я вас спрашивала о другом.
– М-м-м… Уже господин? Интересно, интересно… Я хотел сказать, что Еремеевна никогда не вызывала у меня никакого интереса, хотя «Недоросля» я ставил раз десять. А вот в вашей версии «Недоросля» Еремеевна очень хороша собой. Настоящая пышка! – воскликнул Шахов, едва сдерживаясь от смеха и оглядывая Фёдорову. – А какая у неё фигурка была, а какие глазки. Ай да Еремеевна, ай да красавица! Да хватит уже злиться, Прасковья. Я не хотел вас задеть!.. Ну, ладно, ладно. Будем подводить итоги?
Шахов развёл руки в стороны и, помолчав секунд десять, сказал:
– Вы очень талантливый человек, Прасковья, но… я не могу вас взять на работу… Честно говорю: у нас нет вакансий.
«Поиздевался надо мной, истрепал все мои нервы, а теперь отказывает в работе», – думала Прасковья, всё так же глядя в упор на Шахова. Тот продолжал оправдывающимся тоном:
– Не обижайтесь, Прасковья. Я правду говорю: у вас космический талант. Все еще впереди. Зал не даст соврать.
Шахов встал, повернулся к… пустому залу, начала аплодировать, крича «бис! бис!», затем фыркнул со смеху и присел.
«Оказывается, ты ещё и извращенец, Шахов. Талантливый такой извращенец», – продолжала думать Федорова.
– Господин Шахов, вы, кажется, хотели продолжения? – спросила Фёдорова.
Шахов ответил не сразу:
– Э, продолжение, говорите? Я, конечно, так сказать, не сомневаюсь в вашей гениальности... Я бы не отказался от продолжения…
Шахов говорил с волнением, даже слюну с усилием проглотил. Вероятно, он надеялся, что госпожа Простакова всё-таки обнажится.
– Давайте я покажу вам, как Простакова лупит Тришку? И давайте вы Тришкой побудете?
– Т-три... Тришкой? Я? Вы знаете, мне кажется, я не смогу сыграть Тришку. Не моя эта роль, – ответил Шахов, глянув на наручные часы. – В общем…
– Подождите, господин Шахов. Давайте сделаем такой сюжет. Тришка, будучи пьяным, проглотил язык и не может говорить. Простакова начнёт лупить его, а потом… – тут Фёдорова сбавила голос, – между ними запылает любовь, и она разденется.
Шахов заметно воодушевился, на его толстых губах вдруг заплясала улыбка, а маленькие глазки стали безудержно бегать по фигуре Фёдоровой.
Прасковья попросила его снять с себя ремень и отдать ей. Шахов чуть призадумался, но тотчас же снял ремень, поднялся на сцену и отдал.
Итак, Прасковья надевает парик, натягивает перчатку на правую руку, садится на стул.
– Тришка! Поди-ка сюда, – она поманила Шахова пальцем. Тот немного засмущался, затем оглянулся и медленным шагом, держа руки в карманах брюк и слегка пританцовывая, подошёл к Фёдоровой.
Прасковья встала и с ремнём начала ходить вокруг Шахова. Глаза режиссёра продолжали иметь возбуждённое выражение.
– Смотри, скотская харя, что ты наделал, – показывает перчатку. – Что скажешь теперь, балбес?
Шахов пожал плечами.
– Опять будешь говорить, что надо было портному отдавать?.. Бездарем родился, бездарем и помрёшь! Та-а-к ... погоди, погоди, скот, я научу тебя портному делу, – легонько бьёт Шахова по плечу, тот попятился назад. – Ты зачем прогневал госпожу свою, болван?
Опять бьёт по плечу, только в этот раз бьёт сильнее. Шахов, все еще улыбаясь, пятится назад.
– Говори, скотская харя! – бьёт еще сильнее. – Знаешь, как долго терпела я твои выходки, чревоугодник ты старый?
Ещё один хлёсткий удар – прямо по руке.
Улыбка начала съезжать с лица Шахова, и он весь заволновался.
– Что ж, дорогая Прасковья, я думаю, нам пора переходить ко второй части нашего спектакля? Простакова должна признаться Тришке в любви.
– Какая я тебе Прасковья? Вы только гляньте на этого негодяя! Совсем зазнался!
Картина всё та же: Шахов пятится назад, Фёдорова с ремнем медленно двигается в его сторону.
– Я – твоя госпожа Простакова! – начинает изо всех сил бить Шахова ремнём.
– В-вы что... что.. что вы себе позволяете?.. Да вы с ума сошли! – начал кричать Шахов, отчаянно отбиваясь руками.
На сцене появился высокий пожилой человек с усами – это был охранник театра.
– Прошу прощения, у вас репетиция? – спросил он, недоумённо поглядывая то на Фёдорову, то на Шахова.
– Скотинин, не мешай! – выкрикнула Фёдорова.
– Да какая репетиция? Тут женщина с ума сошла! Выведите её отсюда! – бушевал Шахов, спешно удаляясь со сцены.
Прасковья побежала за ним и продолжила бить его ремнём в коридоре, крича: «Скотская харя! Скотская харя!»
– Выведите эту дурёху отсюда!
– Ты у меня попляшешь, дурень!
– Пошла вон!
– Сюда иди, Тришка!
– Сама ты Тришка!
Вот на такой трагикомической ноте и закончилась их встреча. Доигрались, как говорится. Шахов потом угрожал подать на Фёдорову в суд за оскорбление. Прасковья в ответ пригрозила заявлением о домогательстве. Решили разойтись миром.
Ну а дорогая наша Прасковья продолжила искать работу актрисы. Говорят, что в соседнем городе открыли новый театр. Пожелаем удачи.
P.S. А, может, и вправду ей лучше в писатели податься?..
Юмористический рассказ
Выпускница театрального училища Прасковья Фёдорова, белокурая высокая девушка со впалыми щеками и причёской «под горшок», долго искала работу актрисы.
Однажды в её родном городе К* открыли частный театр. Он располагался в большом бревенчатом здании с зелёной крышей и маленькими балконами. На её фасаде вчера вывесили афиши спектаклей «Недоросль» и «Гроза» по пьесам Фонвизина и Островского. Прасковья мечтательно разглядывала их, воображая себя то в роли госпожи Простаковой, то в роли Кабанихи. Она загорелась желанием стать актрисой этого театра и была уверена, что у нее получится.
В один из летних вечеров Фёдорова встретила у входной двери театра главного режиссёра – тучного и низенького мужчину с лысиной на макушке, лет пятидесяти, по фамилии Шахов. Прасковья сказала, что хотела бы работать в этом театре актрисой.
Шахов со страстным любопытством оглянул Федорову (она была обута в розовые кеды на босу ногу и одета в чёрное обтягивающее платье чуть ниже колен) и произнёс:
– Ну, покажите, что умеете. Идите за мной.
Прасковья с радостным лицом направилась вслед за Шаховым. Режиссёр предложил ей сыграть любую сцену из «Недоросля» и дал нужный реквизит.
И вот на небольшой сцене появляется худощавая фигура Фёдоровой. Она в парике; садится на стул и начинает пристально осматривать перчатку, надетую на правую руку. В зрительном зале в одиночестве сидит Шахов, подперев подбородок пальцами правой руки.
– Перчатка вся испорчена... Еремеевна! Еремеевна!.. Веди сюда этого негодяя Тришку… Опять всё испортил, болван! Вы только гляньте, а! Эта воровская харя только вредить умеет. Больше ни на что не способен… Еремеевна!.. Куда тебя черти унесли?!
Снимает перчатку, кидает её на пол, вскакивает и бежит за сцену… Секунд тридцать спустя возвращается в сарафане и платке. Стоя перед стулом, произносит:
– Матушка, помилуй, Тришка в пивной паб ушёл с утра. Ещё и Митрофанушку с собой взял, греховодник такой.
Сбрасывает с себя платок, снимает сарафан, садится на стул, надевает перчатку.
– Ты помнишь, Еремеевна, как этот скот кафтан испоганил Митрофанушке? Глянь! Перчатку мою тоже испортить успел этот балбес. Как он в этот раз будет оправдываться? Опять скажет, что надо было портному отдавать? Самоучка, понимаете ли!
Вскакивает, кладёт перчатку на стул, надевает платок и сарафан – теперь она снова в роли Еремеевны:
– Страшное дело, говорю, матушка: в паб увёл Митрофанушку этот Тришка. Спаси, Бог! Помилуй души грешные.
В роли госпожи Простаковой:
– Что ты говоришь, недотёпа старая! Маменькин сыночек ещё молод, пусть резвится! Но неужели, бестия, не видишь ты, откуда беда пришла?
Показывает перчатку.
– Неужели ослепла совсем?.. Ай! – махнув рукой. – Не твоя перчатка, тебе и всё равно.
В роли Еремеевны:
– Ох, горе мне! Как же надо служить, чтобы довольны вы были, матушка, даже не знаю, – плачет и опускается на колени. – Спаси и помилуй, Создатель наш!
В роли госпожи Простаковой (топнув ногой):
– Ведьма ты старая, пойди Тришку лучше сюда притащи!.. Слышишь?.. – очень громко. – Тришку сюда, говорю! А я пойду за ремнём. Пороть буду этого оболтуса! Может, тогда нормально шить начнёт.
В роли Еремеевны (глядя в зал):
– Пятьдесят лет служу, а милость… – вздыхая, – милость всё та же!
Тишина. Федорова снимает платок, встаёт, раскланивается и произносит:
– Вот и сказке конец... У меня на этом – всё.
Шахов сидел, сложив руки на груди. Затем он стал медленно хлопать в ладоши.
– Неплохо… очень даже неплохо. Сценарий сами сочинили?
– Конечно, сударь. Называется «Недоросль-2: десять лет спустя», – ответила Фёдорова, снимая парик.
– Интересно, интересно… С удовольствием посмотрел бы, как Простакова лупит этого мерзавца Тришку, – сказал Шахов, а затем закричал громким голосом. – Ремнём его! Ремнём пороть этого мошенника!
Прасковья улыбнулась.
– Но не в этом суть моего сочинения, сударь.
– М-м-м, даже так? Ну, расскажите, в чём же тогда суть? – спросил Шахов после того, как слегка зевнул.
Фёдорова села на стул, закинула ногу на ногу и пустилась рассуждать.
– Смотрите, Простакова переживает из-за какой-то дырки в перчатке. Видите, Простакова – одномерный человек, она думает только о вещах. Она – невежда без души и без веры. То, что Митрофанушка загулял, запил, её не волнует. Хотя это грешное дело, и она как мать должна волноваться об этом. Тришка тоже негодяй ещё тот – ушел в запой и Митрофанушку затянул в это грешное дело. Тришку, честно говоря, я ненавижу больше всего…
Прасковья говорила увлеченно, а Шахов в это время жадно разглядывал всю её фигуру. Похоже, что его совершенно не занимали мысли о грехопадении Тришки и бездушии Простаковой. Внимание его было приковано к вещам вполне осязаемым.
Федорова умолкла, скрестила руки на груди и так пристально посмотрела на Шахова, будто заподозрила его в дурном замысле.
– Эх… талантливый вы человек, Прасковья, чрезвычайно талантливый! – промолвил уставшим голосом Шахов. – У Фонвизина Еремеевна сорок лет служила, а у вас она уже пятидесятый год служит. А Тришка, видать, за эти десять лет так настрадался от Простаковой, что ушёл в запой. Шить нормально он так и не научился. Бездарем родился, бездарем и помрёт. Что ж, фантазия горячо работает у вас, Прасковья. Вам бы в писатели податься. Не думали об этом?
– Зачем мне думать об этом? Я актрисой хочу стать. Так что, берёте меня на работу или нет? – спросила Фёдорова раздражённым голосом.
Шахов молча сидел и улыбался. Он лениво вздохнул, затем скрестил руки и произнёс:
– Прасковья, а вы не могли бы сыграть ещё одну сценочку?
– Могу, конечно.
– Значит, представим, что госпожа Простакова… как бы это сказать… решила раздеться… Э-э-э… ну, как сказать…Э-э-э, она решила полностью раздеться и встретить в таком виде Тришку… Ну, чтобы удивить его.
Когда Шахов замолчал, на его щеках начали выступать красные пятна, а на лбу заблестели первые капельки пота. У Фёдоровой покраснели не только щёки, но и лоб, и уши, и даже её худенькая шея. Она всё так же, скрестив руки, неподвижно смотрела на него и думала: «Какой же ты мерзкий нахал, Шахов… Думаешь, я такая легкомысленная дурочка? Поиграться со мной решил, да?»
– Простите, Прасковья, мне кажется, вы снова погрузились в образ Простаковой, – прервал тишину Шахов. – Вы явно нервничаете, как Простакова… Расслабьтесь вы уже.
Шахов вытер лоб платком и тихо засмеялся.
– Кажется, вы правы, сударь. Образ Простаковой снова овладел мной и не отпускает, – произнесла Фёдорова голосом Простаковой, а сама подумала: «Ну, и гадёныш же ты, Шахов. Вместо того, чтобы извиниться, решил поиздеваться? Говори ты уже, демон: берёшь меня на работу или нет?»
– Знаете, в вашей пьесе мне больше всех понравилась Еремеевна, – сказал Шахов, глядя в сторону. – Какой же она порядочный человек. Особенно вот эти слова понравились: «Пятьдесят лет служу, а милость … милость всё та же».
– Причём тут теперь Еремеевна, господин Шахов? Я вас спрашивала о другом.
– М-м-м… Уже господин? Интересно, интересно… Я хотел сказать, что Еремеевна никогда не вызывала у меня никакого интереса, хотя «Недоросля» я ставил раз десять. А вот в вашей версии «Недоросля» Еремеевна очень хороша собой. Настоящая пышка! – воскликнул Шахов, едва сдерживаясь от смеха и оглядывая Фёдорову. – А какая у неё фигурка была, а какие глазки. Ай да Еремеевна, ай да красавица! Да хватит уже злиться, Прасковья. Я не хотел вас задеть!.. Ну, ладно, ладно. Будем подводить итоги?
Шахов развёл руки в стороны и, помолчав секунд десять, сказал:
– Вы очень талантливый человек, Прасковья, но… я не могу вас взять на работу… Честно говорю: у нас нет вакансий.
«Поиздевался надо мной, истрепал все мои нервы, а теперь отказывает в работе», – думала Прасковья, всё так же глядя в упор на Шахова. Тот продолжал оправдывающимся тоном:
– Не обижайтесь, Прасковья. Я правду говорю: у вас космический талант. Все еще впереди. Зал не даст соврать.
Шахов встал, повернулся к… пустому залу, начала аплодировать, крича «бис! бис!», затем фыркнул со смеху и присел.
«Оказывается, ты ещё и извращенец, Шахов. Талантливый такой извращенец», – продолжала думать Федорова.
– Господин Шахов, вы, кажется, хотели продолжения? – спросила Фёдорова.
Шахов ответил не сразу:
– Э, продолжение, говорите? Я, конечно, так сказать, не сомневаюсь в вашей гениальности... Я бы не отказался от продолжения…
Шахов говорил с волнением, даже слюну с усилием проглотил. Вероятно, он надеялся, что госпожа Простакова всё-таки обнажится.
– Давайте я покажу вам, как Простакова лупит Тришку? И давайте вы Тришкой побудете?
– Т-три... Тришкой? Я? Вы знаете, мне кажется, я не смогу сыграть Тришку. Не моя эта роль, – ответил Шахов, глянув на наручные часы. – В общем…
– Подождите, господин Шахов. Давайте сделаем такой сюжет. Тришка, будучи пьяным, проглотил язык и не может говорить. Простакова начнёт лупить его, а потом… – тут Фёдорова сбавила голос, – между ними запылает любовь, и она разденется.
Шахов заметно воодушевился, на его толстых губах вдруг заплясала улыбка, а маленькие глазки стали безудержно бегать по фигуре Фёдоровой.
Прасковья попросила его снять с себя ремень и отдать ей. Шахов чуть призадумался, но тотчас же снял ремень, поднялся на сцену и отдал.
Итак, Прасковья надевает парик, натягивает перчатку на правую руку, садится на стул.
– Тришка! Поди-ка сюда, – она поманила Шахова пальцем. Тот немного засмущался, затем оглянулся и медленным шагом, держа руки в карманах брюк и слегка пританцовывая, подошёл к Фёдоровой.
Прасковья встала и с ремнём начала ходить вокруг Шахова. Глаза режиссёра продолжали иметь возбуждённое выражение.
– Смотри, скотская харя, что ты наделал, – показывает перчатку. – Что скажешь теперь, балбес?
Шахов пожал плечами.
– Опять будешь говорить, что надо было портному отдавать?.. Бездарем родился, бездарем и помрёшь! Та-а-к ... погоди, погоди, скот, я научу тебя портному делу, – легонько бьёт Шахова по плечу, тот попятился назад. – Ты зачем прогневал госпожу свою, болван?
Опять бьёт по плечу, только в этот раз бьёт сильнее. Шахов, все еще улыбаясь, пятится назад.
– Говори, скотская харя! – бьёт еще сильнее. – Знаешь, как долго терпела я твои выходки, чревоугодник ты старый?
Ещё один хлёсткий удар – прямо по руке.
Улыбка начала съезжать с лица Шахова, и он весь заволновался.
– Что ж, дорогая Прасковья, я думаю, нам пора переходить ко второй части нашего спектакля? Простакова должна признаться Тришке в любви.
– Какая я тебе Прасковья? Вы только гляньте на этого негодяя! Совсем зазнался!
Картина всё та же: Шахов пятится назад, Фёдорова с ремнем медленно двигается в его сторону.
– Я – твоя госпожа Простакова! – начинает изо всех сил бить Шахова ремнём.
– В-вы что... что.. что вы себе позволяете?.. Да вы с ума сошли! – начал кричать Шахов, отчаянно отбиваясь руками.
На сцене появился высокий пожилой человек с усами – это был охранник театра.
– Прошу прощения, у вас репетиция? – спросил он, недоумённо поглядывая то на Фёдорову, то на Шахова.
– Скотинин, не мешай! – выкрикнула Фёдорова.
– Да какая репетиция? Тут женщина с ума сошла! Выведите её отсюда! – бушевал Шахов, спешно удаляясь со сцены.
Прасковья побежала за ним и продолжила бить его ремнём в коридоре, крича: «Скотская харя! Скотская харя!»
– Выведите эту дурёху отсюда!
– Ты у меня попляшешь, дурень!
– Пошла вон!
– Сюда иди, Тришка!
– Сама ты Тришка!
Вот на такой трагикомической ноте и закончилась их встреча. Доигрались, как говорится. Шахов потом угрожал подать на Фёдорову в суд за оскорбление. Прасковья в ответ пригрозила заявлением о домогательстве. Решили разойтись миром.
Ну а дорогая наша Прасковья продолжила искать работу актрисы. Говорят, что в соседнем городе открыли новый театр. Пожелаем удачи.
P.S. А, может, и вправду ей лучше в писатели податься?..
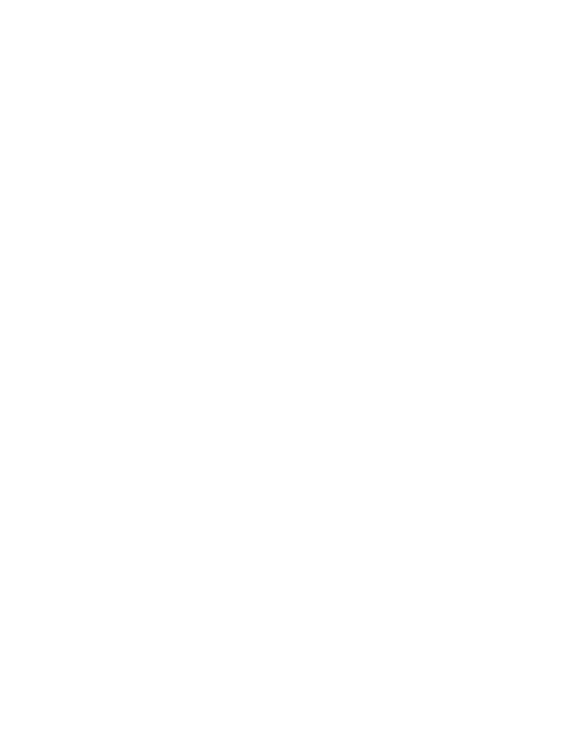
Евгений ПОНОМАРЕВ
Родился в 1982 году в небольшом поселке на полуострове Ямал в районе Крайнего Севера. В возрасте шести лет переехал с родителями в деревню Кулига Алапаевского района Свердловской области. Все детство автора прошло в окружении уникальной уральской природы, что несомненно отразилось на его творчестве. После окончания школы автор учился в Уральской государственной юридической академии. В настоящее время живет в городе Екатеринбург и работает по специальности. Уже в зрелом возрасте увлекся живописью, а позднее иконописью. Начал писать рассказы, некоторые из них были опубликованы в журналах «Север», «Смена», в альманахе национальной литературной премии «Писатель года» 2024 года, финалистом которой он стал. В творчестве автора присутствует трогательное отношение к природе и животным, описаны взаимоотношения между людьми, жизнь и быт сельского труженика, детские впечатления от познания окружающего мира.
Родился в 1982 году в небольшом поселке на полуострове Ямал в районе Крайнего Севера. В возрасте шести лет переехал с родителями в деревню Кулига Алапаевского района Свердловской области. Все детство автора прошло в окружении уникальной уральской природы, что несомненно отразилось на его творчестве. После окончания школы автор учился в Уральской государственной юридической академии. В настоящее время живет в городе Екатеринбург и работает по специальности. Уже в зрелом возрасте увлекся живописью, а позднее иконописью. Начал писать рассказы, некоторые из них были опубликованы в журналах «Север», «Смена», в альманахе национальной литературной премии «Писатель года» 2024 года, финалистом которой он стал. В творчестве автора присутствует трогательное отношение к природе и животным, описаны взаимоотношения между людьми, жизнь и быт сельского труженика, детские впечатления от познания окружающего мира.
АФОНЬКА-ЮМОРИСТ
Давным-давно это было. Отгремела гражданская война, и вернулся в нашу деревню к мирной жизни мужичок один. Вернулся, да не весь. Вместо правой ноги у него деревянный протез появился. Звали его Афонькой. Уже больше ста лет прошло, а Афоньку в деревне помнят. Старики, вспоминая его, всегда смеются. Молодые, услышав от стариков эти истории, тоже начинают зубоскалить. А смеяться есть над чем. Уж больно юморил наш Афонька. Вот какой случай приключился с ним однажды.
В начале НЭПа продразвёрстку заменили на продналог. В это самое время за сбором продналога райкомпрод в нашу деревню прислал нового продовольственного комиссара. Комиссар этот оказался груб, мог и по матушке пройтись, а иной раз и зуботычиной не понравившегося ему по какой-то причине наградить.
– Боров-то этот нажрал бока на нашем хлебе, да ещё и нас же попрекает, – жаловались в деревне на нового комиссара.
– Опять всё до последнего зернышка выгребет, – досадовали другие.
– Ох, и тяжело же крестьянину русскому живется, – печалились третьи.
В период сбора продналога комиссар этот сидел за столом на крыльце сельсовета и записывал, кто сколько продукции сдал государству. Рядом с ним счетовод крутился. Комиссар этот местных никого толком не знал. Счетовод был из местных, всех наперечет знал и подсказывал комиссару, кто к нему пришел. А комиссар этот в списках своих отметки нужные ставил.
По разнарядке Афоньке нужно было сдать за этот год три пуда мяса. В назначенное время приковылял Афонька во двор сельсовета. Вскарабкался на крыльцо, постукивая по ступеням деревянным протезом. Подошел он к большому столу, за которым сидел комиссар, перебиравший свои бумажки. Счетовод незаметно шепнул комиссару на ухо имя и фамилию Афоньки и тут же исчез за спиной у комиссара. Комиссар покопался в бумагах.
– А ты, Афанасий, чего пустой пришел? – спросил его комиссар.
– Так посоветоваться к тебе пришел, – ответил Афонька. – Вот три пуда мяса предписано мне сдать.
– Ну?
– Так вот Борька-то у меня не вытягивает, малой еще! – жаловался Афонька. – Я и картошкой, и лебедой его кормлю, а он, зараза, не вытягивает.
– Ну? – вопросительно смотрел комиссар на калеку.
В это время счетовод, стоявший позади комиссара, начал улыбаться.
– А старшая моя, Нюрка, вся в старуху мою пошла: тощая стерва, одни кости.
– Ну? – медленно начал приподниматься комиссар, сильно хмурясь.
Счетовод уже громче начал смеяться.
– А Сережке в этом году в армии служить, – продолжал свои пояснения Афонька. – Жалко урон боеспособности Родине-то наносить, ежели я его под нож пущу.
– Да ты что, издеваешься надо мной? – рявкнул комиссар, стукнув кулаком по столу. – Обрубок ты недоделанный!
Счетовода сразу как ветром сдуло. Скрылся он в сенях здания сельсовета.
Ну, ясное дело, Афоньку в район под арест определили. Через неделю вернулся он в деревню. Пришлось ему все-таки сдать нужное количество мяса, заплатив при этом ещё и штраф. А для того, чтобы заплатить продовольственный налог и штраф, пустил Афонька под нож ни детей, ни жену-старуху, а единственную корову свою.
Через месяц приходит другая разнарядка: уплатить налог картофелем. Афоньке предписано сдать государству пять пудов. Наученный горьким опытом, он уже не собирался юморить, как в прошлый раз. Начал он выкапывать картофель, чтобы часть урожая сдать, как положено, государству. Но картофель, как назло, в этот год не уродился, еще и проливные дожди зарядили на неделю.
К назначенному времени Афонька привез на тачке нужное количество картофеля.
Комиссар наркомпрода в этот раз стал еще более придирчивее к Афоньке. Стал осматривать привезенный картофель.
– Это почему картофель у тебя сырой и весь в грязи? – издеваясь, начал строго спрашивать одноногого.
– Ну какой уж есть! – начал огрызаться Афонька.
– Ты что, государству дрянной картофель хочешь подсунуть, с грязью пополам? – напирал комиссар на калеку. – Под суд захотел, вражина!
Афонька, насупившись, молча стоял.
– Завтра привезешь картофель! – скомандовал комиссар. – Да смотри, чтобы не сырой был! А то живо в кутузке окажешься, а, может, и вовсе у стенки!
На следующий день Афонька вёз к сельсовету на тачке картофель в двух огромных бочках.
– Ну, Афонька, привез картофель? – смеясь, спросил комиссар. – Не сырой хоть?
– Не сырой, – передразнил его Афонька. – Вот тут весь.
Комиссар подошел к бочкам с картофелем, склонился над ними и на время замер. Он медленно опустил руку в бочку. Вынув руку, он держал варёную картофелину. Весь картофель в бочках оказался вареный.
– Ты это зачем вареный картофель привёз? – спросил комиссар.
– Так сам же ты мне велел вчерась привезти не сырой, – отвечал Афонька. – Вот я не сырой и привёз!
– Да ты что, сдурел что ли? – вскипел комиссар.
– Так ты сам мне велел.
– Что? – заорал комиссар. – Ах, ты, контра, тебя к стенке надо поставить за такое!
– Так, не сырой же… – тихо сказал Афонька.
Снова Афоньку на неделю под арест в район оправили. Через неделю вышел он из кутузки. Пришлось ему все нормы картофеля сдать и штраф оплатить. Сам же он остался на зиму без коровы и запасов картофеля.
Что делать Афоньке? И смекнул он, как в городе можно раздобыть немного продуктов. В те годы страшным бедствием были клопы. Клопы заедали всех. Особенно в городах народ страдал. Вот он и придумал, как на этом деле прокормиться. Расколол он пару старых кирпичей, размолол их в пыль. Завернул ярко-оранжевого цвета порошок в бумажки, сложив из них конвертики. И повез в город на рынок. У рынка Афонька отыскал во дворах старый табурет, поставил его на тротуар вместо прилавка. Разложил на табурете свои конвертики и стал торговать.
– Новое действенное средство от клопов! – кричал своим писклявым голосом Афонька. – Подходи, народ, разбирай!
А тут рядом три торговки стояли и заметили Афоньку.
– И почём средство твоё, дядя, – спрашивали его торговки.
– А что из съестного дадите, всё и возьму, не поморщусь, – отвечал Афонька.
Бабы эти сразу смекнули, что можно этого старого деревенского мужичка обмануть. За Афонькино средство от клопов отдали ему торговки чёрствый хлеб, подгнивший лук, кое-какие другие залежалые да подпорченные продукты. Афонька всё брал, не брезговал. А куда ему деваться, коли зиму надо прозимовать?
Раскупив у Афоньки весь порошок, торговки отошли на свои места и начали перешёптываться меж собой.
– Бабы, а знаете что? – начала говорить одна из торговок своим товаркам. – Можно у этого дурака деревенского весь его порошок за залежалый товар брать и самим втридорога средство это от клопов перепродавать!
– Верно говоришь, – согласилась другая. – И дрянной товар в ход пустим, и подзаработаем еще на этом простофиле!
– Так и сделаем! – решили торговки.
Снова подойдя к Афоньке, который уже успел собрать вещи, торговки предложили забирать у него весь порошок за продукты.
Тот согласился. Бабы радостные вернулись к своим прилавкам.
Несколько раз ездил Афонька в город, отвозил торговкам свой порошок, обратно из города вёз корзины с подпорченными продуктами, которые в его семье шли на употребление.
Через неделю Афонька снова привез торговкам свой порошок. Но торговки на этот раз уже не улыбались ему.
– Чего-то, дядя, твой порошок не сильно помогает? – начала одна из баб.
– Как так – не помогает? – удивился Афонька.
– Не помогает! – вступилась за свою товарку другая баба. – Все покупатели жалуются, что не помогает! Возвращают товар со скандалами!
– А вы сказали покупателям, как надо пользоваться порошком-то? – поинтересовался Афонька.
– Обыкновенно пользоваться, – удивленно ответила одна из баб. – Рассыпать по углам, под кровати и туда, где еще обычно клопы живут.
– Да вы что?! – возмутился Афонька. – Неправильно!
– Как – неправильно?! – в один голос напирали бабы.
– Как, как… – передразнил их Афонька, складывая свои вещи в авоську.
– Ну так как? – не унимались бабы.
– Да просто, – начал тянуть время Афонька. – Берете порошок, встаете там, где клоп у вас сидит. Потом, значит, когда он выползает, вы хватаете его, а порошок этот ему прямо в глаза сыпете. Клоп от порошка слепнет и вас уже не увидит. Ну и кусать он вас уже не сможет. Поняли?
Бабы с полминуты стояли молча, разинув рты. А Афонька в это время спешно отходил от них.
– Так это чё делается, бабы? – начала кричать одна из них. – Этот клоп одноногий нас обдурил, получается!
– Хватай его! – заголосила на всю улицу другая.
– Бей его! – закричала третья.
Бабы попытались догнать калеку. Но тот, постукивая по брусчатке своим деревянным протезом, оторвался от разъяренных торговок. Больше Афонька своим «средством» от клопов не торговал и на рынке не показывался.
Много было в жизни у Афоньки таких случаев. Этим он и запомнился. Спустя даже сотню лет помнят его в нашей деревне.
Давным-давно это было. Отгремела гражданская война, и вернулся в нашу деревню к мирной жизни мужичок один. Вернулся, да не весь. Вместо правой ноги у него деревянный протез появился. Звали его Афонькой. Уже больше ста лет прошло, а Афоньку в деревне помнят. Старики, вспоминая его, всегда смеются. Молодые, услышав от стариков эти истории, тоже начинают зубоскалить. А смеяться есть над чем. Уж больно юморил наш Афонька. Вот какой случай приключился с ним однажды.
В начале НЭПа продразвёрстку заменили на продналог. В это самое время за сбором продналога райкомпрод в нашу деревню прислал нового продовольственного комиссара. Комиссар этот оказался груб, мог и по матушке пройтись, а иной раз и зуботычиной не понравившегося ему по какой-то причине наградить.
– Боров-то этот нажрал бока на нашем хлебе, да ещё и нас же попрекает, – жаловались в деревне на нового комиссара.
– Опять всё до последнего зернышка выгребет, – досадовали другие.
– Ох, и тяжело же крестьянину русскому живется, – печалились третьи.
В период сбора продналога комиссар этот сидел за столом на крыльце сельсовета и записывал, кто сколько продукции сдал государству. Рядом с ним счетовод крутился. Комиссар этот местных никого толком не знал. Счетовод был из местных, всех наперечет знал и подсказывал комиссару, кто к нему пришел. А комиссар этот в списках своих отметки нужные ставил.
По разнарядке Афоньке нужно было сдать за этот год три пуда мяса. В назначенное время приковылял Афонька во двор сельсовета. Вскарабкался на крыльцо, постукивая по ступеням деревянным протезом. Подошел он к большому столу, за которым сидел комиссар, перебиравший свои бумажки. Счетовод незаметно шепнул комиссару на ухо имя и фамилию Афоньки и тут же исчез за спиной у комиссара. Комиссар покопался в бумагах.
– А ты, Афанасий, чего пустой пришел? – спросил его комиссар.
– Так посоветоваться к тебе пришел, – ответил Афонька. – Вот три пуда мяса предписано мне сдать.
– Ну?
– Так вот Борька-то у меня не вытягивает, малой еще! – жаловался Афонька. – Я и картошкой, и лебедой его кормлю, а он, зараза, не вытягивает.
– Ну? – вопросительно смотрел комиссар на калеку.
В это время счетовод, стоявший позади комиссара, начал улыбаться.
– А старшая моя, Нюрка, вся в старуху мою пошла: тощая стерва, одни кости.
– Ну? – медленно начал приподниматься комиссар, сильно хмурясь.
Счетовод уже громче начал смеяться.
– А Сережке в этом году в армии служить, – продолжал свои пояснения Афонька. – Жалко урон боеспособности Родине-то наносить, ежели я его под нож пущу.
– Да ты что, издеваешься надо мной? – рявкнул комиссар, стукнув кулаком по столу. – Обрубок ты недоделанный!
Счетовода сразу как ветром сдуло. Скрылся он в сенях здания сельсовета.
Ну, ясное дело, Афоньку в район под арест определили. Через неделю вернулся он в деревню. Пришлось ему все-таки сдать нужное количество мяса, заплатив при этом ещё и штраф. А для того, чтобы заплатить продовольственный налог и штраф, пустил Афонька под нож ни детей, ни жену-старуху, а единственную корову свою.
Через месяц приходит другая разнарядка: уплатить налог картофелем. Афоньке предписано сдать государству пять пудов. Наученный горьким опытом, он уже не собирался юморить, как в прошлый раз. Начал он выкапывать картофель, чтобы часть урожая сдать, как положено, государству. Но картофель, как назло, в этот год не уродился, еще и проливные дожди зарядили на неделю.
К назначенному времени Афонька привез на тачке нужное количество картофеля.
Комиссар наркомпрода в этот раз стал еще более придирчивее к Афоньке. Стал осматривать привезенный картофель.
– Это почему картофель у тебя сырой и весь в грязи? – издеваясь, начал строго спрашивать одноногого.
– Ну какой уж есть! – начал огрызаться Афонька.
– Ты что, государству дрянной картофель хочешь подсунуть, с грязью пополам? – напирал комиссар на калеку. – Под суд захотел, вражина!
Афонька, насупившись, молча стоял.
– Завтра привезешь картофель! – скомандовал комиссар. – Да смотри, чтобы не сырой был! А то живо в кутузке окажешься, а, может, и вовсе у стенки!
На следующий день Афонька вёз к сельсовету на тачке картофель в двух огромных бочках.
– Ну, Афонька, привез картофель? – смеясь, спросил комиссар. – Не сырой хоть?
– Не сырой, – передразнил его Афонька. – Вот тут весь.
Комиссар подошел к бочкам с картофелем, склонился над ними и на время замер. Он медленно опустил руку в бочку. Вынув руку, он держал варёную картофелину. Весь картофель в бочках оказался вареный.
– Ты это зачем вареный картофель привёз? – спросил комиссар.
– Так сам же ты мне велел вчерась привезти не сырой, – отвечал Афонька. – Вот я не сырой и привёз!
– Да ты что, сдурел что ли? – вскипел комиссар.
– Так ты сам мне велел.
– Что? – заорал комиссар. – Ах, ты, контра, тебя к стенке надо поставить за такое!
– Так, не сырой же… – тихо сказал Афонька.
Снова Афоньку на неделю под арест в район оправили. Через неделю вышел он из кутузки. Пришлось ему все нормы картофеля сдать и штраф оплатить. Сам же он остался на зиму без коровы и запасов картофеля.
Что делать Афоньке? И смекнул он, как в городе можно раздобыть немного продуктов. В те годы страшным бедствием были клопы. Клопы заедали всех. Особенно в городах народ страдал. Вот он и придумал, как на этом деле прокормиться. Расколол он пару старых кирпичей, размолол их в пыль. Завернул ярко-оранжевого цвета порошок в бумажки, сложив из них конвертики. И повез в город на рынок. У рынка Афонька отыскал во дворах старый табурет, поставил его на тротуар вместо прилавка. Разложил на табурете свои конвертики и стал торговать.
– Новое действенное средство от клопов! – кричал своим писклявым голосом Афонька. – Подходи, народ, разбирай!
А тут рядом три торговки стояли и заметили Афоньку.
– И почём средство твоё, дядя, – спрашивали его торговки.
– А что из съестного дадите, всё и возьму, не поморщусь, – отвечал Афонька.
Бабы эти сразу смекнули, что можно этого старого деревенского мужичка обмануть. За Афонькино средство от клопов отдали ему торговки чёрствый хлеб, подгнивший лук, кое-какие другие залежалые да подпорченные продукты. Афонька всё брал, не брезговал. А куда ему деваться, коли зиму надо прозимовать?
Раскупив у Афоньки весь порошок, торговки отошли на свои места и начали перешёптываться меж собой.
– Бабы, а знаете что? – начала говорить одна из торговок своим товаркам. – Можно у этого дурака деревенского весь его порошок за залежалый товар брать и самим втридорога средство это от клопов перепродавать!
– Верно говоришь, – согласилась другая. – И дрянной товар в ход пустим, и подзаработаем еще на этом простофиле!
– Так и сделаем! – решили торговки.
Снова подойдя к Афоньке, который уже успел собрать вещи, торговки предложили забирать у него весь порошок за продукты.
Тот согласился. Бабы радостные вернулись к своим прилавкам.
Несколько раз ездил Афонька в город, отвозил торговкам свой порошок, обратно из города вёз корзины с подпорченными продуктами, которые в его семье шли на употребление.
Через неделю Афонька снова привез торговкам свой порошок. Но торговки на этот раз уже не улыбались ему.
– Чего-то, дядя, твой порошок не сильно помогает? – начала одна из баб.
– Как так – не помогает? – удивился Афонька.
– Не помогает! – вступилась за свою товарку другая баба. – Все покупатели жалуются, что не помогает! Возвращают товар со скандалами!
– А вы сказали покупателям, как надо пользоваться порошком-то? – поинтересовался Афонька.
– Обыкновенно пользоваться, – удивленно ответила одна из баб. – Рассыпать по углам, под кровати и туда, где еще обычно клопы живут.
– Да вы что?! – возмутился Афонька. – Неправильно!
– Как – неправильно?! – в один голос напирали бабы.
– Как, как… – передразнил их Афонька, складывая свои вещи в авоську.
– Ну так как? – не унимались бабы.
– Да просто, – начал тянуть время Афонька. – Берете порошок, встаете там, где клоп у вас сидит. Потом, значит, когда он выползает, вы хватаете его, а порошок этот ему прямо в глаза сыпете. Клоп от порошка слепнет и вас уже не увидит. Ну и кусать он вас уже не сможет. Поняли?
Бабы с полминуты стояли молча, разинув рты. А Афонька в это время спешно отходил от них.
– Так это чё делается, бабы? – начала кричать одна из них. – Этот клоп одноногий нас обдурил, получается!
– Хватай его! – заголосила на всю улицу другая.
– Бей его! – закричала третья.
Бабы попытались догнать калеку. Но тот, постукивая по брусчатке своим деревянным протезом, оторвался от разъяренных торговок. Больше Афонька своим «средством» от клопов не торговал и на рынке не показывался.
Много было в жизни у Афоньки таких случаев. Этим он и запомнился. Спустя даже сотню лет помнят его в нашей деревне.
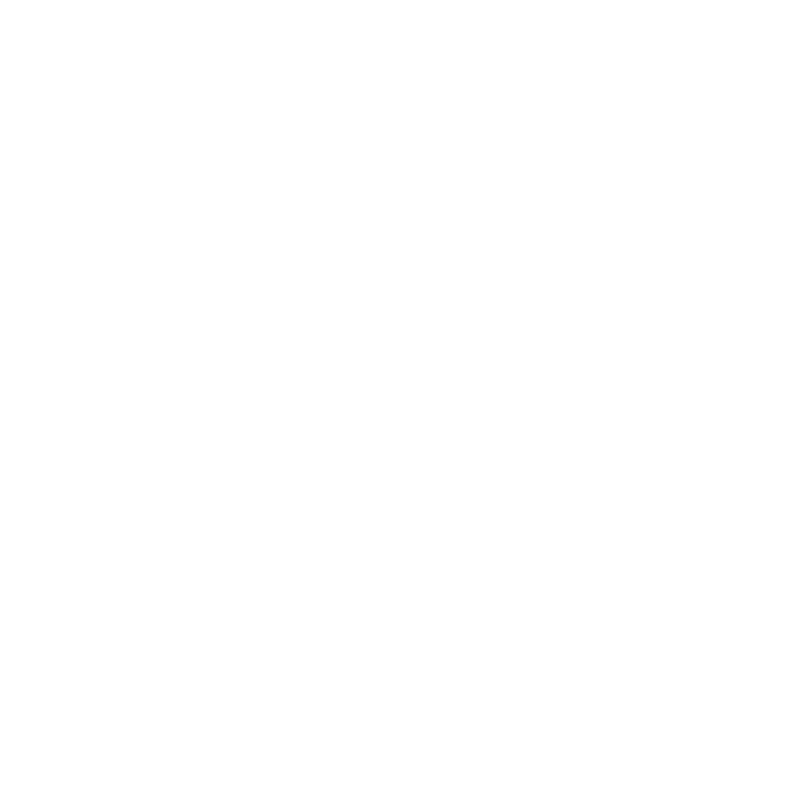
Ирина КОСТИНА
Прозаик, член Российского союза писателей, окончила в 1993 г. Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Русский язык и литература». «МАГИСТР образования». Литературным творчеством занимается одновременно с преподаванием. В 2018 -2019 годах она финалист и номинант конкурсов РСП «Наследие» и «Писатель года». Ирина Костина живет в Екатеринбурге, преподает русский язык и литературу в Екатеринбургском суворовском военном училище. Рассказы Ирины Костиной публиковались в журналах «Новое слово», «Первая роса», «Аргументы времени», в литературных альманахах «Проза» РСП, в литературном альманахе «Ритмы жизни». А повести «Сэлфи с улыбкой», «Таватуйские встречи», «Акимов: любовь, какая она есть», роман «По законам братства» о кадетском братстве, воспитании суворовцев, о судьбе воинов-афганцев увидели свет и изданы в Хабаровске. В 2025 году в Хабаровске также вышел роман «Перерождение».
Прозаик, член Российского союза писателей, окончила в 1993 г. Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Русский язык и литература». «МАГИСТР образования». Литературным творчеством занимается одновременно с преподаванием. В 2018 -2019 годах она финалист и номинант конкурсов РСП «Наследие» и «Писатель года». Ирина Костина живет в Екатеринбурге, преподает русский язык и литературу в Екатеринбургском суворовском военном училище. Рассказы Ирины Костиной публиковались в журналах «Новое слово», «Первая роса», «Аргументы времени», в литературных альманахах «Проза» РСП, в литературном альманахе «Ритмы жизни». А повести «Сэлфи с улыбкой», «Таватуйские встречи», «Акимов: любовь, какая она есть», роман «По законам братства» о кадетском братстве, воспитании суворовцев, о судьбе воинов-афганцев увидели свет и изданы в Хабаровске. В 2025 году в Хабаровске также вышел роман «Перерождение».
ДЕНЬ НЕ ЗАДАЛСЯ С УТРА
По утрам спецпереселенка Катерина Ивановна Баранова часто входила в кабинет начальника лесопункта Еремеева.
– Чего тебе, Баранова?
– Пришла спросить, на какие работы можно сегодня выйти.
Тут раздался телефонный звонок.
– Еремеев, что у тебя творится на лесопункте? – услышала она в трубку.
– Погоди, Катерина Иванна, – прошептал Еремеев, прикрыв трубку ладошкой, – директор леспромхоза Барихин.
– Еремеев! Слушаешь?
– Да, товарищ Барихин.
– Так что у тебя там? Не работают шпалорезка, тарный цех, на Нижнем складе простаивает погрузочный кран, в лес уехала только одна бригада лесорубов и то с опозданием на три часа! Что вчера у тебя там произошло? – голос директора леспромхоза не сулил ничего хорошего.
– Николай Михайлович, мы тут с техноруком и участковым разбираемся в сложившейся ситуации, стабилизируем обстановку.
– Знаю я, как вы там стабилизируете обстановку, руководители хреновы! – гремел Барихин. – В общем, так: делайте, что хотите, но чтобы через час все рабочие были на местах, иначе лично подключусь к вашему ЧП, никому не поздоровится.
Помолчав, он добавил:
– Считай, что у тебя и у технорука Тимофеева уже записаны строгие выговоры в личное дело.
Еремеев положил трубку, вытер шею и затылок скомканным платком.
Потом набрал номер.
– Тимофеев! Директор леспромхоза звонил. Выговор тебе за вчерашний кордебалет и пьяный поселок! Он уже знает, что случилось у нас на лесопункте, и все потому что ты должным образом не проконтролировал работу ларька, где продавалась эта злосчастная медовуха, – упрекнул технорука Еремеев.
– Ты, Михаил Александрович, не сваливай вину на меня, оба не просчитали последствия инициативы заведующего рабочей столовой Слободяна, когда давали разрешение на акцию, – отбивался технорук.
– Наверное, ты прав, Тимофеев. Поделом нам обоим, – уныло согласился начальник и положил трубку.
Катерина потопталась у двери.
– Твои-то мужики, поди, тоже вчера в санях приехали домой после медовухи?
– В телеге, – поправила Катерина Ивановна.
– Что? – удивился Еремеев.
– Не в санях привезли, а на телеге. Было вчера приключение.
Зятя Екатерины Ивановны Пантелея и двух ее младших сыновей тоже домой доставили за полночь.
– Девочек, внучек маленьких моих, всю ночь будили голоса.
…А говорили они вот о чем. Накануне в поселковый магазин завезли карамель. Товар шикарный по тем временам, редкий. Местная продавщица Лида распечатала несколько ящиков и ахнула: конфеты слиплись в бесформенный расплавленный кусок сладкой массы. Понять, что это когда-то была карамель, невозможно. Видимо, хранились при ненадлежащей температуре или влага попала. О случившемся женщина с плачем тут же по телефону сообщила начальнику ОРСа. Вернуть их обратно на склад – волокита еще та. Требовался соответствующий акт о возврате неликвида за подписью врача, потом – начальника лесопункта, председателя профсоюзного комитета, директора леспромхоза. Но, как в жизни бывает, то одного начальника на месте нет, то другого. Однако и на этом мытарства не заканчивались. Нужно выпросить еще у завгара машину, чтобы отвезти ящики обратно на склад. Тут тоже не все так просто. Без соответствующей закорючки товароведа кладовщик не примет продукт. А она, как всегда, в бегах. Да и боялась она: вдруг объявят ее вредителем, врагом! Вот и поделилась своим горем продавщица с Василием Слободяном, заведующим столовой.
– Что делать, Василь Саныч? Ведь никто не купит этот брак! – рыдала она в трубку. – А платить кто должен? Я? Меня во всем обвинят!
– Отставить панику! – успокоил он Лиду. – Подъеду, решим проблему.
И правда: вечером все решили.
– Из данного сладкого продукта мы сделаем «медовуху», – сказал начальник столовой. – Я договорюсь с поваром рабочей столовой. У него есть рецепт напитка. Намешает, пошаманит, поколдует… Продадим как жидкий товар. Деньги оправдаем.
…Весть о том, что в воскресенье в буфете столовой будут продавать необыкновенный хмельной напиток из карамели, быстро разнеслась по поселку. В очереди стояли не только мужики, но и бабы. Никто не хотел пропустить очередную новинку пищевой промышленности. Первая бочка ушла, что называется, с молотка. Прикатили вторую. Желающих отведать «карамельку» становилось все больше. Повторно у ларька замелькали известные в поселке любители и любительницы спиртного.
Лихо на улице заиграла гармошка в рабочий день. Послышались пьяные голоса сельчан, затем песни и частушки. Рабочий поселок загулял!
– Живо сворачивайся, – забежав в ларек, приказал начальник киоскёрше. – Директор леспромхоза голову с меня снимет, когда узнает, что завтра половина рабочих не выйдет на работу. Будут опохмеляться.
– Как же я закрою торговлю? – взмолилась женщина. – Мужики в один миг снесут и торговую точку, и меня пришибут! Не закроюсь! Все вмиг продам! Да и не сильно она пьяная. Как компот!
Начальник безнадежно махнул рукой.
Наконец медовуха закончилась. Киоскерша вздохнула с облегчением.
– Все! Торговая точка закрывается! – объявила она мужикам. – Расходитесь по домам, граждане сельчане!
– Еще чего? Пойдем в магазин за водкой, – рассудила очередь.
…Вечером Пантелея и младших братьев его жены Павла и Митю соседи привезли домой на телеге. Местный конюх Миша Кульматов помог выгрузить родственников на крыльцо барака. Потом он еще долго на общественных началах развозил по баракам любителей медовухи.
А приключения с «карамелькой» продолжались!
После пятидесяти трех лет в поселке спецпереселенцев появились амнистированные уголовники. Они пили, бесчинствовали, работать не хотели. Селили их в отдельном бараке, и жить рядом никто не хотел. Местный участковый Владимир Дудоладов был у них постоянным гостем и рисковал жизнью чуть ли не ежедневно. Пьяные бывшие зэки распоясывались, требовали в магазине водку, приставали к женщинам, скандалили с местными по любому поводу, требовали поблажек на лесоповале. Их пробовали призвать к порядку, поминали Сталина.
– Так Сталина уже нет! И теперь Берия – враг народа, а не мы! – похабно ржали они.
В тот день ближе к вечеру к Карташевым забежала растрепанная соседка, жена клубного художника Климова. Волосы из-под косынки выбились, слиплись от влаги, края блузки вылезли из юбки. Такой Екатерина Ивановна и ее дочь Маруся никогда не видели опрятную Климову. Она остановилась на пороге и не могла отдышаться. Маруся молча зачерпнула воды из ведра, так же молча подвела соседку к табурету, усадила и протянула ей кружку. Та выпила. Маруся протянула еще одну.
– Что случилось, Нина? – наконец спросила она у отдышавшейся Климовой.
– Муж не открывает. Заперся в клубе. Может, его зэки прибили, – зарыдала Нина.
– Идем к Косякову!.. Алевтина! – окликнула Маруся дочку. – Пригляди за малышами. Я скоро.
Леониду Косякову, фронтовику, на общественных началах помогавшему участковому, Нина сообщила, что ее Николай закрылся в своем кабинете, не отзывается и не открывает дверь.
– Наверное, что-то случилось с мужем, – заплакала она, – помогите! Пил «карамельку» с бывшими зэками с самого утра. Ругались и матерились в клубе. Вдруг они его прирезали.
– Перестань слезы лить, сейчас вызовем заведующую клубом, она откроет кабинет своим ключом. Думаю, спит твой благоверный мертвецким сном.
– Дай Бог! Дай Бог! – причитала Климова. – Что же делать? А?.. Дай Бог!
– Отставить Бога! – скомандовал Косяков.
Отыскать тетю Дусю Саломатину не составило большого труда: она жила рядом с клубом, там ее Маруся и нашла. Через пятнадцать минут все были возле кабинета художника. Но в замочной скважине изнутри торчал ключ Климова, так что дубликат тети Дуси не сработал. Косяков постучал в дверь. Тишина. Постучал сильнее; наконец из-за двери раздался пьяный голос художника:
– Кто там? Вам кого?
– Открывай, свои!
– Не открою!
– Немедленно, я сказал! Мгновенно открывай!
– Хрен с горы – большая скорость! – начал ругаться художник.
– Ах, ты ж, художник чертов! Ругаться при женщинах! Открывай или я выломаю эту дверь! – рассвирепел Косяков.
Хозяин кабинета долго возился с замком. Наконец дверь открылась.
– О, Боже! – вскрикнула Климова и, испугавшись сама себе за упоминание Бога, зажала рот ладошкой.
Климов отскочил в угол. Руки художника были в крови. В кабинете – все вверх дном: на полу валялся мольберт с красками, посреди комнаты горой были свалены стулья, плакаты, наброски картин, на столе валялись остатки закуски, липкие граненые стаканы, недопитые вонючие бутылки с самогоном и злосчастной «карамелькой». В углу у стены стоял сильно порезанный большой портрет Берии. Рядом с ним – Климов с кухонным ножом. Художник налетел на портрет. Взмах, и на полотне появилась еще одна большая дыра.
– Что, сука лысая, получил? – сквозь пьяные слезы выкрикивал художник. – На еще, английский прихвостень!
Его рука то поднималась, то опускалась, пока портрет Лаврентия Павловича не превратился в лохмотья.
– Что ты натворил, бандит? – закричала тетя Дуся.
– А чего он? Шпион! А я ему верил…– плакал Климов.
– Он болен. Срочно сюда доктора! – стала спасать ситуацию тетя Дуся. – Не в себе он.
– Не надо никакого доктора, – успокоил заведующую клубом Косяков. – Хмель у мужика пройдет, все образуется.
Причина странного поведения художника была понятна Косякову. Несколько дней назад по радио сообщили, что нарком внутренних дел СССР, маршал Советского Союза Лаврентий Берия арестован как английский шпион. Для Климова это был шок. Он, детдомовец, воспитанный партией и комсомолом, всегда безоговорочно веривший руководителям государства, вдруг узнал, что Берия – враг народа. Он снял со стены его портрет, который висел в фойе клуба, и по-тихому унес к себе в кабинет. Видимо, после душевных посиделок с зэками, он решил, что настал час расплаты.
Климова накапала мужу успокоительных капель в стакан с водой, заставила выпить, потом ему дали понюхать нашатыря и усадили в кресло. Маруся принесла из буфета горячего сладкого чаю. Через полчаса он пришел в себя. Его взгляд первым делом остановился на изрезанном портрете. Очухавшись, он тихо спросил:
– А кто это портрет Лаврентия Павловича изуродовал?
Помощник участкового с тетей Дусей только развели руками. Вскоре Климов уехал оформлять наглядную агитацию в клуб другого лесопункта. Хорошо, что не посадили. Времена уже были не те.
По утрам спецпереселенка Катерина Ивановна Баранова часто входила в кабинет начальника лесопункта Еремеева.
– Чего тебе, Баранова?
– Пришла спросить, на какие работы можно сегодня выйти.
Тут раздался телефонный звонок.
– Еремеев, что у тебя творится на лесопункте? – услышала она в трубку.
– Погоди, Катерина Иванна, – прошептал Еремеев, прикрыв трубку ладошкой, – директор леспромхоза Барихин.
– Еремеев! Слушаешь?
– Да, товарищ Барихин.
– Так что у тебя там? Не работают шпалорезка, тарный цех, на Нижнем складе простаивает погрузочный кран, в лес уехала только одна бригада лесорубов и то с опозданием на три часа! Что вчера у тебя там произошло? – голос директора леспромхоза не сулил ничего хорошего.
– Николай Михайлович, мы тут с техноруком и участковым разбираемся в сложившейся ситуации, стабилизируем обстановку.
– Знаю я, как вы там стабилизируете обстановку, руководители хреновы! – гремел Барихин. – В общем, так: делайте, что хотите, но чтобы через час все рабочие были на местах, иначе лично подключусь к вашему ЧП, никому не поздоровится.
Помолчав, он добавил:
– Считай, что у тебя и у технорука Тимофеева уже записаны строгие выговоры в личное дело.
Еремеев положил трубку, вытер шею и затылок скомканным платком.
Потом набрал номер.
– Тимофеев! Директор леспромхоза звонил. Выговор тебе за вчерашний кордебалет и пьяный поселок! Он уже знает, что случилось у нас на лесопункте, и все потому что ты должным образом не проконтролировал работу ларька, где продавалась эта злосчастная медовуха, – упрекнул технорука Еремеев.
– Ты, Михаил Александрович, не сваливай вину на меня, оба не просчитали последствия инициативы заведующего рабочей столовой Слободяна, когда давали разрешение на акцию, – отбивался технорук.
– Наверное, ты прав, Тимофеев. Поделом нам обоим, – уныло согласился начальник и положил трубку.
Катерина потопталась у двери.
– Твои-то мужики, поди, тоже вчера в санях приехали домой после медовухи?
– В телеге, – поправила Катерина Ивановна.
– Что? – удивился Еремеев.
– Не в санях привезли, а на телеге. Было вчера приключение.
Зятя Екатерины Ивановны Пантелея и двух ее младших сыновей тоже домой доставили за полночь.
– Девочек, внучек маленьких моих, всю ночь будили голоса.
…А говорили они вот о чем. Накануне в поселковый магазин завезли карамель. Товар шикарный по тем временам, редкий. Местная продавщица Лида распечатала несколько ящиков и ахнула: конфеты слиплись в бесформенный расплавленный кусок сладкой массы. Понять, что это когда-то была карамель, невозможно. Видимо, хранились при ненадлежащей температуре или влага попала. О случившемся женщина с плачем тут же по телефону сообщила начальнику ОРСа. Вернуть их обратно на склад – волокита еще та. Требовался соответствующий акт о возврате неликвида за подписью врача, потом – начальника лесопункта, председателя профсоюзного комитета, директора леспромхоза. Но, как в жизни бывает, то одного начальника на месте нет, то другого. Однако и на этом мытарства не заканчивались. Нужно выпросить еще у завгара машину, чтобы отвезти ящики обратно на склад. Тут тоже не все так просто. Без соответствующей закорючки товароведа кладовщик не примет продукт. А она, как всегда, в бегах. Да и боялась она: вдруг объявят ее вредителем, врагом! Вот и поделилась своим горем продавщица с Василием Слободяном, заведующим столовой.
– Что делать, Василь Саныч? Ведь никто не купит этот брак! – рыдала она в трубку. – А платить кто должен? Я? Меня во всем обвинят!
– Отставить панику! – успокоил он Лиду. – Подъеду, решим проблему.
И правда: вечером все решили.
– Из данного сладкого продукта мы сделаем «медовуху», – сказал начальник столовой. – Я договорюсь с поваром рабочей столовой. У него есть рецепт напитка. Намешает, пошаманит, поколдует… Продадим как жидкий товар. Деньги оправдаем.
…Весть о том, что в воскресенье в буфете столовой будут продавать необыкновенный хмельной напиток из карамели, быстро разнеслась по поселку. В очереди стояли не только мужики, но и бабы. Никто не хотел пропустить очередную новинку пищевой промышленности. Первая бочка ушла, что называется, с молотка. Прикатили вторую. Желающих отведать «карамельку» становилось все больше. Повторно у ларька замелькали известные в поселке любители и любительницы спиртного.
Лихо на улице заиграла гармошка в рабочий день. Послышались пьяные голоса сельчан, затем песни и частушки. Рабочий поселок загулял!
– Живо сворачивайся, – забежав в ларек, приказал начальник киоскёрше. – Директор леспромхоза голову с меня снимет, когда узнает, что завтра половина рабочих не выйдет на работу. Будут опохмеляться.
– Как же я закрою торговлю? – взмолилась женщина. – Мужики в один миг снесут и торговую точку, и меня пришибут! Не закроюсь! Все вмиг продам! Да и не сильно она пьяная. Как компот!
Начальник безнадежно махнул рукой.
Наконец медовуха закончилась. Киоскерша вздохнула с облегчением.
– Все! Торговая точка закрывается! – объявила она мужикам. – Расходитесь по домам, граждане сельчане!
– Еще чего? Пойдем в магазин за водкой, – рассудила очередь.
…Вечером Пантелея и младших братьев его жены Павла и Митю соседи привезли домой на телеге. Местный конюх Миша Кульматов помог выгрузить родственников на крыльцо барака. Потом он еще долго на общественных началах развозил по баракам любителей медовухи.
А приключения с «карамелькой» продолжались!
После пятидесяти трех лет в поселке спецпереселенцев появились амнистированные уголовники. Они пили, бесчинствовали, работать не хотели. Селили их в отдельном бараке, и жить рядом никто не хотел. Местный участковый Владимир Дудоладов был у них постоянным гостем и рисковал жизнью чуть ли не ежедневно. Пьяные бывшие зэки распоясывались, требовали в магазине водку, приставали к женщинам, скандалили с местными по любому поводу, требовали поблажек на лесоповале. Их пробовали призвать к порядку, поминали Сталина.
– Так Сталина уже нет! И теперь Берия – враг народа, а не мы! – похабно ржали они.
В тот день ближе к вечеру к Карташевым забежала растрепанная соседка, жена клубного художника Климова. Волосы из-под косынки выбились, слиплись от влаги, края блузки вылезли из юбки. Такой Екатерина Ивановна и ее дочь Маруся никогда не видели опрятную Климову. Она остановилась на пороге и не могла отдышаться. Маруся молча зачерпнула воды из ведра, так же молча подвела соседку к табурету, усадила и протянула ей кружку. Та выпила. Маруся протянула еще одну.
– Что случилось, Нина? – наконец спросила она у отдышавшейся Климовой.
– Муж не открывает. Заперся в клубе. Может, его зэки прибили, – зарыдала Нина.
– Идем к Косякову!.. Алевтина! – окликнула Маруся дочку. – Пригляди за малышами. Я скоро.
Леониду Косякову, фронтовику, на общественных началах помогавшему участковому, Нина сообщила, что ее Николай закрылся в своем кабинете, не отзывается и не открывает дверь.
– Наверное, что-то случилось с мужем, – заплакала она, – помогите! Пил «карамельку» с бывшими зэками с самого утра. Ругались и матерились в клубе. Вдруг они его прирезали.
– Перестань слезы лить, сейчас вызовем заведующую клубом, она откроет кабинет своим ключом. Думаю, спит твой благоверный мертвецким сном.
– Дай Бог! Дай Бог! – причитала Климова. – Что же делать? А?.. Дай Бог!
– Отставить Бога! – скомандовал Косяков.
Отыскать тетю Дусю Саломатину не составило большого труда: она жила рядом с клубом, там ее Маруся и нашла. Через пятнадцать минут все были возле кабинета художника. Но в замочной скважине изнутри торчал ключ Климова, так что дубликат тети Дуси не сработал. Косяков постучал в дверь. Тишина. Постучал сильнее; наконец из-за двери раздался пьяный голос художника:
– Кто там? Вам кого?
– Открывай, свои!
– Не открою!
– Немедленно, я сказал! Мгновенно открывай!
– Хрен с горы – большая скорость! – начал ругаться художник.
– Ах, ты ж, художник чертов! Ругаться при женщинах! Открывай или я выломаю эту дверь! – рассвирепел Косяков.
Хозяин кабинета долго возился с замком. Наконец дверь открылась.
– О, Боже! – вскрикнула Климова и, испугавшись сама себе за упоминание Бога, зажала рот ладошкой.
Климов отскочил в угол. Руки художника были в крови. В кабинете – все вверх дном: на полу валялся мольберт с красками, посреди комнаты горой были свалены стулья, плакаты, наброски картин, на столе валялись остатки закуски, липкие граненые стаканы, недопитые вонючие бутылки с самогоном и злосчастной «карамелькой». В углу у стены стоял сильно порезанный большой портрет Берии. Рядом с ним – Климов с кухонным ножом. Художник налетел на портрет. Взмах, и на полотне появилась еще одна большая дыра.
– Что, сука лысая, получил? – сквозь пьяные слезы выкрикивал художник. – На еще, английский прихвостень!
Его рука то поднималась, то опускалась, пока портрет Лаврентия Павловича не превратился в лохмотья.
– Что ты натворил, бандит? – закричала тетя Дуся.
– А чего он? Шпион! А я ему верил…– плакал Климов.
– Он болен. Срочно сюда доктора! – стала спасать ситуацию тетя Дуся. – Не в себе он.
– Не надо никакого доктора, – успокоил заведующую клубом Косяков. – Хмель у мужика пройдет, все образуется.
Причина странного поведения художника была понятна Косякову. Несколько дней назад по радио сообщили, что нарком внутренних дел СССР, маршал Советского Союза Лаврентий Берия арестован как английский шпион. Для Климова это был шок. Он, детдомовец, воспитанный партией и комсомолом, всегда безоговорочно веривший руководителям государства, вдруг узнал, что Берия – враг народа. Он снял со стены его портрет, который висел в фойе клуба, и по-тихому унес к себе в кабинет. Видимо, после душевных посиделок с зэками, он решил, что настал час расплаты.
Климова накапала мужу успокоительных капель в стакан с водой, заставила выпить, потом ему дали понюхать нашатыря и усадили в кресло. Маруся принесла из буфета горячего сладкого чаю. Через полчаса он пришел в себя. Его взгляд первым делом остановился на изрезанном портрете. Очухавшись, он тихо спросил:
– А кто это портрет Лаврентия Павловича изуродовал?
Помощник участкового с тетей Дусей только развели руками. Вскоре Климов уехал оформлять наглядную агитацию в клуб другого лесопункта. Хорошо, что не посадили. Времена уже были не те.
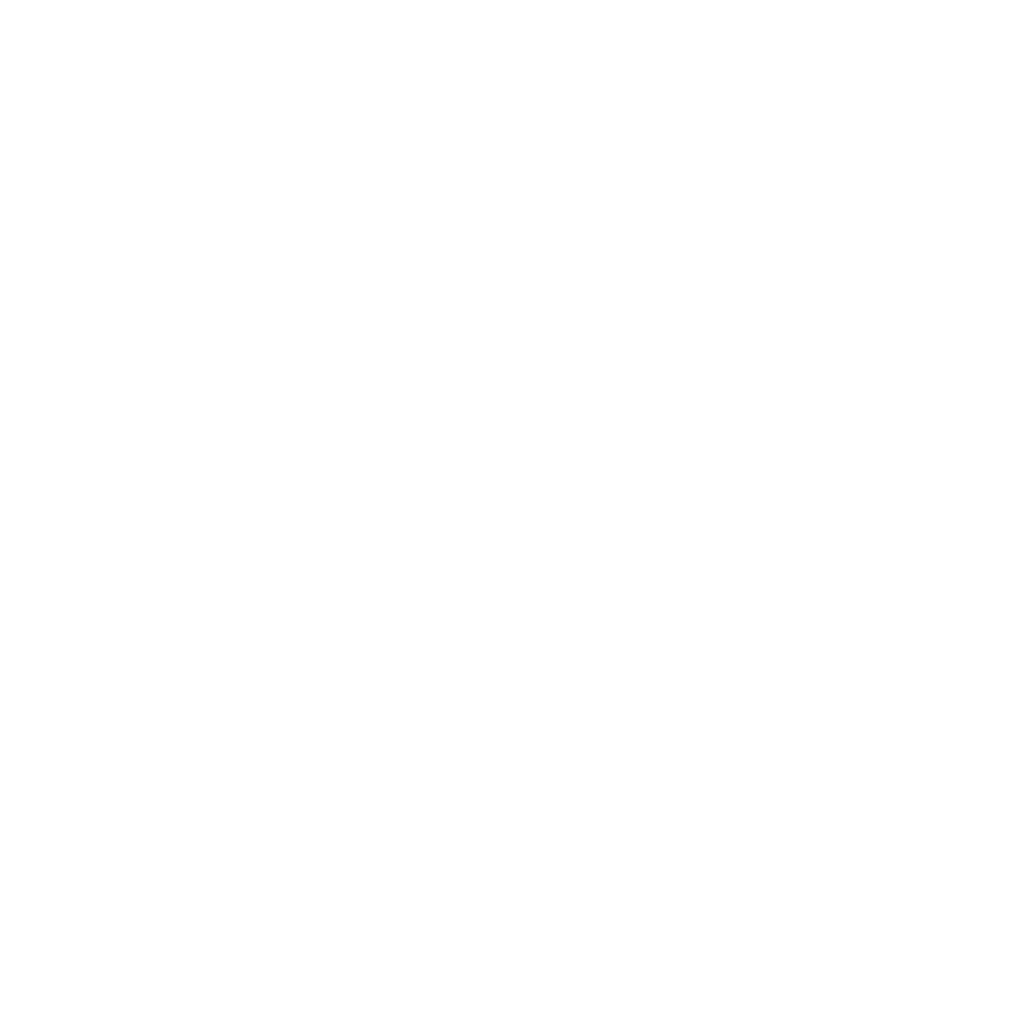
Арефий КУДРЯШОВ
Мне было одиннадцать, когда я впервые понял, что жить – занятие не из лёгких. Детская тоска пахла крашеным полом, бабушкиным халатом и ночной тишиной, в которой телевизор общался сам с собой. Начал писать не из-за таланта. Просто не с кем было поговорить. С тех пор пишу. О том, что не проходит. О том, что никто не просил. Иногда выходит неплохо. Иногда – выходит из-под контроля. Здесь не будет инструкций по счастью. Только тексты. В них – кто-то вроде меня. Или вас.
https://t.me/kudryashov_arefiy
Мне было одиннадцать, когда я впервые понял, что жить – занятие не из лёгких. Детская тоска пахла крашеным полом, бабушкиным халатом и ночной тишиной, в которой телевизор общался сам с собой. Начал писать не из-за таланта. Просто не с кем было поговорить. С тех пор пишу. О том, что не проходит. О том, что никто не просил. Иногда выходит неплохо. Иногда – выходит из-под контроля. Здесь не будет инструкций по счастью. Только тексты. В них – кто-то вроде меня. Или вас.
https://t.me/kudryashov_arefiy
ЧУЖАЯ КВАРТИРА
Я никогда не искал идеальное жильё. Мне просто нужно было место, где можно спать, варить кофе и пореже встречаться взглядом с тараканами. Поэтому переезжал часто.
Вроде снимешь квартиру, обживёшься, а потом внезапно что-то идёт не так. Хозяин поднимает цену, соседи устраивают ночной караоке-клуб, батареи оказываются декоративными. Собираешь вещи, бросаешь в сумку, переезжаешь на другой конец Москвы и обещаешь себе, что в этот раз – надолго.
Вариант на Динамо был неплох. Маленькая однушка с кривыми потолками. Индивидуальный проект, говорят. Честно сказать – обычная хрущевка.
– Ну, здравствуй, дом, – пробормотал я и первым делом запустил кота.
На кухне пахло чем-то знакомым. Обычно съёмное жильё пахнет смесью старого линолеума, прошлого жильца и плесени, которую пытались замазать краской. Но это был запах чего-то другого.
Открыл шкафчик.
Лавровый лист. Старый, выцветший, в рваной бумажной пачке. Запах ударил в нос, и я замер.
Так пахло у мамы.
В детстве я знал: если в доме такой запах, значит, суп. Если суп, значит, мама дома. Если мама дома, значит, можно расслабиться и ничего не решать.
Кот фыркнул. Вряд ли он был против лаврового листа. Скорее, ему просто не нравилось, что я застыл на месте, вместо того чтобы распаковывать его миску.
На плите – кастрюля. Пустая, явно повидавшая многое. Алюминиевая, с чёрными ручками, облезлыми от времени.
Точно такая была дома. В ней всегда был суп. Не важно какой – борщ, щи, куриный бульон – просто суп. Тут же замешивали тесто на блины и варили пельмени, пока не купили новую.
Я включил чайник и пошёл разбирать сумку.
Шкаф.
Обычный: старый, с отходящими полосками лакированного шпона.
Ровно так же скрипел шкаф в детстве. Всё-таки у каждого в жизни есть одна неизменная вещь – шкаф, который звучит одинаково.
Внутри – железная вешалка с отломанным крючком. Да что ты будешь делать.
Не знаю почему, но в каждой квартире мне попадалась эта чёртова вешалка. Может, они размножаются в шкафах. Может, их оставляют все, кто съезжает. Или есть какой-то закон мироздания, по которому в любой съёмной квартире должна быть одна искалеченная вешалка.
Присел на диван, достал телефон и задумался.
Если я сейчас перееду, что останется после меня?
Вешалка? Само собой.
Носки, потерянные под диваном? Безусловно.
Пачка засохшего чая в шкафу?
Я выдохнул и достал сотовый. Длинный гудок, затем – тишина.
– Алло, мам.
– Ой, сынок, ты чего так поздно?
– Просто так.
Она насторожилась.
– Просто так не звонишь. Чего случилось?
Я посмотрел на кастрюлю, вешалку, шкаф.
– Да вот, квартиру новую снял.
– Ну и как?
– Как у тебя.
– В смысле?
– Ну, шкаф такой же, кастрюля такая же. Даже лавровый лист есть.
Она засмеялась.
– Так это хорошо! Значит, не потеряешься.
Хотел возразить, что так не работает, но промолчал.
– Ладно, давай я тебе денег пришлю, купишь себе что-нибудь в дом.
– Ма, не надо.
– Ладно-ладно, просто спросила. Ты хоть питаешься нормально?
Я посмотрел на пустой холодильник.
– Ну, пока да.
– А что готовил?
– Ну…
– Опять кофе и сигареты, да?
– Нет.
Кот демонстративно посмотрел так, будто только что телепатически сдал меня с потрохами. Мама на том конце телефона что-то почувствовала.
– Да.
– Ну, ладно: да, – признался я.
– Готовить надо, сынок. Горячее для желудка. Купи курицу, сделай суп.
Посмотрел на кастрюлю.
– Да, суп.
– Курица, картошка, морковка, лук. Всё просто.
– А лавровый лист добавлять?
– Конечно.
Снова глянул на шкафчик.
– Тут уже есть.
– Вот и хорошо.
Мама что-то говорила. Я слушал. Не запоминал, просто слушал.
Я ещё перееду не раз. Буду сидеть в пустых комнатах, смотреть на вещи, искать знакомые приметы. И мама всегда будет рядом. Даже если её нет.
Телефон лежал рядом. Всё забываю его починить.
СМЕТАНА
Для Александра Непомнящего
1
Мальчик пробирался сквозь разбомбленный город, прижимая к сердцу банку просроченной сметаны. Трещины на стекле, серый налёт времени на крышке, но внутри ещё что-то белело, не испорченное до конца. Её хватит надолго, если экономить.
Вдалеке трещали автоматы, глухо ухала артиллерия. Но мальчик не бежал. Здесь давно никто не бежал. Только шли, слегка пригнувшись, или ползли.
Ему было холодно. Сапоги давно не держали тепло, пальцы на ногах ныли, но мальчик почти не обращал на это внимания. Главное – не разбить.
Он знал путь наизусть: через старый магазин, мимо выжженной автобусной остановки, вниз, в подвал. Туда можно попасть, только если знаешь, где лаз.
Внутри пахло гарью и мокрой землёй. Воздух тяжёлый, с привкусом железа. В углу на тряпке, свернувшись клубком, лежала кошка.
– Я принёс, – прошептал мальчик.
Он поставил банку и сел рядом, вытянув ноющие ноги.
– Долго искал, но нашёл. Немного просроченная, но ничего… Мама всегда говорила, что если не пахнет, значит, можно есть.
Кошка не двигалась.
– Тебе понравится, правда, Леся? Ты всегда любила сметану.
Она не открывала глаз.
Мальчик поёрзал, устроился поудобнее. Протянул руку, но не решился дотронуться. Не хотел будить.
– Спи, сколько надо.
Мама никогда не будила его просто так. Она сидела рядом и ждала, пока он проснётся сам.
Он тоже будет ждать.
Пусть спит, сколько нужно.
Снаружи что-то рухнуло – оглушительно, с рёвом, но мальчик даже не вздрогнул. Это было неважно.
2
Стало холоднее. Ветер проникал сквозь щели, попадал в трубу и выл колыбельную.
Он посмотрел на кошку.
– Леся?
Она не шевельнулась.
Мальчик коснулся шерсти. Она была холодной.
Сметана в банке покрылась тонкой плёнкой.
Наверху что-то взорвалось. Потом ещё раз. Ближе. Пыль посыпалась с потолка.
Кошка не шевелилась. Она была мертва уже давно.
– Спи, сколько нужно.
3
Днём взорвали подстанцию. Этой ночью в подвале было особенно холодно. Мальчик свернулся клубком под кучей старого тряпья в попытке согреться.
Пусть спит.
Пусть спит, сколько нужно...
Я никогда не искал идеальное жильё. Мне просто нужно было место, где можно спать, варить кофе и пореже встречаться взглядом с тараканами. Поэтому переезжал часто.
Вроде снимешь квартиру, обживёшься, а потом внезапно что-то идёт не так. Хозяин поднимает цену, соседи устраивают ночной караоке-клуб, батареи оказываются декоративными. Собираешь вещи, бросаешь в сумку, переезжаешь на другой конец Москвы и обещаешь себе, что в этот раз – надолго.
Вариант на Динамо был неплох. Маленькая однушка с кривыми потолками. Индивидуальный проект, говорят. Честно сказать – обычная хрущевка.
– Ну, здравствуй, дом, – пробормотал я и первым делом запустил кота.
На кухне пахло чем-то знакомым. Обычно съёмное жильё пахнет смесью старого линолеума, прошлого жильца и плесени, которую пытались замазать краской. Но это был запах чего-то другого.
Открыл шкафчик.
Лавровый лист. Старый, выцветший, в рваной бумажной пачке. Запах ударил в нос, и я замер.
Так пахло у мамы.
В детстве я знал: если в доме такой запах, значит, суп. Если суп, значит, мама дома. Если мама дома, значит, можно расслабиться и ничего не решать.
Кот фыркнул. Вряд ли он был против лаврового листа. Скорее, ему просто не нравилось, что я застыл на месте, вместо того чтобы распаковывать его миску.
На плите – кастрюля. Пустая, явно повидавшая многое. Алюминиевая, с чёрными ручками, облезлыми от времени.
Точно такая была дома. В ней всегда был суп. Не важно какой – борщ, щи, куриный бульон – просто суп. Тут же замешивали тесто на блины и варили пельмени, пока не купили новую.
Я включил чайник и пошёл разбирать сумку.
Шкаф.
Обычный: старый, с отходящими полосками лакированного шпона.
Ровно так же скрипел шкаф в детстве. Всё-таки у каждого в жизни есть одна неизменная вещь – шкаф, который звучит одинаково.
Внутри – железная вешалка с отломанным крючком. Да что ты будешь делать.
Не знаю почему, но в каждой квартире мне попадалась эта чёртова вешалка. Может, они размножаются в шкафах. Может, их оставляют все, кто съезжает. Или есть какой-то закон мироздания, по которому в любой съёмной квартире должна быть одна искалеченная вешалка.
Присел на диван, достал телефон и задумался.
Если я сейчас перееду, что останется после меня?
Вешалка? Само собой.
Носки, потерянные под диваном? Безусловно.
Пачка засохшего чая в шкафу?
Я выдохнул и достал сотовый. Длинный гудок, затем – тишина.
– Алло, мам.
– Ой, сынок, ты чего так поздно?
– Просто так.
Она насторожилась.
– Просто так не звонишь. Чего случилось?
Я посмотрел на кастрюлю, вешалку, шкаф.
– Да вот, квартиру новую снял.
– Ну и как?
– Как у тебя.
– В смысле?
– Ну, шкаф такой же, кастрюля такая же. Даже лавровый лист есть.
Она засмеялась.
– Так это хорошо! Значит, не потеряешься.
Хотел возразить, что так не работает, но промолчал.
– Ладно, давай я тебе денег пришлю, купишь себе что-нибудь в дом.
– Ма, не надо.
– Ладно-ладно, просто спросила. Ты хоть питаешься нормально?
Я посмотрел на пустой холодильник.
– Ну, пока да.
– А что готовил?
– Ну…
– Опять кофе и сигареты, да?
– Нет.
Кот демонстративно посмотрел так, будто только что телепатически сдал меня с потрохами. Мама на том конце телефона что-то почувствовала.
– Да.
– Ну, ладно: да, – признался я.
– Готовить надо, сынок. Горячее для желудка. Купи курицу, сделай суп.
Посмотрел на кастрюлю.
– Да, суп.
– Курица, картошка, морковка, лук. Всё просто.
– А лавровый лист добавлять?
– Конечно.
Снова глянул на шкафчик.
– Тут уже есть.
– Вот и хорошо.
Мама что-то говорила. Я слушал. Не запоминал, просто слушал.
Я ещё перееду не раз. Буду сидеть в пустых комнатах, смотреть на вещи, искать знакомые приметы. И мама всегда будет рядом. Даже если её нет.
Телефон лежал рядом. Всё забываю его починить.
СМЕТАНА
Для Александра Непомнящего
1
Мальчик пробирался сквозь разбомбленный город, прижимая к сердцу банку просроченной сметаны. Трещины на стекле, серый налёт времени на крышке, но внутри ещё что-то белело, не испорченное до конца. Её хватит надолго, если экономить.
Вдалеке трещали автоматы, глухо ухала артиллерия. Но мальчик не бежал. Здесь давно никто не бежал. Только шли, слегка пригнувшись, или ползли.
Ему было холодно. Сапоги давно не держали тепло, пальцы на ногах ныли, но мальчик почти не обращал на это внимания. Главное – не разбить.
Он знал путь наизусть: через старый магазин, мимо выжженной автобусной остановки, вниз, в подвал. Туда можно попасть, только если знаешь, где лаз.
Внутри пахло гарью и мокрой землёй. Воздух тяжёлый, с привкусом железа. В углу на тряпке, свернувшись клубком, лежала кошка.
– Я принёс, – прошептал мальчик.
Он поставил банку и сел рядом, вытянув ноющие ноги.
– Долго искал, но нашёл. Немного просроченная, но ничего… Мама всегда говорила, что если не пахнет, значит, можно есть.
Кошка не двигалась.
– Тебе понравится, правда, Леся? Ты всегда любила сметану.
Она не открывала глаз.
Мальчик поёрзал, устроился поудобнее. Протянул руку, но не решился дотронуться. Не хотел будить.
– Спи, сколько надо.
Мама никогда не будила его просто так. Она сидела рядом и ждала, пока он проснётся сам.
Он тоже будет ждать.
Пусть спит, сколько нужно.
Снаружи что-то рухнуло – оглушительно, с рёвом, но мальчик даже не вздрогнул. Это было неважно.
2
Стало холоднее. Ветер проникал сквозь щели, попадал в трубу и выл колыбельную.
Он посмотрел на кошку.
– Леся?
Она не шевельнулась.
Мальчик коснулся шерсти. Она была холодной.
Сметана в банке покрылась тонкой плёнкой.
Наверху что-то взорвалось. Потом ещё раз. Ближе. Пыль посыпалась с потолка.
Кошка не шевелилась. Она была мертва уже давно.
– Спи, сколько нужно.
3
Днём взорвали подстанцию. Этой ночью в подвале было особенно холодно. Мальчик свернулся клубком под кучей старого тряпья в попытке согреться.
Пусть спит.
Пусть спит, сколько нужно...
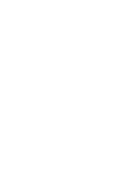
Ольга БУРУКИНА
Профессор российских и зарубежных университетов, кандидат филологических наук, доцент. Любимое хобби – творчество: с детства пишет стихи, а сейчас завершает работу над циклом романов в жанре «фэнтези» и циклом детективных романов, готовит к печати сборник сказок «Одуванчик» и научно-популярную книгу «Я не могу овладеть иностранным». Супружеский стаж – 34 года, счастливая мама пяти сыновей. Победитель (1 место) конкурса «Созвездие-2024» издательского проекта «Избранное» творческой фирмы «Авторское содружество», победитель (2 место) литературного конкурса «Лето – это маленькая жизнь» МСРП, победитель (3 место) литературного конкурса «Весеннее настроение» МСРП, лауреат VI Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2024», дипломант международного конкурса «Стихотворение по заданной строке».
Профессор российских и зарубежных университетов, кандидат филологических наук, доцент. Любимое хобби – творчество: с детства пишет стихи, а сейчас завершает работу над циклом романов в жанре «фэнтези» и циклом детективных романов, готовит к печати сборник сказок «Одуванчик» и научно-популярную книгу «Я не могу овладеть иностранным». Супружеский стаж – 34 года, счастливая мама пяти сыновей. Победитель (1 место) конкурса «Созвездие-2024» издательского проекта «Избранное» творческой фирмы «Авторское содружество», победитель (2 место) литературного конкурса «Лето – это маленькая жизнь» МСРП, победитель (3 место) литературного конкурса «Весеннее настроение» МСРП, лауреат VI Международной премии в области литературного творчества для детей «Алиса-2024», дипломант международного конкурса «Стихотворение по заданной строке».
СДАЧА
В первой половине 1980-х годов в Советском Союзе жилось труднее, чем в 1950-х: полки магазинов не ломились от продовольственных и непродовольственных товаров. Даже в столице «урвать» кусок сыра, варёной колбасы или пару глазированных сырков можно было, лишь дождавшись открытия универсама и, ворвавшись в него с другими ожидающими-желающими, опустошить несколько маленьких, почти детских магазинных тележек, наполненных вожделенной едой. Еда мгновенно разбегалась по металло-сетчатым корзинам счастливых обладателей, с удовлетворением встававших в очередь в кассу.
В Ленинграде жилось не легче: без очереди можно было купить разве что апельсины, да и то, если повезёт. Поэтому, когда Ивану предложили поехать с семьёй в служебную командировку в Чехословакию, его юная жена Антонина была готова прыгать от счастья: ведь выехать за границу в страны СЭВ считалось большой удачей.
К тому же в Чехии, а именно в эту часть Чехословакии направляли мужа, климат был помягче, чем в Ленинграде, и Антонина надеялась, что их маленький сын, десятимесячный Алёшенька, будет меньше болеть и вырастет здоровым, а то осенне-зимние туманы и низкие облака, закрывавшие солнце на берегу Невы, уже начали сказываться на здоровье младенца: малыш уже дважды успел переболеть.
Мир промозглых ленинградских улиц в предзимье был окутан серой пеленой, а воздух, пропитанный острой свежестью приближающейся зимы, казался гнетущим, омрачённый внезапной простудой маленького сына.
На оформление документов и прочие формальности ушло почти пять месяцев; в Ленинград пришла календарная весна, но до настоящей весны ещё надо было дожить…
Антонине особенно хорошо запомнился один товарищ средних лет в большом казенном доме: он вызвал Антонину на беседу, усадил за деревянный стол времен гражданской войны, на такой же видавший виды деревянный стул, достал из ящика тетрадку толщиной в 96 листов в клеёнчатой обложке, на первой странице написал фамилию, имя, отчество Антонины и велел ей во всё время пребывания за границей внимательно смотреть и слушать да запоминать либо записывать, кто из иностранцев о чём с ней будет говорить, потому что потом, по возвращении в Ленинград, она должна прийти к нему; он выдаст ей эту тетрадочку, и ей надлежит всё аккуратно изложить с самыми что ни на есть подробностями – датами, именами и фамилиями. Он добавил, что у него таких тетрадочек – тысячи, так что стесняться нечего.
Антонина ответила, что у неё маленький ребёнок, и она вряд ли успеет с местными пообщаться: малыш да хозяйство будут занимать всё её время и внимание. Но суровый товарищ настаивал, и Антонина энергично покивала головой, что, мол, да, по возвращении как штык придёт и всё-всё-всё в тетрадочку запишет. А про себя твёрдо решила, что ноги её не будет больше в этом кабинете – слава Богу, не подневольная!
По прибытии в Чески-Крумлов, славный чешский городок в Южной Богемии на берегу красавицы-Влтавы, у Ивана и Антонины голова закружилась от сонма непривычных запахов, звуков и образов, целиком захвативших молодых супругов своей яркостью, силой и необычностью сочетаний, так отличавшихся от родных, домашних, оставшихся в промозглом Ленинграде. Улицы в центре города, украшенные разноцветными зданиями, резко контрастировали со строгим внешним видом домов на окраинах Ленинграда, вызывая у супругов чувство удивления и любопытства.
Над городом возвышался замок XIII века, – необыкновенное сочетание готики, эпохи Возрождения и барокко, – с огромным садом и барочным театром XVII века. Новые сослуживцы Ивана рассказывали, что с колокольни замка открывался панорамный вид на Старый город и Влтаву, только вот попасть на колокольню было очень трудно.
Пражская весна 1968 года вроде бы осталась далеко позади, да Антонина и не слышала о ней вовсе: событие скупо освещалось в советской прессе и еще меньше – на телевидении, да и было Антонине тогда всего ничего. А теперь, казалось, ничто не могло заслонить голубые небеса над Влтавой и над Иваном и Антониной.
Окраина, на которой разместились Иван и Антонина, сильно отличалась от центра города, напоминая провинциальный советский городок. Когда молодые супруги обустроились в своей скромной новой (на вид – совсем не новой) квартирке, в которой каждый предмет старой фанерной мебели имел на боку крупный инвентарный номер, первое, что их поразило, это тепло весны и обилие еды: рыночные прилавки ломились от свежих фруктов, овощей и бесчисленных сортов хлеба. В первые же выходные, взяв драгоценные кроны, Иван с Антониной пошли на рынок. Пока Антонина шла по рынку, у неё перехватило дыхание:
– Ванечка! Посмотри на эти яблоки, Ванечка! Ни одной червоточины! – молодая женщина смотрела на большое блестящее красное яблоко на свет, восхищаясь его совершенством. Стоявший неподалеку торговец улыбнулся и начал предлагать Антонине сезонные овощи: капусту белокочанную и краснокочанную, редьку зелёную и чёрную, лук трёх цветов и чеснок.
Но капустой да редькой наших не удивишь. А вот обилие мясных и колбасных изделий, разнообразие сыров да множество сортов хлеба, ещё теплого, только что из печи, удивляли и радовали одновременно. А неземные запахи кружили голову и будоражили воображение.
Иван с Антониной брели дальше по рынку и вышли в ту часть, где в витринах появилась одежда. И какая одежда! Разноцветная, нарядная, с яркими узорами, необычных фактур и стилей, так отличавшихся от скромных, даже аскетичных цветов и стилей отечественного ширпотреба.
Супруги задержались у входа в бутик, со сдержанным восторгом наблюдая за мальчиком, кружившемся в магазине в ярко-красном (!) пальто. Искренний смех лился из его уст, заставляя прохожих невольно улыбаться. Рядом стояла женщина в джинсах – Иван с Антониной видели такие только в кино. Джинсы выглядели удобными и стильными и совсем... нездешними…
Вернувшись домой, Антонина приготовила ужин, экспериментируя со свежими, только что купленными продуктами. Иван играл с Алёшенькой, и речь мужа и смех малыша наполняли её сердце таким теплом, что хотелось петь, и Антонина напевала весёлую песенку и наслаждалась ароматом блюд, заполнившим кухню.
Вскоре Антонина позвала своих любимых мужчин на кухню: Алёшеньку усадили в только что купленный детский стульчик, муж сел слева от сыночка, Антонина – справа, чтоб удобнее было кормить чадушко с ложки, и пирушка началась! Стол был уставлен деликатесами: салат овощной, салат рыбный, салат «Оливье», пикантные жареные овощи, тушёная телятина с ароматными травами, жареная картошка, варёная колбаса, копчёные колбаски, разноцветный сыр, хрустящий свежий хлеб. Иван смотрел на Антонину, сияя от гордости:
– Всё так вкусно, что даже трогать страшно – боюсь испортить эту красоту, – сказал он, и супруги рассмеялись, чувствуя необъяснимую радость и радуясь своим новым ощущениям, запахам, вкусам...
Дни превращались в недели, по выходным семья продолжала исследовать окрестности, любуясь архитектурой старинных замков и наслаждаясь неспешными прогулками вдоль Влтавы. Иван и Антонина начали понимать ритм жизни, которая, казалось, текла легко и непринужденно. Они находили новые радости не только в еде и одежде, но и в людях, которых встречали повсюду: дружелюбных соседях, улыбавшихся им при встрече, чешских коллегах на новой работе Ивана, мамочках, гулявших на детской площадке со своими малышами и каждый раз приветливо кивавших Антонине…
Поначалу Иван и Антонина никак не могли поверить, что встретившее их в Чехословакии изобилие продуктов завтра не исчезнет, и в магазинах по-прежнему будут и мясо, и сыр, и колбаса, и фрукты, и хлеб разных сортов. Молодые ленинградцы сначала закупались с избытком: очень хотелось попробовать и этого, и того, и ещё вот того, оранжевого сырика, обсыпанного зеленью, и копчёных колбасок, и рульку – вот эту, самую маленькую… Но к хорошему быстро привыкаешь, и вскоре Иван с Антониной поняли, что закупаться впрок необязательно: и сырик, и колбаски, и рулька сегодня были снова на своих местах, как будто их и не покупали вчера …
«Как можно так жить?» – невольно подумала Антонина, изумляясь тому, как ярко сияет здесь жизнь. Ощущение было такое, словно она попала на страницы прекрасной книги волшебных сказок народов мира, которую её отцу с трудом удалось купить на какой-то книжной выставке-ярмарке. Эта книга изобиловала чудесными картинками, и чудеса в ней казались безграничными.
Муж в будни с утра до вечера пропадал на работе, а Антонина с Алёшенькой были на хозяйстве: занимались покупками, готовкой, уборкой... И вот, осматриваясь по соседству с их домом и наблюдая за поведением местных жителей, Антонина обнаружила, что многие соседи ходят в небольшой частный магазинчик, стоящий на холме среди цветущих слив и вишен, и тоже стала покупать там продукты, приходя с малышом, висящим у неё на груди в только что приобретённой «кенгурушке» (чудо чудное, в Ленинграде невиданное!).
Магазинчик был маленький – в нём продавались только сыры и мясоколбасная продукция. При входе в магазинчик тренькал маленький колокольчик на доводчике двери, и Антонине казалось, что весёлый звон колокольчика как будто переносил её с Алёшенькой в другую реальность, где было много сортов сыра и колбас, и они никогда не кончались; это забавное маленькое чудо неизменно повторялось всякий раз, когда Антонина приходила в магазинчик.
Молодая женщина только начала осваивать чешский язык и сначала лишь здоровалась по-чешски: “Ahoj!” и благодарила: “Děkuju!” («Спасибо!»), но вскоре добавила к своему скудному запасу “Sbohem!” («До свидания!») и “Prosím, dej mi to” («Дайте мне, пожалуйста, это»); начала осваивать цифры, но пока ещё называла их по-русски.
Хозяин магазинчика, пожилой темноволосый чех с большими усами, сразу понял, что Антонина – русская; он никогда ей не улыбался, но был вежлив. Он привык к иностранцам: его магазин полюбился немцам из Восточной Германии, которые по традиции приезжали сюда, чтобы купить вкусной чешской еды дешевле, чем в ГДР. Но он хорошо помнил Пражскую весну и понимал, почему русская женщина с ребёнком живёт в Ческом-Крумлове.
Сначала Антонина не могла сдержаться и накупила слишком много еды: хотелось попробовать всего и сразу, но постепенно пообвыклась и стала покупать меньше и приходить в симпатичный маленький магазинчик в цветущем саду на холме через день, а то и через два-три дня. И магазинчик неизменно радовал её разнообразием сырно-колбасных деликатесов. Жизнь шла свои чередом: Антонина и Иван начали привыкать к хорошей жизни и немного расслабились. Всё было хорошо.
Наступило лето. Деревья в саду отцвели, но зацвели садовые цветы в палисадниках и полевые цветы на лугах вдоль Влтавы, мир наполнился новыми, летними красками.
И вот однажды Антонина с Алёшенькой, как обычно, зашла в полюбившийся ей магазинчик на холме; колокольчик на двери приветливо звякнул. Антонина выстояла короткую очередь, мельком разглядывая нового продавца – молодого светловолосого парня с юношескими прыщами на лице. Перед Антониной стояли три человека, но по мере приближения к прилавку, за ней тоже выстроилась небольшая очередь. Подойдя к прилавку, Антонина попросила 300 граммов телятины, 250 граммов сыра и шесть коротких тонких копчёных колбасок, которые так понравились её мужу. Хотя она сказала “Dobré ráno!” («Доброе утро!») и “Děkuju!” («Спасибо!») по-чешски, Антонина была ещё «на Вы» с чешским языком, и ей пришлось указать рукой на выбранные товары в витрине и назвать количество граммов на ломаном чешском и русском языках. Продавец понял, что она не немка, и спросил её: «Русская?» Антонина не могла солгать и подтвердила. Она отвлеклась на малыша, запрыгавшего в «кенгурушке» и не следила за происходящим на прилавке.
Молодой продавец неаккуратно завернул товар в бумагу, и одна колбаска с тихим стуком упала на прилавок. Продавец кинул её в сумку Антонины, не упаковывая, и по-чешски назвал сумму покупки. Антонина быстро сообразила и подала ему банкноту. Молодой человек взял банкноту, положил её в монетный ящик кассы и обратился к мужчине средних лет, стоявшему за Антониной: “Co chceš?” («Чего желаете?»).
Покупатель обратился к продавцу по-немецки и начал перечислять, что именно он желает пробрести. Продавец отвечал ему на сносном немецком.
Антонина подсчитала, что продавец должен был вернуть ей примерно четвёртую часть от номинала купюры, что в её понимании было немало. Пока Антонина стояла в очереди, она видела, что продавец скрупулёзно отсчитывал сдачу с каждой поданной ему купюры. Замешкавшись у прилавка, слегка озадаченная Антонина сказала “Promiň!” («Простите!») мужчине, которого уже начал обслуживать молодой продавец, и обратилась к продавцу: “Změna, prosím!” («Сдачу, пожалуйста!»).
Молодой человек медленно перевёл взгляд на Антонину и, как-то нехорошо ухмыльнувшись, с тихим свистом переспросил: “Změna?”
Антонина кивнула. От ухмылки продавца ей стало не по себе, и она, повинуясь необъяснимому порыву, отступила от прилавка на шаг назад.
“Změna?” – почти крикнул ей в лицо продавец. Не зная, как реагировать, Антонина отступила ещё на шаг.
По-прежнему ухмыляясь, белобрысый чех открыл монетный ящик кассы и, зачерпнув пригоршню самых мелких геллеров – «галишек», как называли их в обиходе местные жители – швырнул их Антонине в лицо.
Монеты веером полетели в молодую женщину, она едва успела чуть повернуться и прикрыть обеими руками голову сына, но монеты больно ударили её в шею, лицо, руки. Несколько монет попали в «кенгурушку», в которой висел Алёша, и малыш недовольно закряхтел.
Поражённая внезапным выпадом Антонина, конечно, и не думала поднимать рассыпавшиеся по полу монеты; она на мгновение замерла, глядя прямо в глаза молодому продавцу, слёзы затуманили её глаза. Белобрысый чех продолжал ухмыляться, его взгляд был дерзким и вызывающим – он явно был доволен собой. Сердце Антонины переполнили стыд, боль от незаслуженной обиды и опасение за здоровье сына. Она высоко подняла голову, повернулась и, сдерживая слёзы, быстрым шагом вышла из магазина, прикрывая ребёнка руками и небольшой сумкой с продуктами.
Покупатели, стоявшие в очереди за ней, переглядывались, две пожилые дамы, стоявшие у самого выхода, посторонились, оживленно вполголоса обмениваясь впечатлениями.
Немец средних лет, стоявший в очереди за Антониной, молча проводил её взглядом. Повернувшись к прилавку, он сделал продавцу знак рукой, приглашая его придвинуться ближе. Молодой чех заинтересованно придвинулся – немец мгновенно схватил чеха за шею и ударил его лицом об открытый монетный ящик. Белобрысый продавец отскочил назад, но один геллер прилип к жирной коже его потной щеки. Немец дотянулся, схватил горсть более ценных монет и выбежал из магазина вслед за Антониной, которая медленно спускалась вниз по холму, тихо плача. Немец окликнул её, назвав по-немецки «фрау» и протянул ей монеты. Антонина поблагодарила его: “Danke shön”, но от монет отказалась, покачав головой. Попыталась улыбнуться, ещё раз сказала “Danke” и пошла дальше, вниз по склону.
Немец вернулся в магазин, обошёл очередь. Молодой продавец, увидев его, отступил назад и вжался в стену, вытирая рукавом кровь из носа. Немец извинился перед пожилой дамой, стоявшей у прилавка, дотянулся и аккуратно сложил все монеты обратно в монетный ящик. Сказал по-немецки “Scheiße” («Дерьмо»), ещё раз извинился перед старушкой и вышел из магазина, чтобы больше, как и Антонина, не возвращаться туда никогда.
В первой половине 1980-х годов в Советском Союзе жилось труднее, чем в 1950-х: полки магазинов не ломились от продовольственных и непродовольственных товаров. Даже в столице «урвать» кусок сыра, варёной колбасы или пару глазированных сырков можно было, лишь дождавшись открытия универсама и, ворвавшись в него с другими ожидающими-желающими, опустошить несколько маленьких, почти детских магазинных тележек, наполненных вожделенной едой. Еда мгновенно разбегалась по металло-сетчатым корзинам счастливых обладателей, с удовлетворением встававших в очередь в кассу.
В Ленинграде жилось не легче: без очереди можно было купить разве что апельсины, да и то, если повезёт. Поэтому, когда Ивану предложили поехать с семьёй в служебную командировку в Чехословакию, его юная жена Антонина была готова прыгать от счастья: ведь выехать за границу в страны СЭВ считалось большой удачей.
К тому же в Чехии, а именно в эту часть Чехословакии направляли мужа, климат был помягче, чем в Ленинграде, и Антонина надеялась, что их маленький сын, десятимесячный Алёшенька, будет меньше болеть и вырастет здоровым, а то осенне-зимние туманы и низкие облака, закрывавшие солнце на берегу Невы, уже начали сказываться на здоровье младенца: малыш уже дважды успел переболеть.
Мир промозглых ленинградских улиц в предзимье был окутан серой пеленой, а воздух, пропитанный острой свежестью приближающейся зимы, казался гнетущим, омрачённый внезапной простудой маленького сына.
На оформление документов и прочие формальности ушло почти пять месяцев; в Ленинград пришла календарная весна, но до настоящей весны ещё надо было дожить…
Антонине особенно хорошо запомнился один товарищ средних лет в большом казенном доме: он вызвал Антонину на беседу, усадил за деревянный стол времен гражданской войны, на такой же видавший виды деревянный стул, достал из ящика тетрадку толщиной в 96 листов в клеёнчатой обложке, на первой странице написал фамилию, имя, отчество Антонины и велел ей во всё время пребывания за границей внимательно смотреть и слушать да запоминать либо записывать, кто из иностранцев о чём с ней будет говорить, потому что потом, по возвращении в Ленинград, она должна прийти к нему; он выдаст ей эту тетрадочку, и ей надлежит всё аккуратно изложить с самыми что ни на есть подробностями – датами, именами и фамилиями. Он добавил, что у него таких тетрадочек – тысячи, так что стесняться нечего.
Антонина ответила, что у неё маленький ребёнок, и она вряд ли успеет с местными пообщаться: малыш да хозяйство будут занимать всё её время и внимание. Но суровый товарищ настаивал, и Антонина энергично покивала головой, что, мол, да, по возвращении как штык придёт и всё-всё-всё в тетрадочку запишет. А про себя твёрдо решила, что ноги её не будет больше в этом кабинете – слава Богу, не подневольная!
По прибытии в Чески-Крумлов, славный чешский городок в Южной Богемии на берегу красавицы-Влтавы, у Ивана и Антонины голова закружилась от сонма непривычных запахов, звуков и образов, целиком захвативших молодых супругов своей яркостью, силой и необычностью сочетаний, так отличавшихся от родных, домашних, оставшихся в промозглом Ленинграде. Улицы в центре города, украшенные разноцветными зданиями, резко контрастировали со строгим внешним видом домов на окраинах Ленинграда, вызывая у супругов чувство удивления и любопытства.
Над городом возвышался замок XIII века, – необыкновенное сочетание готики, эпохи Возрождения и барокко, – с огромным садом и барочным театром XVII века. Новые сослуживцы Ивана рассказывали, что с колокольни замка открывался панорамный вид на Старый город и Влтаву, только вот попасть на колокольню было очень трудно.
Пражская весна 1968 года вроде бы осталась далеко позади, да Антонина и не слышала о ней вовсе: событие скупо освещалось в советской прессе и еще меньше – на телевидении, да и было Антонине тогда всего ничего. А теперь, казалось, ничто не могло заслонить голубые небеса над Влтавой и над Иваном и Антониной.
Окраина, на которой разместились Иван и Антонина, сильно отличалась от центра города, напоминая провинциальный советский городок. Когда молодые супруги обустроились в своей скромной новой (на вид – совсем не новой) квартирке, в которой каждый предмет старой фанерной мебели имел на боку крупный инвентарный номер, первое, что их поразило, это тепло весны и обилие еды: рыночные прилавки ломились от свежих фруктов, овощей и бесчисленных сортов хлеба. В первые же выходные, взяв драгоценные кроны, Иван с Антониной пошли на рынок. Пока Антонина шла по рынку, у неё перехватило дыхание:
– Ванечка! Посмотри на эти яблоки, Ванечка! Ни одной червоточины! – молодая женщина смотрела на большое блестящее красное яблоко на свет, восхищаясь его совершенством. Стоявший неподалеку торговец улыбнулся и начал предлагать Антонине сезонные овощи: капусту белокочанную и краснокочанную, редьку зелёную и чёрную, лук трёх цветов и чеснок.
Но капустой да редькой наших не удивишь. А вот обилие мясных и колбасных изделий, разнообразие сыров да множество сортов хлеба, ещё теплого, только что из печи, удивляли и радовали одновременно. А неземные запахи кружили голову и будоражили воображение.
Иван с Антониной брели дальше по рынку и вышли в ту часть, где в витринах появилась одежда. И какая одежда! Разноцветная, нарядная, с яркими узорами, необычных фактур и стилей, так отличавшихся от скромных, даже аскетичных цветов и стилей отечественного ширпотреба.
Супруги задержались у входа в бутик, со сдержанным восторгом наблюдая за мальчиком, кружившемся в магазине в ярко-красном (!) пальто. Искренний смех лился из его уст, заставляя прохожих невольно улыбаться. Рядом стояла женщина в джинсах – Иван с Антониной видели такие только в кино. Джинсы выглядели удобными и стильными и совсем... нездешними…
Вернувшись домой, Антонина приготовила ужин, экспериментируя со свежими, только что купленными продуктами. Иван играл с Алёшенькой, и речь мужа и смех малыша наполняли её сердце таким теплом, что хотелось петь, и Антонина напевала весёлую песенку и наслаждалась ароматом блюд, заполнившим кухню.
Вскоре Антонина позвала своих любимых мужчин на кухню: Алёшеньку усадили в только что купленный детский стульчик, муж сел слева от сыночка, Антонина – справа, чтоб удобнее было кормить чадушко с ложки, и пирушка началась! Стол был уставлен деликатесами: салат овощной, салат рыбный, салат «Оливье», пикантные жареные овощи, тушёная телятина с ароматными травами, жареная картошка, варёная колбаса, копчёные колбаски, разноцветный сыр, хрустящий свежий хлеб. Иван смотрел на Антонину, сияя от гордости:
– Всё так вкусно, что даже трогать страшно – боюсь испортить эту красоту, – сказал он, и супруги рассмеялись, чувствуя необъяснимую радость и радуясь своим новым ощущениям, запахам, вкусам...
Дни превращались в недели, по выходным семья продолжала исследовать окрестности, любуясь архитектурой старинных замков и наслаждаясь неспешными прогулками вдоль Влтавы. Иван и Антонина начали понимать ритм жизни, которая, казалось, текла легко и непринужденно. Они находили новые радости не только в еде и одежде, но и в людях, которых встречали повсюду: дружелюбных соседях, улыбавшихся им при встрече, чешских коллегах на новой работе Ивана, мамочках, гулявших на детской площадке со своими малышами и каждый раз приветливо кивавших Антонине…
Поначалу Иван и Антонина никак не могли поверить, что встретившее их в Чехословакии изобилие продуктов завтра не исчезнет, и в магазинах по-прежнему будут и мясо, и сыр, и колбаса, и фрукты, и хлеб разных сортов. Молодые ленинградцы сначала закупались с избытком: очень хотелось попробовать и этого, и того, и ещё вот того, оранжевого сырика, обсыпанного зеленью, и копчёных колбасок, и рульку – вот эту, самую маленькую… Но к хорошему быстро привыкаешь, и вскоре Иван с Антониной поняли, что закупаться впрок необязательно: и сырик, и колбаски, и рулька сегодня были снова на своих местах, как будто их и не покупали вчера …
«Как можно так жить?» – невольно подумала Антонина, изумляясь тому, как ярко сияет здесь жизнь. Ощущение было такое, словно она попала на страницы прекрасной книги волшебных сказок народов мира, которую её отцу с трудом удалось купить на какой-то книжной выставке-ярмарке. Эта книга изобиловала чудесными картинками, и чудеса в ней казались безграничными.
Муж в будни с утра до вечера пропадал на работе, а Антонина с Алёшенькой были на хозяйстве: занимались покупками, готовкой, уборкой... И вот, осматриваясь по соседству с их домом и наблюдая за поведением местных жителей, Антонина обнаружила, что многие соседи ходят в небольшой частный магазинчик, стоящий на холме среди цветущих слив и вишен, и тоже стала покупать там продукты, приходя с малышом, висящим у неё на груди в только что приобретённой «кенгурушке» (чудо чудное, в Ленинграде невиданное!).
Магазинчик был маленький – в нём продавались только сыры и мясоколбасная продукция. При входе в магазинчик тренькал маленький колокольчик на доводчике двери, и Антонине казалось, что весёлый звон колокольчика как будто переносил её с Алёшенькой в другую реальность, где было много сортов сыра и колбас, и они никогда не кончались; это забавное маленькое чудо неизменно повторялось всякий раз, когда Антонина приходила в магазинчик.
Молодая женщина только начала осваивать чешский язык и сначала лишь здоровалась по-чешски: “Ahoj!” и благодарила: “Děkuju!” («Спасибо!»), но вскоре добавила к своему скудному запасу “Sbohem!” («До свидания!») и “Prosím, dej mi to” («Дайте мне, пожалуйста, это»); начала осваивать цифры, но пока ещё называла их по-русски.
Хозяин магазинчика, пожилой темноволосый чех с большими усами, сразу понял, что Антонина – русская; он никогда ей не улыбался, но был вежлив. Он привык к иностранцам: его магазин полюбился немцам из Восточной Германии, которые по традиции приезжали сюда, чтобы купить вкусной чешской еды дешевле, чем в ГДР. Но он хорошо помнил Пражскую весну и понимал, почему русская женщина с ребёнком живёт в Ческом-Крумлове.
Сначала Антонина не могла сдержаться и накупила слишком много еды: хотелось попробовать всего и сразу, но постепенно пообвыклась и стала покупать меньше и приходить в симпатичный маленький магазинчик в цветущем саду на холме через день, а то и через два-три дня. И магазинчик неизменно радовал её разнообразием сырно-колбасных деликатесов. Жизнь шла свои чередом: Антонина и Иван начали привыкать к хорошей жизни и немного расслабились. Всё было хорошо.
Наступило лето. Деревья в саду отцвели, но зацвели садовые цветы в палисадниках и полевые цветы на лугах вдоль Влтавы, мир наполнился новыми, летними красками.
И вот однажды Антонина с Алёшенькой, как обычно, зашла в полюбившийся ей магазинчик на холме; колокольчик на двери приветливо звякнул. Антонина выстояла короткую очередь, мельком разглядывая нового продавца – молодого светловолосого парня с юношескими прыщами на лице. Перед Антониной стояли три человека, но по мере приближения к прилавку, за ней тоже выстроилась небольшая очередь. Подойдя к прилавку, Антонина попросила 300 граммов телятины, 250 граммов сыра и шесть коротких тонких копчёных колбасок, которые так понравились её мужу. Хотя она сказала “Dobré ráno!” («Доброе утро!») и “Děkuju!” («Спасибо!») по-чешски, Антонина была ещё «на Вы» с чешским языком, и ей пришлось указать рукой на выбранные товары в витрине и назвать количество граммов на ломаном чешском и русском языках. Продавец понял, что она не немка, и спросил её: «Русская?» Антонина не могла солгать и подтвердила. Она отвлеклась на малыша, запрыгавшего в «кенгурушке» и не следила за происходящим на прилавке.
Молодой продавец неаккуратно завернул товар в бумагу, и одна колбаска с тихим стуком упала на прилавок. Продавец кинул её в сумку Антонины, не упаковывая, и по-чешски назвал сумму покупки. Антонина быстро сообразила и подала ему банкноту. Молодой человек взял банкноту, положил её в монетный ящик кассы и обратился к мужчине средних лет, стоявшему за Антониной: “Co chceš?” («Чего желаете?»).
Покупатель обратился к продавцу по-немецки и начал перечислять, что именно он желает пробрести. Продавец отвечал ему на сносном немецком.
Антонина подсчитала, что продавец должен был вернуть ей примерно четвёртую часть от номинала купюры, что в её понимании было немало. Пока Антонина стояла в очереди, она видела, что продавец скрупулёзно отсчитывал сдачу с каждой поданной ему купюры. Замешкавшись у прилавка, слегка озадаченная Антонина сказала “Promiň!” («Простите!») мужчине, которого уже начал обслуживать молодой продавец, и обратилась к продавцу: “Změna, prosím!” («Сдачу, пожалуйста!»).
Молодой человек медленно перевёл взгляд на Антонину и, как-то нехорошо ухмыльнувшись, с тихим свистом переспросил: “Změna?”
Антонина кивнула. От ухмылки продавца ей стало не по себе, и она, повинуясь необъяснимому порыву, отступила от прилавка на шаг назад.
“Změna?” – почти крикнул ей в лицо продавец. Не зная, как реагировать, Антонина отступила ещё на шаг.
По-прежнему ухмыляясь, белобрысый чех открыл монетный ящик кассы и, зачерпнув пригоршню самых мелких геллеров – «галишек», как называли их в обиходе местные жители – швырнул их Антонине в лицо.
Монеты веером полетели в молодую женщину, она едва успела чуть повернуться и прикрыть обеими руками голову сына, но монеты больно ударили её в шею, лицо, руки. Несколько монет попали в «кенгурушку», в которой висел Алёша, и малыш недовольно закряхтел.
Поражённая внезапным выпадом Антонина, конечно, и не думала поднимать рассыпавшиеся по полу монеты; она на мгновение замерла, глядя прямо в глаза молодому продавцу, слёзы затуманили её глаза. Белобрысый чех продолжал ухмыляться, его взгляд был дерзким и вызывающим – он явно был доволен собой. Сердце Антонины переполнили стыд, боль от незаслуженной обиды и опасение за здоровье сына. Она высоко подняла голову, повернулась и, сдерживая слёзы, быстрым шагом вышла из магазина, прикрывая ребёнка руками и небольшой сумкой с продуктами.
Покупатели, стоявшие в очереди за ней, переглядывались, две пожилые дамы, стоявшие у самого выхода, посторонились, оживленно вполголоса обмениваясь впечатлениями.
Немец средних лет, стоявший в очереди за Антониной, молча проводил её взглядом. Повернувшись к прилавку, он сделал продавцу знак рукой, приглашая его придвинуться ближе. Молодой чех заинтересованно придвинулся – немец мгновенно схватил чеха за шею и ударил его лицом об открытый монетный ящик. Белобрысый продавец отскочил назад, но один геллер прилип к жирной коже его потной щеки. Немец дотянулся, схватил горсть более ценных монет и выбежал из магазина вслед за Антониной, которая медленно спускалась вниз по холму, тихо плача. Немец окликнул её, назвав по-немецки «фрау» и протянул ей монеты. Антонина поблагодарила его: “Danke shön”, но от монет отказалась, покачав головой. Попыталась улыбнуться, ещё раз сказала “Danke” и пошла дальше, вниз по склону.
Немец вернулся в магазин, обошёл очередь. Молодой продавец, увидев его, отступил назад и вжался в стену, вытирая рукавом кровь из носа. Немец извинился перед пожилой дамой, стоявшей у прилавка, дотянулся и аккуратно сложил все монеты обратно в монетный ящик. Сказал по-немецки “Scheiße” («Дерьмо»), ещё раз извинился перед старушкой и вышел из магазина, чтобы больше, как и Антонина, не возвращаться туда никогда.
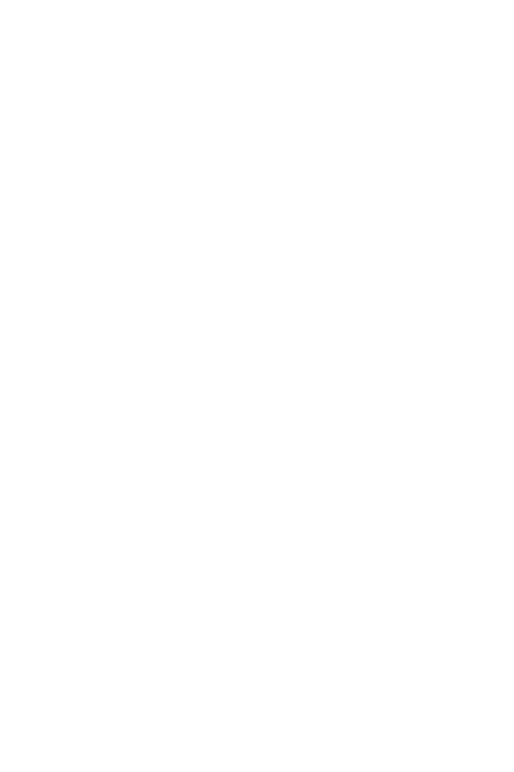
Антон ЯКОВЛЕВ
Родился в 1974 году в г. Москва. Автор книг: роман «Подвиги лёгкого поведения», военная повесть «Загонная охота», ироничный детектив «Ариша на распутье: выбор неудачницы», выложенных на платформе Литнет. Отдельные стихи опубликованы в сборнике «Золотые купола святой Руси» вып. 4.
Родился в 1974 году в г. Москва. Автор книг: роман «Подвиги лёгкого поведения», военная повесть «Загонная охота», ироничный детектив «Ариша на распутье: выбор неудачницы», выложенных на платформе Литнет. Отдельные стихи опубликованы в сборнике «Золотые купола святой Руси» вып. 4.
ЦЕНА ВЫКУПА
Фамилия Максима Михайловича обязывала. Она была его грузом и благословением. Она ласкала слух, но накладывала обязательства. Какие, правда, они были, ни один Максим Михайлович объяснить толком не мог.
Он знал от своего отца про то, что нужно нести звучание своей династии с гордостью, а его отец Михаил слышал об этом от Максимового деда Максима.
Сами Грохотищевы не могли похвастать наличием в своём роду графских или баронских титулов, выдающихся учёных или прославленных военных, но умение сохранить пиетет к своей фамилии на протяжении нескольких столетий, безусловно, делало им честь.
Кужельбиты, ведущие свою историю от одного на всех великого огородника, с пониманием относились к такому почитанию предков. Они прониклись уважением к этому семейству и посвятили ему легенду.
Говорят, Грохотищевы не давали мужских имён своим сыновьям по святцам с момента, когда барин Максим Михайлович Колотухин дал вольную их прапрадеду.
Их далёкого предка звали Михалкой, который, преумножив скромное состояние, сколоченное его отцом на продаже лаптей, выкупил себя и свою семью по приемлемой цене. Со времени выхода указа «о вольных хлебопашцах» в 1803 году Грохотищевы лелеяли надежду однажды сделать вдох со вкусом свободы. Нужно было только выждать лучший момент.
Подходящий повод выдался в январе 1861 года, при самодержце Александре II Николаевиче.
Проигравшийся в преферанс барин был сговорчив и, получая на руки крестьянские деньги (по его словам, «совсем крохи»), будучи в подпитии кизлярской водкой, милостиво сделал скидку на земельный участок, но потребовал, чтобы в память о его щедрости одного ребёнка Грохотищевых всегда звали в его честь Максимом.
Счастливый оттого, что помещик согласился на его «крохи», Михалка торжественно пообещал исполнить священный обет, лелея мысль, что десятым его ребёнком впервые будет сын. Душевные страдания за старшую восемнадцатилетнюю дочь Агафью, ставшую практически старой девой, могли быть облегчены рождением наследника.
Жена Михалки была как раз на сносях, и вскоре, под Крещенские морозы разродилась маленьким Максимом, как и было обещано барину, крещённым на сороковой день. Максим Михайлович быть крёстным отказался, но на таинстве «понятые» от него присутствовали.
Теперь совсем почти нищие, с запасом финансов только на новое предприятие, но свободные Грохотищевы торжествовали.
— Ишь ты, гулькин нос, да вольный пёс! — прихлопывая себя по ляжкам в деревенской пляске, приговаривал Михалка.
— Ты, Михалка, голова! — льстиво подтверждала статус зятя Фёкла Семёновна, сухенькая старушонка с живым и хитрым взглядом на морщинистом лице.
Её пугало неожиданно приобретённое вольное состояние дочери и с девятью внучками и одним внуком, и, не зная как на него реагировать, она решила выбрать выжидательно-хвалебную тактику.
— Давай, зятёк, кваску ещё! — увещевала она, бегая за зятем с деревянной кружкой мутного напитка.
— Невмоготу уже! Свободу кумекать надыть, — важно отвечал Михалко, тем не менее, принимая тёщино подношение.
В действительности бывший крепостной уже заранее всё обкумекал, и мельница на правом берегу реки Добрицы, можно сказать, была у него в кармане. Бывшие капиталистые крестьяне, а нынче выкупившиеся Сидоровы серьёзно занялись винными откупами и теперь перебирались в уездный город. Хорошо, что Михалка был с ними в ладу и ещё до своей свободы внёс аванс за старое сооружение на дряхлой плотине.
Но убогость приобретения не смущала Михалку, поскольку он свято верил в то, что оставшиеся в узелке деньги он сможет правильно направить на развитие семейного благосостояния и не подведёт громкое звучание своей фамилии.
Сложно описать, какой силы потрясение он испытал, когда через месяц с небольшим в храме после воскресной службы старый иерей Антипий зачитал манифест об отмене крепостного права.
Михалко был не единственным прихожанином, желавшим получить больше той информации, что была зачитана с амвона, но точно никто не испытал такого потрясения от оглашения сенсационного документа.
Поэтому, когда священника при выходе из церкви окружила жужжащая, как пчелиный рой, толпа, Грохотищев сокрушительным тараном проложил себе путь к отцу Антипе.
— Как же так?! Это как так?! — схватившись за выцветшую рясу и не умолкая, повторяя два вопроса, требовал он пространного ответа.
— Дык, вот так! Смирение надыть, а не гордыню. Вот народ и дождалси, — выкручиваясь из его хвата, ответил батюшка.
Михалка никак не мог понять, прогадал он или выиграл, заплатив состояние за свою свободу, в то время как другие получили её бесплатно.
Своё понимание этого вопроса определённо выразила тёща на следующий день.
Глуховатая, она не сразу поняла масштаб изменений в империи. В мартовский тот день, накачивая, как обычно, в приступе подобострастия зятя забродившим квасом, она отлучилась на время к соседке для обмена новостями.
У околицы собралось уже с десяток горланящих баб и мужиков. Присоединившись к их компании, Фёкла Семёновна набралась исчерпывающих для неё знаний по крестьянскому вопросу.
— Михалка, да что ж это? Мы, чай, деньги зазря выбросили? Или не выбросили? — стоя на крыльце рядом со своим встревоженным мужем, спросила Маруся.
— Постой, постой, Марусь... — вцепившись пальцами в бороду и остервенело глядя на покосившуюся изгородь в сосульках, неуверенно ответил Михалка.
Сейчас нужно было успокоить бурлящие и несущиеся в разных направлениях мысли, а потом, заручившись доверием близких, решать, что да как.
Он сделал очередной глоток кваса из глиняного кувшина, втиснутого в его руку заботливой тёщей, и сразу после этого почувствовал, что переполнен кислым напитком, и ему срочно нужно до ветру.
Увидев спешащую навстречу Фёклу Семёновну, он, передав кувшин жене, торопливо пошёл в хлев, соединённый с домом общей крышей.
— Кудой? — неприятным голосом спросила тёща.
— По нужде, — не оборачиваясь, ответил глава семейства.
— Напился квасу, вот и ссышь! — желчно проскрипела Фёкла Семёновна, как злой доктор, ставящий диагноз обречённому пациенту.
И так это задело Михалку, что передать нельзя! Аж перехотелось в нужник. Очень уж обидно стало ему, что вот так, за десять минут сельского схода у околицы родственник кардинально поменял к нему своё расположение. И пусть это всего лишь тёща, но и люди тоже наверняка будут над ним смеяться.
— Надо деньги взад воротить! — воскликнул Михалка вслух и, запахивая овчинный тулуп, рванул на большак, не отвечая испуганной жене, куда так резво взял курс.
Барин его не принял, как и в последующие два дня. На третий день через приказчика Михалке было сказано, что он дурак, и нечего тревожить господ, и что денег он не получит.
А через неделю настойчивому вольному хлебопашцу, развалившись в тарантасе, уезжающий в город барин сказал, что он — человек небогатый, копеечку бережёт, и делает всё по закону. И что по этому закону он забирает себе в отрезок землю по правому берегу реки Добрицы вместе с развалюхой мельницей, за которую Грохотищев так и не расплатился с прежним владельцем. А расторопный барин как раз заплатил вчера Сидоровым необходимую компенсацию за их развалюху.
— Дык, это что ж?! Какой такой обрезок? — готовый к диалогу, но потерявший при разговоре все доводы, только и разводил руками Михалка, надеясь убедить барина в своей правоте.
— Отрезок. Всё по закону. Ты же человек вольный? — бубнил одно и тоже Колотухин.
— Так, да, — уже не уверенный в этом, отвечал Грохотищев.
— Хочешь, продам тебе свою мельницу? По цене твоего выкупа.
Михалке пришлось тяжело, прежде чем он приблизительно осмыслил суть предложения. У него сложилась в глубокую складку кожа на лице, одна бровь поползла вверх, а нос сморщился.
— Думай, мужик, думай. Мы с тобой люди свободные, всё по закону, — и Максим Михайлович махнул возничему варежкой.
Тарантас с помещиком тронулся, оставив Михалку с его думами наедине.
— Кумекать надыть... — пробормотал он растерянно.
Мыслительный процесс длился сутки в хлеву. Избу Михалка покинул, взамен себя заселив её новорождёнными телятами, на время отвлёкшими его от размышлений.
Первое, до чего он додумался, это то, что его кто-то обманул. То ли царь, то ли помещик. В обоих случаях он был в проигрыше, что ухудшало настроение. Вторым его умозаключением, вытекающим из первого, было утопиться и повеситься. Но поскольку эти процедуры носили взаимоисключающий характер, плюс отвлекали телята и жена, Грохотищев вовремя осознал степень своего грехопадения. Раскаявшись в помыслах, он отправился со скотного двора на исповедь к отцу Антипе в надежде получить духовное вразумление.
В тот мартовский вечер приём у батюшки уже закончился, и он, осунувшись, спешил к попадье домой. При выходе из храма его и перехватил Михалко.
— Отец Антипа, постой! Рассуди! — подбегая к священнику, отчаянно простонал он.
— На кой пугаешь-то?! Ты по что? — вскинул тот руки.
— По барскому делу! Отведи от греха!
— Кого?!
— Дык меня! До греха не допусти!
— Дык ты что, Михалка... знаешь ужо?
— Дык про что, отец?
— Дык про барина.
— Как же мне не знать!
— Она же только что мне сказала...
— Она?
— Они.
Михалко растерялся, потеряв нить разговора.
Забегая вперёд, надо признать, что состоявшийся диалог для него был более загадочен, чем для иерея.
Агафья, та, что старшая у Грохотищевых, будучи свободной, получила ожидаемое для неё предложение от сына барина. Непутёвый Михаил Колотухин-младший, он же единственный, отличался от своего отца кротостью нрава и, похоже, неразборчивостью вкуса. По сообщению отца Антипия, «вернувшись в том годе из Европов чахоточный барчук потерял от Агафьи голову». Как ни странно, крестьянская дочь ответила ему взаимностью. Сначала они скрывали свои влюблённости, но с обретением Грохотищевыми свободы определились с намерениями. Давеча они были у отца Антипия и выпрашивали тайного венчания без родительского благословения.
— Я не допустил! — видя странные эмоции на лице Михалки, предупредительно сказал иерей.
— Ты постой, постой! Тут кумекать надыть... — чувствуя, что того, что он услышал, быть не может, привычным жестом отчаяния схватился Грохотищев за свою густую бородищу.
На всякий случай прикрывая руками свою реденькую седую бородку, батюшка заметил:
— Не кумекать надыть, а молиться! И в …ое спешить, честь девичью спасать. А то у другого батька могут допроситься! Там они скрываются на постоялом дворе. Но только в соседнем селе народ бурлит за реформу... Как бы барину не досталось! Он и так малахольный, жениться на крестьянке затеял... А у тебя там сват, может, выяснишь чего...
— То бишь, до греха не дошло?
— Ты же сам орал: не допустить!
Далее разговор имел более духовную направленность, и после наставлений отца Антипия и горячей, но краткой молитвы Михалко побежал домой.
А дома его ждал сам Максим Михайлович. Точнее, барин топтался перед домом с ещё одним господином, так как от специфического запаха в крестьянской избе ему сделалось худо.
Не зная какой реакции ожидать от незваного гостя, Михалко замедлил бег.
— Михалко! Наши же... дети же... Они ж! Что ж такое?! — жалким голосом, но зато на понятном языке затараторил барин.
— Дык... — развёл руками Грохотищев.
— Так ты знаешь?!
— Наслышан... только что...
— Так его бунтовщики захватили! Я окрест вчера ездил, разузнавал. Восстания, как в Пензенской губернии, начались! Что делать?! Михалко, выручай! Мне же нельзя туда: мужики порешат!
— Дык... на что выручать? Вона, даже мельницы нетути, — обречённым голосом, но с хитрым лицом вздохнул Михалко. Вековая мужицкая смекалка, до поры дремлющая в крестьянине, сработала безукоризненно и чётко, определив идеальный для этого момент.
— Я же вот, бумаги уже на тебя переписал... и вот тебе купчая... вот поверенный, — кивая на второго господина и вытаскивая из-за пазухи свёрток, радостно сообщил помещик.
— А обрезок? — вдруг сурово спросил Михалко.
— И отрезок тебе... Если требуется какой взнос, то вот... — и ещё свёрток вылетел из-за пазухи помещика.
— Придётся торговаться за цену. Выкупа... Пиши мне сейчас согласие, Михалыч, — непонятно сказал на всё готовому Колотухину Михалко.
— Какое?
— Что я от тебя голос имею. Мне сейчас к бунтовщикам ехать. Да поживей: чай, мужики ждать не будут! — грохотнул Грохотищев так увесисто, что полностью оправдал фамилию, напугав барина.
После, с купчей и согласием на руках, Михалко на тарантасе с извозчиком, оставив Колотухина с его юристом на улице, отправился в …ое.
Там он нашёл взволнованных детей и дал им своё и барское благословение на брак. Венчание состоялось через день, приправленное щедрым подаянием Максима Михайловича, которое передал настоятелю храма Михалко.
Рассудительный отец настоял на двойной фамилии для новобрачной, ибо сила крестьянской и дворянской династий, по его словам, рождает могучее предприятие.
Так появилась Агафья Колотухина-Грохотищева. А после уже и её детей так зафиксировали. Малахольный был согласен и счастлив.
А Михалко продал свою мельницу барину по цене своего выкупа и уехал с семьёй в Волговец на Волге и даже тёщу с собой взял. Там он занялся торговлей, в чём весьма преуспел, не стесняясь конкуренцией местных купцов-старожилов.
Кужельбиты созерцали и записывали в устные летописи удивительные приумножения богатства и наследников Грохотищевых.
Но о потомках новых купцов ещё будут сложены другие легенды, не менее дикие, чем та, в которой дело чести приумножилось ценой выкупа.
Фамилия Максима Михайловича обязывала. Она была его грузом и благословением. Она ласкала слух, но накладывала обязательства. Какие, правда, они были, ни один Максим Михайлович объяснить толком не мог.
Он знал от своего отца про то, что нужно нести звучание своей династии с гордостью, а его отец Михаил слышал об этом от Максимового деда Максима.
Сами Грохотищевы не могли похвастать наличием в своём роду графских или баронских титулов, выдающихся учёных или прославленных военных, но умение сохранить пиетет к своей фамилии на протяжении нескольких столетий, безусловно, делало им честь.
Кужельбиты, ведущие свою историю от одного на всех великого огородника, с пониманием относились к такому почитанию предков. Они прониклись уважением к этому семейству и посвятили ему легенду.
Говорят, Грохотищевы не давали мужских имён своим сыновьям по святцам с момента, когда барин Максим Михайлович Колотухин дал вольную их прапрадеду.
Их далёкого предка звали Михалкой, который, преумножив скромное состояние, сколоченное его отцом на продаже лаптей, выкупил себя и свою семью по приемлемой цене. Со времени выхода указа «о вольных хлебопашцах» в 1803 году Грохотищевы лелеяли надежду однажды сделать вдох со вкусом свободы. Нужно было только выждать лучший момент.
Подходящий повод выдался в январе 1861 года, при самодержце Александре II Николаевиче.
Проигравшийся в преферанс барин был сговорчив и, получая на руки крестьянские деньги (по его словам, «совсем крохи»), будучи в подпитии кизлярской водкой, милостиво сделал скидку на земельный участок, но потребовал, чтобы в память о его щедрости одного ребёнка Грохотищевых всегда звали в его честь Максимом.
Счастливый оттого, что помещик согласился на его «крохи», Михалка торжественно пообещал исполнить священный обет, лелея мысль, что десятым его ребёнком впервые будет сын. Душевные страдания за старшую восемнадцатилетнюю дочь Агафью, ставшую практически старой девой, могли быть облегчены рождением наследника.
Жена Михалки была как раз на сносях, и вскоре, под Крещенские морозы разродилась маленьким Максимом, как и было обещано барину, крещённым на сороковой день. Максим Михайлович быть крёстным отказался, но на таинстве «понятые» от него присутствовали.
Теперь совсем почти нищие, с запасом финансов только на новое предприятие, но свободные Грохотищевы торжествовали.
— Ишь ты, гулькин нос, да вольный пёс! — прихлопывая себя по ляжкам в деревенской пляске, приговаривал Михалка.
— Ты, Михалка, голова! — льстиво подтверждала статус зятя Фёкла Семёновна, сухенькая старушонка с живым и хитрым взглядом на морщинистом лице.
Её пугало неожиданно приобретённое вольное состояние дочери и с девятью внучками и одним внуком, и, не зная как на него реагировать, она решила выбрать выжидательно-хвалебную тактику.
— Давай, зятёк, кваску ещё! — увещевала она, бегая за зятем с деревянной кружкой мутного напитка.
— Невмоготу уже! Свободу кумекать надыть, — важно отвечал Михалко, тем не менее, принимая тёщино подношение.
В действительности бывший крепостной уже заранее всё обкумекал, и мельница на правом берегу реки Добрицы, можно сказать, была у него в кармане. Бывшие капиталистые крестьяне, а нынче выкупившиеся Сидоровы серьёзно занялись винными откупами и теперь перебирались в уездный город. Хорошо, что Михалка был с ними в ладу и ещё до своей свободы внёс аванс за старое сооружение на дряхлой плотине.
Но убогость приобретения не смущала Михалку, поскольку он свято верил в то, что оставшиеся в узелке деньги он сможет правильно направить на развитие семейного благосостояния и не подведёт громкое звучание своей фамилии.
Сложно описать, какой силы потрясение он испытал, когда через месяц с небольшим в храме после воскресной службы старый иерей Антипий зачитал манифест об отмене крепостного права.
Михалко был не единственным прихожанином, желавшим получить больше той информации, что была зачитана с амвона, но точно никто не испытал такого потрясения от оглашения сенсационного документа.
Поэтому, когда священника при выходе из церкви окружила жужжащая, как пчелиный рой, толпа, Грохотищев сокрушительным тараном проложил себе путь к отцу Антипе.
— Как же так?! Это как так?! — схватившись за выцветшую рясу и не умолкая, повторяя два вопроса, требовал он пространного ответа.
— Дык, вот так! Смирение надыть, а не гордыню. Вот народ и дождалси, — выкручиваясь из его хвата, ответил батюшка.
Михалка никак не мог понять, прогадал он или выиграл, заплатив состояние за свою свободу, в то время как другие получили её бесплатно.
Своё понимание этого вопроса определённо выразила тёща на следующий день.
Глуховатая, она не сразу поняла масштаб изменений в империи. В мартовский тот день, накачивая, как обычно, в приступе подобострастия зятя забродившим квасом, она отлучилась на время к соседке для обмена новостями.
У околицы собралось уже с десяток горланящих баб и мужиков. Присоединившись к их компании, Фёкла Семёновна набралась исчерпывающих для неё знаний по крестьянскому вопросу.
— Михалка, да что ж это? Мы, чай, деньги зазря выбросили? Или не выбросили? — стоя на крыльце рядом со своим встревоженным мужем, спросила Маруся.
— Постой, постой, Марусь... — вцепившись пальцами в бороду и остервенело глядя на покосившуюся изгородь в сосульках, неуверенно ответил Михалка.
Сейчас нужно было успокоить бурлящие и несущиеся в разных направлениях мысли, а потом, заручившись доверием близких, решать, что да как.
Он сделал очередной глоток кваса из глиняного кувшина, втиснутого в его руку заботливой тёщей, и сразу после этого почувствовал, что переполнен кислым напитком, и ему срочно нужно до ветру.
Увидев спешащую навстречу Фёклу Семёновну, он, передав кувшин жене, торопливо пошёл в хлев, соединённый с домом общей крышей.
— Кудой? — неприятным голосом спросила тёща.
— По нужде, — не оборачиваясь, ответил глава семейства.
— Напился квасу, вот и ссышь! — желчно проскрипела Фёкла Семёновна, как злой доктор, ставящий диагноз обречённому пациенту.
И так это задело Михалку, что передать нельзя! Аж перехотелось в нужник. Очень уж обидно стало ему, что вот так, за десять минут сельского схода у околицы родственник кардинально поменял к нему своё расположение. И пусть это всего лишь тёща, но и люди тоже наверняка будут над ним смеяться.
— Надо деньги взад воротить! — воскликнул Михалка вслух и, запахивая овчинный тулуп, рванул на большак, не отвечая испуганной жене, куда так резво взял курс.
Барин его не принял, как и в последующие два дня. На третий день через приказчика Михалке было сказано, что он дурак, и нечего тревожить господ, и что денег он не получит.
А через неделю настойчивому вольному хлебопашцу, развалившись в тарантасе, уезжающий в город барин сказал, что он — человек небогатый, копеечку бережёт, и делает всё по закону. И что по этому закону он забирает себе в отрезок землю по правому берегу реки Добрицы вместе с развалюхой мельницей, за которую Грохотищев так и не расплатился с прежним владельцем. А расторопный барин как раз заплатил вчера Сидоровым необходимую компенсацию за их развалюху.
— Дык, это что ж?! Какой такой обрезок? — готовый к диалогу, но потерявший при разговоре все доводы, только и разводил руками Михалка, надеясь убедить барина в своей правоте.
— Отрезок. Всё по закону. Ты же человек вольный? — бубнил одно и тоже Колотухин.
— Так, да, — уже не уверенный в этом, отвечал Грохотищев.
— Хочешь, продам тебе свою мельницу? По цене твоего выкупа.
Михалке пришлось тяжело, прежде чем он приблизительно осмыслил суть предложения. У него сложилась в глубокую складку кожа на лице, одна бровь поползла вверх, а нос сморщился.
— Думай, мужик, думай. Мы с тобой люди свободные, всё по закону, — и Максим Михайлович махнул возничему варежкой.
Тарантас с помещиком тронулся, оставив Михалку с его думами наедине.
— Кумекать надыть... — пробормотал он растерянно.
Мыслительный процесс длился сутки в хлеву. Избу Михалка покинул, взамен себя заселив её новорождёнными телятами, на время отвлёкшими его от размышлений.
Первое, до чего он додумался, это то, что его кто-то обманул. То ли царь, то ли помещик. В обоих случаях он был в проигрыше, что ухудшало настроение. Вторым его умозаключением, вытекающим из первого, было утопиться и повеситься. Но поскольку эти процедуры носили взаимоисключающий характер, плюс отвлекали телята и жена, Грохотищев вовремя осознал степень своего грехопадения. Раскаявшись в помыслах, он отправился со скотного двора на исповедь к отцу Антипе в надежде получить духовное вразумление.
В тот мартовский вечер приём у батюшки уже закончился, и он, осунувшись, спешил к попадье домой. При выходе из храма его и перехватил Михалко.
— Отец Антипа, постой! Рассуди! — подбегая к священнику, отчаянно простонал он.
— На кой пугаешь-то?! Ты по что? — вскинул тот руки.
— По барскому делу! Отведи от греха!
— Кого?!
— Дык меня! До греха не допусти!
— Дык ты что, Михалка... знаешь ужо?
— Дык про что, отец?
— Дык про барина.
— Как же мне не знать!
— Она же только что мне сказала...
— Она?
— Они.
Михалко растерялся, потеряв нить разговора.
Забегая вперёд, надо признать, что состоявшийся диалог для него был более загадочен, чем для иерея.
Агафья, та, что старшая у Грохотищевых, будучи свободной, получила ожидаемое для неё предложение от сына барина. Непутёвый Михаил Колотухин-младший, он же единственный, отличался от своего отца кротостью нрава и, похоже, неразборчивостью вкуса. По сообщению отца Антипия, «вернувшись в том годе из Европов чахоточный барчук потерял от Агафьи голову». Как ни странно, крестьянская дочь ответила ему взаимностью. Сначала они скрывали свои влюблённости, но с обретением Грохотищевыми свободы определились с намерениями. Давеча они были у отца Антипия и выпрашивали тайного венчания без родительского благословения.
— Я не допустил! — видя странные эмоции на лице Михалки, предупредительно сказал иерей.
— Ты постой, постой! Тут кумекать надыть... — чувствуя, что того, что он услышал, быть не может, привычным жестом отчаяния схватился Грохотищев за свою густую бородищу.
На всякий случай прикрывая руками свою реденькую седую бородку, батюшка заметил:
— Не кумекать надыть, а молиться! И в …ое спешить, честь девичью спасать. А то у другого батька могут допроситься! Там они скрываются на постоялом дворе. Но только в соседнем селе народ бурлит за реформу... Как бы барину не досталось! Он и так малахольный, жениться на крестьянке затеял... А у тебя там сват, может, выяснишь чего...
— То бишь, до греха не дошло?
— Ты же сам орал: не допустить!
Далее разговор имел более духовную направленность, и после наставлений отца Антипия и горячей, но краткой молитвы Михалко побежал домой.
А дома его ждал сам Максим Михайлович. Точнее, барин топтался перед домом с ещё одним господином, так как от специфического запаха в крестьянской избе ему сделалось худо.
Не зная какой реакции ожидать от незваного гостя, Михалко замедлил бег.
— Михалко! Наши же... дети же... Они ж! Что ж такое?! — жалким голосом, но зато на понятном языке затараторил барин.
— Дык... — развёл руками Грохотищев.
— Так ты знаешь?!
— Наслышан... только что...
— Так его бунтовщики захватили! Я окрест вчера ездил, разузнавал. Восстания, как в Пензенской губернии, начались! Что делать?! Михалко, выручай! Мне же нельзя туда: мужики порешат!
— Дык... на что выручать? Вона, даже мельницы нетути, — обречённым голосом, но с хитрым лицом вздохнул Михалко. Вековая мужицкая смекалка, до поры дремлющая в крестьянине, сработала безукоризненно и чётко, определив идеальный для этого момент.
— Я же вот, бумаги уже на тебя переписал... и вот тебе купчая... вот поверенный, — кивая на второго господина и вытаскивая из-за пазухи свёрток, радостно сообщил помещик.
— А обрезок? — вдруг сурово спросил Михалко.
— И отрезок тебе... Если требуется какой взнос, то вот... — и ещё свёрток вылетел из-за пазухи помещика.
— Придётся торговаться за цену. Выкупа... Пиши мне сейчас согласие, Михалыч, — непонятно сказал на всё готовому Колотухину Михалко.
— Какое?
— Что я от тебя голос имею. Мне сейчас к бунтовщикам ехать. Да поживей: чай, мужики ждать не будут! — грохотнул Грохотищев так увесисто, что полностью оправдал фамилию, напугав барина.
После, с купчей и согласием на руках, Михалко на тарантасе с извозчиком, оставив Колотухина с его юристом на улице, отправился в …ое.
Там он нашёл взволнованных детей и дал им своё и барское благословение на брак. Венчание состоялось через день, приправленное щедрым подаянием Максима Михайловича, которое передал настоятелю храма Михалко.
Рассудительный отец настоял на двойной фамилии для новобрачной, ибо сила крестьянской и дворянской династий, по его словам, рождает могучее предприятие.
Так появилась Агафья Колотухина-Грохотищева. А после уже и её детей так зафиксировали. Малахольный был согласен и счастлив.
А Михалко продал свою мельницу барину по цене своего выкупа и уехал с семьёй в Волговец на Волге и даже тёщу с собой взял. Там он занялся торговлей, в чём весьма преуспел, не стесняясь конкуренцией местных купцов-старожилов.
Кужельбиты созерцали и записывали в устные летописи удивительные приумножения богатства и наследников Грохотищевых.
Но о потомках новых купцов ещё будут сложены другие легенды, не менее дикие, чем та, в которой дело чести приумножилось ценой выкупа.