Текст альманаха «Новое слово» №4 2020 год
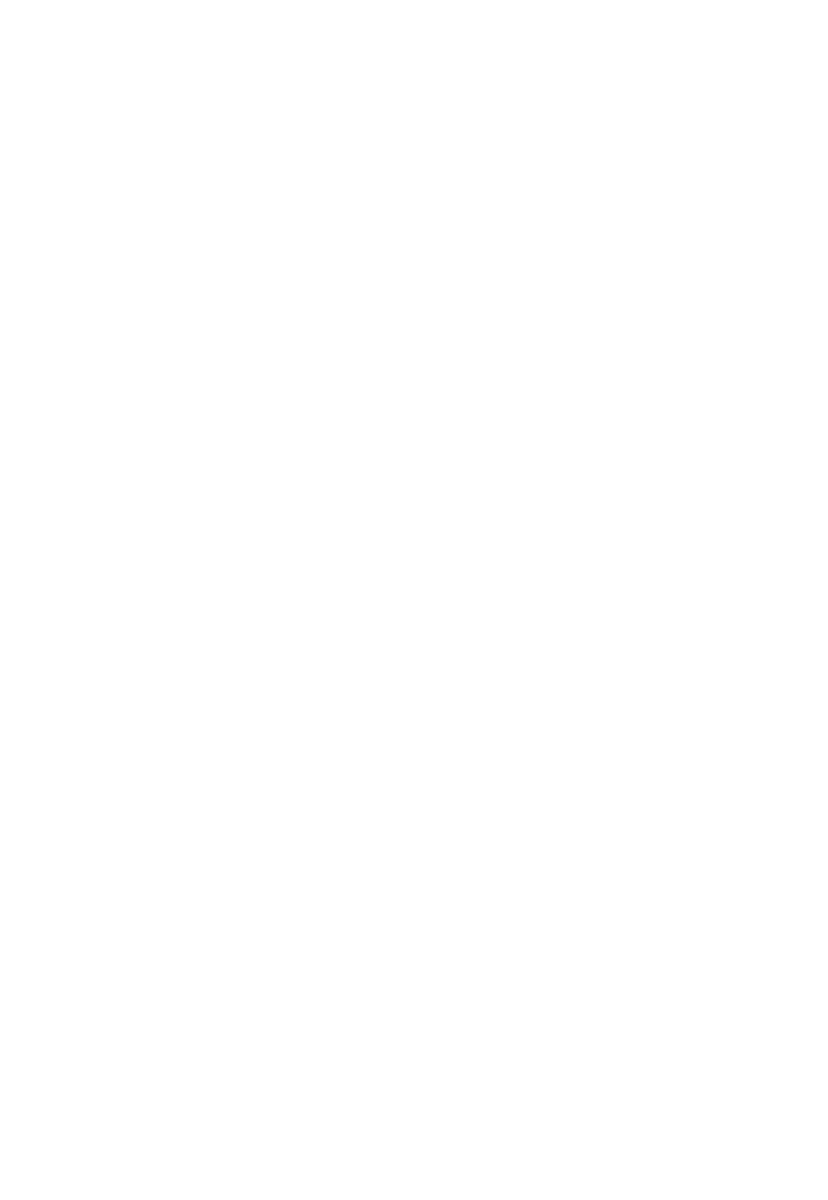
160-летию со дня рождения Антона Павловича ЧЕХОВА посвящается
Содержание:
Антон ЧЕХОВ - «Письма из Сибири»
Елена ЯБЛОНСКАЯ - «Вслед за Чеховым, вместе с Чеховым»
Евгений КАСАТКИН - «Пропала жизнь?»
Максим ФЕДОСОВ - «Лит-ра»
Наталия ЯЧЕИСТОВА - «Молчание камня», «Еще одна попытка»
Бориславна ГАГАРИНА - «Кислятина», «Муха-домовуха», «Рождение»
Дарья ЩЕДРИНА - «На осеннем шоссе»
Сергей МАЛУХИН - «Разговор в Паттайе»
Ольга БОРИСОВА - «Такое время»
Нина КРОМИНА - «Трофеи»
Николай ШОЛАСТЕР - «Гром»
Антон ПАНФЕРОВ - «Странная встреча»
Нина ШАМАРИНА - «Зеленое солнце», «Подарок», «Учительница первая моя», «Этюд в кофейных тонах»
Оразбек САРСЕНБИ - «Берик ласковый или случай на корпоративе»
Ирина КОСТИНА - «Птица счастья»
Роман БРЮХАНОВ - «Кандар»
Лариса КЕФФЕЛЬ - «Монетка»
Ульяна МАКАРОВА - «Котята»
Тамара КОЛОМОЕЦ - «Так и прошла жизня...»
Юлия ПУРГИНА - «Точка отсчета»
Наталия АРСКАЯ - «Гроза» (4 и 5 главы)
Содержание:
Антон ЧЕХОВ - «Письма из Сибири»
Елена ЯБЛОНСКАЯ - «Вслед за Чеховым, вместе с Чеховым»
Евгений КАСАТКИН - «Пропала жизнь?»
Максим ФЕДОСОВ - «Лит-ра»
Наталия ЯЧЕИСТОВА - «Молчание камня», «Еще одна попытка»
Бориславна ГАГАРИНА - «Кислятина», «Муха-домовуха», «Рождение»
Дарья ЩЕДРИНА - «На осеннем шоссе»
Сергей МАЛУХИН - «Разговор в Паттайе»
Ольга БОРИСОВА - «Такое время»
Нина КРОМИНА - «Трофеи»
Николай ШОЛАСТЕР - «Гром»
Антон ПАНФЕРОВ - «Странная встреча»
Нина ШАМАРИНА - «Зеленое солнце», «Подарок», «Учительница первая моя», «Этюд в кофейных тонах»
Оразбек САРСЕНБИ - «Берик ласковый или случай на корпоративе»
Ирина КОСТИНА - «Птица счастья»
Роман БРЮХАНОВ - «Кандар»
Лариса КЕФФЕЛЬ - «Монетка»
Ульяна МАКАРОВА - «Котята»
Тамара КОЛОМОЕЦ - «Так и прошла жизня...»
Юлия ПУРГИНА - «Точка отсчета»
Наталия АРСКАЯ - «Гроза» (4 и 5 главы)
Четвертый номер литературно-художественного альманаха посвящен 160-летию классика русской литературы Антона Павловича Чехова и содержит рассказы авторов разного возраста и географии: теперь, помимо авторов из России (от Санкт-Петербурга до Хабаровска) и Кыгрызстана, мы публикуем авторов из Германии и Израиля – что подтверждает тот факт, что истинное литературное слово не имеет границ. Наши авторы не просто продолжают литературные традиции, начатые Антоном Павловичем, – мы фактически продолжаем издавать тот самый «товарищеский сборник», в котором в 1907 году были опубликованы его «Письма из Сибири». И снова и снова, спустя более столетие, мы вместе с авторами и гостями нашего альманаха попытаемся разобраться с теми вопросами, которые поставил перед нами Чехов.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй!
А.П.Чехов
На дворе начало 2020 года. Эти цифры кому-то покажутся фантастическими, а кого-то могут повергнуть в шок. Время – совершенно условная субстанция, сжимается в теплых приятных воспоминаниях и растягивается в момент короткого ожидания чего-то важного. Но поверить в то, что уже 160 лет нас отделяют от даты рождения Антона Павловича Чехова – согласитесь, довольно сложно. Сложно потому, что когда читаешь его размышления о том, как его герои мечтали о будущем, понимаешь, что такое будущее еще как минимум 160 лет не наступит.
Помните, в рассказе «Невеста» героиня признается «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым и свободным! А ведь такая жизнь рано или поздно настанет!».
Можно ли сегодня сознавать себя правым? Можно ли чувствовать себя сегодня свободным и веселым? А можно ли вообще когда-нибудь почувствовать себя свободным, независимо от государственного устройства, политических событий и мнения соседей по лестничной клетке?
С вопросами, которые поставил нам Чехов, мы мучаемся до сих пор. И именно за это мы ему и благодарны.
Четвертый номер нашего альманаха мы задумали еще несколько лет назад. Именно тогда, когда листали пожелтевшие страницы старого антикварного альманаха «Новое Слово», вышедшего из печати в начале XX века с именем Чехова на обложке. Мы уже тогда понимали, что хотим продолжить выпуск «товарищеского сборника», в котором когда-то были напечатаны его письма из Сибири. Сегодня часть этих писем впервые перепечатывается в этом же издании, и – с тем же названием! Сейчас у нас есть возможность оценить его иронию, юмор, его боль за страну, но более – боль за людей, за их страсти, болезни, обиды, мучения, которые они доставляли себе и своим близким. И не подумайте, что письма читать неинтересно, – это не тот случай! Чеховские письма не зря занимают 12 томов в его полном собрании сочинений! Письма Чехова – это отдельный мир, это целый роман о жизни, написанный в письмах. Попробуйте начать чтение – вы не сможете остановиться!
Тот вклад, который Антон Павлович оставил мировой литературе, мы в ближайшие десятилетия вряд ли сможем оценить и «переварить». Может быть, просто потому, что редко читаем. Очень редко читаем. А еще реже – думаем над прочитанным. Сегодня больше в моде тренды кэвээновских гэгов, рейтинги ютуба и хэштеги инстаграмма. Заметьте, чем точнее хочешь описать состояние сегодняшней культуры, тем меньше русских слов приходится употреблять!
Этот номер был бы неполным без гостей нашего альманаха, – литературоведов и актеров, без тех, кто всю свою сознательную жизнь, работая в литературе и на театральных подмостках, изучает и «ставит» произведения Чехова. В этом номере вы прочитаете интервью с писателем-чеховедом, литературным критиком и автором книги о творчестве А.П.Чехова Еленой Яблонской и статью-размышление о пьесе «Дядя Ваня» Евгения Касаткина, актера театра «Голос». Они не только открывают нам неизвестные страницы творчества классика, но и задают тон исследования, глубину переживаний его героев.
Некоторые авторы были уверены, что «чеховский» номер нашего альманаха должен целиком состоять из рассказов, посвященных Чехову или рассказов в «стилистике» Чехова. Что касается второго, – вряд ли кто-то даже из известных литературоведов возьмет на себя смелость, – и выведет секреты «стилистики» Чехова, да и вряд ли кто-то из модных современных авторов просто так возьмет – и повторит эту «стилистику». На то он и классик, что даже подражать ему достаточно сложно.
А что касается рассказов, посвященных Чехову, – судите сами. Мне кажется, что сам факт того, что в начале технологичного и информационного XXI века сам факт выхода литературного сборника (не на флешке или на DVD) уже говорит о том, что проза жива. Литература жива. И, несмотря на коммерческие завалы дорогостоящих книжных магазинов в нашем обществе есть живая литература, есть авторы, которые отменно пишут и не взыскуют больших продаж, ярких обложек, более получая удовольствие от общения с читателем посредством самой литературы, через ее внутренний контекст, через сопереживания читателя и автора.
Но тем не менее, общий «дух» рассказов, представленных в сборнике, так или иначе, перекликается с чеховскими рассказами. Молчание мужа и жены, которое иллюстрирует атмосферу семьи лучше, чем их разговор (рассказ Наталии Ячеистовой «Молчание камня»); кислый привкус вина, которое «веселит дух и сердце», но приводит к страшным последствиям (рассказ Бориславны Гагариной «Кислятина»); внезапное проишествие на скоростном шоссе, которое заставляет пересмотреть отношение к любимому человеку (рассказ Дарьи Щедриной «На осеннем шоссе»); «зеленое солнце», которое режет глаза влюбленной девушке и толкает ее на дурные поступки (рассказ Нины Шамариной «Зеленое солнце»); и даже события из жизни «братьев наших меньших» – собак и кошек (рассказы Николая Шоластера «Гром» и Ульяны Макаровой «Котята»), с такой любовью описанные нашими авторами, – все это живет в нашей прозе, все это «дышит» и пульсирует, так же как и столетие назад, когда Антон Павлович описывал подобные события из жизни своих героев.
Тут же рядом с трагическим – комические случаи из корпоративной жизни (рассказ Оразбека Сарсенби «Берик ласковый или случай на корпоративе»); серьезный разговор ангела предопределения с младенцем, который появился на свет (рассказ Юлии Пургиной «Точка отсчета»); драматическая история из жизни бабушки и внучки, очень точно подмеченная в сегодняшнем многонациональном мегаполисе (рассказ Нины Кроминой «Трофеи»). И кажется, ничего не изменилось в нашей жизни с чеховских времен, лишь только технический прогресс «прошагал» вперед семимильными шагами, а духовный наш рост – где-то там, вдали, возможно, в будущем. Когда-нибудь мы соберемся с силами. Когда-нибудь наступят новые времена. И «мы отдохнем»...
Именно такими обещаниями «светлого будущего» пронизана вся проза Чехова. Но есть среди других одно важное состояние, описаное во многих его рассказах: когда главный герой хотел что-то сделать... подумал... и не сделал. И в этой маленькой детали, как под микроскопом, отражается вся чеховская проза. Все человеческие чувства. Вся литература. Вся наша жизнь.
Наверное, и начинать изменения своей жизни стоит как раз именно с этой детали, так ярко и глубоко подмеченной классиком. Уж если мы чего и задумали, если мы чего-то хотим достичь в этой жизни, то нужно начинать прямо сейчас. Подумать – и сделать. Сделать, чтобы не жалеть потом. Не откладывать. Прямо сейчас. Взять и прочитать этот сборник, для начала.
Можно позавидовать многочисленным читателям этого номера альманаха – у них все впереди! Чтение этих увлекательных и драматических рассказов, и далее – голосование в нашей группе литературной мастерской https://vk.com/novoeslovoschool на предмет определения лучшего автора по мнению читателей. Автор, победитель голосования получает не простой подарок от редакции, – он получает сертификат на публикацию в следующем номере десяти авторских полос своих произведений!
Благодарю всех авторов, написавших рассказы этого сборника, и надеюсь, что авторы откроют для себя и другие сборники нашего издательства, в марте в свет выйдет альманах литературно-благотворительного проекта «Все будет хорошо» (подробности на сайте проекта oooook.ru), а также воспользуются нашими возможностями по изданию книг и реализации их через наш интернет-магазин (http://bookshop.novslovo.ru).
Приглашаю всех авторов принять участие в издании следующего номера нашего альманаха, который будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и выйдет в мае 2020 года! До новых встреч на страницах альманаха «Новое Слово»!
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй!
А.П.Чехов
На дворе начало 2020 года. Эти цифры кому-то покажутся фантастическими, а кого-то могут повергнуть в шок. Время – совершенно условная субстанция, сжимается в теплых приятных воспоминаниях и растягивается в момент короткого ожидания чего-то важного. Но поверить в то, что уже 160 лет нас отделяют от даты рождения Антона Павловича Чехова – согласитесь, довольно сложно. Сложно потому, что когда читаешь его размышления о том, как его герои мечтали о будущем, понимаешь, что такое будущее еще как минимум 160 лет не наступит.
Помните, в рассказе «Невеста» героиня признается «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым и свободным! А ведь такая жизнь рано или поздно настанет!».
Можно ли сегодня сознавать себя правым? Можно ли чувствовать себя сегодня свободным и веселым? А можно ли вообще когда-нибудь почувствовать себя свободным, независимо от государственного устройства, политических событий и мнения соседей по лестничной клетке?
С вопросами, которые поставил нам Чехов, мы мучаемся до сих пор. И именно за это мы ему и благодарны.
Четвертый номер нашего альманаха мы задумали еще несколько лет назад. Именно тогда, когда листали пожелтевшие страницы старого антикварного альманаха «Новое Слово», вышедшего из печати в начале XX века с именем Чехова на обложке. Мы уже тогда понимали, что хотим продолжить выпуск «товарищеского сборника», в котором когда-то были напечатаны его письма из Сибири. Сегодня часть этих писем впервые перепечатывается в этом же издании, и – с тем же названием! Сейчас у нас есть возможность оценить его иронию, юмор, его боль за страну, но более – боль за людей, за их страсти, болезни, обиды, мучения, которые они доставляли себе и своим близким. И не подумайте, что письма читать неинтересно, – это не тот случай! Чеховские письма не зря занимают 12 томов в его полном собрании сочинений! Письма Чехова – это отдельный мир, это целый роман о жизни, написанный в письмах. Попробуйте начать чтение – вы не сможете остановиться!
Тот вклад, который Антон Павлович оставил мировой литературе, мы в ближайшие десятилетия вряд ли сможем оценить и «переварить». Может быть, просто потому, что редко читаем. Очень редко читаем. А еще реже – думаем над прочитанным. Сегодня больше в моде тренды кэвээновских гэгов, рейтинги ютуба и хэштеги инстаграмма. Заметьте, чем точнее хочешь описать состояние сегодняшней культуры, тем меньше русских слов приходится употреблять!
Этот номер был бы неполным без гостей нашего альманаха, – литературоведов и актеров, без тех, кто всю свою сознательную жизнь, работая в литературе и на театральных подмостках, изучает и «ставит» произведения Чехова. В этом номере вы прочитаете интервью с писателем-чеховедом, литературным критиком и автором книги о творчестве А.П.Чехова Еленой Яблонской и статью-размышление о пьесе «Дядя Ваня» Евгения Касаткина, актера театра «Голос». Они не только открывают нам неизвестные страницы творчества классика, но и задают тон исследования, глубину переживаний его героев.
Некоторые авторы были уверены, что «чеховский» номер нашего альманаха должен целиком состоять из рассказов, посвященных Чехову или рассказов в «стилистике» Чехова. Что касается второго, – вряд ли кто-то даже из известных литературоведов возьмет на себя смелость, – и выведет секреты «стилистики» Чехова, да и вряд ли кто-то из модных современных авторов просто так возьмет – и повторит эту «стилистику». На то он и классик, что даже подражать ему достаточно сложно.
А что касается рассказов, посвященных Чехову, – судите сами. Мне кажется, что сам факт того, что в начале технологичного и информационного XXI века сам факт выхода литературного сборника (не на флешке или на DVD) уже говорит о том, что проза жива. Литература жива. И, несмотря на коммерческие завалы дорогостоящих книжных магазинов в нашем обществе есть живая литература, есть авторы, которые отменно пишут и не взыскуют больших продаж, ярких обложек, более получая удовольствие от общения с читателем посредством самой литературы, через ее внутренний контекст, через сопереживания читателя и автора.
Но тем не менее, общий «дух» рассказов, представленных в сборнике, так или иначе, перекликается с чеховскими рассказами. Молчание мужа и жены, которое иллюстрирует атмосферу семьи лучше, чем их разговор (рассказ Наталии Ячеистовой «Молчание камня»); кислый привкус вина, которое «веселит дух и сердце», но приводит к страшным последствиям (рассказ Бориславны Гагариной «Кислятина»); внезапное проишествие на скоростном шоссе, которое заставляет пересмотреть отношение к любимому человеку (рассказ Дарьи Щедриной «На осеннем шоссе»); «зеленое солнце», которое режет глаза влюбленной девушке и толкает ее на дурные поступки (рассказ Нины Шамариной «Зеленое солнце»); и даже события из жизни «братьев наших меньших» – собак и кошек (рассказы Николая Шоластера «Гром» и Ульяны Макаровой «Котята»), с такой любовью описанные нашими авторами, – все это живет в нашей прозе, все это «дышит» и пульсирует, так же как и столетие назад, когда Антон Павлович описывал подобные события из жизни своих героев.
Тут же рядом с трагическим – комические случаи из корпоративной жизни (рассказ Оразбека Сарсенби «Берик ласковый или случай на корпоративе»); серьезный разговор ангела предопределения с младенцем, который появился на свет (рассказ Юлии Пургиной «Точка отсчета»); драматическая история из жизни бабушки и внучки, очень точно подмеченная в сегодняшнем многонациональном мегаполисе (рассказ Нины Кроминой «Трофеи»). И кажется, ничего не изменилось в нашей жизни с чеховских времен, лишь только технический прогресс «прошагал» вперед семимильными шагами, а духовный наш рост – где-то там, вдали, возможно, в будущем. Когда-нибудь мы соберемся с силами. Когда-нибудь наступят новые времена. И «мы отдохнем»...
Именно такими обещаниями «светлого будущего» пронизана вся проза Чехова. Но есть среди других одно важное состояние, описаное во многих его рассказах: когда главный герой хотел что-то сделать... подумал... и не сделал. И в этой маленькой детали, как под микроскопом, отражается вся чеховская проза. Все человеческие чувства. Вся литература. Вся наша жизнь.
Наверное, и начинать изменения своей жизни стоит как раз именно с этой детали, так ярко и глубоко подмеченной классиком. Уж если мы чего и задумали, если мы чего-то хотим достичь в этой жизни, то нужно начинать прямо сейчас. Подумать – и сделать. Сделать, чтобы не жалеть потом. Не откладывать. Прямо сейчас. Взять и прочитать этот сборник, для начала.
Можно позавидовать многочисленным читателям этого номера альманаха – у них все впереди! Чтение этих увлекательных и драматических рассказов, и далее – голосование в нашей группе литературной мастерской https://vk.com/novoeslovoschool на предмет определения лучшего автора по мнению читателей. Автор, победитель голосования получает не простой подарок от редакции, – он получает сертификат на публикацию в следующем номере десяти авторских полос своих произведений!
Благодарю всех авторов, написавших рассказы этого сборника, и надеюсь, что авторы откроют для себя и другие сборники нашего издательства, в марте в свет выйдет альманах литературно-благотворительного проекта «Все будет хорошо» (подробности на сайте проекта oooook.ru), а также воспользуются нашими возможностями по изданию книг и реализации их через наш интернет-магазин (http://bookshop.novslovo.ru).
Приглашаю всех авторов принять участие в издании следующего номера нашего альманаха, который будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и выйдет в мае 2020 года! До новых встреч на страницах альманаха «Новое Слово»!
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Антон ЧЕХОВ - ПИСЬМА ИЗ СИБИРИ
по страницам товарищеского сборника «Новое Слово» 1907 года
23 апреля 1890 г. Пароход «Александр Невский».
Друзья мои тунгусы! Был ли у Вас дождь, когда Иван вернулся из Лавры? В Ярославле лупил такой дождь, что пришлось облечься в кожаный хитон. Первое впечатление Волги было отравлено дождем, заплаканными окнами каюты и мокрым носом Гурлянда, который вышел на вокзал встретить меня. Во время дождя Ярославль кажется похожим на Звенигород, а его церкви напоминают о Перервинском монастыре; много безграмотных вывесок, грязно, по мостовой ходят галки с большими головами.
На пароходе я первым долгом дал волю своему таланту, т. е. лег спать. Проснувшись, узрел солнце. Волга недурна; заливные луга, залитые солнцем монастыри, белые церкви; раздолье удивительное; куда ни взглянешь, всюду удобно сесть и начать удить. На берегу бродят классные дамы и щиплют зеленую травку, слышится изредка пастушеский рожок. Над водой носятся белые чайки, похожие на младшую Дришку.
Пароход неважный. Самое лучшее в нем — это ватерклозет. Стоит он высоко, имея под собою четыре ступени, так что неопытный человек вроде Иваненко легко может принять его за королевский трон. Самое худшее на пароходе — это обед. Сообщаю меню с сохранением орфографии: щи зеле, сосиськи с капу, севрюшка фры, кошка запеканка; кошка оказалась кашкой. Так как деньги у меня нажиты потом и кровью, то я желал бы, чтобы было наоборот, т. е. чтобы обед был лучше ватерклозета, тем более что после корнеевского сантуринского у меня завалило всё нутро, и я до самого Томска обойдусь без ватера.
Со мной едет Кундасова. Куда она едет и зачем, мне неизвестно. Когда я начинаю расспрашивать ее об этом, она пускается в какие-то весьма туманные предположения о ком-то, который назначил ей свидание в овраге около Кинешмы, потом закатывается неистовым смехом и начинает топать ногами или долбить своим локтем о что попало, не щадя <...> жилки. Проехали и Кинешму, и овраги, а она все-таки продолжает ехать, чему я, конечно, очень рад. Кстати: вчера первый раз в жизни видел я, как она ест. Ест она не меньше других, но машинально, точно овес жует.
Кострома хороший город. Видел я Плес, в котором жил томный Левитан; видел Кинешму, где гулял по бульвару и наблюдал местных шпаков; заходил здесь в аптеку купить бертолетовой соли от языка, который стал у меня сафьяновым от сантуринского. Аптекарь, увидев Ольгу Петровну, обрадовался и сконфузился, она — тоже; оба, по-видимому, давно уже знакомы и, судя по бывшему между ними разговору, не раз гуляли по оврагам близ Кинешмы. Так вот они где шпаки!
Холодновато и скучновато, но в общем занятно.
Свистит пароход ежеминутно; его свист — что-то среднее между ослиным ревом и эоловой арфой. Через 5—6 часов буду в Нижнем. Ночь спал художественно. Деньги целы — это оттого, что я часто хватаюсь за живот.
Очень красивы буксирные пароходы, тащущие за собой по 4—5 барж; похоже на то, как будто молодой, изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены.
Папаше и мамаше поклон до земли; всем прочим по пояс. Надеюсь, что Семашко, Лидия Стахиевна и Иваненко ведут себя хорошо. Интересно знать, кто теперь будет кутить с Лидией Стахиевной до 5 часов утра? Ах, как я рад, что у Иваненки нет денег!
Чемодан, купленный Мишей, рвется. Благодарю вам. Здоровье у меня абсолютное. Шея не болит. Вчера не выпил ни капли.
Возьмите у Дришки Фофанова. Кундасовой отдайте французский атлас и путешествие Дарвина, стоящее на полке. Это по части Ивана.
Солнце спряталось за облако, стало пасмурно, и широкая Волга представляется мрачною. Левитану нельзя жить на Волге. Она кладет на душу мрачность. Хотя иметь на берегу свое именьице весьма недурно.
Желаю всем всего хорошего. Сердечный привет и 1000 поклонов.
Миша, научи Лидию Стахиевну отправлять заказную бандероль и отдай ей билет на Гоголя. Помните, что Суворину возвращен один том Гоголя для переплетного образца. Значит, получить надо 3 тома.
Если бы лакей проснулся, то я потребовал бы кофе, а теперь приходится пить воду без удовольствия. Поклон Марьюшке и Ольге.
Ну, оставайтесь здоровы и благополучны. Буду писать исправно.
Скучающий волжанин
Homo Sachaliensis
А. Чехов.
24 апреля 1890 г. Кама, пароход «Пермь — Нижний».
Друзья мои тунгусы! Плыву по Каме, но местности определить не могу; кажется, около Чистополя. Не могу также воспеть красоту берегов, так как адски холодно; береза еще не распустилась, тянутся кое-где полосы снега, плавают льдинки — одним словом, вся эстетика пошла к чёрту. Сижу в рубке, где за столом сидят всякого звания люди, и слушаю разговоры, спрашивая себя: «Не пора ли вам чай пить?» Если б моя воля, то от утра до ночи только бы и делал, что ел; так как денег на целодневную еду нет, то сплю и паки сплю. На палубу не выхожу — холодно. По ночам идет дождь, а днем дует неприятный ветер.
Ах, икра! Ем, ем и никак не съем. В этом отношении она похожа на шар сыра. Благо, несоленая.
Нехорошо, что я не догадался сшить себе мешочек для чая и сахара. Приходится требовать стаканами, что и невыгодно и скучно. Хотел сегодня утром купить в Казани чаю и сахару, да проспал.
Возрадуйтесь, о матерь! Я, кажется, проживу в Екатеринбурге сутки и повидаюсь с родственничками. Быть может, сердце их смягчится и они дадут мне три рубля денег и осьмушку чаю.
Из разговоров, которые сейчас слышу, заключаю, что со мною едет судебная палата. Люди не даровитые. Зато купцы, которые изредка вставляют свое словцо, кажутся умницами. Богачи попадаются страшенные.
Стерляди дешевле грибов, но скоро надоедают. О чем еще написать? Больше не о чем... Впрочем, есть генерал и тощий блондин. Первый мечется из каюты на палубу и обратно и всё куда-то направляет свою фотографию, второй загримирован Надсоном и старается дать понять, что он писатель; сегодня за обедом соврал какой-то даме, что он печатал книжку у Суворина; я, конечно, изобразил на лице трепет.
Деньги целы все за исключением тех, которые я проел. Не хотят, подлецы, кормить даром! Мне не весело и не скучно, а так какой-то студень на душе. Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, например, я едва ли сказал пять слов. Впрочем, вру: разговаривал с попом на палубе.
Стали попадаться инородцы. Татар очень много: народ почтенный и скромный.
Большое удобство: уходя из каюты, запираешь ее на ключ; ложась спать, тоже. Так что до Перми у меня ничего не украдут.
Низко кланяюсь всем. Папу и маму усердно прошу не беспокоиться и не воображать опасностей, которых нет. Кланяюсь Семашечке с виолончелью, Иваненке с флейтой и Тер-Мизиновой с бабушкой. Передайте Дюковскому мое сожаление по поводу того, что нам не удалось видеться перед моим отъездом. Он хороший человек. Поклон Кувшинниковым. Если Кундасова уже приехала, то и ей. Будьте все здоровы и благополучны.
Ваш А. Чехов.
Извините, что пишу Вам только о еде. Если бы не еда, пришлось бы писать о холоде, ибо сюжетов нет.
Палата постановила: потребовать чаю. Пригласили откуда-то двух кандидатов на судебные должности, едущих в качестве канцелярии. Один похож на портняжного поэта Белоусова, другой на Ежова. Оба почтительно слушают гг. начальников; не смеют свое суждение иметь и делают вид, что, слушая умные речи, набираются ума. Люблю примерных молодых людей.
29 апреля 1890 г. Екатеринбург.
Друзья мои тунгусы! Кама прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблой и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам чёрт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода — событие. Всё больше Щербаненки и Чугуевцы, в таких же шляпах, с такими же голосами и с таким же выражением «второй скрипки» во всей фигуре; по-видимому, ни один из них не получает больше 35 рублей, и, вероятно, все лечатся от чего-нибудь.
Я уже писал, что со мною ехала судебная палата: председатель, член и прокурор. Председатель, здоровый, крепкий старик немец, принявший православие, набожный, гомеопат и, по-видимому, большой бабник; член — старец вроде тех, которых изображал покойный Николай: ходит сгорбившись, кашляет и любит игривые сюжеты; прокурор — человек 43 лет, недовольный жизнью, либерал, скептик и большой добряк. Всю дорогу палата занималась тем, что ела, решала важные вопросы, ела, читала и ела. На пароходе библиотека, и я видел, как прокурор читал мои «В сумерках». Шла речь обо мне. Больше всех нравится в здешних краях Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нем говорят больше, чем о Толстом.
Плыл я до Перми 2½ года — так казалось. Приплыл туда в 2 часа ночи. Поезд отходил в 6 часов вечера. Пришлось ждать. Шел дождь. Вообще дождь, грязь, холод... бррр! Уральская дорога везет хорошо. Борамлей и Мерчиков нет, хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого.
Проснувшись вчера утром и поглядев в вагонное окно, я почувствовал к природе отвращение: земля белая, деревья покрыты инеем и за поездом гонится настоящая метелица. Ну, не возмутительно ли?
Калош у меня нет, натянул я большие сапоги и, пока дошел до буфета с кофе, продушил дегтем всю Уральскую область. А приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натягиваю кожаное пальто. Извозчики — это нечто невообразимое по своей убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены так /\, копыта громадные, спина тощая... Здешние дрожки — это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и всё. И чем правильнее я нарисовал бы здешнего извозчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. Все извозчики похожи на Добролюбова.
В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. Колокола звонят великолепно, бархатно. Остановился я в Американской гостинице (очень недурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А. М. Симонова, написав ему, что два дня я-де намерен безвыходно сидеть у себя в номере и принимать Гуниади, которое принимаю и, скажу не без гордости, с большим успехом.
Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. Сегодня утром входит один такой скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, в плечах сажень, да еще к тому же в шубе.
Ну, думаю, этот непременно убьет. — Оказалось, что это А. М. Симонов. Разговорились. Он служит членом в земской управе, директорствует на мельнице своего кузена, освещаемой электричеством, редактирует «Екатеринбургскую неделю», цензуруемую полициймейстером бароном Таубе, женат, имеет двух детей, богатеет, толстеет, стареет и живет «основательно». Говорит, что скучать некогда. Советовал мне побывать в музее, на заводах, на приисках; я поблагодарил за совет. Пригласил он меня на завтра к вечеру чай пить; я пригласил его к себе обедать. Меня обедать он не пригласил и вообще не настаивал, чтобы я у него побывал. Из этого мамаша может заключить, что сердце родственников не смягчилось и что оба мы — и Симонов и я друг другу не нужны.
На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, чтобы не видеть этой азиатчины. Сижу и жду ответа из Тюмени на свою телеграмму. Телеграфировал я так: «Тюмень. Пароходство Курбатова. Ответ уплачен. Уведомьте, когда идет пассажирский пароход Томск» и т. д. От ответа зависит, поеду ли я на пароходе или же поскачу 1½ тысячи верст на лошадях, по распутице.
Всю ночь здесь бьют в чугунные доски. На всех углах. Надо иметь чугунные головы, чтобы не сойти с ума от этих неумолкающих курантов. Сегодня попробовал сварить себе кофе: получилось матрасинское вино. Пил и только плечами пожимал.
Я вертел в руках пять простынь и не взял ни одной. Еду сегодня покупать резиновые калоши.
Ну, будьте все здоровы и благополучны, да хранит вас Бог. Привет мой всем Линтваревым, наипаче же Троше. Поклон Иваненке, Кундасовой, Мизиновой и проч. Желаю Луке побольше шпаков. Деньги целы.
Если мамаша сделает Николаю решетку, то я, повторяю, ничего не буду иметь против. Это мое желание.
Найду ли в Иркутске письмо от Вас?
Ваш Homo Sachaliensis
А. Чехов.
по страницам товарищеского сборника «Новое Слово» 1907 года
23 апреля 1890 г. Пароход «Александр Невский».
Друзья мои тунгусы! Был ли у Вас дождь, когда Иван вернулся из Лавры? В Ярославле лупил такой дождь, что пришлось облечься в кожаный хитон. Первое впечатление Волги было отравлено дождем, заплаканными окнами каюты и мокрым носом Гурлянда, который вышел на вокзал встретить меня. Во время дождя Ярославль кажется похожим на Звенигород, а его церкви напоминают о Перервинском монастыре; много безграмотных вывесок, грязно, по мостовой ходят галки с большими головами.
На пароходе я первым долгом дал волю своему таланту, т. е. лег спать. Проснувшись, узрел солнце. Волга недурна; заливные луга, залитые солнцем монастыри, белые церкви; раздолье удивительное; куда ни взглянешь, всюду удобно сесть и начать удить. На берегу бродят классные дамы и щиплют зеленую травку, слышится изредка пастушеский рожок. Над водой носятся белые чайки, похожие на младшую Дришку.
Пароход неважный. Самое лучшее в нем — это ватерклозет. Стоит он высоко, имея под собою четыре ступени, так что неопытный человек вроде Иваненко легко может принять его за королевский трон. Самое худшее на пароходе — это обед. Сообщаю меню с сохранением орфографии: щи зеле, сосиськи с капу, севрюшка фры, кошка запеканка; кошка оказалась кашкой. Так как деньги у меня нажиты потом и кровью, то я желал бы, чтобы было наоборот, т. е. чтобы обед был лучше ватерклозета, тем более что после корнеевского сантуринского у меня завалило всё нутро, и я до самого Томска обойдусь без ватера.
Со мной едет Кундасова. Куда она едет и зачем, мне неизвестно. Когда я начинаю расспрашивать ее об этом, она пускается в какие-то весьма туманные предположения о ком-то, который назначил ей свидание в овраге около Кинешмы, потом закатывается неистовым смехом и начинает топать ногами или долбить своим локтем о что попало, не щадя <...> жилки. Проехали и Кинешму, и овраги, а она все-таки продолжает ехать, чему я, конечно, очень рад. Кстати: вчера первый раз в жизни видел я, как она ест. Ест она не меньше других, но машинально, точно овес жует.
Кострома хороший город. Видел я Плес, в котором жил томный Левитан; видел Кинешму, где гулял по бульвару и наблюдал местных шпаков; заходил здесь в аптеку купить бертолетовой соли от языка, который стал у меня сафьяновым от сантуринского. Аптекарь, увидев Ольгу Петровну, обрадовался и сконфузился, она — тоже; оба, по-видимому, давно уже знакомы и, судя по бывшему между ними разговору, не раз гуляли по оврагам близ Кинешмы. Так вот они где шпаки!
Холодновато и скучновато, но в общем занятно.
Свистит пароход ежеминутно; его свист — что-то среднее между ослиным ревом и эоловой арфой. Через 5—6 часов буду в Нижнем. Ночь спал художественно. Деньги целы — это оттого, что я часто хватаюсь за живот.
Очень красивы буксирные пароходы, тащущие за собой по 4—5 барж; похоже на то, как будто молодой, изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены.
Папаше и мамаше поклон до земли; всем прочим по пояс. Надеюсь, что Семашко, Лидия Стахиевна и Иваненко ведут себя хорошо. Интересно знать, кто теперь будет кутить с Лидией Стахиевной до 5 часов утра? Ах, как я рад, что у Иваненки нет денег!
Чемодан, купленный Мишей, рвется. Благодарю вам. Здоровье у меня абсолютное. Шея не болит. Вчера не выпил ни капли.
Возьмите у Дришки Фофанова. Кундасовой отдайте французский атлас и путешествие Дарвина, стоящее на полке. Это по части Ивана.
Солнце спряталось за облако, стало пасмурно, и широкая Волга представляется мрачною. Левитану нельзя жить на Волге. Она кладет на душу мрачность. Хотя иметь на берегу свое именьице весьма недурно.
Желаю всем всего хорошего. Сердечный привет и 1000 поклонов.
Миша, научи Лидию Стахиевну отправлять заказную бандероль и отдай ей билет на Гоголя. Помните, что Суворину возвращен один том Гоголя для переплетного образца. Значит, получить надо 3 тома.
Если бы лакей проснулся, то я потребовал бы кофе, а теперь приходится пить воду без удовольствия. Поклон Марьюшке и Ольге.
Ну, оставайтесь здоровы и благополучны. Буду писать исправно.
Скучающий волжанин
Homo Sachaliensis
А. Чехов.
24 апреля 1890 г. Кама, пароход «Пермь — Нижний».
Друзья мои тунгусы! Плыву по Каме, но местности определить не могу; кажется, около Чистополя. Не могу также воспеть красоту берегов, так как адски холодно; береза еще не распустилась, тянутся кое-где полосы снега, плавают льдинки — одним словом, вся эстетика пошла к чёрту. Сижу в рубке, где за столом сидят всякого звания люди, и слушаю разговоры, спрашивая себя: «Не пора ли вам чай пить?» Если б моя воля, то от утра до ночи только бы и делал, что ел; так как денег на целодневную еду нет, то сплю и паки сплю. На палубу не выхожу — холодно. По ночам идет дождь, а днем дует неприятный ветер.
Ах, икра! Ем, ем и никак не съем. В этом отношении она похожа на шар сыра. Благо, несоленая.
Нехорошо, что я не догадался сшить себе мешочек для чая и сахара. Приходится требовать стаканами, что и невыгодно и скучно. Хотел сегодня утром купить в Казани чаю и сахару, да проспал.
Возрадуйтесь, о матерь! Я, кажется, проживу в Екатеринбурге сутки и повидаюсь с родственничками. Быть может, сердце их смягчится и они дадут мне три рубля денег и осьмушку чаю.
Из разговоров, которые сейчас слышу, заключаю, что со мною едет судебная палата. Люди не даровитые. Зато купцы, которые изредка вставляют свое словцо, кажутся умницами. Богачи попадаются страшенные.
Стерляди дешевле грибов, но скоро надоедают. О чем еще написать? Больше не о чем... Впрочем, есть генерал и тощий блондин. Первый мечется из каюты на палубу и обратно и всё куда-то направляет свою фотографию, второй загримирован Надсоном и старается дать понять, что он писатель; сегодня за обедом соврал какой-то даме, что он печатал книжку у Суворина; я, конечно, изобразил на лице трепет.
Деньги целы все за исключением тех, которые я проел. Не хотят, подлецы, кормить даром! Мне не весело и не скучно, а так какой-то студень на душе. Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, например, я едва ли сказал пять слов. Впрочем, вру: разговаривал с попом на палубе.
Стали попадаться инородцы. Татар очень много: народ почтенный и скромный.
Большое удобство: уходя из каюты, запираешь ее на ключ; ложась спать, тоже. Так что до Перми у меня ничего не украдут.
Низко кланяюсь всем. Папу и маму усердно прошу не беспокоиться и не воображать опасностей, которых нет. Кланяюсь Семашечке с виолончелью, Иваненке с флейтой и Тер-Мизиновой с бабушкой. Передайте Дюковскому мое сожаление по поводу того, что нам не удалось видеться перед моим отъездом. Он хороший человек. Поклон Кувшинниковым. Если Кундасова уже приехала, то и ей. Будьте все здоровы и благополучны.
Ваш А. Чехов.
Извините, что пишу Вам только о еде. Если бы не еда, пришлось бы писать о холоде, ибо сюжетов нет.
Палата постановила: потребовать чаю. Пригласили откуда-то двух кандидатов на судебные должности, едущих в качестве канцелярии. Один похож на портняжного поэта Белоусова, другой на Ежова. Оба почтительно слушают гг. начальников; не смеют свое суждение иметь и делают вид, что, слушая умные речи, набираются ума. Люблю примерных молодых людей.
29 апреля 1890 г. Екатеринбург.
Друзья мои тунгусы! Кама прескучнейшая река. Чтобы постигать ее красоты, надо быть печенегом, сидеть неподвижно на барже около бочки с нефтью или куля с воблой и не переставая тянуть сиволдай. Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам чёрт не сумеет дуть так резко и противно. Когда дует холодный ветер и рябит воду, имеющую теперь после половодья цвет кофейных помоев, то становится и холодно, и скучно, и жутко; звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы; кажется, в них жители занимаются приготовлением облаков, скуки, мокрых заборов и уличной грязи — единственное занятие. На пристанях толпится интеллигенция, для которой приход парохода — событие. Всё больше Щербаненки и Чугуевцы, в таких же шляпах, с такими же голосами и с таким же выражением «второй скрипки» во всей фигуре; по-видимому, ни один из них не получает больше 35 рублей, и, вероятно, все лечатся от чего-нибудь.
Я уже писал, что со мною ехала судебная палата: председатель, член и прокурор. Председатель, здоровый, крепкий старик немец, принявший православие, набожный, гомеопат и, по-видимому, большой бабник; член — старец вроде тех, которых изображал покойный Николай: ходит сгорбившись, кашляет и любит игривые сюжеты; прокурор — человек 43 лет, недовольный жизнью, либерал, скептик и большой добряк. Всю дорогу палата занималась тем, что ела, решала важные вопросы, ела, читала и ела. На пароходе библиотека, и я видел, как прокурор читал мои «В сумерках». Шла речь обо мне. Больше всех нравится в здешних краях Сибиряк-Мамин, описывающий Урал. О нем говорят больше, чем о Толстом.
Плыл я до Перми 2½ года — так казалось. Приплыл туда в 2 часа ночи. Поезд отходил в 6 часов вечера. Пришлось ждать. Шел дождь. Вообще дождь, грязь, холод... бррр! Уральская дорога везет хорошо. Борамлей и Мерчиков нет, хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого.
Проснувшись вчера утром и поглядев в вагонное окно, я почувствовал к природе отвращение: земля белая, деревья покрыты инеем и за поездом гонится настоящая метелица. Ну, не возмутительно ли?
Калош у меня нет, натянул я большие сапоги и, пока дошел до буфета с кофе, продушил дегтем всю Уральскую область. А приехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натягиваю кожаное пальто. Извозчики — это нечто невообразимое по своей убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены так /\, копыта громадные, спина тощая... Здешние дрожки — это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и всё. И чем правильнее я нарисовал бы здешнего извозчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. Все извозчики похожи на Добролюбова.
В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. Колокола звонят великолепно, бархатно. Остановился я в Американской гостинице (очень недурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А. М. Симонова, написав ему, что два дня я-де намерен безвыходно сидеть у себя в номере и принимать Гуниади, которое принимаю и, скажу не без гордости, с большим успехом.
Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. Сегодня утром входит один такой скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, в плечах сажень, да еще к тому же в шубе.
Ну, думаю, этот непременно убьет. — Оказалось, что это А. М. Симонов. Разговорились. Он служит членом в земской управе, директорствует на мельнице своего кузена, освещаемой электричеством, редактирует «Екатеринбургскую неделю», цензуруемую полициймейстером бароном Таубе, женат, имеет двух детей, богатеет, толстеет, стареет и живет «основательно». Говорит, что скучать некогда. Советовал мне побывать в музее, на заводах, на приисках; я поблагодарил за совет. Пригласил он меня на завтра к вечеру чай пить; я пригласил его к себе обедать. Меня обедать он не пригласил и вообще не настаивал, чтобы я у него побывал. Из этого мамаша может заключить, что сердце родственников не смягчилось и что оба мы — и Симонов и я друг другу не нужны.
На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, чтобы не видеть этой азиатчины. Сижу и жду ответа из Тюмени на свою телеграмму. Телеграфировал я так: «Тюмень. Пароходство Курбатова. Ответ уплачен. Уведомьте, когда идет пассажирский пароход Томск» и т. д. От ответа зависит, поеду ли я на пароходе или же поскачу 1½ тысячи верст на лошадях, по распутице.
Всю ночь здесь бьют в чугунные доски. На всех углах. Надо иметь чугунные головы, чтобы не сойти с ума от этих неумолкающих курантов. Сегодня попробовал сварить себе кофе: получилось матрасинское вино. Пил и только плечами пожимал.
Я вертел в руках пять простынь и не взял ни одной. Еду сегодня покупать резиновые калоши.
Ну, будьте все здоровы и благополучны, да хранит вас Бог. Привет мой всем Линтваревым, наипаче же Троше. Поклон Иваненке, Кундасовой, Мизиновой и проч. Желаю Луке побольше шпаков. Деньги целы.
Если мамаша сделает Николаю решетку, то я, повторяю, ничего не буду иметь против. Это мое желание.
Найду ли в Иркутске письмо от Вас?
Ваш Homo Sachaliensis
А. Чехов.
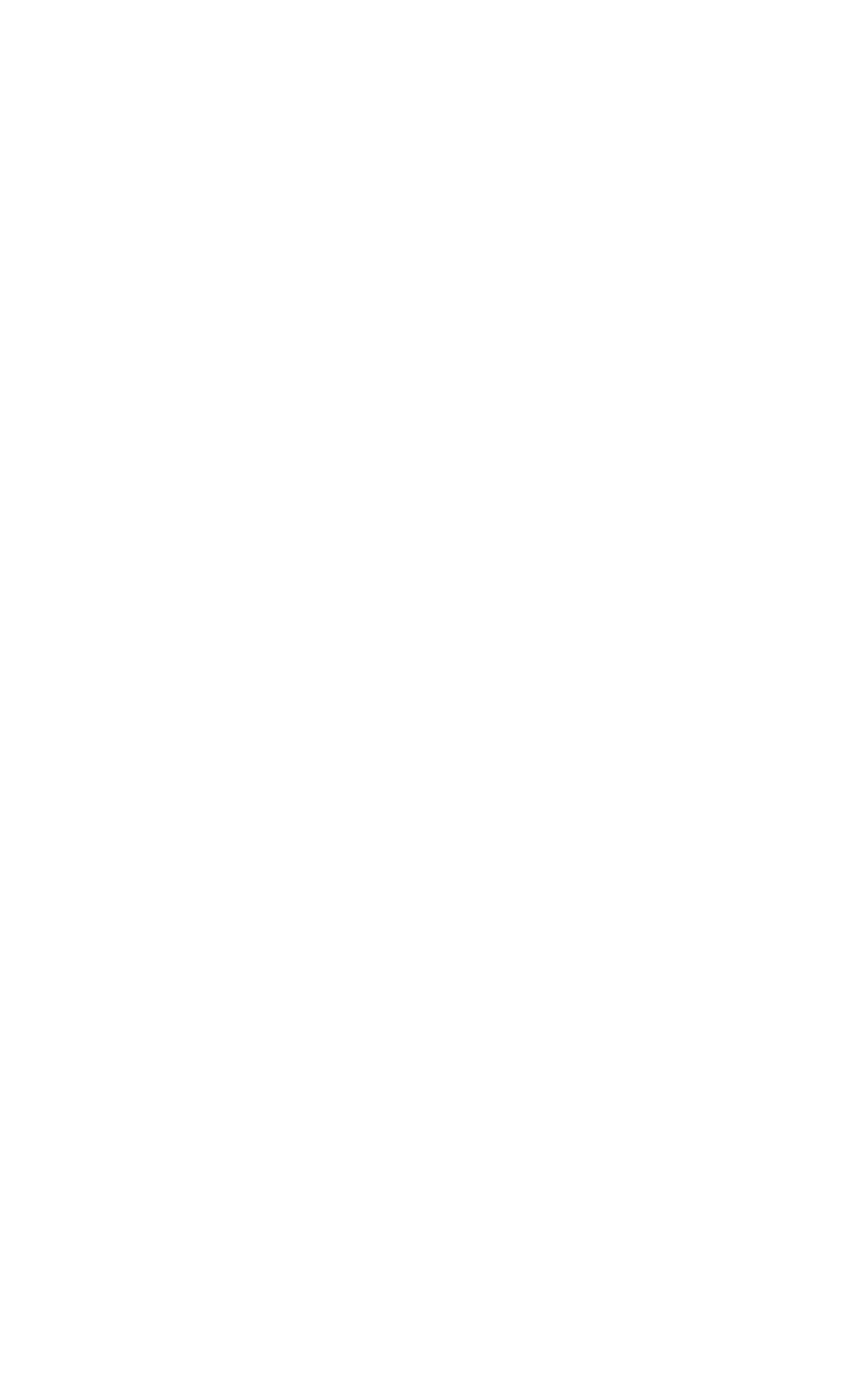
7 май. Берег Иртыша.
Здравствуйте, воистину уважаемая Мария Владимировна! Хотел я написать Вам прощальное письмо из Москвы, да не успел; пришлось отложить на неопределенное время. Пишу Вам теперь, сидя в избе на берегу Иртыша. Ночь. Попал я сюда таким образом. Еду я по сибирскому тракту на вольных. Проехал уже 715 верст. Обратился в великомученика с головы до пяток. С сегодняшнего утра стал дуть резкий холодный ветер и заморосил противнейший дождишко. Надо заметить, что в Сибири весны еще нет: земля бурая, деревья голые, и, куда ни взглянешь, всюду белеют полосы снега; день и ночь еду я в полушубке и валенках... Ну-с, подул с утра ветер... Тяжелые свинцовые облака, бурая земля, грязь, дождь, ветер... бррр! Еду, еду... без конца еду, а погода не унимается. Перед вечером на станции мне говорят, что ехать дальше нельзя, так как всё залило, мосты разнесло и проч. Зная, как любят вольные ямщики пугать стихиями, чтобы оставить проезжего у себя ночевать (это выгодно), я не поверил и приказал запрячь тройку. Что ж? Увы мне! Проехал я не больше пяти верст, как увидел луговой берег Иртыша, весь покрытый большими озерами; дорога спряталась под водой, и мостки по дороге в самом деле или снесены, или раскисли. Возвращаться назад мешает отчасти упрямство, отчасти желание скорее выбраться из этих скучных мест... Начинаем ехать по озерам... Боже мой, никогда в жизни не испытывал ничего подобного! Резкий ветер, холод, отвратительный дождь, а ты изволь вылезать из тарантаса (не крытого) и держать лошадей: на каждом мостике можно проводить лошадей только поодиночке... Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска; виден голый, угрюмый берег Иртыша... Въезжаем в самое большое озеро; теперь уж охотно бы вернулся, да трудно... Едем по длинной, узкой полоске земли... Полоска кончается, и мы бултых! Потом опять полоска, опять бултых... Руки закоченели... А дикие утки точно смеются и огромными стаями носятся над головой... Темнеет... Ямщик молчит — растерялся... Но вот, наконец, выезжаем к последней полоске, отделяющей озёра от Иртыша... Отлогий берег Иртыша на аршин выше уровня; он глинист, гол, изгрызен, склизок на вид... Мутная вода... Белые волны хлещут по глине, а сам Иртыш не ревет и не шумит, а издает какой-то странный звук, похожий на то, как будто под водой стучат по гробам... Тот берег — сплошная, безотрадная пустыня... Вам снился часто Божаровский омут; так мне теперь будет сниться Иртыш...
Но вот и паром. Надо переправляться на ту сторону. Выходит из избы мужик и, пожимаясь от дождя, говорит, что паромом плыть нельзя теперь, так как слишком ветрено... (Паромы здесь весельные.) Советует обождать тихой погоды...
И вот я сижу ночью в избе, стоящей в озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? зачем я здесь?
В соседней комнате спят мужики-перевозчики и мой ямщик. Люди добрые. А будь они злые, меня можно было бы отлично ограбить и утопить в Иртыше. Изба — солистка на берегу, свидетелей нет...
Дорога до Томска в разбойничьем отношении совершенно безопасна. О грабежах не принято даже говорить. Даже краж у проезжающих не бывает; уходя в избу, можете оставлять вещи на дворе, и они все будут целы.
Но меня все-таки чуть было не убили. Представьте себе ночь перед рассветом... Я еду на тарантасике и думаю, думаю... Вдруг вижу, навстречу во весь дух несется почтовая тройка; мой возница едва успевает свернуть вправо, тройка мчится мимо, и я усмотриваю в ней обратного ямщика... Вслед за ней несется другая тройка, тоже во весь дух; свернули мы вправо, она сворачивает влево; «сталкиваемся!» — мелькает у меня в голове... Одно мгновение и — раздается треск, лошади мешаются в черную массу, мой тарантас становится на дыбы, и я валюсь на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Вскакиваю и вижу — несется третья тройка...
Должно быть, накануне за меня молилась мать. Если бы я спал или если бы третья тройка ехала тотчас же за второй, то я был бы изломан насмерть или изувечен. Оказалось, что передний ямщик погнал лошадей, а ямщики на второй и на третьей спали и нас не видели. После крушения глупейшее недоумение с обеих сторон, потом жестокая ругань... Сбруи разорваны, оглобли сломаны, дуги валяются на дороге... Ах, как ругаются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше никогда не знал...
Однако бумага на исходе. Привет мой барину, Василисе, Идиотику и Елизавете Александровне. Стучит в окна дождь. Да благословят вас все святые! Буду еще писать. Мой адрес: Александровский пост на о. Сахалине.
Ваш А. Чехов.
14 май 90 г. Село Яр, в 45 верстах от Томска.
Великолепная моя мамаша, превосходная Маша, сладкий Миша и все присные мои! В Екатеринбурге я получил ответную телеграмму из Тюмени: «Первый пароход в Томск пойдет 18 мая». Это значило, что мне нужно было, хочешь не хочешь, скакать на лошадях. Так и сделал. Из Тюмени выехал я 3 мая, прожив в Екатеринбурге 2—3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы. Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последних: всё равно. Посадили меня раба божьего в корзинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь в корзине, глядишь на свет божий, как чижик, и ни о чем не думаешь... Сибирская равнина начинается, кажется, от самого Екатеринбурга и кончается чёрт знает где; я сказал бы, что она очень похожа на нашу южнорусскую степь, если бы не мелкий березняк, попадающийся то там, то сям, и если бы не холодный ветер, покалывающий щеки. Весна еще не начиналась. Зелени совсем нет, леса голы, снег не весь растаял; на озерах стоит матовый лед. 9 мая в день св. Николая был мороз, а сегодня 14-го выпал снег в 1½ вершка. О весне говорят одни только утки. Ах, как много уток! Никогда в жизни я не видел такого утиного изобилия. Летают над головой, вспархивают около тарантаса, плавают в озерах и в лужах, короче, в один день из плохого ружья я настрелял бы тысячу штук. Слышно, как кричат дикие гуси... Их здесь тоже много. Часто попадаются вереницы журавлей и лебедей... В березняке порхают тетерева и рябчики. Зайцы, которых здесь не едят и не стреляют, ничтоже сумняся стоят на задних лапках и, вздернув уши, любопытным взором провожают едущих. Они так часто перебегают дорогу, что это здесь не считается дурной приметой.
Холодно ехать... На мне полушубок. Телу ничего, хорошо, но ногам зябко. Кутаю их в кожаное пальто — не помогает... На мне двое брюк. Ну-с, едешь, едешь... Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки... Вот перегнали переселенцев, потом этап... Встретили бродяг с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами — сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. От Тюмени до Томска ни почтовые, ни вольные ямщики не помнят, чтобы у проезжающего украли что-нибудь; когда идешь на станцию, вещи оставляешь на дворе; на вопрос, не украдут ли, отвечают улыбкой. О грабежах и убийствах по дороге не принято даже говорить. Мне кажется, потеряй я свои деньги на станции или в возке, нашедший ямщик непременно возвратил бы мне их и не хвастался бы этим. Вообще народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь; постели мягкие, всё пуховики и большие подушки, полы выкрашены или устланы самоделковыми холщовыми коврами. Это объясняется, конечно, зажиточностью, тем, что семья имеет надел из 16 десятин чернозема и что на этом черноземе растет хорошая пшеница (пшеничная мука стоит здесь 30 коп. за пуд).
Но не всё можно объяснить зажиточностью и сытостью, нужно уделить кое-что и манере жить. Когда ночью входишь в комнату, в которой спят, то нос не чувствует ни спирали, ни русского духа. Вас не посадят пить чай без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; когда подают воду или молоко, не держат пальцы в стакане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, — вообще чистоплотность, о которой наши хохлы могут только мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов! Хлеб пекут здесь превкуснейший; я в первые дни объедался им. Вкусны и пироги, и блины, и оладьи, и калачи, напоминающие хохлацкие ноздреватые бублики. Блины тонки... Зато всё остальное не по европейскому желудку. Например, всюду меня потчевали «утячьей похлебкой». Это совсем гадость: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и неварёный лук.
Я раз попросил сварить суп из мяса и изжарить окуней. Суп мне подали пресоленый, грязный, с закорузлыми кусочками кожи вместо мяса, а окуней с чешуей. Варят здесь щи из солонины; её же и жарят. Сейчас мне подавали жареную солонину: преотвратительно; пожевал и бросил. Чай здесь пьют кирпичный. Это настой из шалфея и тараканов — так по вкусу, а по цвету — не чай, а матрасинское вино. Кстати сказать, я взял с собою из Екатеринбурга ¼ фунта чаю, 5 фунтов сахару и 3 лимона. Чаю не хватило, а купить негде. В паршивых городках даже чиновники пьют кирпичный чай и самые лучшие магазины не держат чая дороже 1 р. 50 к. за фунт. Пришлось пить шалфей.
Расстояние между станциями определяется расстоянием между каждыми двумя соседними деревнями: 20—40 верст. Деревни здесь большие, поселков и хуторов нет. Везде церкви и школы; избы деревянные, есть и двухэтажные.
К вечеру лужи и дорога начинают мерзнуть, а ночью совсем мороз, хоть доху надевай... Бррр! Тряско, потому что грязь обращается в кочки. Выворачивает душу... К рассвету страшно утомляешься от холода, тряски и колокольчиков; страстно хочется тепла и постели... Пока меняют лошадей, прикорнешь где-нибудь в уголке и тотчас же заснешь, а через минуту возница уже дергает за рукав и говорит: «Вставай, приятель, пора!» Во вторую ночь я стал чувствовать острую зубную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю себя: не отморозил ли?
Однако писать нельзя. Приехал заседатель (т. е. становой). Познакомились и разговариваем. До завтра.
Виноваты оказались ботфорты, узкие в задниках. Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. Дешевизна русского товара — это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в дешевых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки... Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи.
Утром часов в 5—6 чаепитие в избе. Чай в дороге — это истинное благодеяние. Теперь я знаю ему цену и пью его с остервенением Янова. Он согревает, разгоняет сон, при нем съедаешь много хлеба, а хлеб за отсутствием другой еды должен съедаться в большом количестве; оттого-то крестьяне едят так много хлеба и хлебного. Пьешь чай и разговариваешь с бабами, которые здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их, потому что они так же высоки, и сильны, и умны, как их повелители; они, когда мужей нет дома, ямщикуют; любят каламбурить.
Детей не держат в строгости; их балуют. Дети спят на мягком, сколько угодно, пьют чай и едят вместе с мужиками и бранятся, когда те любовно подсмеиваются над ними. Дифтерита нет. Царит здесь черная оспа, но странно, она здесь не так заразительна, как в других местах: двое-трое заболеют, умрут — и конец эпидемии.
Больниц и врачей нет. Лечат фельдшера. Кровопускание и кровососные банки в грандиозных, зверских размерах. Я по дороге осматривал одного еврея, больного раком печени. Еврей истощен, еле дышит, но это не помешало фельдшеру поставить ему 12 кровососных банок. Кстати об евреях. Здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потому что они в самом деле и de jure и de facto крестьяне. Пользуются они всеобщим уважением, и, по словам заседателя, нередко их выбирают в старосты. Я видел жида, высокого и тонкого, который брезгливо морщился и плевал, когда заседатель рассказывал скабрезные анекдоты; чистоплотная душа; его жена сварила прекрасную уху. Жена того жида, что болен раком, угощала меня щучьей икрой и вкуснейшим белым хлебом. О жидовской эксплуатации не слышно.
Кстати уж и о поляках. Попадаются ссыльные, присланные сюда из Польши в 1864 г. Хорошие, гостеприимные и деликатнейшие люди. Одни живут очень богато, другие очень бедно и служат писарями на станциях. Первые после амнистии уезжали к себе на родину, но скоро вернулись назад в Сибирь — здесь богаче, вторые мечтают о родине, хотя уже стары и больны. В Ишиме один богатый пан Залесский, у которого дочь похожа на Сашу Киселеву, угостил меня за 1 рубль отличным обедом и дал мне комнату выспаться; он держит кабак, окулачился до мозга костей, дерет со всех, но все-таки пан чувствуется и в манерах, и в столе, во всем. Он не едет на родину из жадности, из жадности терпит снег в Николин день; когда он умрет, дочка его, родившаяся в Ишиме, останется здесь навсегда — и пойдут таким образом множиться по Сибири черные глаза и нежные черты! Эти случайные примеси крови нужны, ибо в Сибири народ некрасив. Брюнетов совсем нет. Быть может, и про татар написать вам? Извольте. Их здесь немного. Люди хорошие. В Казанской губернии о них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они «лучше русских» — так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили это молчанием.
Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей.
Обедать нечего.
Умные люди, когда едут в Томск, берут с собою обыкновенно полпуда закусок. Я же оказался дураком, и потому 2 недели питался одним только молоком и яйцами, которые здесь варят так: желток крутой, а белок восмятку. Надоедает такая еда в 2 дня. За всю дорогу я только два раза обедал, если не считать жидовской ухи, которую я ел, будучи сытым после чая. Водку не пил; сибирская водка противна, да и отвык я от нее, пока доехал до Екатеринбурга. Водку же пить следует. Она возбуждает мозг, который от дороги делается вялым и тупым, отчего глупеешь и слабеешь.
Стоп! Нельзя писать: пришел знакомиться редактор «Сибирского вестника» Картамышев, местный Ноздрев, пьяница и забулдыга.
Картамышев выпил пива и ушел. Продолжаю.
В первые три дня вояжа у меня от тряски и толчков разболелись ключицы, плечи, позвонки, копчик... Ни сидеть, ни ходить, ни лежать... Но зато прошли все грудные и головные боли, разыгрался донельзя аппетит, а геморрой, точно воды в рот набрал — молчок. От напряжения, от частой возни с чемоданами и проч., а быть может, и от прощальных попоек в Москве у меня по утрам бывало кровохарканье, которое наводило на меня нечто вроде уныния, возбуждая мрачные мысли, и которое к концу пути прекратилось; теперь даже кашля нет; давно я так мало кашлял, как теперь, после двухнедельного пребывания на чистом воздухе. После же первых трех дней вояжа тело мое привыкло к тряске и для меня наступило время, когда я стал не замечать, как после утра наступал полдень, а потом вечер и ночь. Дни мелькали быстро, как в затяжной болезни. Думаешь, что еще нет полудня, а мужики говорят, что ты бы, барин, остался ночевать, а то как бы не заблудился ночью; и в самом деле, поглядишь на часы — 8-й час вечера.
Везут быстро, но поразительного в этой быстроте ничего нет. Вероятно, я застал дурную дорогу, зимой во-
зят быстрее. На гору несутся вскачь, а прежде чем выехать со двора и прежде чем ямщик сядет на козлы, лошадей держат двое-трое. Лошади напоминают московских пожарных лошадей; однажды я едва не передавил старух, а в другой раз едва не налетел на этап. Теперь извольте вам приключение, которым я обязан сибирской езде. Только прошу мамашу не охать и не причитывать, ибо всё обошлось благополучно. В ночь под 6-е мая на рассвете вез меня один очень милый старик на паре. Тарантасик. Я дремал и от нечего делать поглядывал, как в поле и в березняке искрились змееобразные огни: это горела прошлогодняя трава, которую здесь жгут. Вдруг слышу дробный стук колес. Навстречу во весь дух, как птица, несется почтовая тройка. Мой старик спешит свернуть вправо, тройка пролетает мимо, и я усматриваю в потемках громадную, тяжелую почтовую телегу, в которой сидит обратный ямщик. За этой тройкой несется вторая тройка тоже во весь дух. Мы спешим свернуть вправо... К великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает не вправо, а влево... Едва я успел подумать: «Боже мой, сталкиваемся!», как раздался отчаянный треск, лошади мешаются в одну темную массу, дуги падают, мой тарантас становится на дыбы, и я лечу на землю, а на меня мои чемоданы. Но это не всё... Летит третья тройка... По-настоящему, эта должна была искрошить меня и мои чемоданы, но, слава богу, я не спал, ничего не сломал себе от падения и сумел вскочить так быстро, что мог отбежать в сторону. «Стой! — заорал я третьей тройке. — Стой!» Тройка налетела на вторую и остановилась... Конечно, если бы я умел спать в тарантасе или если бы третья тройка неслась тотчас же за второй, то я вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. Результаты крушения: сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле, оторопевшие, замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от переполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой, ругающейся орды, среди поля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут... После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, и то и дело останавливались...
После 5—6 дня начались дожди при сильном ветре. Шел дождь днем и ночью. Пошло в дело кожаное пальто, спасавшее меня и от дождя и от ветра. Чудное пальто. Грязь пошла невылазная, ямщики стали неохотно возить по ночам. Но, что ужаснее всего и чего я не забуду во всю мою жизнь, это перевозы через реки. Подъедешь ночью к реке... Начинаешь с ямщиком кричать... Дождь, ветер, по реке ползут льдины, слышен плеск... И кстати радость: кричит бугай. На сибирских реках живут бугаи. Значит, они признают не климат, а географическое положение... Ну-с, через час в потемках показывается громадный паром, имеющий форму баржи; громадные весла, похожие на рачьи клешни. Перевозчики — народ озорной, всё больше ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь. Сквернословят нестерпимо, кричат, просят денег на водку... Везут через реку долго, долго... мучительно долго! Паром ползет... Опять чувство одиночества, и кажется, бугай нарочно кричит, как будто хочет сказать: «Не бойся, дядя, я здесь, Линтваревы с Псла меня сюда прислали!»
7 мая вольный ямщик, когда я попросил лошадей, сказал, что Иртыш разлился и затопил луга, что вчера ездил Кузьма и еле вернулся и что ехать нельзя, нужно обождать... Спрашиваю: до каких пор ждать? Ответ: а Господь его знает! Это неопределенно, да и к тому же я дал себе слово отделаться в дороге от двух своих пороков, причинявших мне немало расходов, хлопот и неудобств; это — уступчивость и сговорчивость. Я быстро соглашаюсь, и потому мне приходилось ездить на чёрт знает чем, платить иногда вдвое, ждать по целым часам... Стал я не соглашаться и не верить — и бокам моим стало легче. Например, запрягут не возок, а простую, тряскую телегу. Откажешься ехать на телеге, упрешься, и непременно явится возок, хотя раньше уверяли, что во всей деревне нет возка и т. д. Ну-с, подозревая, что разлив Иртыша придуман только для того, чтобы не везти меня к ночи по грязи, я запротестовал и приказал ехать. Мужик, слыхавший о разливе от Кузьмы и сам его не видавший, почесался и согласился, старики подбодрили его и сказали, что когда в молодости они ямщиковали, то ничего не боялись. Поехали... Грязь, дождь, злющий ветер, холод... и валенки на ногах. Знаете, что значит мокрые валенки? Это сапоги из студня. Едем, едем, и вот перед очами моими расстилается громадное озеро, на котором кое-где пятнами проглядывает земля и торчат кустики — это залитые луга. Вдали тянется крутой берег Иртыша; на нем белеет снег... Начинаем ехать по озеру. Вернуться бы назад, да мешает упрямство и берет какой-то непонятный задор, тот самый задор, который заставил меня купаться среди Черного моря, с яхты, и который побуждал меня делать немало глупостей... Должно быть, психоз. Едем и выбираем островки, полоски. Направление указывают мосты и мостики; они снесены. Чтобы проехать по ним, нужно распрягать лошадей и водить лошадей поодиночке... Ямщик распрягает, я спрыгиваю в валенках в воду и держу лошадей... Занимательно! А тут дождь, ветер... спаси, Царица небесная! Наконец добираемся до островка, где стоит избушка без крыши... По мокрому навозу бродят мокрые лошади. Выходит из избушки мужик с длинной палкой и берется провожать... Палкой он измеряет глубину воды и пробует грунт... Дай бог ему здоровья, вывел на длинную полосу, которую называл он «хребтом». Научил, чтоб с этого хребта мы норовили взять куда-то вправо или, не помню, влево, и попасть на другой хребет. Так мы и сделали...
Едем... В валенках сыро, как в отхожем месте. Хлюпает, чулки сморкаются. Ямщик молчит и уныло почмокивает. Он рад бы вернуться, но уже поздно, темнеет... Наконец — о радость! — подъезжаем к Иртышу... Тот берег крутой, а сей — отлогий. Сей изгрызен, скользок на вид, противен, растительности ни следа... Мутная вода с белыми гребнями хлещет по нем и со злобой отскакивает назад, точно ей гадко прикасаться к неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, как кажется, могут жить одни только жабы да души убийц... Иртыш не шумит, не ревет, а сдается, как будто он у себя на дне стучит по гробам... Проклятое впечатление! Тот берег высок, бур, пустынен...
Изба; тут живут перевозчики. Выходит один и заявляет, что паром пускать нельзя, так как поднялась непогода. Река, мол, широкая, а ветер сильный... И что же? Пришлось ночевать в избе... Помню ночь, храп перевозчиков и моего ямщика, шум ветра, стук дождя, ворчанье Иртыша... Перед тем как спать, написал Марии Владимировне письмо: Божаровский омут припомнился.
Утром не захотели везти на пароме: ветер. Пришлось плыть на лодке. Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багаж мокнет, валенки, которые ночью сушились в печке, опять обращаются в студень. О, милое кожаное пальто! Если я не простудился, то обязан только ему одному. Когда вернусь, помажьте его за это салом или касторкой. На берегу целый час сидел на чемодане и ждал, когда из деревни приедут лошади. Помню, взбираться на берег было очень скользко. В деревне грелся и пил чай. Приходили за милостыней ссыльные. Для них каждая семья ежедневно заквашивает пуд пшеничной муки. Это вроде повинности. Ссыльные берут хлеб и пропивают его в кабаке. Один ссыльный, оборванный, бритый старик, которому в кабаке выбили глаза свои же ссыльные, услышав, что в комнате проезжий, и приняв меня за купца, стал петь и читать молитвы. Он и о здравии, и за упокой, пел и пасхальное «Да воскреснет бог», и «Со святыми упокой» — чего только не пел! Потом стал врать, что он из московских купцов. Я заметил, как этот пьяница презирал мужиков, на шее которых жил!
11-го поехал на почтовых. От скуки читал на станциях жалобные книги. Сделал открытие, которое меня пора-зило и которое в дождь и сырость не имеет себе цены: на почтовых станциях в сенях имеются отхожие места. О, вы не можете оценить этого!
12 мая мне не дали лошадей, сказавши, что ехать нельзя, так как Обь разлилась и залила все луга. Мне посоветовали: «Вы поезжайте в сторону от тракта до Красного Яра; там на лодке проедете верст 12 до Дубровина, а в Дубровине вам дадут почтовых лошадей...» Поехал я на вольных в Красный Яр. Приезжаю утром. Говорят, что лодка есть, но нужно немного подождать, так как дедушка послал на ней в Дубровино работника, который повез заседателева писаря. Ладно, подождем... Проходит час, другой, третий... Наступает полдень, потом вечер... Аллах керим, сколько чаю я выпил, сколько хлеба съел, сколько мыслей передумал! А как много я спал! Наступает ночь, а лодки всё нет... Наступает раннее утро... Наконец в 9 часов возвращается работник. Слава небесам, плывем! И как хорошо плывем! Тихо в воздухе, гребцы хорошие, острова красивые... Вода захватила людей и скот врасплох, и я вижу, как бабы плывут в лодках на острова доить коров. А коровы тощие, унылые... По случаю холодов совсем нет корму. Плыл я 12 верст. В Дубровине на станции чай, а к чаю мне подали, можете себе представить, вафли... Хозяйка, должно быть, ссыльная или жена ссыльного... На следующей станции старик-писарь, поляк, которому я дал антипирину от головной боли, жаловался на бедность и говорил, что недавно через Сибирь проезжал австрийского двора камергер граф Сапега, поляк, помогающий полякам. «Он останавливался около станции, — рассказывает писарь, — а я не знал этого! Мать пресвятая! Он бы мне помог! Я писал ему в Вену, но ответа не получил»... и т. д. Зачем я не Сапега? Я отправил бы этого беднягу на родину.
14 мая мне опять не дали лошадей. Разлив Томи. Какая досада! Не досада, а отчаянье! В 50 верстах от Томска, и так неожиданно! Женщина зарыдала бы на моем месте... Для меня люди добрые нашли выход: «Поезжайте, ваше благородие, до Томи — только 6 верст отсюда; там вас перевезут на лодке до Яра, а оттуда в Томск вас свезет Илья Маркович». Нанимаю вольного и еду к Томи, к тому месту, где должна быть лодка. Подъезжаю — лодки нет. Говорят, только что уплыла с почтой и едва ли вернется, так как дует сильный ветер. Начинаю ждать... Земля покрыта снегом, идут дождь и крупа, ветер... Проходит час, другой, а лодки нет... Насмехается надо мной судьба! Возвращаюсь назад на станцию. Тут три почтовые тройки и почтальон собираются ехать к Томи. Говорю, что лодки нет. Остаются. Получаю от судьбы награду: писарь на мой нерешительный вопрос, нет ли чего закусить, говорит, что у хозяйки есть щи... О, восторг! О, пресветлого дне! И в самом деле, хозяйкина дочка подает мне отличных щей с прекрасным мясом и жареной картошки с огурцом. После пана Залесского я ни разу так не обедал. После картошки разошелся я и сварил себе кофе. Кутеж!
Перед вечером почтальон, пожилой, очевидно натерпевшийся человек, не смевший сидеть в моем присутствии, стал собираться ехать к Томи. И я тоже. Поехали. Как только подъехали к реке, показалась лодка, такая длинная, что мне раньше и во сне никогда не снилось. Когда почту нагружали в лодку, я был свидетелем одного странного явления: гремел гром — это при снеге и холодном ветре. Нагрузились и поплыли. Сладкий Миша, прости, как я радовался, что не взял тебя с собой! Как я умно сделал, что никого не взял! Сначала наша лодка плыла по лугу около кустов тальника... Как бывает перед грозой или во время грозы, вдруг по воде пронесся сильный ветер, поднявший валы. Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать непогоду в кустах тальника; на это ему ответили, что если непогода станет сильнее, то в тальнике просидишь до ночи и всё равно утонешь. Стали решать большинством голосов и решили плыть дальше. Нехорошее, насмешливое мое счастье! Ну, к чему эти шутки? Плыли мы молча, сосредоточенно... Помню фигуру почтальона, видавшего виды... Помню солдатика, который вдруг стал багров, как вишневый сок... Я думал: если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто... потом валенки... потом и т. д. ... Но вот берег всё ближе, ближе... На душе всё легче, легче, сердце сжимается от радости, глубоко вздыхаешь почему-то, точно отдохнул вдруг, и прыгаешь на мокрый скользкий берег... Слава Богу!
У Ильи Марковича, выкреста, говорят, что к ночи ехать нельзя — дорога плоха, что нужно остаться ночевать. Ладно, остаюсь. После чая сажусь писать вам это письмо, прерванное приездом заседателя. Заседатель — это густая смесь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пьяница, развратник, лгун, певец, анекдотист и при всем том добрый человек. Привез с собою большой сундук, набитый делами, кровать с матрасом, ружье и писаря. Писарь прекрасный, интеллигентный человек, протестующий либерал, учившийся в Петербурге, свободный, неизвестно как попавший в Сибирь, зараженный до мозга костей всеми болезнями и спивающийся по милости своего принципала, называющего его Колей. Посылает власть за наливкой. «Доктор! — вопит она. — Выпейте еще рюмку, в ноги поклонюсь!» Конечно, выпиваю. Трескает власть здорово, врет напропалую, сквернословит бесстыдно. Ложимся спать. Утром опять посылают за наливкой. Трескают наливку до 10 часов и наконец едут. Выкрест Илья Маркович, которого мужики боготворят здесь — так мне говорили, — дал мне лошадей до Томска.
Я, заседатель и писарь сели в одном возке. Заседатель всю дорогу врал, пил из горлышка, хвастал, что не берет взяток, восхищался природой и грозил кулаком встречным бродягам. Проехал 15 верст — стоп! Деревня Бровкино... Останавливаемся около жидовской лавочки и идем «отдыхать». Жид бежит за наливкой, а жидовка варит уху, о которой я уже писал. Заседатель распорядился, чтоб пришли сотский, десятский и дорожный подрядчик, и пьяный стал распекать их, нисколько не стесняясь моим присутствием. Он ругался, как татарин.
Скоро я разъехался с заседателем и по отвратительной дороге вечером 15-го мая доехал до Томска. В последние 2 дня я сделал только 70 верст — можете судить, какова дорога!
В Томске невылазная грязь. О городе и о здешнем житье буду писать на днях, а теперь до свиданья. Утомился писать. Поклон Папаше, Ивану, тетке, Алеше, Александре Васильевне, Зинаиде Михайловне, Доктору, Троше, великому пианисту, Марьюшке. Если знаете адрес милейшей Гундасихи, то напишите этой необыкновенной, удивительной девице, что я ей кланяюсь. Славной Жамэ привет от души. Если летом она будет гостить у Вас, то я буду очень рад. Она очень хорошая. Скажите Троше, что я сейчас пил из ее стаканчика. Чокался, впрочем, с Картамышевым.
Тополей нет. Кувшинниковский генерал соврал. Соловьев нет. Сороки и кукушки есть.
Сегодня получил телеграмму от Суворина в 80 слов.
Всех обнимаю, целую и благословляю.
Ваш А. Чехов.
Мишино письмо получено. Спасибо.
Простите, что письмо похоже на винегрет. Нескладно. Ну, да что делать? Сидя в номере, лучше не напишешь. Извините, что длинно. Я не виноват. Рука разбежалась, да и к тому же хочется подольше поговорить с вами. 3-й час ночи. Рука утомилась. На свечке нагорел фитиль, плохо видно. Пишите мне на Сахалин в каждые 4—5 дней. Оказывается, что почта туда идет не только морем, но и через Сибирь. Значит, буду получать своевременно и часто.
Завтра пойду к Владиславлеву и Флоринскому. Деньги целы. Швов еще не распарывал. Что Артеменко? Харитоненко получил звезду. Поздравляю Сумы.
В Томске на всех заборах красуется «Предложение».
Томичи говорят, что такая холодная и дождливая весна, как в этом году, была в 1842 г. Половину Томска затопило. Мое счастье! Ем конфекты.
Если у Маши будет болеть горло и летом, то по приезде в Москву в сентябре пусть проф. Кузьмин отрежет ей по кусочку от каждой миндалевидной железы. Это невинная безболезненная операция. Без этой операции Маша до старости не избавится от фолликулярных и прочих жаб. Если Елена Михайловна согласится сделать операцию сию, то еще лучше. Пока железы еще не очень велики, достаточно отрезать по очень маленькому кусочку.
В Томске нужно будет дождаться того времени, когда прекратятся дожди. Говорят, что дорога до Иркутска возмутительна. Здесь есть «Славянский базар». Обеды хорошие, но добраться до этого «Базара» нелегко — грязь невылазная.
Сегодня (17 мая) пойду в баню. Говорят, что на весь Томск имеется один только банщик — Архип.
Печатается по: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1983. Т. 4. Письма, январь 1890 — февраль 1892. — М.: Наука, 1975.
Здравствуйте, воистину уважаемая Мария Владимировна! Хотел я написать Вам прощальное письмо из Москвы, да не успел; пришлось отложить на неопределенное время. Пишу Вам теперь, сидя в избе на берегу Иртыша. Ночь. Попал я сюда таким образом. Еду я по сибирскому тракту на вольных. Проехал уже 715 верст. Обратился в великомученика с головы до пяток. С сегодняшнего утра стал дуть резкий холодный ветер и заморосил противнейший дождишко. Надо заметить, что в Сибири весны еще нет: земля бурая, деревья голые, и, куда ни взглянешь, всюду белеют полосы снега; день и ночь еду я в полушубке и валенках... Ну-с, подул с утра ветер... Тяжелые свинцовые облака, бурая земля, грязь, дождь, ветер... бррр! Еду, еду... без конца еду, а погода не унимается. Перед вечером на станции мне говорят, что ехать дальше нельзя, так как всё залило, мосты разнесло и проч. Зная, как любят вольные ямщики пугать стихиями, чтобы оставить проезжего у себя ночевать (это выгодно), я не поверил и приказал запрячь тройку. Что ж? Увы мне! Проехал я не больше пяти верст, как увидел луговой берег Иртыша, весь покрытый большими озерами; дорога спряталась под водой, и мостки по дороге в самом деле или снесены, или раскисли. Возвращаться назад мешает отчасти упрямство, отчасти желание скорее выбраться из этих скучных мест... Начинаем ехать по озерам... Боже мой, никогда в жизни не испытывал ничего подобного! Резкий ветер, холод, отвратительный дождь, а ты изволь вылезать из тарантаса (не крытого) и держать лошадей: на каждом мостике можно проводить лошадей только поодиночке... Куда я попал? Где я? Кругом пустыня, тоска; виден голый, угрюмый берег Иртыша... Въезжаем в самое большое озеро; теперь уж охотно бы вернулся, да трудно... Едем по длинной, узкой полоске земли... Полоска кончается, и мы бултых! Потом опять полоска, опять бултых... Руки закоченели... А дикие утки точно смеются и огромными стаями носятся над головой... Темнеет... Ямщик молчит — растерялся... Но вот, наконец, выезжаем к последней полоске, отделяющей озёра от Иртыша... Отлогий берег Иртыша на аршин выше уровня; он глинист, гол, изгрызен, склизок на вид... Мутная вода... Белые волны хлещут по глине, а сам Иртыш не ревет и не шумит, а издает какой-то странный звук, похожий на то, как будто под водой стучат по гробам... Тот берег — сплошная, безотрадная пустыня... Вам снился часто Божаровский омут; так мне теперь будет сниться Иртыш...
Но вот и паром. Надо переправляться на ту сторону. Выходит из избы мужик и, пожимаясь от дождя, говорит, что паромом плыть нельзя теперь, так как слишком ветрено... (Паромы здесь весельные.) Советует обождать тихой погоды...
И вот я сижу ночью в избе, стоящей в озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? зачем я здесь?
В соседней комнате спят мужики-перевозчики и мой ямщик. Люди добрые. А будь они злые, меня можно было бы отлично ограбить и утопить в Иртыше. Изба — солистка на берегу, свидетелей нет...
Дорога до Томска в разбойничьем отношении совершенно безопасна. О грабежах не принято даже говорить. Даже краж у проезжающих не бывает; уходя в избу, можете оставлять вещи на дворе, и они все будут целы.
Но меня все-таки чуть было не убили. Представьте себе ночь перед рассветом... Я еду на тарантасике и думаю, думаю... Вдруг вижу, навстречу во весь дух несется почтовая тройка; мой возница едва успевает свернуть вправо, тройка мчится мимо, и я усмотриваю в ней обратного ямщика... Вслед за ней несется другая тройка, тоже во весь дух; свернули мы вправо, она сворачивает влево; «сталкиваемся!» — мелькает у меня в голове... Одно мгновение и — раздается треск, лошади мешаются в черную массу, мой тарантас становится на дыбы, и я валюсь на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Вскакиваю и вижу — несется третья тройка...
Должно быть, накануне за меня молилась мать. Если бы я спал или если бы третья тройка ехала тотчас же за второй, то я был бы изломан насмерть или изувечен. Оказалось, что передний ямщик погнал лошадей, а ямщики на второй и на третьей спали и нас не видели. После крушения глупейшее недоумение с обеих сторон, потом жестокая ругань... Сбруи разорваны, оглобли сломаны, дуги валяются на дороге... Ах, как ругаются ямщики! Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше никогда не знал...
Однако бумага на исходе. Привет мой барину, Василисе, Идиотику и Елизавете Александровне. Стучит в окна дождь. Да благословят вас все святые! Буду еще писать. Мой адрес: Александровский пост на о. Сахалине.
Ваш А. Чехов.
14 май 90 г. Село Яр, в 45 верстах от Томска.
Великолепная моя мамаша, превосходная Маша, сладкий Миша и все присные мои! В Екатеринбурге я получил ответную телеграмму из Тюмени: «Первый пароход в Томск пойдет 18 мая». Это значило, что мне нужно было, хочешь не хочешь, скакать на лошадях. Так и сделал. Из Тюмени выехал я 3 мая, прожив в Екатеринбурге 2—3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы. Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последних: всё равно. Посадили меня раба божьего в корзинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь в корзине, глядишь на свет божий, как чижик, и ни о чем не думаешь... Сибирская равнина начинается, кажется, от самого Екатеринбурга и кончается чёрт знает где; я сказал бы, что она очень похожа на нашу южнорусскую степь, если бы не мелкий березняк, попадающийся то там, то сям, и если бы не холодный ветер, покалывающий щеки. Весна еще не начиналась. Зелени совсем нет, леса голы, снег не весь растаял; на озерах стоит матовый лед. 9 мая в день св. Николая был мороз, а сегодня 14-го выпал снег в 1½ вершка. О весне говорят одни только утки. Ах, как много уток! Никогда в жизни я не видел такого утиного изобилия. Летают над головой, вспархивают около тарантаса, плавают в озерах и в лужах, короче, в один день из плохого ружья я настрелял бы тысячу штук. Слышно, как кричат дикие гуси... Их здесь тоже много. Часто попадаются вереницы журавлей и лебедей... В березняке порхают тетерева и рябчики. Зайцы, которых здесь не едят и не стреляют, ничтоже сумняся стоят на задних лапках и, вздернув уши, любопытным взором провожают едущих. Они так часто перебегают дорогу, что это здесь не считается дурной приметой.
Холодно ехать... На мне полушубок. Телу ничего, хорошо, но ногам зябко. Кутаю их в кожаное пальто — не помогает... На мне двое брюк. Ну-с, едешь, едешь... Мелькают верстовые столбы, лужи, березнячки... Вот перегнали переселенцев, потом этап... Встретили бродяг с котелками на спинах; эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ее юбку себе на портянки, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами — сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. От Тюмени до Томска ни почтовые, ни вольные ямщики не помнят, чтобы у проезжающего украли что-нибудь; когда идешь на станцию, вещи оставляешь на дворе; на вопрос, не украдут ли, отвечают улыбкой. О грабежах и убийствах по дороге не принято даже говорить. Мне кажется, потеряй я свои деньги на станции или в возке, нашедший ямщик непременно возвратил бы мне их и не хвастался бы этим. Вообще народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь; постели мягкие, всё пуховики и большие подушки, полы выкрашены или устланы самоделковыми холщовыми коврами. Это объясняется, конечно, зажиточностью, тем, что семья имеет надел из 16 десятин чернозема и что на этом черноземе растет хорошая пшеница (пшеничная мука стоит здесь 30 коп. за пуд).
Но не всё можно объяснить зажиточностью и сытостью, нужно уделить кое-что и манере жить. Когда ночью входишь в комнату, в которой спят, то нос не чувствует ни спирали, ни русского духа. Вас не посадят пить чай без скатерти, при вас не отрыгивают, не ищут в голове; когда подают воду или молоко, не держат пальцы в стакане, посуда чистая, квас прозрачен, как пиво, — вообще чистоплотность, о которой наши хохлы могут только мечтать, а ведь хохлы куда чистоплотнее кацапов! Хлеб пекут здесь превкуснейший; я в первые дни объедался им. Вкусны и пироги, и блины, и оладьи, и калачи, напоминающие хохлацкие ноздреватые бублики. Блины тонки... Зато всё остальное не по европейскому желудку. Например, всюду меня потчевали «утячьей похлебкой». Это совсем гадость: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и неварёный лук.
Я раз попросил сварить суп из мяса и изжарить окуней. Суп мне подали пресоленый, грязный, с закорузлыми кусочками кожи вместо мяса, а окуней с чешуей. Варят здесь щи из солонины; её же и жарят. Сейчас мне подавали жареную солонину: преотвратительно; пожевал и бросил. Чай здесь пьют кирпичный. Это настой из шалфея и тараканов — так по вкусу, а по цвету — не чай, а матрасинское вино. Кстати сказать, я взял с собою из Екатеринбурга ¼ фунта чаю, 5 фунтов сахару и 3 лимона. Чаю не хватило, а купить негде. В паршивых городках даже чиновники пьют кирпичный чай и самые лучшие магазины не держат чая дороже 1 р. 50 к. за фунт. Пришлось пить шалфей.
Расстояние между станциями определяется расстоянием между каждыми двумя соседними деревнями: 20—40 верст. Деревни здесь большие, поселков и хуторов нет. Везде церкви и школы; избы деревянные, есть и двухэтажные.
К вечеру лужи и дорога начинают мерзнуть, а ночью совсем мороз, хоть доху надевай... Бррр! Тряско, потому что грязь обращается в кочки. Выворачивает душу... К рассвету страшно утомляешься от холода, тряски и колокольчиков; страстно хочется тепла и постели... Пока меняют лошадей, прикорнешь где-нибудь в уголке и тотчас же заснешь, а через минуту возница уже дергает за рукав и говорит: «Вставай, приятель, пора!» Во вторую ночь я стал чувствовать острую зубную боль в пятках. Невыносимо больно. Спрашиваю себя: не отморозил ли?
Однако писать нельзя. Приехал заседатель (т. е. становой). Познакомились и разговариваем. До завтра.
Виноваты оказались ботфорты, узкие в задниках. Сладкий Миша, если у тебя будут дети, в чем я не сомневаюсь, то завещай им не гнаться за дешевизною. Дешевизна русского товара — это диплом на его негодность. По-моему, лучше босиком ходить, чем в дешевых сапогах. Представьте мое мучение! То и дело вылезаю из возка, сажусь на сырую землю и снимаю сапоги, чтобы дать отдохнуть пяткам. Как это удобно в мороз! Пришлось купить в Ишиме валенки... Так и ехал в валенках, пока они у меня не раскисли от сырости и грязи.
Утром часов в 5—6 чаепитие в избе. Чай в дороге — это истинное благодеяние. Теперь я знаю ему цену и пью его с остервенением Янова. Он согревает, разгоняет сон, при нем съедаешь много хлеба, а хлеб за отсутствием другой еды должен съедаться в большом количестве; оттого-то крестьяне едят так много хлеба и хлебного. Пьешь чай и разговариваешь с бабами, которые здесь толковы, чадолюбивы, сердобольны, трудолюбивы и свободнее, чем в Европе; мужья не бранят и не бьют их, потому что они так же высоки, и сильны, и умны, как их повелители; они, когда мужей нет дома, ямщикуют; любят каламбурить.
Детей не держат в строгости; их балуют. Дети спят на мягком, сколько угодно, пьют чай и едят вместе с мужиками и бранятся, когда те любовно подсмеиваются над ними. Дифтерита нет. Царит здесь черная оспа, но странно, она здесь не так заразительна, как в других местах: двое-трое заболеют, умрут — и конец эпидемии.
Больниц и врачей нет. Лечат фельдшера. Кровопускание и кровососные банки в грандиозных, зверских размерах. Я по дороге осматривал одного еврея, больного раком печени. Еврей истощен, еле дышит, но это не помешало фельдшеру поставить ему 12 кровососных банок. Кстати об евреях. Здесь они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потому что они в самом деле и de jure и de facto крестьяне. Пользуются они всеобщим уважением, и, по словам заседателя, нередко их выбирают в старосты. Я видел жида, высокого и тонкого, который брезгливо морщился и плевал, когда заседатель рассказывал скабрезные анекдоты; чистоплотная душа; его жена сварила прекрасную уху. Жена того жида, что болен раком, угощала меня щучьей икрой и вкуснейшим белым хлебом. О жидовской эксплуатации не слышно.
Кстати уж и о поляках. Попадаются ссыльные, присланные сюда из Польши в 1864 г. Хорошие, гостеприимные и деликатнейшие люди. Одни живут очень богато, другие очень бедно и служат писарями на станциях. Первые после амнистии уезжали к себе на родину, но скоро вернулись назад в Сибирь — здесь богаче, вторые мечтают о родине, хотя уже стары и больны. В Ишиме один богатый пан Залесский, у которого дочь похожа на Сашу Киселеву, угостил меня за 1 рубль отличным обедом и дал мне комнату выспаться; он держит кабак, окулачился до мозга костей, дерет со всех, но все-таки пан чувствуется и в манерах, и в столе, во всем. Он не едет на родину из жадности, из жадности терпит снег в Николин день; когда он умрет, дочка его, родившаяся в Ишиме, останется здесь навсегда — и пойдут таким образом множиться по Сибири черные глаза и нежные черты! Эти случайные примеси крови нужны, ибо в Сибири народ некрасив. Брюнетов совсем нет. Быть может, и про татар написать вам? Извольте. Их здесь немного. Люди хорошие. В Казанской губернии о них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они «лучше русских» — так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили это молчанием.
Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей.
Обедать нечего.
Умные люди, когда едут в Томск, берут с собою обыкновенно полпуда закусок. Я же оказался дураком, и потому 2 недели питался одним только молоком и яйцами, которые здесь варят так: желток крутой, а белок восмятку. Надоедает такая еда в 2 дня. За всю дорогу я только два раза обедал, если не считать жидовской ухи, которую я ел, будучи сытым после чая. Водку не пил; сибирская водка противна, да и отвык я от нее, пока доехал до Екатеринбурга. Водку же пить следует. Она возбуждает мозг, который от дороги делается вялым и тупым, отчего глупеешь и слабеешь.
Стоп! Нельзя писать: пришел знакомиться редактор «Сибирского вестника» Картамышев, местный Ноздрев, пьяница и забулдыга.
Картамышев выпил пива и ушел. Продолжаю.
В первые три дня вояжа у меня от тряски и толчков разболелись ключицы, плечи, позвонки, копчик... Ни сидеть, ни ходить, ни лежать... Но зато прошли все грудные и головные боли, разыгрался донельзя аппетит, а геморрой, точно воды в рот набрал — молчок. От напряжения, от частой возни с чемоданами и проч., а быть может, и от прощальных попоек в Москве у меня по утрам бывало кровохарканье, которое наводило на меня нечто вроде уныния, возбуждая мрачные мысли, и которое к концу пути прекратилось; теперь даже кашля нет; давно я так мало кашлял, как теперь, после двухнедельного пребывания на чистом воздухе. После же первых трех дней вояжа тело мое привыкло к тряске и для меня наступило время, когда я стал не замечать, как после утра наступал полдень, а потом вечер и ночь. Дни мелькали быстро, как в затяжной болезни. Думаешь, что еще нет полудня, а мужики говорят, что ты бы, барин, остался ночевать, а то как бы не заблудился ночью; и в самом деле, поглядишь на часы — 8-й час вечера.
Везут быстро, но поразительного в этой быстроте ничего нет. Вероятно, я застал дурную дорогу, зимой во-
зят быстрее. На гору несутся вскачь, а прежде чем выехать со двора и прежде чем ямщик сядет на козлы, лошадей держат двое-трое. Лошади напоминают московских пожарных лошадей; однажды я едва не передавил старух, а в другой раз едва не налетел на этап. Теперь извольте вам приключение, которым я обязан сибирской езде. Только прошу мамашу не охать и не причитывать, ибо всё обошлось благополучно. В ночь под 6-е мая на рассвете вез меня один очень милый старик на паре. Тарантасик. Я дремал и от нечего делать поглядывал, как в поле и в березняке искрились змееобразные огни: это горела прошлогодняя трава, которую здесь жгут. Вдруг слышу дробный стук колес. Навстречу во весь дух, как птица, несется почтовая тройка. Мой старик спешит свернуть вправо, тройка пролетает мимо, и я усматриваю в потемках громадную, тяжелую почтовую телегу, в которой сидит обратный ямщик. За этой тройкой несется вторая тройка тоже во весь дух. Мы спешим свернуть вправо... К великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает не вправо, а влево... Едва я успел подумать: «Боже мой, сталкиваемся!», как раздался отчаянный треск, лошади мешаются в одну темную массу, дуги падают, мой тарантас становится на дыбы, и я лечу на землю, а на меня мои чемоданы. Но это не всё... Летит третья тройка... По-настоящему, эта должна была искрошить меня и мои чемоданы, но, слава богу, я не спал, ничего не сломал себе от падения и сумел вскочить так быстро, что мог отбежать в сторону. «Стой! — заорал я третьей тройке. — Стой!» Тройка налетела на вторую и остановилась... Конечно, если бы я умел спать в тарантасе или если бы третья тройка неслась тотчас же за второй, то я вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. Результаты крушения: сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле, оторопевшие, замученные лошади и страх от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, а во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от переполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой. Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой, ругающейся орды, среди поля, перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух! Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир, что тебя сейчас затопчут... После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли и сбрую; пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, и то и дело останавливались...
После 5—6 дня начались дожди при сильном ветре. Шел дождь днем и ночью. Пошло в дело кожаное пальто, спасавшее меня и от дождя и от ветра. Чудное пальто. Грязь пошла невылазная, ямщики стали неохотно возить по ночам. Но, что ужаснее всего и чего я не забуду во всю мою жизнь, это перевозы через реки. Подъедешь ночью к реке... Начинаешь с ямщиком кричать... Дождь, ветер, по реке ползут льдины, слышен плеск... И кстати радость: кричит бугай. На сибирских реках живут бугаи. Значит, они признают не климат, а географическое положение... Ну-с, через час в потемках показывается громадный паром, имеющий форму баржи; громадные весла, похожие на рачьи клешни. Перевозчики — народ озорной, всё больше ссыльные, присланные сюда по приговорам общества за порочную жизнь. Сквернословят нестерпимо, кричат, просят денег на водку... Везут через реку долго, долго... мучительно долго! Паром ползет... Опять чувство одиночества, и кажется, бугай нарочно кричит, как будто хочет сказать: «Не бойся, дядя, я здесь, Линтваревы с Псла меня сюда прислали!»
7 мая вольный ямщик, когда я попросил лошадей, сказал, что Иртыш разлился и затопил луга, что вчера ездил Кузьма и еле вернулся и что ехать нельзя, нужно обождать... Спрашиваю: до каких пор ждать? Ответ: а Господь его знает! Это неопределенно, да и к тому же я дал себе слово отделаться в дороге от двух своих пороков, причинявших мне немало расходов, хлопот и неудобств; это — уступчивость и сговорчивость. Я быстро соглашаюсь, и потому мне приходилось ездить на чёрт знает чем, платить иногда вдвое, ждать по целым часам... Стал я не соглашаться и не верить — и бокам моим стало легче. Например, запрягут не возок, а простую, тряскую телегу. Откажешься ехать на телеге, упрешься, и непременно явится возок, хотя раньше уверяли, что во всей деревне нет возка и т. д. Ну-с, подозревая, что разлив Иртыша придуман только для того, чтобы не везти меня к ночи по грязи, я запротестовал и приказал ехать. Мужик, слыхавший о разливе от Кузьмы и сам его не видавший, почесался и согласился, старики подбодрили его и сказали, что когда в молодости они ямщиковали, то ничего не боялись. Поехали... Грязь, дождь, злющий ветер, холод... и валенки на ногах. Знаете, что значит мокрые валенки? Это сапоги из студня. Едем, едем, и вот перед очами моими расстилается громадное озеро, на котором кое-где пятнами проглядывает земля и торчат кустики — это залитые луга. Вдали тянется крутой берег Иртыша; на нем белеет снег... Начинаем ехать по озеру. Вернуться бы назад, да мешает упрямство и берет какой-то непонятный задор, тот самый задор, который заставил меня купаться среди Черного моря, с яхты, и который побуждал меня делать немало глупостей... Должно быть, психоз. Едем и выбираем островки, полоски. Направление указывают мосты и мостики; они снесены. Чтобы проехать по ним, нужно распрягать лошадей и водить лошадей поодиночке... Ямщик распрягает, я спрыгиваю в валенках в воду и держу лошадей... Занимательно! А тут дождь, ветер... спаси, Царица небесная! Наконец добираемся до островка, где стоит избушка без крыши... По мокрому навозу бродят мокрые лошади. Выходит из избушки мужик с длинной палкой и берется провожать... Палкой он измеряет глубину воды и пробует грунт... Дай бог ему здоровья, вывел на длинную полосу, которую называл он «хребтом». Научил, чтоб с этого хребта мы норовили взять куда-то вправо или, не помню, влево, и попасть на другой хребет. Так мы и сделали...
Едем... В валенках сыро, как в отхожем месте. Хлюпает, чулки сморкаются. Ямщик молчит и уныло почмокивает. Он рад бы вернуться, но уже поздно, темнеет... Наконец — о радость! — подъезжаем к Иртышу... Тот берег крутой, а сей — отлогий. Сей изгрызен, скользок на вид, противен, растительности ни следа... Мутная вода с белыми гребнями хлещет по нем и со злобой отскакивает назад, точно ей гадко прикасаться к неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, как кажется, могут жить одни только жабы да души убийц... Иртыш не шумит, не ревет, а сдается, как будто он у себя на дне стучит по гробам... Проклятое впечатление! Тот берег высок, бур, пустынен...
Изба; тут живут перевозчики. Выходит один и заявляет, что паром пускать нельзя, так как поднялась непогода. Река, мол, широкая, а ветер сильный... И что же? Пришлось ночевать в избе... Помню ночь, храп перевозчиков и моего ямщика, шум ветра, стук дождя, ворчанье Иртыша... Перед тем как спать, написал Марии Владимировне письмо: Божаровский омут припомнился.
Утром не захотели везти на пароме: ветер. Пришлось плыть на лодке. Плыву через реку, а дождь хлещет, ветер дует, багаж мокнет, валенки, которые ночью сушились в печке, опять обращаются в студень. О, милое кожаное пальто! Если я не простудился, то обязан только ему одному. Когда вернусь, помажьте его за это салом или касторкой. На берегу целый час сидел на чемодане и ждал, когда из деревни приедут лошади. Помню, взбираться на берег было очень скользко. В деревне грелся и пил чай. Приходили за милостыней ссыльные. Для них каждая семья ежедневно заквашивает пуд пшеничной муки. Это вроде повинности. Ссыльные берут хлеб и пропивают его в кабаке. Один ссыльный, оборванный, бритый старик, которому в кабаке выбили глаза свои же ссыльные, услышав, что в комнате проезжий, и приняв меня за купца, стал петь и читать молитвы. Он и о здравии, и за упокой, пел и пасхальное «Да воскреснет бог», и «Со святыми упокой» — чего только не пел! Потом стал врать, что он из московских купцов. Я заметил, как этот пьяница презирал мужиков, на шее которых жил!
11-го поехал на почтовых. От скуки читал на станциях жалобные книги. Сделал открытие, которое меня пора-зило и которое в дождь и сырость не имеет себе цены: на почтовых станциях в сенях имеются отхожие места. О, вы не можете оценить этого!
12 мая мне не дали лошадей, сказавши, что ехать нельзя, так как Обь разлилась и залила все луга. Мне посоветовали: «Вы поезжайте в сторону от тракта до Красного Яра; там на лодке проедете верст 12 до Дубровина, а в Дубровине вам дадут почтовых лошадей...» Поехал я на вольных в Красный Яр. Приезжаю утром. Говорят, что лодка есть, но нужно немного подождать, так как дедушка послал на ней в Дубровино работника, который повез заседателева писаря. Ладно, подождем... Проходит час, другой, третий... Наступает полдень, потом вечер... Аллах керим, сколько чаю я выпил, сколько хлеба съел, сколько мыслей передумал! А как много я спал! Наступает ночь, а лодки всё нет... Наступает раннее утро... Наконец в 9 часов возвращается работник. Слава небесам, плывем! И как хорошо плывем! Тихо в воздухе, гребцы хорошие, острова красивые... Вода захватила людей и скот врасплох, и я вижу, как бабы плывут в лодках на острова доить коров. А коровы тощие, унылые... По случаю холодов совсем нет корму. Плыл я 12 верст. В Дубровине на станции чай, а к чаю мне подали, можете себе представить, вафли... Хозяйка, должно быть, ссыльная или жена ссыльного... На следующей станции старик-писарь, поляк, которому я дал антипирину от головной боли, жаловался на бедность и говорил, что недавно через Сибирь проезжал австрийского двора камергер граф Сапега, поляк, помогающий полякам. «Он останавливался около станции, — рассказывает писарь, — а я не знал этого! Мать пресвятая! Он бы мне помог! Я писал ему в Вену, но ответа не получил»... и т. д. Зачем я не Сапега? Я отправил бы этого беднягу на родину.
14 мая мне опять не дали лошадей. Разлив Томи. Какая досада! Не досада, а отчаянье! В 50 верстах от Томска, и так неожиданно! Женщина зарыдала бы на моем месте... Для меня люди добрые нашли выход: «Поезжайте, ваше благородие, до Томи — только 6 верст отсюда; там вас перевезут на лодке до Яра, а оттуда в Томск вас свезет Илья Маркович». Нанимаю вольного и еду к Томи, к тому месту, где должна быть лодка. Подъезжаю — лодки нет. Говорят, только что уплыла с почтой и едва ли вернется, так как дует сильный ветер. Начинаю ждать... Земля покрыта снегом, идут дождь и крупа, ветер... Проходит час, другой, а лодки нет... Насмехается надо мной судьба! Возвращаюсь назад на станцию. Тут три почтовые тройки и почтальон собираются ехать к Томи. Говорю, что лодки нет. Остаются. Получаю от судьбы награду: писарь на мой нерешительный вопрос, нет ли чего закусить, говорит, что у хозяйки есть щи... О, восторг! О, пресветлого дне! И в самом деле, хозяйкина дочка подает мне отличных щей с прекрасным мясом и жареной картошки с огурцом. После пана Залесского я ни разу так не обедал. После картошки разошелся я и сварил себе кофе. Кутеж!
Перед вечером почтальон, пожилой, очевидно натерпевшийся человек, не смевший сидеть в моем присутствии, стал собираться ехать к Томи. И я тоже. Поехали. Как только подъехали к реке, показалась лодка, такая длинная, что мне раньше и во сне никогда не снилось. Когда почту нагружали в лодку, я был свидетелем одного странного явления: гремел гром — это при снеге и холодном ветре. Нагрузились и поплыли. Сладкий Миша, прости, как я радовался, что не взял тебя с собой! Как я умно сделал, что никого не взял! Сначала наша лодка плыла по лугу около кустов тальника... Как бывает перед грозой или во время грозы, вдруг по воде пронесся сильный ветер, поднявший валы. Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать непогоду в кустах тальника; на это ему ответили, что если непогода станет сильнее, то в тальнике просидишь до ночи и всё равно утонешь. Стали решать большинством голосов и решили плыть дальше. Нехорошее, насмешливое мое счастье! Ну, к чему эти шутки? Плыли мы молча, сосредоточенно... Помню фигуру почтальона, видавшего виды... Помню солдатика, который вдруг стал багров, как вишневый сок... Я думал: если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто... потом валенки... потом и т. д. ... Но вот берег всё ближе, ближе... На душе всё легче, легче, сердце сжимается от радости, глубоко вздыхаешь почему-то, точно отдохнул вдруг, и прыгаешь на мокрый скользкий берег... Слава Богу!
У Ильи Марковича, выкреста, говорят, что к ночи ехать нельзя — дорога плоха, что нужно остаться ночевать. Ладно, остаюсь. После чая сажусь писать вам это письмо, прерванное приездом заседателя. Заседатель — это густая смесь Ноздрева, Хлестакова и собаки. Пьяница, развратник, лгун, певец, анекдотист и при всем том добрый человек. Привез с собою большой сундук, набитый делами, кровать с матрасом, ружье и писаря. Писарь прекрасный, интеллигентный человек, протестующий либерал, учившийся в Петербурге, свободный, неизвестно как попавший в Сибирь, зараженный до мозга костей всеми болезнями и спивающийся по милости своего принципала, называющего его Колей. Посылает власть за наливкой. «Доктор! — вопит она. — Выпейте еще рюмку, в ноги поклонюсь!» Конечно, выпиваю. Трескает власть здорово, врет напропалую, сквернословит бесстыдно. Ложимся спать. Утром опять посылают за наливкой. Трескают наливку до 10 часов и наконец едут. Выкрест Илья Маркович, которого мужики боготворят здесь — так мне говорили, — дал мне лошадей до Томска.
Я, заседатель и писарь сели в одном возке. Заседатель всю дорогу врал, пил из горлышка, хвастал, что не берет взяток, восхищался природой и грозил кулаком встречным бродягам. Проехал 15 верст — стоп! Деревня Бровкино... Останавливаемся около жидовской лавочки и идем «отдыхать». Жид бежит за наливкой, а жидовка варит уху, о которой я уже писал. Заседатель распорядился, чтоб пришли сотский, десятский и дорожный подрядчик, и пьяный стал распекать их, нисколько не стесняясь моим присутствием. Он ругался, как татарин.
Скоро я разъехался с заседателем и по отвратительной дороге вечером 15-го мая доехал до Томска. В последние 2 дня я сделал только 70 верст — можете судить, какова дорога!
В Томске невылазная грязь. О городе и о здешнем житье буду писать на днях, а теперь до свиданья. Утомился писать. Поклон Папаше, Ивану, тетке, Алеше, Александре Васильевне, Зинаиде Михайловне, Доктору, Троше, великому пианисту, Марьюшке. Если знаете адрес милейшей Гундасихи, то напишите этой необыкновенной, удивительной девице, что я ей кланяюсь. Славной Жамэ привет от души. Если летом она будет гостить у Вас, то я буду очень рад. Она очень хорошая. Скажите Троше, что я сейчас пил из ее стаканчика. Чокался, впрочем, с Картамышевым.
Тополей нет. Кувшинниковский генерал соврал. Соловьев нет. Сороки и кукушки есть.
Сегодня получил телеграмму от Суворина в 80 слов.
Всех обнимаю, целую и благословляю.
Ваш А. Чехов.
Мишино письмо получено. Спасибо.
Простите, что письмо похоже на винегрет. Нескладно. Ну, да что делать? Сидя в номере, лучше не напишешь. Извините, что длинно. Я не виноват. Рука разбежалась, да и к тому же хочется подольше поговорить с вами. 3-й час ночи. Рука утомилась. На свечке нагорел фитиль, плохо видно. Пишите мне на Сахалин в каждые 4—5 дней. Оказывается, что почта туда идет не только морем, но и через Сибирь. Значит, буду получать своевременно и часто.
Завтра пойду к Владиславлеву и Флоринскому. Деньги целы. Швов еще не распарывал. Что Артеменко? Харитоненко получил звезду. Поздравляю Сумы.
В Томске на всех заборах красуется «Предложение».
Томичи говорят, что такая холодная и дождливая весна, как в этом году, была в 1842 г. Половину Томска затопило. Мое счастье! Ем конфекты.
Если у Маши будет болеть горло и летом, то по приезде в Москву в сентябре пусть проф. Кузьмин отрежет ей по кусочку от каждой миндалевидной железы. Это невинная безболезненная операция. Без этой операции Маша до старости не избавится от фолликулярных и прочих жаб. Если Елена Михайловна согласится сделать операцию сию, то еще лучше. Пока железы еще не очень велики, достаточно отрезать по очень маленькому кусочку.
В Томске нужно будет дождаться того времени, когда прекратятся дожди. Говорят, что дорога до Иркутска возмутительна. Здесь есть «Славянский базар». Обеды хорошие, но добраться до этого «Базара» нелегко — грязь невылазная.
Сегодня (17 мая) пойду в баню. Говорят, что на весь Томск имеется один только банщик — Архип.
Печатается по: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1983. Т. 4. Письма, январь 1890 — февраль 1892. — М.: Наука, 1975.
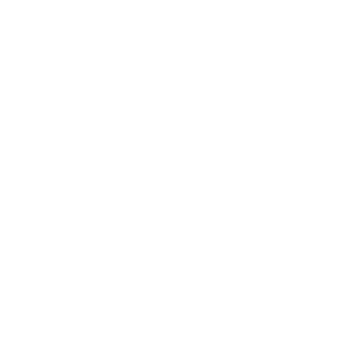
Елена ЯБЛОНСКАЯ
Писатель, литературовед, автор более 20 статей о творчестве А. П. Чехова. Член Союза писателей России. Дипломант, лауреат и победитель литературных конкурсов и фестивалей. Автор семи книг прозы и многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Живёт в г. Черноголовка Московской области.
Писатель, литературовед, автор более 20 статей о творчестве А. П. Чехова. Член Союза писателей России. Дипломант, лауреат и победитель литературных конкурсов и фестивалей. Автор семи книг прозы и многочисленных публикаций в журналах и альманахах. Живёт в г. Черноголовка Московской области.
ВСЛЕД ЗА ЧЕХОВЫМ. ВМЕСТЕ С ЧЕХОВЫМ
С Еленой Яблонской, автором только что вышедшей книги «Вслед за Чеховым. Записки «антоновки» беседовал главный редактор альманаха «Новое Слово».
– Елена, вы родились и выросли в Ялте. И все-таки – почему Чехов? Ведь Ялта – это еще Бунин, Маяковский, Пушкин в конце концов?
– Да, я родилась и выросла в Ялте. Ялта литературная – это, поверьте мне, почти исключительно чеховская Ялта. Да, известно, что Пушкин был в Гурзуфе, и то – проездом. А Ялта Бунина – это все равно чеховская Ялта, потому что Бунин бесконечно любил Чехова, постоянно приезжал и приходил к нему, оставался с ним по вечерам, когда супруга Ольга Леонардовна была занята в театре. И весь МХАТ целиком приезжал к Антону Павловичу в Крым, ставил специально для него спектакли, сначала в Севастополе, потом в Ялте. Но лично у меня, уж простите, с Буниным довольно сложные отношения. В свое время из-за этого мне было трудно учиться в Литературном институте, где существовали три такие реперные точки: Бунин, Набоков и Юрий Казаков. Вы могли это заметить из высказываний нашего общего учителя Андрея Венедиктовича Воронцова. Всех этих великих писателей, действительно блестящих, ну, простите, не очень люблю. Причин тут много. Но это тема, наверное, отдельного разговора.
– А Маяковский?
Маяковского как раз – обожаю! Тут дело, наверное, в возрасте. Чехова я начала читать с 10 лет, у меня это был самый восприимчивый возраст и для ранних рассказов Чехова – подходящий. А из поэзии я в это время знала только Есенина и упивалась им, помнила почти все стихи из его двухтомника. Детская память необыкновенная. Помню, в Ялте я сидела на нашей улице Чехова, мне лет восемь, у меня в руках томик Есенина, светло-салатовый, с серебристыми березками. И вот кто-то из отдыхающих (а они толпами ходили по нашей улице, параллельной набережной) подходит, заглядывает в мою книжку и говорит приятелю: «О, смотри, кого я встретил – Серёжку Есенина!» Я была оскорблена за поэта до глубины души. Что за панибратство! И только взрослой поняла, что так выражается народная любовь к поэту. И вот в 7-ом классе мы начинаем проходить Маяковского, и я влюбляюсь в него! А Есенин медленно отходит на второй план…
– И все-таки любовь к Чехову для вас оказалась сильнее любви к Маяковскому и другим поэтам и писателям?
– Да, конечно. А вообще странно, что говорят «чеховская Ялта». Ведь Ялту Антон Павлович не очень любил, потому что его принуждали там жить по состоянию здоровья. А он как врач не мог не чувствовать, что ему в теплое время года там действительно хорошо, а зимой, когда невероятно сыро и холодно, очень плохо. Он рвался в Москву, которую полюбил, которая стала его родиной гораздо в большей степени, чем Таганрог, в котором он родился. Чехов – абсолютно московский писатель. Кстати, и я, и мои одноклассники, да и очень многие ялтинцы, такое устремление в Москву воспринимали буквально – мы просто грезили Москвой! Кстати, тогда, как и сегодня, Ялта, да и весь Крым, на сто процентов русские. Люди жили и мыслили исключительно по-русски, и ничего другого себе даже представить было нельзя, хотя Крым в то время формально считался Украиной.
– А какие рассказы Чехова произвели на вас наиболее сильное впечатление?
– Чехова я перечитываю всю жизнь, делаю это постоянно. И перечитываю тот самый знаменитый синий восьмитомник, изданный в 1970 году на основе собрания сочинений, которое составил сам писатель при жизни, для издательства Маркса. Когда я уехала из родительского дома и осталась без «своего» Чехова в московских общежитиях – просто физически страдала! И уже когда жила в подмосковной Черноголовке, в начале 90-х, купила у старушки около метро этот старый восьмитомник за какие-то гроши. Из всего объёма его рассказов и повестей я выделила бы для себя сначала повесть «Дуэль». Думаю, она на всех производит самое мощное впечатление, особенно благодаря фильму «Плохой хороший человек» с Олегом Далем и Владимиром Высоцким в главных ролях. Но поскольку я читала повесть очень внимательно, то сразу заметила, что фильм сделан талантливо, интересно, но однобоко. Там прекрасно показаны мужские характеры, а женские – довольно слабо и даже вообще неверно. Вот об этом, в частности, в своей книге «Вслед за Чеховым» я и пишу. Самый светлый для меня образ (и он не меняется с самого моего детства) – это Марья Константиновна Битюгова. Умная и добрая женщина, которая сначала действительно производит впечатление восторженно-глуповатой, жеманной тётушки, мещанки. Но затем происходит чудо преображения, как это много раз бывает у Чехова. Там и дьякон преображается к середине повести. Сначала это не очень образованный молодой человек, который все время хохочет и раздражает всех неуместным смехом. Но потом Чехов доверяет ему собственные мысли: о жизни, о людях. А как преображаются Лаевский и фон Корен! А вслед за ними – и Надежда Федоровна! А Марья Константиновна преображается в наших глазах в тот момент, когда она приходит к Надежде Федоровне и начинает излагать ей христианский взгляд на семью, на роль женщины – я уверена, что это мысли самого Чехова! А как у неё дома, в быту – такие белоснежные простыни, наволочки, всегда горячие булочки, ни одной мухи, хотя это южный город и вокруг грязь и антисанитария. Главное же, она все 16 лет супружества влюблена в своего мужа! Я восхищаюсь этой женщиной, но мне, к сожалению, не удалось стать похожей на неё, хотя я мечтала просто о счастливой женской судьбе, отнюдь не писательской…
– Может быть, у вас воспитание было соответствующее восприятию Чехова? Семейные традиции, родители, обстановка, вера…
– Знаете, в детстве я была как все – пионерка, комсомолка, неверующая. Но я понимала с раннего детства, что все наши писатели, русские классики верили в Бога, и именно эта вера, упование на него, позволила им создать то, что они создали. Вот это я как раз понимала и чувствовала. И мне казалось, что если человек верит в Бога – то он замечательный человек. Он не может совершать зла – так я думала в детстве. Вот, возьмите героиню повести «Три года». Юлия Сергеевна, очень верующая женщина, именно благодаря своей вере обретает счастье. Ведь какая удивительная мысль в этом заложена! В Евангелие есть фраза, что «имущему дастся, а от неимущего отнимется». Мы знаем, что речь идёт о вере. Верующему человеку даются и другие дары, а у не имеющего веры отнимается и то немногое, что у него есть. Это, кстати, прекрасно понимал Лев Толстой, и это понимала его героиня княжна Марья в «Войне и мире», когда Наташа Ростова ей говорит, что у Сони, её кузины, нет такой страстной животной силы, как у нее, это то, что мы теперь называем сексапильностью. И поэтому Соня осталась старой девой, хотя любила Николая Ростова. Не было сексапильности – и всё остальное отнялось. Княжна Марья ей говорит, что это не так, в Евангелие сказано не об этом. Видимо, жизнелюбу Толстому были близки именно такие женщины, как Наташа Ростова. О Боге, конечно, я в юности, пожалуй, не много думала, но вот этот образ Юлии Сергеевны у Чехова меня потряс совершенно. И не только этот образ…
– Значит, любимая повесть «Дуэль»? Или «Три года»?
– Я даже в детстве любила читать не только сами произведения Чехова, но и комментарии к ним. И оказалось, что «Три года» – главнейшая повесть Чехова. Порази–тельно, но она и сейчас остается практически неисследованной! Замечательный чеховед Эмма Полоцкая проделала огромную работу, она соотнесла всех героев этой повести с реальными людьми, изучила историю создания повести, воссоздала культурно-историческую обстановку. И соотнесла даже малозначительных эпизодических персонажей с их прототипами, людьми из окружения Чехова. Например, Суворин писал, что старик Лаптев похож на отца самого Чехова, на Павла Егоровича. Антон Павлович раздражался, он как раз хотел своего отца и семью скрыть от внимания публики. Хотя оно так и есть на самом деле, то есть семья Лаптевых и их близкие друзья – это как бы модель семьи Чеховых, поставленной в благополучные материальные условия. А какая в «Трех годах» пощёчина и русскому, и мировому капитализму от Чехова! Через своего героя Лаптева Антон Павлович высказывает собственное отношение к торговле, которая строится на обмане и эксплуатации. Эта тема даже в советские времена не сильно рассматривалась. В этой повести необыкновенные мысли, очень глубокие, хотя там нет окончательных ответов, как почти всегда у Чехова. Ответы Чехов всегда оставлял за скобками, чтобы читатель делал собственные выводы.
– Да, Чехов никогда не давал однозначных оценок…
– Да, вы знаете, и герои повести «Три года» очень сложные. Они все – вроде бы и неплохие люди, но рассеянны, измучены непонятно чем, занимаются не своими прямыми обязанностями, а всё грезят, мечтают… Это и нам информация к размышлению. А детские образы в «Трех годах» – это вообще отдельная тема исследования… Но и я в своем изучении повести «Три года» очень далека до исчерпывающего анализа и осмысления. И этой повестью мои предпочтения не заканчиваются, я очень многие чеховские рассказы люблю. В детстве, например, я безумно любила рассказ «Из записок вспыльчивого человека», очень люблю рассказ «Тайный советник» – о маленьком мальчике, но настолько мудром… Он так трепетно относится ко взрослым – жалеет их, бедных, слабых, нелепых.... А повесть «Степь»? Вроде изучена-переизучена, а возьмешься анализировать – и времени не хватит, постоянно что-то совершенно новое будет открываться. Чехов невероятно многогранен, глубок, все, что необходимо думающему человеку, у него есть. Главное – увидеть, почувствовать, принять эту мудрость и глубину.
– А ведь известно, что Чехов не учился в литературных институтах…
– Да, Антон Павлович нигде не учился «на писателя». В те времена Литературного института и не было. А где он мог бы учиться? Я фантазировала на эту тему, когда рассуждала о повести «Три года». Если бы он был богатым человеком как Лаптев, он, наверное, так же, как и его герой, окончил бы словесное отделение Московского университета. Или историко-философское отделение. Ну и что? Лаптев окончил, но нигде не работает, потому что богат. Чехов, мне думается, хотел быть не писателем-прозаиком, а драматургом. Об этом говорит его «Безотцовщина», пьеса, написанная в последнем классе гимназии. Но, видимо, не получилось пристроить пьесу в театр, вроде бы, он Ермоловой ее посылал. Но она отвергла или ответила что-то неопределённое. Вы можете себе это представить? Семья разорена, родители Антона сбежали в Москву от долгов, он доучивается в гимназии, репетиторствует, продаёт какие-то старые кастрюли, тазы и сковородки, чтобы отправить эти жалкие копейки родителям в Москву – да еще успевает писать пьесу! Громадную – 150 страниц! Представляете, что обрушилось на человека в самом юном возрасте? Ему уже тогда пришлось стать главой семьи, ее кормильцем. Мы не знаем, что у него было на душе после неудачной попытки пристроить пьесу. Может, он продолжал мечтать о карьере драматурга, а может, и махнул на это рукой, решил, что лучше быть достойным врачом. Он им и стал в результате. Но тягу к писательству и способности никуда не денешь: вот он и стал писать короткие фельетончики, заметки, скорее всего, сначала просто, чтобы заработать и помочь семье. Стал корреспондентом, журналистом, репортером московским, и вполне-таки успешным. Работоспособность была высочайшая, но главное – желание поддержать семью, главой которой он себя ощущал. Ну и его великий дар, конечно, талант бесспорный.
– Исследователи его биографии много говорят о сложных взаимоотношениях с отцом, Павлом Егоровичем.
– Да, Павел Егорович был очень строгим, требовательным. Несколько лет назад вышел в свет громадный труд «Чехов» в серии ЖЗЛ. Его автор, замечательная исследовательница Алевтина Павловна Кузичева. Очень добросовестный и честный труд, там всё абсолютно правильно написано. Но у многих читателей может создаться впечатление, что вся семья Чеховых, начиная с Павла Егоровича, властного человека, тирана, и заканчивая женой Ольгой Леонардовной, – это такой хорошо организованный синдикат «разбойников с большой дороги», которые эксплуатировали великого писателя. И когда я говорю об этом с моей замечательной подругой, выдающимся чеховедом Аллой Георгиевной Головачевой, она отвечает: «Да, оно так и было, родные эксплуатировали Чехова». Но дело в том, что Антон Павлович сам добровольно взял на себя эту миссию – работать ради семьи, отказывая себе во многом, наживая туберкулез. Его старшие братья Александр и Николай жили, как хотели, жили отдельно, женились-разводились, выпивали, семье не помогали. Единственный Иван, следующий после Чехова брат, скромный учитель, никогда не брал денег у Антона Павловича, вёл себя очень достойно. Михаил Павлович Чехов тоже был человеком достаточно легкомысленным, получил прекрасное образование, стал юристом. Но ему это не нравилось, он занимался театральной деятельностью. Он, кстати, очень похож на Костю Кочевого из «Трёх годов». Возможно, если бы Антон Павлович пошел по пути своих братьев, он точно так же стал бы пьянствовать или заниматься не своим делом. Но возможно, именно забота о семье и спасла его! Может быть, именно такая не самая идеальная семья и сделала его великим писателем Чеховым. А даровита была вся семья невероятно! И Александр Павлович – для своего времени интересный литератор. И Николай – талантливый художник, друг Левитана, Коровина. Мария Павловна получила высшее образование, была учительницей истории и географии, прекрасно рисовала, пыталась поступить в школу живописи, но не получилось. Поэтому нельзя сказать, что отец их был таким уж невыносимым «тираном» и «деспотом». Он понимал главное, что детям надо дать образование. Да и в подобных патриархальных, «деспотичных» традициях воспитывались дети во многих семьях того времени…
– И уже после переезда в Москву отношения Чехова с отцом изменились?
– Да, когда они переехали в Москву, тирания Павла Егоровича приказала долго жить. Он работал приказчиком в амбаре купцов Гавриловых, прототипов Лаптевых, он там же жил, приходил к семье на выходные и праздники. Теперь уже тиранить было особо некого и некогда. Вся надежда теперь была на Антона. И Павел Егорович настолько зауважал своего среднего сына, который их всех поднимает, не даёт помереть семье с голоду, что он к концу жизни из деспота превратился в добродушного старца, над которым все домашние подтрунивали. Антон Павлович как будто собственным примером перевоспитал отца. Вот каковы были отношения. Кстати, у него есть похожий рассказ об этом, так и называется – «Отец». Там немного другая ситуация. Отец – дворянин, бывший чиновник, но состарившись, пьет, живет с кухаркой в каком-то «бомжатнике», клянчит деньги у своих взрослых сыновей, позорит их и себя. Оба сына это терпят, относятся к нему с уважением, дают деньги, хотя сами нуждаются. Помогают – и как тонко! Вот, мол, папаша, я купил себе штиблеты, а они мне жмут, вам будут впору. Отец сначала хамит, гадости говорит, жалуется всем, что дети его бросили. А потом, прощаясь с сыном, прижавшись к его плечу и плача, шепчет: «Боренька, я всё понимаю, терпите уж, несите свой крест. У меня золотые дети». То есть герои как бы поменялись местами. Отец стал ребенком, а его выросшие сыновья – как будто его родители. Почти то же самое произошло и с Антоном Павловичем. И это хорошая история, светлая.
– А как в вашей собственной жизни проявляется Чехов?
– Сознаюсь, что проявляется он не очень правильно. В каком смысле? Он стал для меня кумиром. Это с моих десяти лет постепенно шло. Я старалась ему подражать, но, к сожалению, у меня из этого ничего не вышло. У меня была зеркальная ситуация – замечательный папа, а матушка… не такая, как Марья Константиновна Битюгова. И я не сумела её перевоспитать. Хотя я убеждена, что всю жизнь она ждала именно этого. Были не раз такие случаи. Я всё покорялась, мне было легче выполнять её дикие требования, чем спорить. Я понимала, что дети должны уважать родителей, покоряться им. А оказывается – не совсем так. И было несколько случаев в жизни, когда я была доведена до предела. Например, когда у меня родился сын, бабушка начала и им командовать. Тут я не могла допустить, чтобы моему ребенку портили жизнь всякими глупостями – то не отпустить в поход с классом, то истребить любимого кота... И в какой-то момент я стала твердо говорить: «Мама, мы тут без тебя разберемся». И вдруг моя мама, которая до этого меня унижала, требовала беспрекословного подчинения, говорит: «Леночка, конечно…» То есть она ждала от меня отпора, хотела, чтобы я не была размазней, а чтобы спорила с ней и сильными поступками доказывала свою правоту. Ну и что касается кумира: кумиров нельзя создавать, об этом целая глава в моей книге, тем более создала я кумира из человека, пусть даже из самого замечательного. Станиславский назвал Чехова «лучшим из людей». Но все-таки он был не ангелом, а грешным, как и все, человеком. Правда, ему Господом было очень много дано. А кому много дано, с того много и спросится – как говорит верующая героиня в повести «Дуэль».
– Некоторые читатели Чехова сетуют на отсутствие в его рассказах надежды на лучшее...
– Как раз всё наоборот. Почти в каждом произведении Чехова надежда, свет, вера в то, что обязательно настанут лучшие времена, пусть даже через 200–300 лет. Я вам сейчас это докажу, возможно, на самом ужасном и действительно безнадежном примере – рассказе «Черный монах». Герой сходит с ума от своей гордыни, получает письмо от жены, которая пишет, что ее отец умер по его вине, а она сама больна, раздавлена. Чудесный сад – один из важнейших символов в мире Чехова – продан, пропал. У самого героя чахотка, всё для него плохо, и самое худшее – не столько сама чахотка, сколько то, что у него «игрушку» отняли – «черного монаха», который нашептывал ему, какой он великий и замечательный. И он умирает. Но что происходит за миг перед смертью? Перед самой смертью магистр Коврин зовёт не черного монаха, он зовёт свою чудесную науку, он зовёт этот прекрасный сад, ставший символом счастливой жизни, он зовёт Таню, свою жену, которая только что его проклинала в письме и которую он, кажется, никогда не любил. То есть, Господь в последний миг приоткрыл для человека щелочку в мир правды и любви – и из нее хлынул свет, надежда на спасение души этого человека, обуянного бесом гордыни! И я верю, что Господь успел спасти душу магистра Коврина, дав ему последний шанс. Еще более страшный рассказ «В овраге», где убивают невинного младенца. Омерзительное кулачье – фабричное гнездо, гадость, мерзость… но посмотрите, там одновременно живут и святые. Вот героиня рассказа – Липа, которая в конце дня, после тяжелой работы идёт и поет, как соловушка, как жаворонок. Поёт она не от счастья, а потому, что рабочий день кончился и можно отдохнуть от тяжелой работы. Может и правда, что труд облагораживает человека и поднимает его ввысь? Конечно, для нас свет, радость и надежда в том, что жили и живут на Руси такие женщины и значит, они и сейчас здесь, среди нас.
– Отдельно хотелось бы поговорить о драматургии Чехова.
– Пьесы Антона Павловича, это вопрос, на который мне труднее всего ответить. Я не считаю себя большим знатоком драматургии и воспринимаю пьесы Чехова как продолжение его прозы. Меня поражает в чеховской драматургии другое: от пьесы «Безотцовщина», которая была написала в 1878 году, и до последней пьесы «Вишневый сад» 1903 года – двадцать пять лет творческой деятельности, но, если присмотреться внимательно, – одни и те же образы, одни и те же проблемы тонкой пунктирной линией проходят от начала и до конца. Например, в «Безотцовщине» был такой лакей – современный «Смердяков», который всё о заграницах грезит, и он с тем же именем, Яков, переходит в «Вишневый сад». Таких примеров масса. Многие похожие образы переходят из пьесы в пьесу, однако, решаются они у Антона Павловича по-разному, порой неожиданно. Для современных режиссёров, сценографов во всем мире драматургия Чехова – это некий «театр абсурда», философский театр. Некоторые не принимают драматургию Чехова, среди них один из моих учителей, знаменитый критик, заведующий кафедрой критики Литинститута Владимир Иванович Гусев. Он, например, говорил нам о том, что, если у великого драматурга Островского всё чётко и определённо, – реплики, ремарки, то у Чехова всё довольно размыто. Герой говорит: «Ах, бадья в шахтах оборвалась». Или, например, «Епиходов пришёл», а дальше – пауза. И в эту паузу театральный режиссёр может всё, что угодно вставить. И не только в паузу, но и пока люди обмениваются незначительными репликами, пьют чай или говорят о погоде. Можно эту мизансцену обустроить как угодно, она даёт широкое поле для театрального творчества. Поэтому Чехова так любят режиссеры, считает Гусев. Да, и поэтому тоже. Но именно тем театр Чехова и уникален – отсутствием привычной «театральности». Нас как бы приглашают в пространство жизни его героев. Они сидят, пьют чай на сцене, разговаривают – и именно как мы это делаем, – ни о чём! Как будто кусок НАШЕЙ жизни, причём очень уютной жизни, несмотря на то, что там герои стреляются и страдают. Самая теплая, семейная, уютная для меня пьеса «Дядя Ваня», несмотря на то, что семья Войницких странная, мягко говоря. Но все равно это семья – возможно, высшая после Бога ценность. Это то, чего мне лично очень не хватало в жизни и не хватает до сих пор.
– Не могу пройти мимо вопросов экранизации произведений Чехова.
– Тут, безусловно, лидером для меня является «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова. Фильм гениальный, поставлен по мотивам не только «Безотцовщины», а многих произведений Антона Павловича, включая записные книжки. Как раз секрет этого фильма в том, что режиссер и сценарист необыкновенно глубоко и тонко проработали все творчество Чехова. Наш учитель Андрей Венедиктович Воронцов рассказал о прелестной, остроумной фразе, вокруг которой выстроена сцена на балконе дома в тот момент, когда герой Богатырева, прекраснодушный бездельник, высказывает намерение отдать все свои фраки крестьянам, а Платонов ему говорит: «Хороши они будут во фраках на покосе». Оказывается, Тургенев так сказал по поводу Льва Толстого, на что Толстой очень обиделся. Это как надо знать историю русской культуры! Думаю, тайна небывалого успеха фильма именно в этом знании. Никита Михалков и его соавтор Александр Адабашьян сделали поистине шедевр из произведений Чехова именно с той целью, чтобы мы глубже изучали первоисточники – прозу и драматургию самого Антона Павловича. Вообще, фильм довольно сложный получился, немного печальный, но опять-таки – какое преображение и свет любви в конце! Помните, когда вроде глупенькая нелюбимая жена Платонова, жена, которой он изменяет, которой стесняется, объясняется ему в любви? И она вдруг преображается, и он вдруг все понимает, видит ее, настоящую, влюбляется в нее… И они, спасенные взаимной любовью, бредут вдвоем по светлой воде… Светлая и пронзительная печаль.
– А как вы думаете, может быть, в этой пронзительной печали виделось Антону Павловичу безрадостное будущее начинающегося XX века?
– Помню, когда я училась в Литературном институте, в честь А.П. Чехова проходила небольшая исследовательская конференция, на которой нынешний ректор нашего института Алексей Николаевич Варламов делал доклад о Чехове. Он говорил, что Чехов не был пророком и революцию не мог предвидеть, что она ему и в страшном сне не могла присниться. Да, собственно, он и революционером в нашем понимании не был. Это не совсем так, тут всё очень сложно. Помните, персонаж «Вишневого сада» Петю Трофимова? Да, немного комичный – лысый уже студент, который ничего не делает, а ему кидают упреки, что он бездельник, над ним смеются, над этой его мнимой революционностью. Оказывается, надо знать исторически-культурный контекст, Чехов писал этот образ на полном серьезе, на самом деле Петя Трофимов, по замыслу Чехова, – настоящий революционер, который работает агитатором и никак не может доучиться, потому что его непрерывно куда-то ссылают. Если бы Чехов это прямо прописал в поступках и словах героя, то пьесу никогда бы не выпустили ни на сцену, ни в печать. Цензура была тогда свирепой, гораздо свирепее, как я понимаю, чем в советское время. Чехов действительно не претендовал на роль пророка в такой краткосрочной перспективе, а вот в долгосрочной – видимо, не желая того, он и стал пророком. Он точно не любил тот дикий капитализм, когда наверх быстро поднимались в основном те, кто торговал, а не развивал русскую промышленность, которая, как и сейчас, на 90% процентов в иностранных руках была. Это, кстати, чувствуется и в «Трех годах», и в повести «Моя жизнь», это, скорее всего, было убеждением самого Антона Павловича, который все детство проработал в бакалейной лавке отца и видел, как торгаши обманывают народ. У Чехова было очень острое ощущение… нет, не жалости, а сочувствия, сопереживания людям, всем, без исключения, без разделения на чины, на положение в обществе, достаток... Он думал обо всех, он думал даже о нас, сегодняшних.
– Да, теперь пришла и нам пора прочитать его рассказы. Наверное, особенно те, которые мы еще не читали.
– Да, я хочу пожелать всем читателям этого номера, этого альманаха, в котором, как вы говорите, время от времени печатаете и произведения самого Антона Павловича, найти время и открыть ранее неизвестные для вас произведения Чехова. А у него ведь порядка 600 рассказов, много повестей, пьес, да еще письма – совсем особенная часть его творчества и наследия. Надо попробовать открыть для себя те мысли, те думы, которые Чехов хотел донести до нас – будущих поколений. Он ведь что-то хотел сказать всем нам, несмотря на присущую ему самоиронию. Литература только тогда становится результатом, когда она не только написана, но и прочитана. А вашим начинающим и маститым авторам я желаю не только творческих успехов, но и внимания. Чуткого внимания к тем, кто живет вокруг нас. Может быть, у писателей особая задача – помогать людям словом. Как это делал наш великий и любимый Антон Павлович Чехов.
Записал Максим Федосов
С Еленой Яблонской, автором только что вышедшей книги «Вслед за Чеховым. Записки «антоновки» беседовал главный редактор альманаха «Новое Слово».
– Елена, вы родились и выросли в Ялте. И все-таки – почему Чехов? Ведь Ялта – это еще Бунин, Маяковский, Пушкин в конце концов?
– Да, я родилась и выросла в Ялте. Ялта литературная – это, поверьте мне, почти исключительно чеховская Ялта. Да, известно, что Пушкин был в Гурзуфе, и то – проездом. А Ялта Бунина – это все равно чеховская Ялта, потому что Бунин бесконечно любил Чехова, постоянно приезжал и приходил к нему, оставался с ним по вечерам, когда супруга Ольга Леонардовна была занята в театре. И весь МХАТ целиком приезжал к Антону Павловичу в Крым, ставил специально для него спектакли, сначала в Севастополе, потом в Ялте. Но лично у меня, уж простите, с Буниным довольно сложные отношения. В свое время из-за этого мне было трудно учиться в Литературном институте, где существовали три такие реперные точки: Бунин, Набоков и Юрий Казаков. Вы могли это заметить из высказываний нашего общего учителя Андрея Венедиктовича Воронцова. Всех этих великих писателей, действительно блестящих, ну, простите, не очень люблю. Причин тут много. Но это тема, наверное, отдельного разговора.
– А Маяковский?
Маяковского как раз – обожаю! Тут дело, наверное, в возрасте. Чехова я начала читать с 10 лет, у меня это был самый восприимчивый возраст и для ранних рассказов Чехова – подходящий. А из поэзии я в это время знала только Есенина и упивалась им, помнила почти все стихи из его двухтомника. Детская память необыкновенная. Помню, в Ялте я сидела на нашей улице Чехова, мне лет восемь, у меня в руках томик Есенина, светло-салатовый, с серебристыми березками. И вот кто-то из отдыхающих (а они толпами ходили по нашей улице, параллельной набережной) подходит, заглядывает в мою книжку и говорит приятелю: «О, смотри, кого я встретил – Серёжку Есенина!» Я была оскорблена за поэта до глубины души. Что за панибратство! И только взрослой поняла, что так выражается народная любовь к поэту. И вот в 7-ом классе мы начинаем проходить Маяковского, и я влюбляюсь в него! А Есенин медленно отходит на второй план…
– И все-таки любовь к Чехову для вас оказалась сильнее любви к Маяковскому и другим поэтам и писателям?
– Да, конечно. А вообще странно, что говорят «чеховская Ялта». Ведь Ялту Антон Павлович не очень любил, потому что его принуждали там жить по состоянию здоровья. А он как врач не мог не чувствовать, что ему в теплое время года там действительно хорошо, а зимой, когда невероятно сыро и холодно, очень плохо. Он рвался в Москву, которую полюбил, которая стала его родиной гораздо в большей степени, чем Таганрог, в котором он родился. Чехов – абсолютно московский писатель. Кстати, и я, и мои одноклассники, да и очень многие ялтинцы, такое устремление в Москву воспринимали буквально – мы просто грезили Москвой! Кстати, тогда, как и сегодня, Ялта, да и весь Крым, на сто процентов русские. Люди жили и мыслили исключительно по-русски, и ничего другого себе даже представить было нельзя, хотя Крым в то время формально считался Украиной.
– А какие рассказы Чехова произвели на вас наиболее сильное впечатление?
– Чехова я перечитываю всю жизнь, делаю это постоянно. И перечитываю тот самый знаменитый синий восьмитомник, изданный в 1970 году на основе собрания сочинений, которое составил сам писатель при жизни, для издательства Маркса. Когда я уехала из родительского дома и осталась без «своего» Чехова в московских общежитиях – просто физически страдала! И уже когда жила в подмосковной Черноголовке, в начале 90-х, купила у старушки около метро этот старый восьмитомник за какие-то гроши. Из всего объёма его рассказов и повестей я выделила бы для себя сначала повесть «Дуэль». Думаю, она на всех производит самое мощное впечатление, особенно благодаря фильму «Плохой хороший человек» с Олегом Далем и Владимиром Высоцким в главных ролях. Но поскольку я читала повесть очень внимательно, то сразу заметила, что фильм сделан талантливо, интересно, но однобоко. Там прекрасно показаны мужские характеры, а женские – довольно слабо и даже вообще неверно. Вот об этом, в частности, в своей книге «Вслед за Чеховым» я и пишу. Самый светлый для меня образ (и он не меняется с самого моего детства) – это Марья Константиновна Битюгова. Умная и добрая женщина, которая сначала действительно производит впечатление восторженно-глуповатой, жеманной тётушки, мещанки. Но затем происходит чудо преображения, как это много раз бывает у Чехова. Там и дьякон преображается к середине повести. Сначала это не очень образованный молодой человек, который все время хохочет и раздражает всех неуместным смехом. Но потом Чехов доверяет ему собственные мысли: о жизни, о людях. А как преображаются Лаевский и фон Корен! А вслед за ними – и Надежда Федоровна! А Марья Константиновна преображается в наших глазах в тот момент, когда она приходит к Надежде Федоровне и начинает излагать ей христианский взгляд на семью, на роль женщины – я уверена, что это мысли самого Чехова! А как у неё дома, в быту – такие белоснежные простыни, наволочки, всегда горячие булочки, ни одной мухи, хотя это южный город и вокруг грязь и антисанитария. Главное же, она все 16 лет супружества влюблена в своего мужа! Я восхищаюсь этой женщиной, но мне, к сожалению, не удалось стать похожей на неё, хотя я мечтала просто о счастливой женской судьбе, отнюдь не писательской…
– Может быть, у вас воспитание было соответствующее восприятию Чехова? Семейные традиции, родители, обстановка, вера…
– Знаете, в детстве я была как все – пионерка, комсомолка, неверующая. Но я понимала с раннего детства, что все наши писатели, русские классики верили в Бога, и именно эта вера, упование на него, позволила им создать то, что они создали. Вот это я как раз понимала и чувствовала. И мне казалось, что если человек верит в Бога – то он замечательный человек. Он не может совершать зла – так я думала в детстве. Вот, возьмите героиню повести «Три года». Юлия Сергеевна, очень верующая женщина, именно благодаря своей вере обретает счастье. Ведь какая удивительная мысль в этом заложена! В Евангелие есть фраза, что «имущему дастся, а от неимущего отнимется». Мы знаем, что речь идёт о вере. Верующему человеку даются и другие дары, а у не имеющего веры отнимается и то немногое, что у него есть. Это, кстати, прекрасно понимал Лев Толстой, и это понимала его героиня княжна Марья в «Войне и мире», когда Наташа Ростова ей говорит, что у Сони, её кузины, нет такой страстной животной силы, как у нее, это то, что мы теперь называем сексапильностью. И поэтому Соня осталась старой девой, хотя любила Николая Ростова. Не было сексапильности – и всё остальное отнялось. Княжна Марья ей говорит, что это не так, в Евангелие сказано не об этом. Видимо, жизнелюбу Толстому были близки именно такие женщины, как Наташа Ростова. О Боге, конечно, я в юности, пожалуй, не много думала, но вот этот образ Юлии Сергеевны у Чехова меня потряс совершенно. И не только этот образ…
– Значит, любимая повесть «Дуэль»? Или «Три года»?
– Я даже в детстве любила читать не только сами произведения Чехова, но и комментарии к ним. И оказалось, что «Три года» – главнейшая повесть Чехова. Порази–тельно, но она и сейчас остается практически неисследованной! Замечательный чеховед Эмма Полоцкая проделала огромную работу, она соотнесла всех героев этой повести с реальными людьми, изучила историю создания повести, воссоздала культурно-историческую обстановку. И соотнесла даже малозначительных эпизодических персонажей с их прототипами, людьми из окружения Чехова. Например, Суворин писал, что старик Лаптев похож на отца самого Чехова, на Павла Егоровича. Антон Павлович раздражался, он как раз хотел своего отца и семью скрыть от внимания публики. Хотя оно так и есть на самом деле, то есть семья Лаптевых и их близкие друзья – это как бы модель семьи Чеховых, поставленной в благополучные материальные условия. А какая в «Трех годах» пощёчина и русскому, и мировому капитализму от Чехова! Через своего героя Лаптева Антон Павлович высказывает собственное отношение к торговле, которая строится на обмане и эксплуатации. Эта тема даже в советские времена не сильно рассматривалась. В этой повести необыкновенные мысли, очень глубокие, хотя там нет окончательных ответов, как почти всегда у Чехова. Ответы Чехов всегда оставлял за скобками, чтобы читатель делал собственные выводы.
– Да, Чехов никогда не давал однозначных оценок…
– Да, вы знаете, и герои повести «Три года» очень сложные. Они все – вроде бы и неплохие люди, но рассеянны, измучены непонятно чем, занимаются не своими прямыми обязанностями, а всё грезят, мечтают… Это и нам информация к размышлению. А детские образы в «Трех годах» – это вообще отдельная тема исследования… Но и я в своем изучении повести «Три года» очень далека до исчерпывающего анализа и осмысления. И этой повестью мои предпочтения не заканчиваются, я очень многие чеховские рассказы люблю. В детстве, например, я безумно любила рассказ «Из записок вспыльчивого человека», очень люблю рассказ «Тайный советник» – о маленьком мальчике, но настолько мудром… Он так трепетно относится ко взрослым – жалеет их, бедных, слабых, нелепых.... А повесть «Степь»? Вроде изучена-переизучена, а возьмешься анализировать – и времени не хватит, постоянно что-то совершенно новое будет открываться. Чехов невероятно многогранен, глубок, все, что необходимо думающему человеку, у него есть. Главное – увидеть, почувствовать, принять эту мудрость и глубину.
– А ведь известно, что Чехов не учился в литературных институтах…
– Да, Антон Павлович нигде не учился «на писателя». В те времена Литературного института и не было. А где он мог бы учиться? Я фантазировала на эту тему, когда рассуждала о повести «Три года». Если бы он был богатым человеком как Лаптев, он, наверное, так же, как и его герой, окончил бы словесное отделение Московского университета. Или историко-философское отделение. Ну и что? Лаптев окончил, но нигде не работает, потому что богат. Чехов, мне думается, хотел быть не писателем-прозаиком, а драматургом. Об этом говорит его «Безотцовщина», пьеса, написанная в последнем классе гимназии. Но, видимо, не получилось пристроить пьесу в театр, вроде бы, он Ермоловой ее посылал. Но она отвергла или ответила что-то неопределённое. Вы можете себе это представить? Семья разорена, родители Антона сбежали в Москву от долгов, он доучивается в гимназии, репетиторствует, продаёт какие-то старые кастрюли, тазы и сковородки, чтобы отправить эти жалкие копейки родителям в Москву – да еще успевает писать пьесу! Громадную – 150 страниц! Представляете, что обрушилось на человека в самом юном возрасте? Ему уже тогда пришлось стать главой семьи, ее кормильцем. Мы не знаем, что у него было на душе после неудачной попытки пристроить пьесу. Может, он продолжал мечтать о карьере драматурга, а может, и махнул на это рукой, решил, что лучше быть достойным врачом. Он им и стал в результате. Но тягу к писательству и способности никуда не денешь: вот он и стал писать короткие фельетончики, заметки, скорее всего, сначала просто, чтобы заработать и помочь семье. Стал корреспондентом, журналистом, репортером московским, и вполне-таки успешным. Работоспособность была высочайшая, но главное – желание поддержать семью, главой которой он себя ощущал. Ну и его великий дар, конечно, талант бесспорный.
– Исследователи его биографии много говорят о сложных взаимоотношениях с отцом, Павлом Егоровичем.
– Да, Павел Егорович был очень строгим, требовательным. Несколько лет назад вышел в свет громадный труд «Чехов» в серии ЖЗЛ. Его автор, замечательная исследовательница Алевтина Павловна Кузичева. Очень добросовестный и честный труд, там всё абсолютно правильно написано. Но у многих читателей может создаться впечатление, что вся семья Чеховых, начиная с Павла Егоровича, властного человека, тирана, и заканчивая женой Ольгой Леонардовной, – это такой хорошо организованный синдикат «разбойников с большой дороги», которые эксплуатировали великого писателя. И когда я говорю об этом с моей замечательной подругой, выдающимся чеховедом Аллой Георгиевной Головачевой, она отвечает: «Да, оно так и было, родные эксплуатировали Чехова». Но дело в том, что Антон Павлович сам добровольно взял на себя эту миссию – работать ради семьи, отказывая себе во многом, наживая туберкулез. Его старшие братья Александр и Николай жили, как хотели, жили отдельно, женились-разводились, выпивали, семье не помогали. Единственный Иван, следующий после Чехова брат, скромный учитель, никогда не брал денег у Антона Павловича, вёл себя очень достойно. Михаил Павлович Чехов тоже был человеком достаточно легкомысленным, получил прекрасное образование, стал юристом. Но ему это не нравилось, он занимался театральной деятельностью. Он, кстати, очень похож на Костю Кочевого из «Трёх годов». Возможно, если бы Антон Павлович пошел по пути своих братьев, он точно так же стал бы пьянствовать или заниматься не своим делом. Но возможно, именно забота о семье и спасла его! Может быть, именно такая не самая идеальная семья и сделала его великим писателем Чеховым. А даровита была вся семья невероятно! И Александр Павлович – для своего времени интересный литератор. И Николай – талантливый художник, друг Левитана, Коровина. Мария Павловна получила высшее образование, была учительницей истории и географии, прекрасно рисовала, пыталась поступить в школу живописи, но не получилось. Поэтому нельзя сказать, что отец их был таким уж невыносимым «тираном» и «деспотом». Он понимал главное, что детям надо дать образование. Да и в подобных патриархальных, «деспотичных» традициях воспитывались дети во многих семьях того времени…
– И уже после переезда в Москву отношения Чехова с отцом изменились?
– Да, когда они переехали в Москву, тирания Павла Егоровича приказала долго жить. Он работал приказчиком в амбаре купцов Гавриловых, прототипов Лаптевых, он там же жил, приходил к семье на выходные и праздники. Теперь уже тиранить было особо некого и некогда. Вся надежда теперь была на Антона. И Павел Егорович настолько зауважал своего среднего сына, который их всех поднимает, не даёт помереть семье с голоду, что он к концу жизни из деспота превратился в добродушного старца, над которым все домашние подтрунивали. Антон Павлович как будто собственным примером перевоспитал отца. Вот каковы были отношения. Кстати, у него есть похожий рассказ об этом, так и называется – «Отец». Там немного другая ситуация. Отец – дворянин, бывший чиновник, но состарившись, пьет, живет с кухаркой в каком-то «бомжатнике», клянчит деньги у своих взрослых сыновей, позорит их и себя. Оба сына это терпят, относятся к нему с уважением, дают деньги, хотя сами нуждаются. Помогают – и как тонко! Вот, мол, папаша, я купил себе штиблеты, а они мне жмут, вам будут впору. Отец сначала хамит, гадости говорит, жалуется всем, что дети его бросили. А потом, прощаясь с сыном, прижавшись к его плечу и плача, шепчет: «Боренька, я всё понимаю, терпите уж, несите свой крест. У меня золотые дети». То есть герои как бы поменялись местами. Отец стал ребенком, а его выросшие сыновья – как будто его родители. Почти то же самое произошло и с Антоном Павловичем. И это хорошая история, светлая.
– А как в вашей собственной жизни проявляется Чехов?
– Сознаюсь, что проявляется он не очень правильно. В каком смысле? Он стал для меня кумиром. Это с моих десяти лет постепенно шло. Я старалась ему подражать, но, к сожалению, у меня из этого ничего не вышло. У меня была зеркальная ситуация – замечательный папа, а матушка… не такая, как Марья Константиновна Битюгова. И я не сумела её перевоспитать. Хотя я убеждена, что всю жизнь она ждала именно этого. Были не раз такие случаи. Я всё покорялась, мне было легче выполнять её дикие требования, чем спорить. Я понимала, что дети должны уважать родителей, покоряться им. А оказывается – не совсем так. И было несколько случаев в жизни, когда я была доведена до предела. Например, когда у меня родился сын, бабушка начала и им командовать. Тут я не могла допустить, чтобы моему ребенку портили жизнь всякими глупостями – то не отпустить в поход с классом, то истребить любимого кота... И в какой-то момент я стала твердо говорить: «Мама, мы тут без тебя разберемся». И вдруг моя мама, которая до этого меня унижала, требовала беспрекословного подчинения, говорит: «Леночка, конечно…» То есть она ждала от меня отпора, хотела, чтобы я не была размазней, а чтобы спорила с ней и сильными поступками доказывала свою правоту. Ну и что касается кумира: кумиров нельзя создавать, об этом целая глава в моей книге, тем более создала я кумира из человека, пусть даже из самого замечательного. Станиславский назвал Чехова «лучшим из людей». Но все-таки он был не ангелом, а грешным, как и все, человеком. Правда, ему Господом было очень много дано. А кому много дано, с того много и спросится – как говорит верующая героиня в повести «Дуэль».
– Некоторые читатели Чехова сетуют на отсутствие в его рассказах надежды на лучшее...
– Как раз всё наоборот. Почти в каждом произведении Чехова надежда, свет, вера в то, что обязательно настанут лучшие времена, пусть даже через 200–300 лет. Я вам сейчас это докажу, возможно, на самом ужасном и действительно безнадежном примере – рассказе «Черный монах». Герой сходит с ума от своей гордыни, получает письмо от жены, которая пишет, что ее отец умер по его вине, а она сама больна, раздавлена. Чудесный сад – один из важнейших символов в мире Чехова – продан, пропал. У самого героя чахотка, всё для него плохо, и самое худшее – не столько сама чахотка, сколько то, что у него «игрушку» отняли – «черного монаха», который нашептывал ему, какой он великий и замечательный. И он умирает. Но что происходит за миг перед смертью? Перед самой смертью магистр Коврин зовёт не черного монаха, он зовёт свою чудесную науку, он зовёт этот прекрасный сад, ставший символом счастливой жизни, он зовёт Таню, свою жену, которая только что его проклинала в письме и которую он, кажется, никогда не любил. То есть, Господь в последний миг приоткрыл для человека щелочку в мир правды и любви – и из нее хлынул свет, надежда на спасение души этого человека, обуянного бесом гордыни! И я верю, что Господь успел спасти душу магистра Коврина, дав ему последний шанс. Еще более страшный рассказ «В овраге», где убивают невинного младенца. Омерзительное кулачье – фабричное гнездо, гадость, мерзость… но посмотрите, там одновременно живут и святые. Вот героиня рассказа – Липа, которая в конце дня, после тяжелой работы идёт и поет, как соловушка, как жаворонок. Поёт она не от счастья, а потому, что рабочий день кончился и можно отдохнуть от тяжелой работы. Может и правда, что труд облагораживает человека и поднимает его ввысь? Конечно, для нас свет, радость и надежда в том, что жили и живут на Руси такие женщины и значит, они и сейчас здесь, среди нас.
– Отдельно хотелось бы поговорить о драматургии Чехова.
– Пьесы Антона Павловича, это вопрос, на который мне труднее всего ответить. Я не считаю себя большим знатоком драматургии и воспринимаю пьесы Чехова как продолжение его прозы. Меня поражает в чеховской драматургии другое: от пьесы «Безотцовщина», которая была написала в 1878 году, и до последней пьесы «Вишневый сад» 1903 года – двадцать пять лет творческой деятельности, но, если присмотреться внимательно, – одни и те же образы, одни и те же проблемы тонкой пунктирной линией проходят от начала и до конца. Например, в «Безотцовщине» был такой лакей – современный «Смердяков», который всё о заграницах грезит, и он с тем же именем, Яков, переходит в «Вишневый сад». Таких примеров масса. Многие похожие образы переходят из пьесы в пьесу, однако, решаются они у Антона Павловича по-разному, порой неожиданно. Для современных режиссёров, сценографов во всем мире драматургия Чехова – это некий «театр абсурда», философский театр. Некоторые не принимают драматургию Чехова, среди них один из моих учителей, знаменитый критик, заведующий кафедрой критики Литинститута Владимир Иванович Гусев. Он, например, говорил нам о том, что, если у великого драматурга Островского всё чётко и определённо, – реплики, ремарки, то у Чехова всё довольно размыто. Герой говорит: «Ах, бадья в шахтах оборвалась». Или, например, «Епиходов пришёл», а дальше – пауза. И в эту паузу театральный режиссёр может всё, что угодно вставить. И не только в паузу, но и пока люди обмениваются незначительными репликами, пьют чай или говорят о погоде. Можно эту мизансцену обустроить как угодно, она даёт широкое поле для театрального творчества. Поэтому Чехова так любят режиссеры, считает Гусев. Да, и поэтому тоже. Но именно тем театр Чехова и уникален – отсутствием привычной «театральности». Нас как бы приглашают в пространство жизни его героев. Они сидят, пьют чай на сцене, разговаривают – и именно как мы это делаем, – ни о чём! Как будто кусок НАШЕЙ жизни, причём очень уютной жизни, несмотря на то, что там герои стреляются и страдают. Самая теплая, семейная, уютная для меня пьеса «Дядя Ваня», несмотря на то, что семья Войницких странная, мягко говоря. Но все равно это семья – возможно, высшая после Бога ценность. Это то, чего мне лично очень не хватало в жизни и не хватает до сих пор.
– Не могу пройти мимо вопросов экранизации произведений Чехова.
– Тут, безусловно, лидером для меня является «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова. Фильм гениальный, поставлен по мотивам не только «Безотцовщины», а многих произведений Антона Павловича, включая записные книжки. Как раз секрет этого фильма в том, что режиссер и сценарист необыкновенно глубоко и тонко проработали все творчество Чехова. Наш учитель Андрей Венедиктович Воронцов рассказал о прелестной, остроумной фразе, вокруг которой выстроена сцена на балконе дома в тот момент, когда герой Богатырева, прекраснодушный бездельник, высказывает намерение отдать все свои фраки крестьянам, а Платонов ему говорит: «Хороши они будут во фраках на покосе». Оказывается, Тургенев так сказал по поводу Льва Толстого, на что Толстой очень обиделся. Это как надо знать историю русской культуры! Думаю, тайна небывалого успеха фильма именно в этом знании. Никита Михалков и его соавтор Александр Адабашьян сделали поистине шедевр из произведений Чехова именно с той целью, чтобы мы глубже изучали первоисточники – прозу и драматургию самого Антона Павловича. Вообще, фильм довольно сложный получился, немного печальный, но опять-таки – какое преображение и свет любви в конце! Помните, когда вроде глупенькая нелюбимая жена Платонова, жена, которой он изменяет, которой стесняется, объясняется ему в любви? И она вдруг преображается, и он вдруг все понимает, видит ее, настоящую, влюбляется в нее… И они, спасенные взаимной любовью, бредут вдвоем по светлой воде… Светлая и пронзительная печаль.
– А как вы думаете, может быть, в этой пронзительной печали виделось Антону Павловичу безрадостное будущее начинающегося XX века?
– Помню, когда я училась в Литературном институте, в честь А.П. Чехова проходила небольшая исследовательская конференция, на которой нынешний ректор нашего института Алексей Николаевич Варламов делал доклад о Чехове. Он говорил, что Чехов не был пророком и революцию не мог предвидеть, что она ему и в страшном сне не могла присниться. Да, собственно, он и революционером в нашем понимании не был. Это не совсем так, тут всё очень сложно. Помните, персонаж «Вишневого сада» Петю Трофимова? Да, немного комичный – лысый уже студент, который ничего не делает, а ему кидают упреки, что он бездельник, над ним смеются, над этой его мнимой революционностью. Оказывается, надо знать исторически-культурный контекст, Чехов писал этот образ на полном серьезе, на самом деле Петя Трофимов, по замыслу Чехова, – настоящий революционер, который работает агитатором и никак не может доучиться, потому что его непрерывно куда-то ссылают. Если бы Чехов это прямо прописал в поступках и словах героя, то пьесу никогда бы не выпустили ни на сцену, ни в печать. Цензура была тогда свирепой, гораздо свирепее, как я понимаю, чем в советское время. Чехов действительно не претендовал на роль пророка в такой краткосрочной перспективе, а вот в долгосрочной – видимо, не желая того, он и стал пророком. Он точно не любил тот дикий капитализм, когда наверх быстро поднимались в основном те, кто торговал, а не развивал русскую промышленность, которая, как и сейчас, на 90% процентов в иностранных руках была. Это, кстати, чувствуется и в «Трех годах», и в повести «Моя жизнь», это, скорее всего, было убеждением самого Антона Павловича, который все детство проработал в бакалейной лавке отца и видел, как торгаши обманывают народ. У Чехова было очень острое ощущение… нет, не жалости, а сочувствия, сопереживания людям, всем, без исключения, без разделения на чины, на положение в обществе, достаток... Он думал обо всех, он думал даже о нас, сегодняшних.
– Да, теперь пришла и нам пора прочитать его рассказы. Наверное, особенно те, которые мы еще не читали.
– Да, я хочу пожелать всем читателям этого номера, этого альманаха, в котором, как вы говорите, время от времени печатаете и произведения самого Антона Павловича, найти время и открыть ранее неизвестные для вас произведения Чехова. А у него ведь порядка 600 рассказов, много повестей, пьес, да еще письма – совсем особенная часть его творчества и наследия. Надо попробовать открыть для себя те мысли, те думы, которые Чехов хотел донести до нас – будущих поколений. Он ведь что-то хотел сказать всем нам, несмотря на присущую ему самоиронию. Литература только тогда становится результатом, когда она не только написана, но и прочитана. А вашим начинающим и маститым авторам я желаю не только творческих успехов, но и внимания. Чуткого внимания к тем, кто живет вокруг нас. Может быть, у писателей особая задача – помогать людям словом. Как это делал наш великий и любимый Антон Павлович Чехов.
Записал Максим Федосов
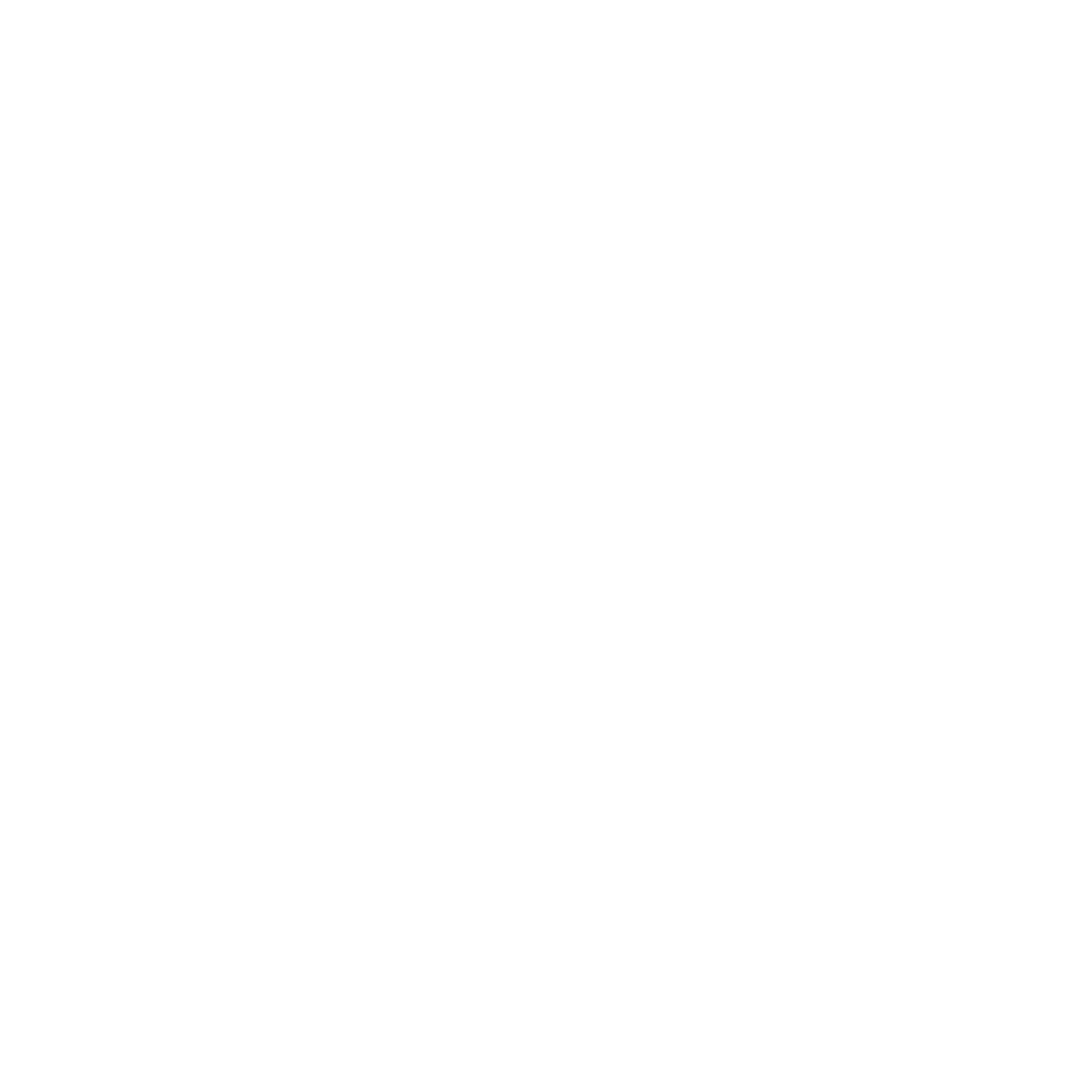
Евгений КАСАТКИН
По образованию инженер. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э Баумана. Живет и работает в Москве. Пишет стихи и прозу. Принимает активное участие в работе Литературного объединения «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России, в сборниках которого неоднократно публиковался. Является ведущим актером Московского театра-студии «Голос». Лауреат многочисленных театральных фестивалей и конкурсов чтецов.
По образованию инженер. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э Баумана. Живет и работает в Москве. Пишет стихи и прозу. Принимает активное участие в работе Литературного объединения «Точки» при Совете по прозе Союза писателей России, в сборниках которого неоднократно публиковался. Является ведущим актером Московского театра-студии «Голос». Лауреат многочисленных театральных фестивалей и конкурсов чтецов.
ПРОПАЛА ЖИЗНЬ?
(о пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»)
«Дядя Ваня» до сих пор, по прошествии ста двадцати лет после написания, остается самой непонятной и неразгаданной пьесой Чехова. Более даже неразгаданной, нежели «Чайка». Вообще, это странно. Ведь в «Дяде Ване» нет ничего таинственного: ни «колдовского озера», ни «пяти пудов любви», как в «Чайке», ни страсти, ни смерти. А выстрелы, которые там звучат, никого не убивают.
И если в «Чайке» все же что-то происходит, есть движение, процесс, пусть и выведенный автором за кулисы, то здесь никакого действия нет вообще. Время остановлено, событий нет, мир будто завис в одной бесконечной мизансцене. Отчего же, когда опускается занавес, у зрителей в зале спазм сжимает горло и очень хочется плакать?
Горький, посмотрев «Дядю Ваню», написал Чехову два письма. В одном, датированном концом ноября 1898 года, он описывает свое первое впечатление: «На днях смот-рел «Дядю Ваню», смотрел и плакал как баба, хотя я человек далеко не нервный <...> Не скажешь хорошо и ясно того, что вызывает эта пьеса в душе, но я чувствовал, глядя на ее героев: как будто меня перепиливают тупой пилой. Ходят зубцы ее прямо по сердцу, и сердце сжимается под ними, стонет, рвется. Для меня – это страшная вещь, ваш «Дядя Ваня»…» (…). В другом, декабрьском письме, уже пытаясь осмыслить увиденное, он пишет: «Слушая вашу пьесу, думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей и о многом другом, коренном и важном» (…).
Сам Чехов, правда, не разделял восторгов по поводу своей пьесы. В письме от 3 декабря 1898 года он отвечает Горькому: «Дядя Ваня» написан давно, очень давно <...> В последние годы его стали часто давать на провинциальных сценах – быть может, оттого, что я выпустил сборник своих пьес. К своим пьесам вообще я отношусь довольно холодно».
Но Чехов, как известно, был человеком весьма скромным. Вряд ли следовало ожидать, что написав даже хорошую пьесу, он стал бы бить в ладоши и кричать, ай да Чехов! Ай да сукин сын! Ранее, 26 октября 1898 года, он писал брату М. П. Чехову: «Совсем я не рассчитывал на сию пьесу» (…). Но что значит, не рассчитывал? Считал ее слабой? Или не надеялся на ее понимание? А может быть, он хотел этим сказать, что сам не понимает, почему эта пьеса имеет такой успех?
Ответов на эти вопросы мы не знаем и знать не можем. Поэтому тут ничего другого не остается, как только положиться на свое собственное впечатление и то самое чувство, о котором Горький писал: «Не скажешь хорошо и ясно того, что вызывает эта пьеса в душе».
Сразу оговоримся, что вопреки расхожему мнению, «Дядя Ваня» вовсе не является пьесой «без героев», а точнее, «без героя». Многие критики и рецензенты, в частности, И. М. Хейфец, подписывавшийся псевдонимом «Старый театрал», утверждали, что само название у пьесы случайное и дано по первому попавшемуся действующему лицу, подобно тому, как название сборника дается по первому напечатанному в нем рассказу. Хейфец в своей рецензии пишет: «В сущности же «Дядя Ваня» – вовсе не герой пьесы, в которой, впрочем, и нет героев, как бы широко ни понимать это слово». А некоторые даже советовали Чехову дать пьесе другое название, например, «Доктор Астров», мотивируя это тем, что личность Астрова выписана в пьесе гораздо более рельефно.
Мы же берем на себя смелость утверждать, что главный герой в пьесе есть, и зовут его Иван Петрович Войницкий, – дядя Ваня, поскольку, как нам кажется, именно через его образ только и можно почувствовать то, что является главным содержанием пьесы, скрытым за внешними поверхностными коллизиями, о чем в дальнейшем и пойдет речь. Более того, на наш взгляд, образ дяди Вани чем-то отдаленно напоминает … самого Чехова. Это может показаться странным. Казалось бы, что общего у красавца Чехова, всеми любимого и уважаемого, добрейшего и умнейшего человека, лучшего из людей, с этим неудачником дядей Ваней, занудой и неврастеником, отвергнутым и презираемым всеми, кроме разве что племянницы Сони?
Однако, господа, давайте не будем торопиться развешивать ярлыки. Дядя Ваня – благороднейший и порядочнейший человек. Он отказался от наследства в пользу сестры и всю жизнь работал, не покладая рук, причем, работал не для себя, а для других: матери, сестры, племянницы, мужа сестры, его новой жены. Он пожертвовал жизнью ради благополучия семьи – это же самое можно сказать и о Чехове.
Дядя Ваня органически не переносит вранья, лжи, фальши. Каждый раз, когда Елена Андреевна, Астров или Мария Васильевна принимаются с пафосом говорить о человеколюбии, пользе лесов или новомодных философских концепциях, он с раздражением прерывает их: «Оставим философию!», «Позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева», «Но мы уже пятьдесят лет говорим, и говорим, и читаем брошюры. Пора бы уж и кончить». Как это похоже на Чехова! Сколько раз в письмах своих по разным поводам дает он гневные и беспощадные отповеди всему, в чем видит фальшь, пафос, самодовольство, хамство, невоспитанность.
Наконец, и говорит, и шутит дядя Ваня, как Чехов. Речь его не прямолинейно-тяжеловесна, как у Астрова, не выспренно-литературна, как у Серебрякова, но проста, ясна и изящна: «Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. <...> Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: куда мне их девать, что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму» – так говорил бы на месте Войницкого сам Чехов.
А эта «милая шуточка», обращенная к Елене Андреевне: «В ваших жилах течет русалочья кровь, будьте же русалкой! Дайте себе волю хоть раз в жизни, влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши – и бултых с головой в омут» – так и просится в переписку Чехова с Ликой Мизиновой!
Однако, все это частности. О главном же внутреннем сходстве автора со своим персонажем, о главном вопросе, мучающем их обоих, речь пойдет впереди.
Но сначала обратимся к тем самым коллизиям пьесы, которые лежат на поверхности и видны, что называется, невооруженным глазом. Первая и основная коллизия, охватывающая все сферы существования героев – конфликт между «жизнью» и «обывательской жизнью», присущий почти всем произведениям Чехова. Об этом очень точно пишет М. А. Аносов в одной из первых рецензий на «Дядю Ваню», когда пьеса уже шла в провинции, но еще не была поставлена в Художественном театре: «между понятием «жизнь» и «обывательская жизнь» существует громадная разница. Дать зрителю почувствовать ее – такова цель этого выдающегося произведения. И весь интерес пьесы сосредоточивается поэтому не на развитии драматического действия <...> а на том настроении, какое пьеса должна вызвать у зрителей <...> пьеса должна произвести глубокое впечатление, жизненной неподкрашенной правдой должно повеять от нее».
И от пьесы, действительно, веет такой «неподкрашенной правдой», что кровь стынет в жилах. Каким убийственным приговором звучат вынимающие из нас душу слова Астрова: «Во всем уезде было только два порядочных интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все».
В дальнейшем к «Дяде Ване» прочно будет приклеен ярлык трагедии будней, драмы неизменности, когда все вокруг течет, но ничего не меняется со всем ужасом осознания героями принципиальной невозможности освобождения от невыносимых пут опостылевшего уездного быта. В упомянутой выше рецензии Аносова читаем: «Драматическое положение разряжается выстрелами дяди Вани, никому не приносящими вреда, горькими слезами Сони, оплакивающей свое загубленное чувство, страстным поцелуем Елены Андреевны и Астрова. Но ни выстрелы, ни слезы, ни поцелуй ни к чему не приводят: все идет по-прежнему, по-старому, ничего не меняется ни в жизни, ни во взаимных отношениях действующих лиц».
Все это, конечно, производит сильное эмоциональное впечатление, тем более, что чеховские герои вечны, и мы и через сто лет узнаем в них себя сегодняшних, но все же не достаточно сильное, чтобы «плакать, как баба» и чувствовать, как будто тебя «перепиливают тупой пилой». В конце концов, ну, быт... Ну, будни… И что? У кого их нет? В поте лица своего добываем мы хлеб. Праздники редки, будни тяжелы, порою и вовсе невыносимы и беспросветны. Но мы живем. Конечно, обывательская жизнь портит людей, подрезает им крылья, лишает высоких устремлений, но такова вообще наша земная жизнь, и такой она была во все времена. Чего тут плакать? Было бы здоровье…
Но тогда, быть может, душа наша плачет не просто о жизни, прожитой «так глупо и так безвкусно», а, что гораздо страшнее – о жизни ошибочной, погубленной ложной идеей, о жизни, «принесенной в жертву идолу», оказавшемуся на поверку нолем, ничтожеством, пустым местом? Собственно, именно это, как будто бы и составляет основной конфликт пьесы. Однако, если внимательно его проанализировать, нетрудно увидеть, что конфликт этот также является внешним, поверхностным. Неизвестный критик, подписавшийся псевдонимом «А.О.», в своей рецензии пишет: «Возьмите наугад любого человека, и вы наверняка в 6-9 случаях из десяти попадете на такого, который всю жизнь ухлопал «на семью» или на одного человека – «брата», «сестру» и т. п. Все это «Дядя Ваня»: у одного на руках целая семья, у другого один любимый и уважаемый человек. И часто, до душевной боли часто, убеждаются эти люди, что работали они даром, лелеяли пустое место <...> Но что всего тяжелее, так это то, что свою ошибку дядя Ваня заметил слишком поздно – «когда жизнь прошла».
На самом деле, «когда жизнь прошла», уже не важно, на что именно ты ее ухлопал. На что ухлопал свою жизнь старый профессор из «Скучной истории»? На свою любимую науку и любимых студентов. Жизнь его была очень важна и нужна людям, а научная деятельность прославила его на весь мир. Но он не счастливее дяди Вани.
Попробуем разобраться в мыслях и чувствах главного героя пьесы.
Середина второго действия. Елена Андреевна со словами «Оставьте меня. Это наконец противно» уходит, Войницкий остается один. Авторская ремарка «(один)» доро-гого стоит. Она встречается в пьесе лишь однажды. Чехов не стал бы, кого ни попадя, оставлять на сцене одного. С этого момента и до прихода Астрова с Телегиным все, что говорит дядя Ваня, он говорит самому себе, вернее, нам, зрителям. На сцене у него слушателей нет. А значит, нет нужды притворяться, врать, рисоваться, что-то скрывать. Он говорит предельно откровенно. Это единственный в пьесе монолог-исповедь, который дается не для пояснения действия, а для того, чтобы мы узнали, что творится в голове героя, его мысли. Заметим, кстати, что право произносить такие монологи предоставляется исключительно главным героям, мысли которых существенно важны для понимания смысла происходящего. Второстепенные персонажи такой чести, как правило, не удостаиваются. Даже у Астрова нет такого монолога. Итак, что же мы узнаем о мыслях дяди Вани? Они путаются у него в голове…
Он жалеет о том, что Елена Андреевна не стала его женой и тут же признается: «Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира – все это мне глубоко ненавистно». Он не влюбился в нее десять лет назад, не любит и теперь, несмотря на всю ее красоту, которая его восхищает. Мы понимаем: мечта о счастье с Еленой Андреевной – иллюзия.
Он горько сетует, что обманут Серебряковым: «И я обманут… – вижу, – глубоко обманут…». Но причем тут Серебряков? Разве он виноват, что дядя Ваня обожал его, работал на него, как вол, гордился им и его наукой, жил, дышал им? Разве профессор виноват, что он не гений, что он совершенно не известен, что он ничто, мыльный пузырь? О каком обмане тут может идти речь? Мы понимаем: обвинение в загубленной жизни, выдвинутое против Серебрякова – тоже иллюзия.
Дядя Ваня совсем запутался. Он живет иллюзиями. Он ищет виноватых там, где их нет, но он не может их не искать. Иначе мозг его лопнет, разорвется, не выдержав мысли о том, что в его погубленной жизни никто из окружающих не виноват, что так оно случилось само, в силу каких-то иных, не ведомых ему причин.
Допустим, что Елена Андреевна стала его женой или Серебряков оказался всемирно признанным гением. Предположим даже невозможное – из дяди Вани вышел Шопенгауэр или Достоевский! (Отметим, кстати: одно то, что Шопенгауэр, буддист, мистик и мизантроп поставлен в один ряд с Достоевским – православнейшим человеком, говорит о большой путанице в голове у дяди Вани). Сделало ли бы все это его счастливым? Нет, конечно. Он не был бы счастлив с Еленой Андреевной, а на Серебрякова, который просто подвернулся под руку, ему вообще наплевать. Ему глубоко безразлично, гений профессор или мыльный пузырь, ничего не понимающий в искусстве. Напрасно Войницкий протестует, палит из револьвера, кричит о своей загубленной жизни. Ни любимая женщина, ни любимое дело, даже если бы оно у него было, ни удовлетворение желаний, ни слава Достоевского или Шопенгауэра не могут спасти от ужаса сознания бессмысленности человеческой жизни, в которой «даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека». Особенно, когда жизнь эта уже прошла, и смерть приблизилась на расстояние вытянутой руки.
И кричать дяде Ване надо не «Пропала жизнь!», а «Прошла жизнь!»
Нет, за воплем о пропавшей, безрадостно прожитой жизни, за трагедией будней, за грязной и пошлой, засасывающей, как болото, уездной действительностью стоит что-то совсем другое. Герои сами не понимают, что с ними происходит. Астров думает, что их заела обывательская жизнь, но все его разговоры о том, что единственное, чем может быть оправдано истребление лесов, это приход новой жизни: строительство шоссе, железных дорог, заводов, фабрик, школ, отчего народ стал бы здоровее, богаче, умнее – не более, чем риторика, словоблудие. Никого еще шоссе, железные дороги, заводы и фабрики не сделали ни здоровее, ни умнее, а уж тем более, счастливее. Давайте на минуту закроем глаза и представим, что бездорожье, нищета, тиф, дифтерит и пожары в уезде чудесным образом исчезли, болота высохли, комары испарились. Всюду школы, больницы, телефон, телеграф, чистые просторные избы без телят и поросят на полу, с больными вместе – и что, от всего этого люди сразу сделаются счастливыми? Как бы не так!
Так в чем же тут дело, господа? Что кроется за общей растерянностью, подавленностью, неприкаянностью, ощущением совершающейся или уже совершившейся катастрофы? Никто не знает.
Очевидно, трагедия не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем душевном состоянии героев. Но что это за душевное состояние, каково его содержание, чем оно, главным образом, характеризуется – этого Чехов не объясняет. Как справедливо отмечает Г.А. Бялый: «То, о чем говорят герои Чехова, – это часто далеко не самое главное, чем они живут, что волнует их души. И происходит это потому, что говорящий еще сам не разобрался в своих переживаниях. То, о чем он думает, еще не ясно ему самому, не созрело в его сознании, существует только, как предощущение и не может быть выражено точными словами»
Предположений, претендующих на объяснение этого состояния, переживания, предощущения – назовите как угодно – за сто лет накопилось вагон и маленькая тележка. Почти все они «социального» свойства. Под «идолом», в жертву которого принесены жизни людей, предлагается понимать, например, … идею народничества. «Конфликт, который составляет драматический узел «Дяди Вани», несомненно, был навеян временем. В эпоху заката когда-то вдохновлявших и питавших чувство либеральных и народнических мелкобуржуазных надежд в широких интеллиг<ентских> кругах крушение идеалов, утрата уважения и к молчавшим уже идеологическим вождям должны были стать явлением обычным». Как ни странно, мысль о крушении идеалов далеко не так примитивна, как может показаться на первый взгляд, но только понимать ее нужно, по нашему мнению, несколько в ином свете, и мы к этому в дальнейшем еще вернемся.
Но, боже мой, как же скучны все эти глубокомысленные рассуждения о том, что драма Чехова уловила умонастроения уездной поместной России конца XIX века и приближает нас к разгадке многих грядущих событий в русской истории. Какое нам до этого дело! Нас волнует совсем другое. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, почему посмотрев «Дядю Ваню» в конце позапрошлого века плакал Горький, но нам важно понять, почему сто двадцать лет спустя, плачем мы. Неужели главным итогом, главным результатом «перепиливания души тупой пилой» должна явиться простая незатейливая мысль, что так жить нельзя?
А.П. Скафтымов выводит из этой мысли целый общий принцип построения Чеховских пьес. Он пишет: «Кто виноват, что Войницкий считал Серебрякова кумиром, заслуживающим жертвы всей жизни, а он оказался пустым человекам, и жизнь Войницкого ушла напрасно? Кто виноват, что Астров не имеет того чувства к Соне, какое составило бы ее счастье? Кто виноват, что Астрова измучила, духовно изуродовала глухая и глупая жизнь и чувства его выветрились понапрасну? <...> Нет виноватых.» И далее следует вывод: «Если переживаемый драматизм является принадлежностью всего уклада жизни, если индивидуально виноватых нет, то выхода к лучшему можно ждать только в коренном перевороте жизни в целом. Приход лучшего зависит не от устранения частных помех, а от изменения всех форм с существования» . Что скрывается за словами «изменение всех форм существования» объяснять, по-видимому, излишне. Человечество на протяжении всего ХХ столетия имело возможность наблюдать этот процесс воочию и на собственной шкуре испытало все его «прелести».
Но в то время ни сам Чехов, ни его герои не могли знать, чем обернутся для людей такие вещи, как «прогресс», «просвещение», «гуманизм», «свобода», «демократия», столь вожделенные сознанию русского интеллигента конца XIX – начала XX века. Что не только не дадут они счастья человеку, не только принесут ему неисчислимые страдания и муки, но и ввергнут ум его в адское пламя гнусного безбожия, позитивизма, крайнего индивидуализма и окончательно опустошат его душу. Хотя, сокровенное, слабое, едва живое, глубоко скрытое под безобразными наростами материалистического ми-ровоззрения душевное переживание уже подсказывало великому писателю, что все это не к добру. От того-то и живет в его героях непонятная им самим, неизбывная, необъяснимая, щемящая душу тоска. Люди не знают, зачем живут. Каким страхом, каким ужасом, причиняющим почти физическую боль, объяты они! Каким неподдельным отчаянием проникнуты слова дяди Вани: «Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? <...> если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…».
Дядя Ваня плачет. Чем утешить его, что посоветовать? Если бы знать… Но все-таки рискнем предположить, что начать надо с веры, истинной веры Христовой. Ею нужно наполнить душу, тогда и жизнь начнет мало-помалу наполняться смыслом. Рискнем предположить, что тоска, живущая в чеховских героях – не что иное, как плач души по живой христианской вере, безвозвратно ими утраченной, замененной на суррогаты, так называемые «гуманистические идеалы», как зараза, просочившиеся к нам с «просвещенного» Запада и покрывшие отвратительными гнойными нарывами и язвами всяческих «-измов» наши православные души.
Рискнем предположить, что тоска эта не чужда была и самому великому писателю, и это, быть может, более всего роднит его с дядей Ваней, делает их похожими. Но нельзя уже преодолеть того, что въелось в душу, в ум, в сознание, что так ярко, с таким последним отчаянием выразилось в словах старого профессора из «Скучной истории», вне всякого сомнения, написанных Чеховым о самом себе: «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу».
Мы уже не в состоянии освободиться, победить в себе это пресловутое «научное» мировоззрение, завладевшее всем нашим существом и изгнавшее из душ и умов наших Бога. Но и мириться с «идолом» мы больше не хотим. Вот тут-то помимо нашей воли и происходит в нас «крушение идеалов», о котором говорилось выше. Но дело не в самих идеалах, не в их содержании, на которое нам, говоря откровенно, давно уже наплевать, а в том, что они изменили наше сознание, сделали нас духовными инвалидами, не способными уже увидеть, что «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Мы и хотим верить, и не можем.
Богооставленность – вот причина нашей тоски! Причем, богооставленность эта не оттого, что Бог оставил нас, а оттого, что сами мы оставили, отвергли Бога, отвернулись от него, вытравили его из себя иностранной отравой. А что получили взамен? Животный страх смерти и дикую, не укладывающуюся в голове бессмысленность существования. Ведь, если земная жизнь – не путь к вечности, если задача ее – лишь репродукция, воспроизводство себе подобных в качестве расходного материала для поддержания обменных процессов в биосфере, то смысла в ней не больше, чем в жизни какого-нибудь глиста или таракана. Мы сами лишили себя надежды.
И надежду эту возвращают нам слова Сони, никогда еще не звучавшие с такой пронзительной убедительностью: «Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную <...> Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…»
Боже мой, какие слова! Знать, в христианской душе они могли только родиться. Но… Давайте сравним их со словами Ольги из финального монолога «Трех сестер»: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь».
Какая поразительная разница! Оказывается, страдаем мы исключительно ради счастья будущих поколений. Мы – лишь навоз, удобряющий почву, из которой впоследствии должны взойти цветы радости для тех, кто будет жить после нас, когда счастье и мир настанут на земле. А нас, в лучшем случае, помянут добрым словом. Вот что предлагает нам взамен вечной жизни материалистическая идея. Какое блестящее решение вопроса о смысле бытия!
Так кому же нам верить, Соне или Ольге? Каждый волен выбрать это для себя сам – таков ответ великого писателя. Но нас, тем не менее, сто с лишним лет склоняли и до сих пор продолжают склонять на сторону Ольги. Г. А. Бялый пишет: «Люди хотят знать, зачем они живут, зачем страдают. Они хотят, чтобы жизнь предстала перед ними не как стихийная необходимость, а как осмысленный процесс. Каждый думает об этом по-своему, но все думают примерно о том же. Когда в «Дяде Ване» Соня мечтает увидеть «жизнь светлую, прекрасную, изящную» в загробном существовании, она все-таки думает о нашей, земной жизни, какой она должна была бы быть».
Какое заблуждение! Нет, нет, слышите? Нет!! Соня говорит и думает вовсе не о земном! Если бы это было так, весь ее монолог был бы фальшивкой, недостойной того, чтобы им до сих пор, через сто двадцать лет восхищался мир. Про светлое будущее человечества, про рай на земле мы теперь все уже знаем. Мы слишком хорошо знаем, к чему приводят попытки сделать земную жизнь «светлой, прекрасной, изящной», какой она должна бы быть. Ничего, кроме бесчисленных человеческих жертв, крови, смерти миллионов людей это не приносит.
В конце 1904 года, уже после смерти Чехова, М. О. Гершензон напишет о нем: «Люди, томившееся в сумерках, полюбили его не за искусство, с которым он изображал эти сумерки, а за то, что он весь был страстная тоска по яркому солнцу, по голубому небу, или, вернее за то, что он сумел выразить эту тоску, жившую в них самих». Это слова очень верные, но Чехов, как нам кажется, тосковал все-таки не о лучшем социальном устройстве общества, когда «счастье и мир настанут на земле», а о духовном устроении человека. Не о благах думал он, но о Благодати. Потому что никакие материальные блага не способны изменить человека к лучшему, но лишь Благодатью Духа Святаго может он обновиться, очиститься от греха, сделаться светлым, радостным и по-настоящему счастливым.
Нет, господа! Соня говорит не о нашей земной жизни, но о жизни вечной, дарованной нам, грешным и недостойным, самим Господом Богом. И в сравнении с нею земная жизнь, какою бы она ни была интересной, богатой и великой – ничтожна, презренна. Соня говорит об этом прямо, искренне, с верою. И не надо искать в простых, сердечных словах ее никакого подтекста. Ради этого мы живем, ради этого страдаем. Только в этом смысл нашего земного существования, потому что, знаем мы об этом или нет, но люди созданы «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян., 17:27-28).
И все-таки, Г.А. Бялый отчасти прав. Дело в том, что если смирит человек гордыню свою, и душа его обратится к Богу, то пребывает он в раю еще в земной жизни, которая воистину становится для него светлой, прекрасной, изящной уже здесь, на этом свете. Что бы ни творилось вокруг, мир воцаряется в сердце его, и слышит он ангелов, и видит небо в алмазах, ибо истинно сказано «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Мир тебе, дядя Ваня. Нет, не пропала жизнь твоя, и не могла она пропасть. Успокойся, не рви себе душу. Послушай, что говорит старая няня: «Все мы у бога приживалы <...> никто без дела не сидит, все трудимся!» Вот и ты трудился, честно трудился для других, близких и не очень близких тебе людей. А это по-божески, по-христиански. Да, ты не был совершенен: осуждал, завидовал, раздражался и даже палил, куда попало из револьвера. Да, ты не стал ни Шопенгауэром, ни Достоевским, но для Бога это не важно. Ему важно, какое у тебя было сердце, а сердце у тебя было доброе.
Мы плачем. Плачем вместе с тобой. Но это не плач о загубленной жизни. Это молитвенный плач о любви, о Боге, о вере, которую мы потеряли, и которую очень, очень хотим вернут!
(о пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»)
«Дядя Ваня» до сих пор, по прошествии ста двадцати лет после написания, остается самой непонятной и неразгаданной пьесой Чехова. Более даже неразгаданной, нежели «Чайка». Вообще, это странно. Ведь в «Дяде Ване» нет ничего таинственного: ни «колдовского озера», ни «пяти пудов любви», как в «Чайке», ни страсти, ни смерти. А выстрелы, которые там звучат, никого не убивают.
И если в «Чайке» все же что-то происходит, есть движение, процесс, пусть и выведенный автором за кулисы, то здесь никакого действия нет вообще. Время остановлено, событий нет, мир будто завис в одной бесконечной мизансцене. Отчего же, когда опускается занавес, у зрителей в зале спазм сжимает горло и очень хочется плакать?
Горький, посмотрев «Дядю Ваню», написал Чехову два письма. В одном, датированном концом ноября 1898 года, он описывает свое первое впечатление: «На днях смот-рел «Дядю Ваню», смотрел и плакал как баба, хотя я человек далеко не нервный <...> Не скажешь хорошо и ясно того, что вызывает эта пьеса в душе, но я чувствовал, глядя на ее героев: как будто меня перепиливают тупой пилой. Ходят зубцы ее прямо по сердцу, и сердце сжимается под ними, стонет, рвется. Для меня – это страшная вещь, ваш «Дядя Ваня»…» (…). В другом, декабрьском письме, уже пытаясь осмыслить увиденное, он пишет: «Слушая вашу пьесу, думал я о жизни, принесенной в жертву идолу, о вторжении красоты в нищенскую жизнь людей и о многом другом, коренном и важном» (…).
Сам Чехов, правда, не разделял восторгов по поводу своей пьесы. В письме от 3 декабря 1898 года он отвечает Горькому: «Дядя Ваня» написан давно, очень давно <...> В последние годы его стали часто давать на провинциальных сценах – быть может, оттого, что я выпустил сборник своих пьес. К своим пьесам вообще я отношусь довольно холодно».
Но Чехов, как известно, был человеком весьма скромным. Вряд ли следовало ожидать, что написав даже хорошую пьесу, он стал бы бить в ладоши и кричать, ай да Чехов! Ай да сукин сын! Ранее, 26 октября 1898 года, он писал брату М. П. Чехову: «Совсем я не рассчитывал на сию пьесу» (…). Но что значит, не рассчитывал? Считал ее слабой? Или не надеялся на ее понимание? А может быть, он хотел этим сказать, что сам не понимает, почему эта пьеса имеет такой успех?
Ответов на эти вопросы мы не знаем и знать не можем. Поэтому тут ничего другого не остается, как только положиться на свое собственное впечатление и то самое чувство, о котором Горький писал: «Не скажешь хорошо и ясно того, что вызывает эта пьеса в душе».
Сразу оговоримся, что вопреки расхожему мнению, «Дядя Ваня» вовсе не является пьесой «без героев», а точнее, «без героя». Многие критики и рецензенты, в частности, И. М. Хейфец, подписывавшийся псевдонимом «Старый театрал», утверждали, что само название у пьесы случайное и дано по первому попавшемуся действующему лицу, подобно тому, как название сборника дается по первому напечатанному в нем рассказу. Хейфец в своей рецензии пишет: «В сущности же «Дядя Ваня» – вовсе не герой пьесы, в которой, впрочем, и нет героев, как бы широко ни понимать это слово». А некоторые даже советовали Чехову дать пьесе другое название, например, «Доктор Астров», мотивируя это тем, что личность Астрова выписана в пьесе гораздо более рельефно.
Мы же берем на себя смелость утверждать, что главный герой в пьесе есть, и зовут его Иван Петрович Войницкий, – дядя Ваня, поскольку, как нам кажется, именно через его образ только и можно почувствовать то, что является главным содержанием пьесы, скрытым за внешними поверхностными коллизиями, о чем в дальнейшем и пойдет речь. Более того, на наш взгляд, образ дяди Вани чем-то отдаленно напоминает … самого Чехова. Это может показаться странным. Казалось бы, что общего у красавца Чехова, всеми любимого и уважаемого, добрейшего и умнейшего человека, лучшего из людей, с этим неудачником дядей Ваней, занудой и неврастеником, отвергнутым и презираемым всеми, кроме разве что племянницы Сони?
Однако, господа, давайте не будем торопиться развешивать ярлыки. Дядя Ваня – благороднейший и порядочнейший человек. Он отказался от наследства в пользу сестры и всю жизнь работал, не покладая рук, причем, работал не для себя, а для других: матери, сестры, племянницы, мужа сестры, его новой жены. Он пожертвовал жизнью ради благополучия семьи – это же самое можно сказать и о Чехове.
Дядя Ваня органически не переносит вранья, лжи, фальши. Каждый раз, когда Елена Андреевна, Астров или Мария Васильевна принимаются с пафосом говорить о человеколюбии, пользе лесов или новомодных философских концепциях, он с раздражением прерывает их: «Оставим философию!», «Позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева», «Но мы уже пятьдесят лет говорим, и говорим, и читаем брошюры. Пора бы уж и кончить». Как это похоже на Чехова! Сколько раз в письмах своих по разным поводам дает он гневные и беспощадные отповеди всему, в чем видит фальшь, пафос, самодовольство, хамство, невоспитанность.
Наконец, и говорит, и шутит дядя Ваня, как Чехов. Речь его не прямолинейно-тяжеловесна, как у Астрова, не выспренно-литературна, как у Серебрякова, но проста, ясна и изящна: «Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. <...> Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: куда мне их девать, что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму» – так говорил бы на месте Войницкого сам Чехов.
А эта «милая шуточка», обращенная к Елене Андреевне: «В ваших жилах течет русалочья кровь, будьте же русалкой! Дайте себе волю хоть раз в жизни, влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши – и бултых с головой в омут» – так и просится в переписку Чехова с Ликой Мизиновой!
Однако, все это частности. О главном же внутреннем сходстве автора со своим персонажем, о главном вопросе, мучающем их обоих, речь пойдет впереди.
Но сначала обратимся к тем самым коллизиям пьесы, которые лежат на поверхности и видны, что называется, невооруженным глазом. Первая и основная коллизия, охватывающая все сферы существования героев – конфликт между «жизнью» и «обывательской жизнью», присущий почти всем произведениям Чехова. Об этом очень точно пишет М. А. Аносов в одной из первых рецензий на «Дядю Ваню», когда пьеса уже шла в провинции, но еще не была поставлена в Художественном театре: «между понятием «жизнь» и «обывательская жизнь» существует громадная разница. Дать зрителю почувствовать ее – такова цель этого выдающегося произведения. И весь интерес пьесы сосредоточивается поэтому не на развитии драматического действия <...> а на том настроении, какое пьеса должна вызвать у зрителей <...> пьеса должна произвести глубокое впечатление, жизненной неподкрашенной правдой должно повеять от нее».
И от пьесы, действительно, веет такой «неподкрашенной правдой», что кровь стынет в жилах. Каким убийственным приговором звучат вынимающие из нас душу слова Астрова: «Во всем уезде было только два порядочных интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все».
В дальнейшем к «Дяде Ване» прочно будет приклеен ярлык трагедии будней, драмы неизменности, когда все вокруг течет, но ничего не меняется со всем ужасом осознания героями принципиальной невозможности освобождения от невыносимых пут опостылевшего уездного быта. В упомянутой выше рецензии Аносова читаем: «Драматическое положение разряжается выстрелами дяди Вани, никому не приносящими вреда, горькими слезами Сони, оплакивающей свое загубленное чувство, страстным поцелуем Елены Андреевны и Астрова. Но ни выстрелы, ни слезы, ни поцелуй ни к чему не приводят: все идет по-прежнему, по-старому, ничего не меняется ни в жизни, ни во взаимных отношениях действующих лиц».
Все это, конечно, производит сильное эмоциональное впечатление, тем более, что чеховские герои вечны, и мы и через сто лет узнаем в них себя сегодняшних, но все же не достаточно сильное, чтобы «плакать, как баба» и чувствовать, как будто тебя «перепиливают тупой пилой». В конце концов, ну, быт... Ну, будни… И что? У кого их нет? В поте лица своего добываем мы хлеб. Праздники редки, будни тяжелы, порою и вовсе невыносимы и беспросветны. Но мы живем. Конечно, обывательская жизнь портит людей, подрезает им крылья, лишает высоких устремлений, но такова вообще наша земная жизнь, и такой она была во все времена. Чего тут плакать? Было бы здоровье…
Но тогда, быть может, душа наша плачет не просто о жизни, прожитой «так глупо и так безвкусно», а, что гораздо страшнее – о жизни ошибочной, погубленной ложной идеей, о жизни, «принесенной в жертву идолу», оказавшемуся на поверку нолем, ничтожеством, пустым местом? Собственно, именно это, как будто бы и составляет основной конфликт пьесы. Однако, если внимательно его проанализировать, нетрудно увидеть, что конфликт этот также является внешним, поверхностным. Неизвестный критик, подписавшийся псевдонимом «А.О.», в своей рецензии пишет: «Возьмите наугад любого человека, и вы наверняка в 6-9 случаях из десяти попадете на такого, который всю жизнь ухлопал «на семью» или на одного человека – «брата», «сестру» и т. п. Все это «Дядя Ваня»: у одного на руках целая семья, у другого один любимый и уважаемый человек. И часто, до душевной боли часто, убеждаются эти люди, что работали они даром, лелеяли пустое место <...> Но что всего тяжелее, так это то, что свою ошибку дядя Ваня заметил слишком поздно – «когда жизнь прошла».
На самом деле, «когда жизнь прошла», уже не важно, на что именно ты ее ухлопал. На что ухлопал свою жизнь старый профессор из «Скучной истории»? На свою любимую науку и любимых студентов. Жизнь его была очень важна и нужна людям, а научная деятельность прославила его на весь мир. Но он не счастливее дяди Вани.
Попробуем разобраться в мыслях и чувствах главного героя пьесы.
Середина второго действия. Елена Андреевна со словами «Оставьте меня. Это наконец противно» уходит, Войницкий остается один. Авторская ремарка «(один)» доро-гого стоит. Она встречается в пьесе лишь однажды. Чехов не стал бы, кого ни попадя, оставлять на сцене одного. С этого момента и до прихода Астрова с Телегиным все, что говорит дядя Ваня, он говорит самому себе, вернее, нам, зрителям. На сцене у него слушателей нет. А значит, нет нужды притворяться, врать, рисоваться, что-то скрывать. Он говорит предельно откровенно. Это единственный в пьесе монолог-исповедь, который дается не для пояснения действия, а для того, чтобы мы узнали, что творится в голове героя, его мысли. Заметим, кстати, что право произносить такие монологи предоставляется исключительно главным героям, мысли которых существенно важны для понимания смысла происходящего. Второстепенные персонажи такой чести, как правило, не удостаиваются. Даже у Астрова нет такого монолога. Итак, что же мы узнаем о мыслях дяди Вани? Они путаются у него в голове…
Он жалеет о том, что Елена Андреевна не стала его женой и тут же признается: «Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира – все это мне глубоко ненавистно». Он не влюбился в нее десять лет назад, не любит и теперь, несмотря на всю ее красоту, которая его восхищает. Мы понимаем: мечта о счастье с Еленой Андреевной – иллюзия.
Он горько сетует, что обманут Серебряковым: «И я обманут… – вижу, – глубоко обманут…». Но причем тут Серебряков? Разве он виноват, что дядя Ваня обожал его, работал на него, как вол, гордился им и его наукой, жил, дышал им? Разве профессор виноват, что он не гений, что он совершенно не известен, что он ничто, мыльный пузырь? О каком обмане тут может идти речь? Мы понимаем: обвинение в загубленной жизни, выдвинутое против Серебрякова – тоже иллюзия.
Дядя Ваня совсем запутался. Он живет иллюзиями. Он ищет виноватых там, где их нет, но он не может их не искать. Иначе мозг его лопнет, разорвется, не выдержав мысли о том, что в его погубленной жизни никто из окружающих не виноват, что так оно случилось само, в силу каких-то иных, не ведомых ему причин.
Допустим, что Елена Андреевна стала его женой или Серебряков оказался всемирно признанным гением. Предположим даже невозможное – из дяди Вани вышел Шопенгауэр или Достоевский! (Отметим, кстати: одно то, что Шопенгауэр, буддист, мистик и мизантроп поставлен в один ряд с Достоевским – православнейшим человеком, говорит о большой путанице в голове у дяди Вани). Сделало ли бы все это его счастливым? Нет, конечно. Он не был бы счастлив с Еленой Андреевной, а на Серебрякова, который просто подвернулся под руку, ему вообще наплевать. Ему глубоко безразлично, гений профессор или мыльный пузырь, ничего не понимающий в искусстве. Напрасно Войницкий протестует, палит из револьвера, кричит о своей загубленной жизни. Ни любимая женщина, ни любимое дело, даже если бы оно у него было, ни удовлетворение желаний, ни слава Достоевского или Шопенгауэра не могут спасти от ужаса сознания бессмысленности человеческой жизни, в которой «даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека». Особенно, когда жизнь эта уже прошла, и смерть приблизилась на расстояние вытянутой руки.
И кричать дяде Ване надо не «Пропала жизнь!», а «Прошла жизнь!»
Нет, за воплем о пропавшей, безрадостно прожитой жизни, за трагедией будней, за грязной и пошлой, засасывающей, как болото, уездной действительностью стоит что-то совсем другое. Герои сами не понимают, что с ними происходит. Астров думает, что их заела обывательская жизнь, но все его разговоры о том, что единственное, чем может быть оправдано истребление лесов, это приход новой жизни: строительство шоссе, железных дорог, заводов, фабрик, школ, отчего народ стал бы здоровее, богаче, умнее – не более, чем риторика, словоблудие. Никого еще шоссе, железные дороги, заводы и фабрики не сделали ни здоровее, ни умнее, а уж тем более, счастливее. Давайте на минуту закроем глаза и представим, что бездорожье, нищета, тиф, дифтерит и пожары в уезде чудесным образом исчезли, болота высохли, комары испарились. Всюду школы, больницы, телефон, телеграф, чистые просторные избы без телят и поросят на полу, с больными вместе – и что, от всего этого люди сразу сделаются счастливыми? Как бы не так!
Так в чем же тут дело, господа? Что кроется за общей растерянностью, подавленностью, неприкаянностью, ощущением совершающейся или уже совершившейся катастрофы? Никто не знает.
Очевидно, трагедия не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем душевном состоянии героев. Но что это за душевное состояние, каково его содержание, чем оно, главным образом, характеризуется – этого Чехов не объясняет. Как справедливо отмечает Г.А. Бялый: «То, о чем говорят герои Чехова, – это часто далеко не самое главное, чем они живут, что волнует их души. И происходит это потому, что говорящий еще сам не разобрался в своих переживаниях. То, о чем он думает, еще не ясно ему самому, не созрело в его сознании, существует только, как предощущение и не может быть выражено точными словами»
Предположений, претендующих на объяснение этого состояния, переживания, предощущения – назовите как угодно – за сто лет накопилось вагон и маленькая тележка. Почти все они «социального» свойства. Под «идолом», в жертву которого принесены жизни людей, предлагается понимать, например, … идею народничества. «Конфликт, который составляет драматический узел «Дяди Вани», несомненно, был навеян временем. В эпоху заката когда-то вдохновлявших и питавших чувство либеральных и народнических мелкобуржуазных надежд в широких интеллиг<ентских> кругах крушение идеалов, утрата уважения и к молчавшим уже идеологическим вождям должны были стать явлением обычным». Как ни странно, мысль о крушении идеалов далеко не так примитивна, как может показаться на первый взгляд, но только понимать ее нужно, по нашему мнению, несколько в ином свете, и мы к этому в дальнейшем еще вернемся.
Но, боже мой, как же скучны все эти глубокомысленные рассуждения о том, что драма Чехова уловила умонастроения уездной поместной России конца XIX века и приближает нас к разгадке многих грядущих событий в русской истории. Какое нам до этого дело! Нас волнует совсем другое. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, почему посмотрев «Дядю Ваню» в конце позапрошлого века плакал Горький, но нам важно понять, почему сто двадцать лет спустя, плачем мы. Неужели главным итогом, главным результатом «перепиливания души тупой пилой» должна явиться простая незатейливая мысль, что так жить нельзя?
А.П. Скафтымов выводит из этой мысли целый общий принцип построения Чеховских пьес. Он пишет: «Кто виноват, что Войницкий считал Серебрякова кумиром, заслуживающим жертвы всей жизни, а он оказался пустым человекам, и жизнь Войницкого ушла напрасно? Кто виноват, что Астров не имеет того чувства к Соне, какое составило бы ее счастье? Кто виноват, что Астрова измучила, духовно изуродовала глухая и глупая жизнь и чувства его выветрились понапрасну? <...> Нет виноватых.» И далее следует вывод: «Если переживаемый драматизм является принадлежностью всего уклада жизни, если индивидуально виноватых нет, то выхода к лучшему можно ждать только в коренном перевороте жизни в целом. Приход лучшего зависит не от устранения частных помех, а от изменения всех форм с существования» . Что скрывается за словами «изменение всех форм существования» объяснять, по-видимому, излишне. Человечество на протяжении всего ХХ столетия имело возможность наблюдать этот процесс воочию и на собственной шкуре испытало все его «прелести».
Но в то время ни сам Чехов, ни его герои не могли знать, чем обернутся для людей такие вещи, как «прогресс», «просвещение», «гуманизм», «свобода», «демократия», столь вожделенные сознанию русского интеллигента конца XIX – начала XX века. Что не только не дадут они счастья человеку, не только принесут ему неисчислимые страдания и муки, но и ввергнут ум его в адское пламя гнусного безбожия, позитивизма, крайнего индивидуализма и окончательно опустошат его душу. Хотя, сокровенное, слабое, едва живое, глубоко скрытое под безобразными наростами материалистического ми-ровоззрения душевное переживание уже подсказывало великому писателю, что все это не к добру. От того-то и живет в его героях непонятная им самим, неизбывная, необъяснимая, щемящая душу тоска. Люди не знают, зачем живут. Каким страхом, каким ужасом, причиняющим почти физическую боль, объяты они! Каким неподдельным отчаянием проникнуты слова дяди Вани: «Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? <...> если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…».
Дядя Ваня плачет. Чем утешить его, что посоветовать? Если бы знать… Но все-таки рискнем предположить, что начать надо с веры, истинной веры Христовой. Ею нужно наполнить душу, тогда и жизнь начнет мало-помалу наполняться смыслом. Рискнем предположить, что тоска, живущая в чеховских героях – не что иное, как плач души по живой христианской вере, безвозвратно ими утраченной, замененной на суррогаты, так называемые «гуманистические идеалы», как зараза, просочившиеся к нам с «просвещенного» Запада и покрывшие отвратительными гнойными нарывами и язвами всяческих «-измов» наши православные души.
Рискнем предположить, что тоска эта не чужда была и самому великому писателю, и это, быть может, более всего роднит его с дядей Ваней, делает их похожими. Но нельзя уже преодолеть того, что въелось в душу, в ум, в сознание, что так ярко, с таким последним отчаянием выразилось в словах старого профессора из «Скучной истории», вне всякого сомнения, написанных Чеховым о самом себе: «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу».
Мы уже не в состоянии освободиться, победить в себе это пресловутое «научное» мировоззрение, завладевшее всем нашим существом и изгнавшее из душ и умов наших Бога. Но и мириться с «идолом» мы больше не хотим. Вот тут-то помимо нашей воли и происходит в нас «крушение идеалов», о котором говорилось выше. Но дело не в самих идеалах, не в их содержании, на которое нам, говоря откровенно, давно уже наплевать, а в том, что они изменили наше сознание, сделали нас духовными инвалидами, не способными уже увидеть, что «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Мы и хотим верить, и не можем.
Богооставленность – вот причина нашей тоски! Причем, богооставленность эта не оттого, что Бог оставил нас, а оттого, что сами мы оставили, отвергли Бога, отвернулись от него, вытравили его из себя иностранной отравой. А что получили взамен? Животный страх смерти и дикую, не укладывающуюся в голове бессмысленность существования. Ведь, если земная жизнь – не путь к вечности, если задача ее – лишь репродукция, воспроизводство себе подобных в качестве расходного материала для поддержания обменных процессов в биосфере, то смысла в ней не больше, чем в жизни какого-нибудь глиста или таракана. Мы сами лишили себя надежды.
И надежду эту возвращают нам слова Сони, никогда еще не звучавшие с такой пронзительной убедительностью: «Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную <...> Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…»
Боже мой, какие слова! Знать, в христианской душе они могли только родиться. Но… Давайте сравним их со словами Ольги из финального монолога «Трех сестер»: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь».
Какая поразительная разница! Оказывается, страдаем мы исключительно ради счастья будущих поколений. Мы – лишь навоз, удобряющий почву, из которой впоследствии должны взойти цветы радости для тех, кто будет жить после нас, когда счастье и мир настанут на земле. А нас, в лучшем случае, помянут добрым словом. Вот что предлагает нам взамен вечной жизни материалистическая идея. Какое блестящее решение вопроса о смысле бытия!
Так кому же нам верить, Соне или Ольге? Каждый волен выбрать это для себя сам – таков ответ великого писателя. Но нас, тем не менее, сто с лишним лет склоняли и до сих пор продолжают склонять на сторону Ольги. Г. А. Бялый пишет: «Люди хотят знать, зачем они живут, зачем страдают. Они хотят, чтобы жизнь предстала перед ними не как стихийная необходимость, а как осмысленный процесс. Каждый думает об этом по-своему, но все думают примерно о том же. Когда в «Дяде Ване» Соня мечтает увидеть «жизнь светлую, прекрасную, изящную» в загробном существовании, она все-таки думает о нашей, земной жизни, какой она должна была бы быть».
Какое заблуждение! Нет, нет, слышите? Нет!! Соня говорит и думает вовсе не о земном! Если бы это было так, весь ее монолог был бы фальшивкой, недостойной того, чтобы им до сих пор, через сто двадцать лет восхищался мир. Про светлое будущее человечества, про рай на земле мы теперь все уже знаем. Мы слишком хорошо знаем, к чему приводят попытки сделать земную жизнь «светлой, прекрасной, изящной», какой она должна бы быть. Ничего, кроме бесчисленных человеческих жертв, крови, смерти миллионов людей это не приносит.
В конце 1904 года, уже после смерти Чехова, М. О. Гершензон напишет о нем: «Люди, томившееся в сумерках, полюбили его не за искусство, с которым он изображал эти сумерки, а за то, что он весь был страстная тоска по яркому солнцу, по голубому небу, или, вернее за то, что он сумел выразить эту тоску, жившую в них самих». Это слова очень верные, но Чехов, как нам кажется, тосковал все-таки не о лучшем социальном устройстве общества, когда «счастье и мир настанут на земле», а о духовном устроении человека. Не о благах думал он, но о Благодати. Потому что никакие материальные блага не способны изменить человека к лучшему, но лишь Благодатью Духа Святаго может он обновиться, очиститься от греха, сделаться светлым, радостным и по-настоящему счастливым.
Нет, господа! Соня говорит не о нашей земной жизни, но о жизни вечной, дарованной нам, грешным и недостойным, самим Господом Богом. И в сравнении с нею земная жизнь, какою бы она ни была интересной, богатой и великой – ничтожна, презренна. Соня говорит об этом прямо, искренне, с верою. И не надо искать в простых, сердечных словах ее никакого подтекста. Ради этого мы живем, ради этого страдаем. Только в этом смысл нашего земного существования, потому что, знаем мы об этом или нет, но люди созданы «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян., 17:27-28).
И все-таки, Г.А. Бялый отчасти прав. Дело в том, что если смирит человек гордыню свою, и душа его обратится к Богу, то пребывает он в раю еще в земной жизни, которая воистину становится для него светлой, прекрасной, изящной уже здесь, на этом свете. Что бы ни творилось вокруг, мир воцаряется в сердце его, и слышит он ангелов, и видит небо в алмазах, ибо истинно сказано «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Мир тебе, дядя Ваня. Нет, не пропала жизнь твоя, и не могла она пропасть. Успокойся, не рви себе душу. Послушай, что говорит старая няня: «Все мы у бога приживалы <...> никто без дела не сидит, все трудимся!» Вот и ты трудился, честно трудился для других, близких и не очень близких тебе людей. А это по-божески, по-христиански. Да, ты не был совершенен: осуждал, завидовал, раздражался и даже палил, куда попало из револьвера. Да, ты не стал ни Шопенгауэром, ни Достоевским, но для Бога это не важно. Ему важно, какое у тебя было сердце, а сердце у тебя было доброе.
Мы плачем. Плачем вместе с тобой. Но это не плач о загубленной жизни. Это молитвенный плач о любви, о Боге, о вере, которую мы потеряли, и которую очень, очень хотим вернут!

Максим ФЕДОСОВ
Родился в 1970 г. Окончил литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького (Мастерская А.В.Воронцова). В 90-х занимался дизайном в одном из первых российских рекламных агентств «Солидарность Паблишер», с 1996 по 2006 год работал в сфере маркетинга и рекламы. В 2008 году основал рекламное агентство «Новое Слово», которое возглавляет до сих пор.
Писать рассказы начал с 2014 года. В 2016 году вышла книга «X» («Десять»), в 2018 - книга рассказов «Два билета на край света», которая в 2018 году была удостоена диплома областного писательского конкурса им. М.М.Пришвина
в номинации «Проза».
Сайт автора: maximfedosov.ru
Родился в 1970 г. Окончил литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького (Мастерская А.В.Воронцова). В 90-х занимался дизайном в одном из первых российских рекламных агентств «Солидарность Паблишер», с 1996 по 2006 год работал в сфере маркетинга и рекламы. В 2008 году основал рекламное агентство «Новое Слово», которое возглавляет до сих пор.
Писать рассказы начал с 2014 года. В 2016 году вышла книга «X» («Десять»), в 2018 - книга рассказов «Два билета на край света», которая в 2018 году была удостоена диплома областного писательского конкурса им. М.М.Пришвина
в номинации «Проза».
Сайт автора: maximfedosov.ru
ЛИТ-РА
— Так, где моя указка? — тяжело дыша, Тамара Павловна вернулась в учительскую. — Ну, где… кто видел мою указку?
— Да бросьте вы эти свои штучки… указки… — не выдержала Антонина Львовна, завуч школы, и, не поднимая глаз от школьных журналов, махнула рукой в сторону. — Идите уже на урок!
— Что вы, Антонинльвовна, это же… это как дирижер на концерте… я не могу без указки. А! Вот она! — Тамара Павловна сунула указку между книг и заторопилась в 10-ый «б», в котором вот-вот должен был начаться урок литературы. Перед входом в класс Тамара Павловна поправила волосы, переложила книги и журнал в левую руку и рывком открыла дверь.
— Так! Все сели, я говорю! Сели все! — резкий возглас Тамарпалны разорвал шумный гул 10-го «б». Ученики быстрыми прыжками заняли свои места в классе. Входная дверь за учительницей громко захлопнулась, и стопка книг вместе с классным журналом небрежно бухнулась на учительский стол.
Учительницу литературы Тамару Павловну Мирончук ученики звали очень коротко — Тамарпална. Короче сократить уже было нельзя. Нельзя сказать, что ученики особенно любили её. Ни литературу, ни другие предметы, ни особенно учителей в школе они вообще не любили. Проще было перечислить, что старшеклассники любили в своей школе — для этого было достаточно пальцев на руках: первое сентября, новогодний огонек, дискотеки, викторины, большую перемену, горячие пирожки в столовой, последний звонок и долгожданный выпускной. Остальное было обязательным и утомительным, но необходимым приложением к этому развлекательному школьному набору.
Каждый урок каждого учебного дня начинался с тянущегося, надрывного вздоха, проносящегося по классам. Вздох поднимался выше, сгущался и уплывал по коридору в физкультурный зал. Там он ещё долго висел под потолком, изредка взрываемый школьным мячом, затем уходил через щели в окна и плавно спускался на белый снег.
Тамарпална грузно опустилась на учительский стул, открыла журнал и надела очки.
— Сели, Печёнкин, я сказала! Сели и открыли свои дневники и сразу записываем домашнее задание. Повторяю, для забывчивых, домашнее задание на завтра: «Самостоятельная письменная работа на тему «Духовная деградация личности доктора Старцева в рассказе Чехова «Ионыч». Печёнкин, я сказала записываем! Неси сюда дневник, я посмотрю, что ты записал!
Уронив сумку, Вадик Печёнкин поднялся со стула, и, медленно подойдя к учительскому столу, протянул свой дневник. В графе напротив «Лит-ра» было написано два слова — «Духовная диградация».
Большую часть своей педагогической карьеры (через два года она собиралась отметить пятидесятилетний юбилей) Тамара Павловна вела литературу в школе, она имела весомый педагогический опыт работы со старшеклассниками! Она знала, что лучшее начало урока — строго и сразу поставить учеников на место и дальше спокойно работать по теме.
— Что за Лит-ра?
— Литература… м-м-м… так не влезает, Тамарпална!
— Не влезает, — передразнила учительница. – В твою голову, Печёнкин, литература никогда не влезет. Садись… Так. Сегодня мы обсуждаем рассказ Чехова «Ионыч», о котором я вчера вам рассказывала. Так, кто прочитал его и сможет нам рассказать суть произведения? — Тамарпална медленно встала из-за стола, взяла в руки привычную указку и направилась вглубь класса, оглядывая учеников.
Над классом медленно поднялась одна рука. Это была Лиза Болотова, отличница. Учительница по привычке ткнула указкой в парту Болотовой: «Давай, Болотова, с тебя начнем».
— Смотри, «Болото» опять впереди всех, — послышался шепот с третьей парты, за которой сидели крепкие «троешники» Гоша Синицын и Владик Голубев.
— Давай, Болотова, рассказывай ты, раз никто не помнит, о чем учитель вчера целый урок тут разорялась, — торжествующе произнесла Тамарпална, оглядев притихший класс.
— Основной линией рассказа является история несостоявшейся женитьбы Дмитрия Ионыча Старцева. Сама фамилия персонажа — Старцев, указывает нам на перспективу преждевременного старения души Ионыча… и…
— Так, хорошо Болотова. Молодец. Садись. Пять. Печёнкин, а что ты запомнил из вчерашнего урока? Расскажи нам, как ты понял рассказ Чехова, — Тамарпална и в этот раз ткнула указкой в парту ученика.
— А чего опять Печёнкин? — сидя промычал Вадик.
— Так, ты рассказ читал? Встань, когда с тобой учитель говорит!
— Ну читал, – Печёнкин нехотя встал.
— Ну… рассказывай!
— Ну он…
— Кто?
— Ну, главный герой…
— Как его зовут?
— Ну… а... этот… Ионыч!
— Ну, что... этот Ионыч? Что он за человек?
— Ну, Ионыч… он… это, он врачом работал… лечил… и деньги зарабатывал…. Ну, у него был роман с этой… Котиком… с девушкой из хорошей семьи. И они… — Печёнкин замолчал.
— Ну, что у них, сложились отношения? — подсказывала Тамара Павловна. Класс уже начинал мучительно и тихо хохотать.
— Ну, сложились… — Печёнкин опять замолчал, давя в себе смех.
— Так, Печёнкин, садись. Два. Мало того, что ты не учишь ничего, ты и на уроке не слушаешь.
— Я учил, Тамарпална! Учил я! — оправдывался Печёнкин.
— Ну раз учил, расскажи тогда в чём выражалось духовное падение главного героя?
Вадик опять встал, но молчал.
— Деньги, деньги пересчитывал… — раздался зловещий шепот со второй парты.
— Он, это… он деньги пересчитывал…
— Какие деньги, Печёнкин? К кому ездил в гости Старцев, в какую семью?
— К этим…, ну которые на роялях играли.
— Ну, ну… Почему я из тебя должна все это вытягивать? Ты что, двух слов на уроке литературы связать не в состоянии? Как ты будешь ЕГЭ сдавать, Печёнкин?
— А у него в ручке встроенный вай-фай с ответами из интернета, — послышался голос с «камчатки», с последней парты, за которой сидел долговязый Гоша Пахомов.
Класс взорвался хохотом. Тамарпална хлопнула указкой по ближайшей парте.
— Так, Пахомов, не срывай мне урок! Или выйдешь сейчас из класса! Тихо! Ну, Печёнкин, что ещё ты можешь вспомнить?
— Умри, несчастная! — сорвал очередной шквал хохота Пахомов.
— А, да, так смеялся там слуга у этих… в той семье… куда Ионыч ходил.
— Пахомов, ставлю тебе «два» в журнал и завтра с родителями к директору. Давай сюда дневник!
— А… это! Я его дома забыл!
— Завтра пусть родители приносят директору твой дневник.
— Ну, что Печёнкин, ты так и будешь молчать или слушать своих товарищей-идиотов?
— …
— Ну! Чего молчишь?
— … Я не молчу!
— Садись, изверг. У тебя выходит «три» в четверти, но как ты будешь писать ЕГЭ? Я не представляю...
Тамара Павловна подошла к учительскому столу, открыла журнал, перелистала несколько страниц и провела невидимой линией путь сверху страницы вниз, остановившись напротив фамилии «Журавлева».
— Так, Катя Журавлева продолжит. Что происходит с главным героем рассказа? Давай у доски, расскажи нам поподробнее.
Тонкая девушка с журавлиной фамилией грациозно прошла к доске, не спеша развернулась и, приняв позу модной актрисы с обложки журнала, начала литературный анализ:
— В рассказе «Ионыч» показана духовная деградация личности человека, который не интересуется ничем, кроме работы и денег. Еще в начале рассказа главный герой влюбляется в девушку из хорошей семьи, но она отвергает его любовь, потому что хочет стать актрисой.
— Журавлева тоже пойдет в актрисы! — послышался опять до боли знакомый голос Пахомова. — Котик! — артистично продолжал он забавлять класс. Класс уже тихо надрывался сквозь проступившие от смеха слезы.
— Пахомов, закрой рот или выйдешь из класса! — на этот раз грозно крикнула Тамарпална, замахав указкой.
— Всё, молчу Тамарпална. Молчу!
— Продолжай, Журавлева…
— Через несколько лет её мечта так и не осуществилась, и она возвращается в свой город и живет там с мамой. Настоящая актриса должна готовить себя заранее к своей профессии…
— Правильно, Журавлева. Вот, например, супруга Туркина, Вера Иосифовна, с молодости пишет романы. Помнишь, кстати, как начинался её роман, который она в начале повествования читает гостям?
— Не помню...
— Её рассказ начинался словами «Мороз крепчал…» А на самом деле в это время за окном было… — Тамарпална вопросительно посмотрела на Журавлеву, — за окном было… Лето, летний вечер, Журавлева! Так автор передает контраст между тем, что человек думает и что происходит на самом деле. Такой литературный прием называется контрастом и он говорит нам о том… О чем он говорит, Серов? Серов, не спи!
Ученик за четвертой партой, маленький и смешной Саша Серов подскочил, встряхнувшись ото сна.
— О том, что… — быстро выпалил он. — О том, что … мороз крепчал…
— Маразм крепчал! — «поправил» Пахомов и бурный смех, который невозможно было никуда спрятать, ни подавить, опять порвал класс.
— Пахомов, ещё одна такая выходка, ты будешь продолжать острить за дверью класса с двойкой в аттестате, — продолжала махать указкой Тамарпална.
— Всё, всё, Тамарпална!
— Болотова, так о чём говорит такой прием, применённый в рассказе?
— О том, что такой человек далек от действительности…
— Правильно, Болотова. — Усталый голос Тамарпалны стал ниже и суше. Дальше она начала произносить слова, как будто зачитывала что-то под диктовку. Многолетняя педагогическая практика подсказывала ей, что важные выводы говорить на уроке нужно медленно и четко, чтобы ученики прочувствовали «главную суть» урока, то есть произведения.
Она продолжала:
— Такие люди, как Туркины, живут своей обособленной, сытой, но скучной жизнью, и пытаются заполнить пустоту жизни хоть какими-нибудь увлечениями. Ранний Старцев, как рисует нам его Антон Павлович Чехов, ещё может увлекаться, он живой и интересный мужчина, но его чувства отвергаются. Помните, эту сцену, когда он обнимает Катю, целует её, но она отталкивает его, говорит «довольно» и убегает. Помните? — Тамарпална посмотрела куда-то в окно. — Ну, а на кого похож главный герой в конце рассказа? Как его описывает автор? А, Серов, не засыпай снова, я тебе не дам… Надо работать на уроке! — Тамарпална по привычке указала на парту ученика указкой, только в этот раз она мягко ткнула в спящую голову Саши Серова. Он снова встрепенулся и быстро встал:
— Я работаю, Тамарпална. Старцев в конце рассказа представляется каким-то… неприятным… человеком, он… тово… духовно деградировал.
— Ну, а что это значит?
— Ну, он ходит, смотрит квартиры… вкладывает деньги в недвижимость… так неприятно ходит.
— Что значит неприятно?
— Ну он тычет своей тростью в каждую дверь, не стесняясь людей…
— Да… правильно, Серов. — Тамарпална на секунду задумалась и переложила указку в левую руку. — А как Старцев теперь реагирует на воспоминания о былой любви, Журавлева? — Тамарпална развернулась вполоборота к другому ряду столов.
Журавлева медленно поднялась, поправила волосы и сказала:
— Старцев сказал: «А хорошо, что я тогда не женился». Подлец!
— Правильно, Журавлева! Ну, насчет подлеца я не совсем согласна...
— Да, ему подфартило, что он не женился на этой глупой актрисе, а то бы мучился всю жизнь… — опять привстал со своего места Пахомов.
Журавлева вдруг развернулась к Пахомову и резко выпалила:
— А он и так по жизни мучился от своего скверного и тупого характера!
— Ну… а так бы он маялся с ней. Как все мужики маются с вами… — Пахомов обреченно сел, класс вдруг затих и все посмотрели на Тамарпалну.
— Пахомов, что ты лезешь? Ты не знаешь рассказа, так и молчи! Сначала прочитай Чехова, потом рот открывай… — была неумолима в своем вердикте Журавлева.
— А чего там читать, скукотища?! Я пробежал краткое содержание и понял, что читать там нечего. Я лучше «Камедиклаб» посмотрю, там хоть поржать можно.
— Так, Пахомов, мы с тобой уже разобрались. Или нет? — Тамарпална грозно направилась к последней парте. Я тебе сколько раз буду говорить – не лезь! Не лезь, понял? — Тамарпална со всей силы хлопнула указкой по парте Пахомова, указка хрустнула, переломилась пополам и выпала из рук учительницы. — Я родителей твоих уже вызвала, сиди и молчи. Завтра попробуй не принести самостоятельную работу по теме, получишь два балла в аттестат!
— Я достану, Тамарпална, — полез рядом сидящий Синицын под стол. Достав половинку указки, он протянул её учительнице. Та, резко развернувшись на месте, и уверенно стуча каблуками по притихшему классу, вернулась к учительскому столу и, отодвинув стул, села.
Класс молчал.
Только Пахомов, тихо насвистывая, рассматривал замерзшие ветви деревьев за школьным окном. За окном сыпал мелкий снежок, было солнечно, морозно и так тянуло выбежать на улицу, выдохнуть теплым паром, потереть озябшие ладони, замотаться шарфом и бежать, бежать… навстречу солнцу, небу и будущему душистому лету…
Тамара Павловна отдышалась и снова пошла «в наступление».
— Ну, так и в чём, по-вашему, «духовная деградация героя»? В чём она выражается? Давай, Синицын, теперь твоя очередь…
— Духовная деградация, Тамарпална, это когда герою уже ничего не нужно, кроме работы и денег. Ни любовь, ни впечатления, ни книги, ни какие-то развлечения… Он живет один и… никому не нужен.
— А почему он никому не нужен? — Тамарпална показала огрызком указки на Голубева.
— Потому что он никому не сделал в этой жизни ничего хорошего, — сходу «выпалил» тот. — Эгоист!
— Правильно! Как Пахомов у нас. Эгоист, думает только о себе. И даже о родителях не думает. Мать как ни придет, плачет, а он… — Тапарпална грозно посмотрела на Пахомова.
— Ну, а что я? Ну вот зачем… зачем нам эти рассказы? Если тут нету ни одного положительного героя? — Пахомов привстал, чтобы его увидел весь класс. — Разве тут есть хоть один нормальный? Одни идиоты, что возьми семью Туркиных, или самого этого… Ионыча. Чего в этом рассказе хорошего?
— Пахомов, сядь. Нужно было отвечать, когда я спрашивала. А если есть вопросы, задавать будешь в конце урока. Сядь!
— Нет, ну Тамарпална, ну зачем тогда вообще вся эта дребедень нужна… эта литература? Что мне даст эта литература в жизни? Я понимаю, физика, математика, институт, специальность, профессия, а это — «Котик играет на рояле»… тьфу, зачем мы это проходим?
— Пахомов, если кого и коснулась духовная деградация, то это тебя, а не главного героя. Как ты не понимаешь, что литература утверждает лучшие человеческие качества и идеалы, заставляет сопереживать литературным героям, развивает наши чувства и делает нас более чуткими и тонкими. А ты… ты посмотри на себя!
— А что?
— То!
Пахомов как-то криво, но искренне улыбнулся, и оглядел весь класс, собирая аплодисменты. Класс в это время тихо покатывался со смеха. Ребятам было, в целом, все равно над чем смеяться, — они с радостью смеялись и над своими товарищами, и над учителями, и над ситуациями, которые происходили в классе. И не только в классе. Они вообще любили смеяться. Главное, чтобы источник смеха был всегда где-то рядом.
— Сядь, Пахомов и растворись в тумане. Я заканчиваю урок. Значит, ещё раз, для тех, кто страдает провалами в памяти, завтра приносим на литературу самостоятельную работу на тему, которую вы в начале урока записали в дневники. Да, Пахомов, записали?
— Да, записали.
— Те, кто напишет, будет допущен к тестированию по ЕГЭ. А тот, кто не напишет, будет мыть окна в классе.
— Я уже нашел, откуда списать, — Синицын шепотом показывал Голубеву под столом смартфон, открытый на нужной странице, — вот сайт в интернете, тут как раз про Ионыча.
— Ага, ссылку пришли.
— О`кей, пришлю.
— Так, класс, у кого есть задолженности по прошлым темам, подходим после уроков. К Пахомову это не относится, Пахомов будет подходить к директору. Завтра, не забудьте, вторым уроком — литература. Сразу после физкультуры. Литература, Соколов, слышишь, а не лит-ра!
— Да понял, Тамарпална, понял.
Прозвенел звонок и класс быстро опустел.
Через пять минут Тапарпална зашла в учительскую, незаметно сняла тесные туфли и устало опустилась на диван. За окном, казалось, трещали от мороза раскачиваемые ветром деревья, снег падал на подоконник и яркое, молочное солнце освещало внутренний двор школы.
«А мороз-то действительно крепчал», — вспомнила Тамара Павловна. Она на минутку задумалась, перед её мысленным взором быстро промелькнули муторные сессии в институте, нудные экзамены, жаркая летняя практика в далекой вологодской школе, первая влюбленность… горячий первый поцелуй на сеновале, вся молодость… как один миг! Всего лишь увлечение… Она вспомнила своего первого и единственного мужчину, с которым познакомилась в Вологде… Вспомнила его приставания и поездку к маме, вспомнила, как знакомила его с родственниками, как представляла его отцу… «А хорошо, что я не связалась... с этим обалдуем…» — подумала она.
«Жизнь, как один миг», — тихо повторила она и загрустила. Настроения не было ни до урока литературы, ни теперь, после...
Из папки с книгами и журналами выпал на стол огрызок указки. Она долго вертела его в руках, и, вдруг, сильно нажав двумя руками на остаток длинной палки, бывшей когда-то школьной указкой, переломила его ещё раз пополам. Губы её в тот момент сжались в каком-то нечеловеческом желании сделать эту палку еще короче.
— Что Пална, уже к четвергу достали? Вот… а завтра пятница… — устало и безнадежно пробормотал Михалыч, учитель физкультуры, просматривая какие-то бумаги.
— Да, не говори. Через неделю завуч поставила мне открытый урок, вот придёт... наша дура, чего я буду давать, даже не знаю…
— Ладно, Тамар, не грусти... Завтра зарплата будет… Сегодня, говорят, бухгалтерия уже рассчитала. — Михалыч распрямился, поднял глаза от бумаг, задумчиво посмотрел в окно и устало вздохнул.
А за окном действительно крепчал мороз.
— Так, где моя указка? — тяжело дыша, Тамара Павловна вернулась в учительскую. — Ну, где… кто видел мою указку?
— Да бросьте вы эти свои штучки… указки… — не выдержала Антонина Львовна, завуч школы, и, не поднимая глаз от школьных журналов, махнула рукой в сторону. — Идите уже на урок!
— Что вы, Антонинльвовна, это же… это как дирижер на концерте… я не могу без указки. А! Вот она! — Тамара Павловна сунула указку между книг и заторопилась в 10-ый «б», в котором вот-вот должен был начаться урок литературы. Перед входом в класс Тамара Павловна поправила волосы, переложила книги и журнал в левую руку и рывком открыла дверь.
— Так! Все сели, я говорю! Сели все! — резкий возглас Тамарпалны разорвал шумный гул 10-го «б». Ученики быстрыми прыжками заняли свои места в классе. Входная дверь за учительницей громко захлопнулась, и стопка книг вместе с классным журналом небрежно бухнулась на учительский стол.
Учительницу литературы Тамару Павловну Мирончук ученики звали очень коротко — Тамарпална. Короче сократить уже было нельзя. Нельзя сказать, что ученики особенно любили её. Ни литературу, ни другие предметы, ни особенно учителей в школе они вообще не любили. Проще было перечислить, что старшеклассники любили в своей школе — для этого было достаточно пальцев на руках: первое сентября, новогодний огонек, дискотеки, викторины, большую перемену, горячие пирожки в столовой, последний звонок и долгожданный выпускной. Остальное было обязательным и утомительным, но необходимым приложением к этому развлекательному школьному набору.
Каждый урок каждого учебного дня начинался с тянущегося, надрывного вздоха, проносящегося по классам. Вздох поднимался выше, сгущался и уплывал по коридору в физкультурный зал. Там он ещё долго висел под потолком, изредка взрываемый школьным мячом, затем уходил через щели в окна и плавно спускался на белый снег.
Тамарпална грузно опустилась на учительский стул, открыла журнал и надела очки.
— Сели, Печёнкин, я сказала! Сели и открыли свои дневники и сразу записываем домашнее задание. Повторяю, для забывчивых, домашнее задание на завтра: «Самостоятельная письменная работа на тему «Духовная деградация личности доктора Старцева в рассказе Чехова «Ионыч». Печёнкин, я сказала записываем! Неси сюда дневник, я посмотрю, что ты записал!
Уронив сумку, Вадик Печёнкин поднялся со стула, и, медленно подойдя к учительскому столу, протянул свой дневник. В графе напротив «Лит-ра» было написано два слова — «Духовная диградация».
Большую часть своей педагогической карьеры (через два года она собиралась отметить пятидесятилетний юбилей) Тамара Павловна вела литературу в школе, она имела весомый педагогический опыт работы со старшеклассниками! Она знала, что лучшее начало урока — строго и сразу поставить учеников на место и дальше спокойно работать по теме.
— Что за Лит-ра?
— Литература… м-м-м… так не влезает, Тамарпална!
— Не влезает, — передразнила учительница. – В твою голову, Печёнкин, литература никогда не влезет. Садись… Так. Сегодня мы обсуждаем рассказ Чехова «Ионыч», о котором я вчера вам рассказывала. Так, кто прочитал его и сможет нам рассказать суть произведения? — Тамарпална медленно встала из-за стола, взяла в руки привычную указку и направилась вглубь класса, оглядывая учеников.
Над классом медленно поднялась одна рука. Это была Лиза Болотова, отличница. Учительница по привычке ткнула указкой в парту Болотовой: «Давай, Болотова, с тебя начнем».
— Смотри, «Болото» опять впереди всех, — послышался шепот с третьей парты, за которой сидели крепкие «троешники» Гоша Синицын и Владик Голубев.
— Давай, Болотова, рассказывай ты, раз никто не помнит, о чем учитель вчера целый урок тут разорялась, — торжествующе произнесла Тамарпална, оглядев притихший класс.
— Основной линией рассказа является история несостоявшейся женитьбы Дмитрия Ионыча Старцева. Сама фамилия персонажа — Старцев, указывает нам на перспективу преждевременного старения души Ионыча… и…
— Так, хорошо Болотова. Молодец. Садись. Пять. Печёнкин, а что ты запомнил из вчерашнего урока? Расскажи нам, как ты понял рассказ Чехова, — Тамарпална и в этот раз ткнула указкой в парту ученика.
— А чего опять Печёнкин? — сидя промычал Вадик.
— Так, ты рассказ читал? Встань, когда с тобой учитель говорит!
— Ну читал, – Печёнкин нехотя встал.
— Ну… рассказывай!
— Ну он…
— Кто?
— Ну, главный герой…
— Как его зовут?
— Ну… а... этот… Ионыч!
— Ну, что... этот Ионыч? Что он за человек?
— Ну, Ионыч… он… это, он врачом работал… лечил… и деньги зарабатывал…. Ну, у него был роман с этой… Котиком… с девушкой из хорошей семьи. И они… — Печёнкин замолчал.
— Ну, что у них, сложились отношения? — подсказывала Тамара Павловна. Класс уже начинал мучительно и тихо хохотать.
— Ну, сложились… — Печёнкин опять замолчал, давя в себе смех.
— Так, Печёнкин, садись. Два. Мало того, что ты не учишь ничего, ты и на уроке не слушаешь.
— Я учил, Тамарпална! Учил я! — оправдывался Печёнкин.
— Ну раз учил, расскажи тогда в чём выражалось духовное падение главного героя?
Вадик опять встал, но молчал.
— Деньги, деньги пересчитывал… — раздался зловещий шепот со второй парты.
— Он, это… он деньги пересчитывал…
— Какие деньги, Печёнкин? К кому ездил в гости Старцев, в какую семью?
— К этим…, ну которые на роялях играли.
— Ну, ну… Почему я из тебя должна все это вытягивать? Ты что, двух слов на уроке литературы связать не в состоянии? Как ты будешь ЕГЭ сдавать, Печёнкин?
— А у него в ручке встроенный вай-фай с ответами из интернета, — послышался голос с «камчатки», с последней парты, за которой сидел долговязый Гоша Пахомов.
Класс взорвался хохотом. Тамарпална хлопнула указкой по ближайшей парте.
— Так, Пахомов, не срывай мне урок! Или выйдешь сейчас из класса! Тихо! Ну, Печёнкин, что ещё ты можешь вспомнить?
— Умри, несчастная! — сорвал очередной шквал хохота Пахомов.
— А, да, так смеялся там слуга у этих… в той семье… куда Ионыч ходил.
— Пахомов, ставлю тебе «два» в журнал и завтра с родителями к директору. Давай сюда дневник!
— А… это! Я его дома забыл!
— Завтра пусть родители приносят директору твой дневник.
— Ну, что Печёнкин, ты так и будешь молчать или слушать своих товарищей-идиотов?
— …
— Ну! Чего молчишь?
— … Я не молчу!
— Садись, изверг. У тебя выходит «три» в четверти, но как ты будешь писать ЕГЭ? Я не представляю...
Тамара Павловна подошла к учительскому столу, открыла журнал, перелистала несколько страниц и провела невидимой линией путь сверху страницы вниз, остановившись напротив фамилии «Журавлева».
— Так, Катя Журавлева продолжит. Что происходит с главным героем рассказа? Давай у доски, расскажи нам поподробнее.
Тонкая девушка с журавлиной фамилией грациозно прошла к доске, не спеша развернулась и, приняв позу модной актрисы с обложки журнала, начала литературный анализ:
— В рассказе «Ионыч» показана духовная деградация личности человека, который не интересуется ничем, кроме работы и денег. Еще в начале рассказа главный герой влюбляется в девушку из хорошей семьи, но она отвергает его любовь, потому что хочет стать актрисой.
— Журавлева тоже пойдет в актрисы! — послышался опять до боли знакомый голос Пахомова. — Котик! — артистично продолжал он забавлять класс. Класс уже тихо надрывался сквозь проступившие от смеха слезы.
— Пахомов, закрой рот или выйдешь из класса! — на этот раз грозно крикнула Тамарпална, замахав указкой.
— Всё, молчу Тамарпална. Молчу!
— Продолжай, Журавлева…
— Через несколько лет её мечта так и не осуществилась, и она возвращается в свой город и живет там с мамой. Настоящая актриса должна готовить себя заранее к своей профессии…
— Правильно, Журавлева. Вот, например, супруга Туркина, Вера Иосифовна, с молодости пишет романы. Помнишь, кстати, как начинался её роман, который она в начале повествования читает гостям?
— Не помню...
— Её рассказ начинался словами «Мороз крепчал…» А на самом деле в это время за окном было… — Тамарпална вопросительно посмотрела на Журавлеву, — за окном было… Лето, летний вечер, Журавлева! Так автор передает контраст между тем, что человек думает и что происходит на самом деле. Такой литературный прием называется контрастом и он говорит нам о том… О чем он говорит, Серов? Серов, не спи!
Ученик за четвертой партой, маленький и смешной Саша Серов подскочил, встряхнувшись ото сна.
— О том, что… — быстро выпалил он. — О том, что … мороз крепчал…
— Маразм крепчал! — «поправил» Пахомов и бурный смех, который невозможно было никуда спрятать, ни подавить, опять порвал класс.
— Пахомов, ещё одна такая выходка, ты будешь продолжать острить за дверью класса с двойкой в аттестате, — продолжала махать указкой Тамарпална.
— Всё, всё, Тамарпална!
— Болотова, так о чём говорит такой прием, применённый в рассказе?
— О том, что такой человек далек от действительности…
— Правильно, Болотова. — Усталый голос Тамарпалны стал ниже и суше. Дальше она начала произносить слова, как будто зачитывала что-то под диктовку. Многолетняя педагогическая практика подсказывала ей, что важные выводы говорить на уроке нужно медленно и четко, чтобы ученики прочувствовали «главную суть» урока, то есть произведения.
Она продолжала:
— Такие люди, как Туркины, живут своей обособленной, сытой, но скучной жизнью, и пытаются заполнить пустоту жизни хоть какими-нибудь увлечениями. Ранний Старцев, как рисует нам его Антон Павлович Чехов, ещё может увлекаться, он живой и интересный мужчина, но его чувства отвергаются. Помните, эту сцену, когда он обнимает Катю, целует её, но она отталкивает его, говорит «довольно» и убегает. Помните? — Тамарпална посмотрела куда-то в окно. — Ну, а на кого похож главный герой в конце рассказа? Как его описывает автор? А, Серов, не засыпай снова, я тебе не дам… Надо работать на уроке! — Тамарпална по привычке указала на парту ученика указкой, только в этот раз она мягко ткнула в спящую голову Саши Серова. Он снова встрепенулся и быстро встал:
— Я работаю, Тамарпална. Старцев в конце рассказа представляется каким-то… неприятным… человеком, он… тово… духовно деградировал.
— Ну, а что это значит?
— Ну, он ходит, смотрит квартиры… вкладывает деньги в недвижимость… так неприятно ходит.
— Что значит неприятно?
— Ну он тычет своей тростью в каждую дверь, не стесняясь людей…
— Да… правильно, Серов. — Тамарпална на секунду задумалась и переложила указку в левую руку. — А как Старцев теперь реагирует на воспоминания о былой любви, Журавлева? — Тамарпална развернулась вполоборота к другому ряду столов.
Журавлева медленно поднялась, поправила волосы и сказала:
— Старцев сказал: «А хорошо, что я тогда не женился». Подлец!
— Правильно, Журавлева! Ну, насчет подлеца я не совсем согласна...
— Да, ему подфартило, что он не женился на этой глупой актрисе, а то бы мучился всю жизнь… — опять привстал со своего места Пахомов.
Журавлева вдруг развернулась к Пахомову и резко выпалила:
— А он и так по жизни мучился от своего скверного и тупого характера!
— Ну… а так бы он маялся с ней. Как все мужики маются с вами… — Пахомов обреченно сел, класс вдруг затих и все посмотрели на Тамарпалну.
— Пахомов, что ты лезешь? Ты не знаешь рассказа, так и молчи! Сначала прочитай Чехова, потом рот открывай… — была неумолима в своем вердикте Журавлева.
— А чего там читать, скукотища?! Я пробежал краткое содержание и понял, что читать там нечего. Я лучше «Камедиклаб» посмотрю, там хоть поржать можно.
— Так, Пахомов, мы с тобой уже разобрались. Или нет? — Тамарпална грозно направилась к последней парте. Я тебе сколько раз буду говорить – не лезь! Не лезь, понял? — Тамарпална со всей силы хлопнула указкой по парте Пахомова, указка хрустнула, переломилась пополам и выпала из рук учительницы. — Я родителей твоих уже вызвала, сиди и молчи. Завтра попробуй не принести самостоятельную работу по теме, получишь два балла в аттестат!
— Я достану, Тамарпална, — полез рядом сидящий Синицын под стол. Достав половинку указки, он протянул её учительнице. Та, резко развернувшись на месте, и уверенно стуча каблуками по притихшему классу, вернулась к учительскому столу и, отодвинув стул, села.
Класс молчал.
Только Пахомов, тихо насвистывая, рассматривал замерзшие ветви деревьев за школьным окном. За окном сыпал мелкий снежок, было солнечно, морозно и так тянуло выбежать на улицу, выдохнуть теплым паром, потереть озябшие ладони, замотаться шарфом и бежать, бежать… навстречу солнцу, небу и будущему душистому лету…
Тамара Павловна отдышалась и снова пошла «в наступление».
— Ну, так и в чём, по-вашему, «духовная деградация героя»? В чём она выражается? Давай, Синицын, теперь твоя очередь…
— Духовная деградация, Тамарпална, это когда герою уже ничего не нужно, кроме работы и денег. Ни любовь, ни впечатления, ни книги, ни какие-то развлечения… Он живет один и… никому не нужен.
— А почему он никому не нужен? — Тамарпална показала огрызком указки на Голубева.
— Потому что он никому не сделал в этой жизни ничего хорошего, — сходу «выпалил» тот. — Эгоист!
— Правильно! Как Пахомов у нас. Эгоист, думает только о себе. И даже о родителях не думает. Мать как ни придет, плачет, а он… — Тапарпална грозно посмотрела на Пахомова.
— Ну, а что я? Ну вот зачем… зачем нам эти рассказы? Если тут нету ни одного положительного героя? — Пахомов привстал, чтобы его увидел весь класс. — Разве тут есть хоть один нормальный? Одни идиоты, что возьми семью Туркиных, или самого этого… Ионыча. Чего в этом рассказе хорошего?
— Пахомов, сядь. Нужно было отвечать, когда я спрашивала. А если есть вопросы, задавать будешь в конце урока. Сядь!
— Нет, ну Тамарпална, ну зачем тогда вообще вся эта дребедень нужна… эта литература? Что мне даст эта литература в жизни? Я понимаю, физика, математика, институт, специальность, профессия, а это — «Котик играет на рояле»… тьфу, зачем мы это проходим?
— Пахомов, если кого и коснулась духовная деградация, то это тебя, а не главного героя. Как ты не понимаешь, что литература утверждает лучшие человеческие качества и идеалы, заставляет сопереживать литературным героям, развивает наши чувства и делает нас более чуткими и тонкими. А ты… ты посмотри на себя!
— А что?
— То!
Пахомов как-то криво, но искренне улыбнулся, и оглядел весь класс, собирая аплодисменты. Класс в это время тихо покатывался со смеха. Ребятам было, в целом, все равно над чем смеяться, — они с радостью смеялись и над своими товарищами, и над учителями, и над ситуациями, которые происходили в классе. И не только в классе. Они вообще любили смеяться. Главное, чтобы источник смеха был всегда где-то рядом.
— Сядь, Пахомов и растворись в тумане. Я заканчиваю урок. Значит, ещё раз, для тех, кто страдает провалами в памяти, завтра приносим на литературу самостоятельную работу на тему, которую вы в начале урока записали в дневники. Да, Пахомов, записали?
— Да, записали.
— Те, кто напишет, будет допущен к тестированию по ЕГЭ. А тот, кто не напишет, будет мыть окна в классе.
— Я уже нашел, откуда списать, — Синицын шепотом показывал Голубеву под столом смартфон, открытый на нужной странице, — вот сайт в интернете, тут как раз про Ионыча.
— Ага, ссылку пришли.
— О`кей, пришлю.
— Так, класс, у кого есть задолженности по прошлым темам, подходим после уроков. К Пахомову это не относится, Пахомов будет подходить к директору. Завтра, не забудьте, вторым уроком — литература. Сразу после физкультуры. Литература, Соколов, слышишь, а не лит-ра!
— Да понял, Тамарпална, понял.
Прозвенел звонок и класс быстро опустел.
Через пять минут Тапарпална зашла в учительскую, незаметно сняла тесные туфли и устало опустилась на диван. За окном, казалось, трещали от мороза раскачиваемые ветром деревья, снег падал на подоконник и яркое, молочное солнце освещало внутренний двор школы.
«А мороз-то действительно крепчал», — вспомнила Тамара Павловна. Она на минутку задумалась, перед её мысленным взором быстро промелькнули муторные сессии в институте, нудные экзамены, жаркая летняя практика в далекой вологодской школе, первая влюбленность… горячий первый поцелуй на сеновале, вся молодость… как один миг! Всего лишь увлечение… Она вспомнила своего первого и единственного мужчину, с которым познакомилась в Вологде… Вспомнила его приставания и поездку к маме, вспомнила, как знакомила его с родственниками, как представляла его отцу… «А хорошо, что я не связалась... с этим обалдуем…» — подумала она.
«Жизнь, как один миг», — тихо повторила она и загрустила. Настроения не было ни до урока литературы, ни теперь, после...
Из папки с книгами и журналами выпал на стол огрызок указки. Она долго вертела его в руках, и, вдруг, сильно нажав двумя руками на остаток длинной палки, бывшей когда-то школьной указкой, переломила его ещё раз пополам. Губы её в тот момент сжались в каком-то нечеловеческом желании сделать эту палку еще короче.
— Что Пална, уже к четвергу достали? Вот… а завтра пятница… — устало и безнадежно пробормотал Михалыч, учитель физкультуры, просматривая какие-то бумаги.
— Да, не говори. Через неделю завуч поставила мне открытый урок, вот придёт... наша дура, чего я буду давать, даже не знаю…
— Ладно, Тамар, не грусти... Завтра зарплата будет… Сегодня, говорят, бухгалтерия уже рассчитала. — Михалыч распрямился, поднял глаза от бумаг, задумчиво посмотрел в окно и устало вздохнул.
А за окном действительно крепчал мороз.
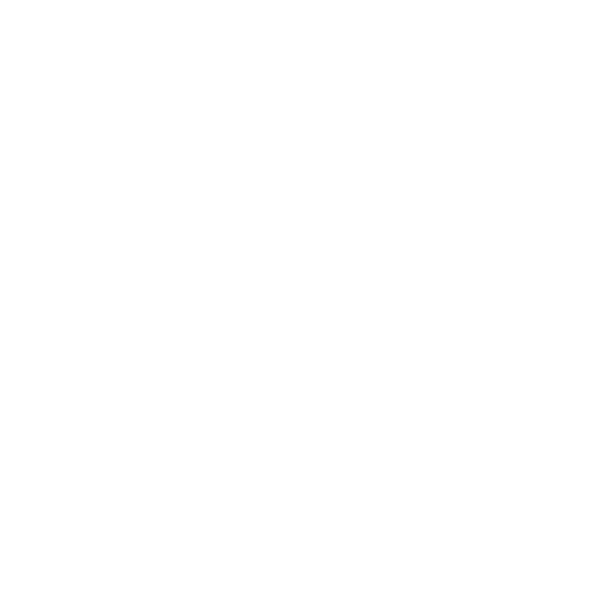
Наталия ЯЧЕИСТОВА
Родилась в Москве. Окончила МГИМО по специальности «международные экономические отношения». Кандидат экономических наук. В 2003-2006гг. работала Торговым представителем России в Нидерландах, где выпустила поэтический двуязычный сборник «Голландские изразцы \ Nederlandse Tegels» (издательство Het Spinhuis, Amsterdam). В 2007-2010 гг. работала в Пекине Директором проекта ООН по интеграции в Северо-Восточной Азии; по итогам выпустила сборник очерков и рассказов «Туманган». В 2014 издала сборник рассказов «В закоулках души», в 2016 – антиутопию «Остров Белых», в 2018 – фото-книги «Незнакомка в тумане» и «Мне мил Милан», в 2019 – сборник «Рассказы за чашкой чая». Окончила курсы литературного мастерства при Литературном Институте им. Горького. Публиковалась в журналах «Пражский Парнас», «Точки непостижимого», «Притяжение». Член ЛИТО «Точки» при Союзе писателей России. Член Союза писателей России.
Родилась в Москве. Окончила МГИМО по специальности «международные экономические отношения». Кандидат экономических наук. В 2003-2006гг. работала Торговым представителем России в Нидерландах, где выпустила поэтический двуязычный сборник «Голландские изразцы \ Nederlandse Tegels» (издательство Het Spinhuis, Amsterdam). В 2007-2010 гг. работала в Пекине Директором проекта ООН по интеграции в Северо-Восточной Азии; по итогам выпустила сборник очерков и рассказов «Туманган». В 2014 издала сборник рассказов «В закоулках души», в 2016 – антиутопию «Остров Белых», в 2018 – фото-книги «Незнакомка в тумане» и «Мне мил Милан», в 2019 – сборник «Рассказы за чашкой чая». Окончила курсы литературного мастерства при Литературном Институте им. Горького. Публиковалась в журналах «Пражский Парнас», «Точки непостижимого», «Притяжение». Член ЛИТО «Точки» при Союзе писателей России. Член Союза писателей России.
МОЛЧАНИЕ КАМНЯ
С террасы небольшого кафе, расположенного на каменистой возвышенности, открывался чудесный вид на бухту Solita с узкой полоской пляжа и неровной косой, уходящей далеко в море. Я обнаружила это место случайно: с главного променада сюда вела едва заметная, среди эвкалиптовых зарослей, тропа. Соответственно, и посетителей здесь оказалось немного. Я взяла себе за привычку приходить сюда по вечерам – почитать, выпить чашечку кофе, полюбоваться закатом.
Открытая терраса кафе представляла собой узкий балкон с выставленными в ряд, лицом к морю, диванами – зачехленными, заваленными подушками – и круглыми, на тонких резных ножках, столиками. Было в этой обстановке что-то чарующе несовременное, или, может, вневременное; похоже, в таких вот кафе в заграничных приморских городках сиживали некогда наши соотечественники – давным-давно, до войн и революций… В общем, приглянулось мне это место.
Вот и в тот вечер я устроилась на дальнем диванчике с книжкой. В кафе – никого; впереди, отражая первые проблески зари, простиралась бирюзовая гладь – на море царил полный штиль. Едва слышно звучала музыка.
Не успела я насладиться первыми глотками кофе, как вдруг послышались шаги, и у входа замаячили посетители – мужчина, женщина и девчушка лет пяти. С виду - русские. (За границей русский человек легко определит своего соотечественника по какой-то вселенской усталости, запечатленной в его движениях и взгляде). Вошедшие разместились неподалёку от меня – к счастью, не слишком близко. Я продолжила чтение, и всё же до моего слуха стали долетать отдельные фразы. (Это действительно оказались русские туристы).
Женщина позвала дочку, крутившуюся у стола:
– Катя, иди сюда! Смотри, – она протянула девочке меню с картинками, – будешь мороженное?
– Не-а, – послышалось в ответ. – Буду персиковый сок.
Девчонка – белобрысая, в ярко-розовых леггинсах и майке с надписью «Star-6» продолжала, как волчок, носиться по веранде.
Родители сделали заказ подошедшей официантке, после чего мать поймала за руку пробегавшую мимо дочку:
– Катя, персикового сока нет. Апельсиновый будешь?
– А почему нет персикового? – захныкала девочка, опускаясь на корточки.
Через некоторое время я скользнула взглядом в сторону родителей. Сидят, молча пьют кофе, глядя на море. Мужчине на вид лет сорок, высокий, худощавый. Породистая внешность. Порода, как известно, особенно заметна в профиль; так вот, у него профиль был отменный: прямой нос, высокие скулы, крепкий подбородок. Короткая стрижка ёжиком, на висках – чуть заметная седина. Одет в бриджи цвета хаки и белую рубашку, на ногах – кожаные сандалии. Сидит прямо, расправив плечи, сосредоточенно смотрит перед собой. Не иначе, какой-нибудь преуспевающий менеджер или начальник среднего звена. Она – дама с пышным формами, лет тридцати, в ладно сидящем, облегающем фигуру трикотажном платье с глубоким вырезом на спине. Темные, прямые волосы до плеч. Лицо без какого-либо выражения, с большими, широко раскрытыми – будто в постоянном удивлении – глазами.
– Чайки! – послышался снова звонкий детский голос. – Я хочу вниз, к морю!
– Катя, поправь сандалии, – напутствовал её отец.
Мать встала, взяла девочку за руку, нагнулась, поправила ей застёжки на сандалиях (при этом её зад широко округлился под мягкой тканью), и они начали спускаться по каменным ступеням к воде. Девочка резво бежала впереди, а мать с грациозностью львицы следовала за ней.
Я вновь взглянула на отца. Уставший, безучастный. Повторный брак? Да, скорее всего. Дело, видимо, было так (как оно в сущности и бывает обычно в случае повторных браков): работает он себе в каком-нибудь офисе, всё у него благополучно; хорошая зарплата, семья – жена, один или двое взрослых, или почти взрослых сыновей (дочерей), перспективная работа. Но вот в коллективе появляется она – молодая, спокойная, вызывающе красивая. Вот, они встречаются взглядом в первый раз – и этот взгляд длится чуть дольше, чем принято, таит в себе некий тайный вызов; он впечатлён её большими, по-детски широко раскрытыми глазами. Потом они снова и снова зацепляются взглядами при встрече, потом – её просьба подвести её до метро: сумка тяжелая. Случайное касание рук, жаркий поцелуй… Всё происходит быстро и неожиданно. Мучительный разговор с женой, стыд перед детьми и попытка успокоить себя: мол, взрослые уже. Скорый повторный брак, рождение дочери…
Мать с девочкой возвращаются и садятся на диван. Мать пьет воду из стакана. Гордая посадка головы, слегка насмешливая линия губ. Что ж, эта женщина может быть довольна: она своего добилась – интересный муж, ребёнок, отдых на заграничном курорте.
– Мам, я в туалет хочу.
Мать с дочерью встают и идут вдоль террасы к двери с указателем «WC». Отец тем временем достаёт портмоне, отсчитывает несколько купюр и кладёт их на стол, прижимая пепельницей.
Через несколько минут появляются мать с дочерью. Садятся, женщина принимается переплетать девочке растрепавшуюся косичку.
– Как чайки, не испугались тебя? – спрашивает отец, наклоняясь к дочке.
– Не-а, я им хлеба покрошила… А мы сегодня вечером на дискотеку пойдём?
– Ты опять танцевать хочешь? – спрашивает он, поглаживая дочку по голове.
Обычная семейка. И всё же, что-то не так. И тут до меня доходит: за всё время, что они тут находятся, родители не обмолвились друг с другом ни словом! Конечно, бывают ситуации, когда слова не нужны, но… Как заметил однажды кто-то, молчание моря всегда отличишь от молчания камня… Что ж, если подумать, то за шесть лет вполне возможен путь от влюблённости – через скуку и раздражение – к полной окаменелости чувств.
Отец встаёт и направляется в то заведение, откуда только что вернулись женщина с ребёнком. Когда он исчезает из виду, мать достает из сумки телефон и быстро-быстро скользит по экрану пальцами. Потом берет и девочку за руку, и они направляются к выходу.
Через некоторое время появляется отец – крутит головой в поисках своих. Кивком головы указываю ему, в какую сторону они ушли. Он едва заметно кивает в ответ.
Пройдя несколько шагов по галерее, он останавливается, поворачивается к морю и, скрестив на груди руки, некоторое время смотрит в задумчивости на слабое колыхание волн. Затем глубоко вздыхает и направляется дальше, к выходу.
ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА
После того, как Лера разошлась со своим голландским мужем, она не стала возвращаться в Россию, а осталась жить и работать в Амстердаме. К тому времени она уже три года проработала на местной солидной фирме, так что бросать хорошую работу и полюбившийся ей город она не видела смысла. Но вот, наступил финансовый кризис; в компании, где работала Лера, прошла реорганизация, и её должность сократили. Такое решение руководства удивило её, но не расстроило. «Не эта фирма, так другая», – подумала она и разослала своё резюме по ряду адресатов.
Лера была уверена в своей профессиональной востребованности: она уже имела опыт работы, знала языки, компьютерные программы, была ответственной и инициативной. Все эти замечательные качества нашли своё отражение в её резюме – но время шло, а дело не решалось. Лера расширила список адресатов и снова разослала своё резюме… Нельзя сказать, что результата не было вовсе – нет, ответы приходили, и некоторые даже вполне обнадёживающие. Несколько раз Леру приглашали на собеседования, которые, как ей казалось, проходили вполне успешно. Ей предлагали в виде теста написать краткие справки, дать ответы на некоторые каверзные вопросы, предложить варианты действий в непростых ситуациях – всё это она выполняла без труда, с удовольствием, осознавая безошибочность своих ответов. Тем не менее, приглашения на работу не следовало.
Через несколько месяцев бесплодных поисков Лера задумалась. Выходное пособие, выданное ей в компании, быстро таяло, нужны были деньги для достойной, привычной жизни в чужой стране. В то время Лера познакомилась в русской церкви с молодым весёлым греком, приехавшим в Амстердам на пару месяцев из Греции, где он помогал в каком-то монастыре. С Лерой они быстро сдружились. Как-то Лера сказала ему:
– Костас, помолись за меня, как следует: что-то никак не могу я работу найти. Вот во вторник снова на собеседование пойду.
– Помолюсь, конечно, – с готовностью ответил Костас. – Но и ты сама молись: «Господи, помоги!»
Во вторник Лера одела свой офисный костюм, тщательно причесалась, навела макияж, взяла папку с бумагами и отправилась по указанному в сообщении адресу. Профиль деятельности этой компании – управление финансовыми долгами – несколько смущал её, но выбирать уже особенно не приходилось.
Лера взглянула на карту и решила идти пешком – путь предстоял не слишком долгий, и ей хотелось прогуляться, чтобы еще раз прокрутить в голове возможный ход предстоящей беседы. Погода с утра стояла ясная. Ранняя весна щедро напоила улицы свежим прохладным воздухом. Первые посетители открытых кафе нежились в лучах яркого солнца. Но вот небо внезапно потемнело, невесть откуда налетела туча и спустя мгновение опрокинулась на землю проливным дождём. И, как часто случается в подобных ситуациях, зонта у Леры с собой не оказалось. Она юркнула под навес ближайшего магазина в надежде переждать короткий ливень. Но не тут-то было! Дождь только усиливался. И ни такси, ни трамваев! Взглянув на часы, Лера ахнула. «Лучше промокнуть, чем опоздать!» – подумала она и ринулась под ледяные струи.
За две минуты до назначенного времени она вбежала в офис, располагавшийся в темном двухэтажном здании, показавшемся ей мрачной крепостью в обрамлении туч. Заскочив в туалет, Лера успела отчасти привести себя в порядок: вытерла перед зеркалом расплывшуюся под глазами тушь, поправила волосы, подсушила феном пиджак. Но в туфлях хлюпало, с волос капало, на пиджаке остались темные разводы. Так вошла она в кабинет ответственного работника по кадрам.
Широкоплечая женщина, восседавшая за начальственным столом, смерила её недоуменным взглядом и кивком пригласила сесть. Лера опустилась в кожаное кресло и почувствовала под собой неприятный влажный холодок. Одежда прилипла к телу и казалась второй, сырой кожей. Ей хотелось встать, пройтись, чтобы побыстрее обсохнуть, но положение этого не позволяло. В кабинете на всю мощь работал кондиционер, вскоре Леру под струей холодного воздуха начал бить озноб; в горле першило. Хоть бы чаю горячего предложили! Но нет!
Кадровичка, полистав её бумаги, начала задавать вопросы, периодически бросая на Леру короткие взгляды. Лера чувствовала, что они находятся на разных волнах, и как ни старалась подстроиться под свою визави, ей этого не удавалось. Она понимала, что отвечает невпопад и производит совсем не то впечатление, которое требуется при приёме на работу. «Мокрая курица», – вот, что думала она про себя в тот момент. А ведь с утра выходила царевной-лебедью!
В конце концов, кадровичка, сдвинув брови, углубилась в Лерино досье. «Ага! Что-то, видно, всё же зацепило ее, – подумала Лера, поёживаясь. – Может, на это раз повезет…»
Но тут кадровичка, подавшись вперёд всем своим торсом, пробуравила Леру испытующим взглядом:
– А вы уверены, что это ваше резюме?
Это было уже чересчур! Лера поднялась, одернула юбку и направилась к выходу. Голландка протрубила ей вслед:
– К сожалению, мы не сможем вам ничего предложить!
Но это и так уже было ясно.
В очередное воскресенье, после службы в храме, Лера, увидев Костаса, пожаловалась ему:
– Костас, меня опять не взяли на работу. А ведь я просила тебя помолиться!
– Так я молился! – улыбнулся Костас. – Видишь, как хорошо!
– Ты не понял, – рассердилась Лера, – меня НЕ взяли на работу.
– Всё я понял. Но если и ты молилась, и я молился, а тебя всё-таки не взяли – значит, это не твоё место. Иначе какие были причины тебя не брать? Не беспокойся, найдёшь что-нибудь получше.
Лера с минуту удивлённо смотрела на него, потом сказала:
– Ладно, Костас, пойдем кофе пить.
Настроение у неё улучшилось.
И Костас, конечно же, оказался прав: вскоре Лера устроилась на работу в компанию, занимающуюся вполне конкретными и нужными вопросами. Располагалась она кстати в просторном светлом здании рядом с парком. И со своими новыми начальниками и подчиненными Лера ладила успешно.
Наверное, Костас и в Греции продолжал молиться за неё.
С террасы небольшого кафе, расположенного на каменистой возвышенности, открывался чудесный вид на бухту Solita с узкой полоской пляжа и неровной косой, уходящей далеко в море. Я обнаружила это место случайно: с главного променада сюда вела едва заметная, среди эвкалиптовых зарослей, тропа. Соответственно, и посетителей здесь оказалось немного. Я взяла себе за привычку приходить сюда по вечерам – почитать, выпить чашечку кофе, полюбоваться закатом.
Открытая терраса кафе представляла собой узкий балкон с выставленными в ряд, лицом к морю, диванами – зачехленными, заваленными подушками – и круглыми, на тонких резных ножках, столиками. Было в этой обстановке что-то чарующе несовременное, или, может, вневременное; похоже, в таких вот кафе в заграничных приморских городках сиживали некогда наши соотечественники – давным-давно, до войн и революций… В общем, приглянулось мне это место.
Вот и в тот вечер я устроилась на дальнем диванчике с книжкой. В кафе – никого; впереди, отражая первые проблески зари, простиралась бирюзовая гладь – на море царил полный штиль. Едва слышно звучала музыка.
Не успела я насладиться первыми глотками кофе, как вдруг послышались шаги, и у входа замаячили посетители – мужчина, женщина и девчушка лет пяти. С виду - русские. (За границей русский человек легко определит своего соотечественника по какой-то вселенской усталости, запечатленной в его движениях и взгляде). Вошедшие разместились неподалёку от меня – к счастью, не слишком близко. Я продолжила чтение, и всё же до моего слуха стали долетать отдельные фразы. (Это действительно оказались русские туристы).
Женщина позвала дочку, крутившуюся у стола:
– Катя, иди сюда! Смотри, – она протянула девочке меню с картинками, – будешь мороженное?
– Не-а, – послышалось в ответ. – Буду персиковый сок.
Девчонка – белобрысая, в ярко-розовых леггинсах и майке с надписью «Star-6» продолжала, как волчок, носиться по веранде.
Родители сделали заказ подошедшей официантке, после чего мать поймала за руку пробегавшую мимо дочку:
– Катя, персикового сока нет. Апельсиновый будешь?
– А почему нет персикового? – захныкала девочка, опускаясь на корточки.
Через некоторое время я скользнула взглядом в сторону родителей. Сидят, молча пьют кофе, глядя на море. Мужчине на вид лет сорок, высокий, худощавый. Породистая внешность. Порода, как известно, особенно заметна в профиль; так вот, у него профиль был отменный: прямой нос, высокие скулы, крепкий подбородок. Короткая стрижка ёжиком, на висках – чуть заметная седина. Одет в бриджи цвета хаки и белую рубашку, на ногах – кожаные сандалии. Сидит прямо, расправив плечи, сосредоточенно смотрит перед собой. Не иначе, какой-нибудь преуспевающий менеджер или начальник среднего звена. Она – дама с пышным формами, лет тридцати, в ладно сидящем, облегающем фигуру трикотажном платье с глубоким вырезом на спине. Темные, прямые волосы до плеч. Лицо без какого-либо выражения, с большими, широко раскрытыми – будто в постоянном удивлении – глазами.
– Чайки! – послышался снова звонкий детский голос. – Я хочу вниз, к морю!
– Катя, поправь сандалии, – напутствовал её отец.
Мать встала, взяла девочку за руку, нагнулась, поправила ей застёжки на сандалиях (при этом её зад широко округлился под мягкой тканью), и они начали спускаться по каменным ступеням к воде. Девочка резво бежала впереди, а мать с грациозностью львицы следовала за ней.
Я вновь взглянула на отца. Уставший, безучастный. Повторный брак? Да, скорее всего. Дело, видимо, было так (как оно в сущности и бывает обычно в случае повторных браков): работает он себе в каком-нибудь офисе, всё у него благополучно; хорошая зарплата, семья – жена, один или двое взрослых, или почти взрослых сыновей (дочерей), перспективная работа. Но вот в коллективе появляется она – молодая, спокойная, вызывающе красивая. Вот, они встречаются взглядом в первый раз – и этот взгляд длится чуть дольше, чем принято, таит в себе некий тайный вызов; он впечатлён её большими, по-детски широко раскрытыми глазами. Потом они снова и снова зацепляются взглядами при встрече, потом – её просьба подвести её до метро: сумка тяжелая. Случайное касание рук, жаркий поцелуй… Всё происходит быстро и неожиданно. Мучительный разговор с женой, стыд перед детьми и попытка успокоить себя: мол, взрослые уже. Скорый повторный брак, рождение дочери…
Мать с девочкой возвращаются и садятся на диван. Мать пьет воду из стакана. Гордая посадка головы, слегка насмешливая линия губ. Что ж, эта женщина может быть довольна: она своего добилась – интересный муж, ребёнок, отдых на заграничном курорте.
– Мам, я в туалет хочу.
Мать с дочерью встают и идут вдоль террасы к двери с указателем «WC». Отец тем временем достаёт портмоне, отсчитывает несколько купюр и кладёт их на стол, прижимая пепельницей.
Через несколько минут появляются мать с дочерью. Садятся, женщина принимается переплетать девочке растрепавшуюся косичку.
– Как чайки, не испугались тебя? – спрашивает отец, наклоняясь к дочке.
– Не-а, я им хлеба покрошила… А мы сегодня вечером на дискотеку пойдём?
– Ты опять танцевать хочешь? – спрашивает он, поглаживая дочку по голове.
Обычная семейка. И всё же, что-то не так. И тут до меня доходит: за всё время, что они тут находятся, родители не обмолвились друг с другом ни словом! Конечно, бывают ситуации, когда слова не нужны, но… Как заметил однажды кто-то, молчание моря всегда отличишь от молчания камня… Что ж, если подумать, то за шесть лет вполне возможен путь от влюблённости – через скуку и раздражение – к полной окаменелости чувств.
Отец встаёт и направляется в то заведение, откуда только что вернулись женщина с ребёнком. Когда он исчезает из виду, мать достает из сумки телефон и быстро-быстро скользит по экрану пальцами. Потом берет и девочку за руку, и они направляются к выходу.
Через некоторое время появляется отец – крутит головой в поисках своих. Кивком головы указываю ему, в какую сторону они ушли. Он едва заметно кивает в ответ.
Пройдя несколько шагов по галерее, он останавливается, поворачивается к морю и, скрестив на груди руки, некоторое время смотрит в задумчивости на слабое колыхание волн. Затем глубоко вздыхает и направляется дальше, к выходу.
ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА
После того, как Лера разошлась со своим голландским мужем, она не стала возвращаться в Россию, а осталась жить и работать в Амстердаме. К тому времени она уже три года проработала на местной солидной фирме, так что бросать хорошую работу и полюбившийся ей город она не видела смысла. Но вот, наступил финансовый кризис; в компании, где работала Лера, прошла реорганизация, и её должность сократили. Такое решение руководства удивило её, но не расстроило. «Не эта фирма, так другая», – подумала она и разослала своё резюме по ряду адресатов.
Лера была уверена в своей профессиональной востребованности: она уже имела опыт работы, знала языки, компьютерные программы, была ответственной и инициативной. Все эти замечательные качества нашли своё отражение в её резюме – но время шло, а дело не решалось. Лера расширила список адресатов и снова разослала своё резюме… Нельзя сказать, что результата не было вовсе – нет, ответы приходили, и некоторые даже вполне обнадёживающие. Несколько раз Леру приглашали на собеседования, которые, как ей казалось, проходили вполне успешно. Ей предлагали в виде теста написать краткие справки, дать ответы на некоторые каверзные вопросы, предложить варианты действий в непростых ситуациях – всё это она выполняла без труда, с удовольствием, осознавая безошибочность своих ответов. Тем не менее, приглашения на работу не следовало.
Через несколько месяцев бесплодных поисков Лера задумалась. Выходное пособие, выданное ей в компании, быстро таяло, нужны были деньги для достойной, привычной жизни в чужой стране. В то время Лера познакомилась в русской церкви с молодым весёлым греком, приехавшим в Амстердам на пару месяцев из Греции, где он помогал в каком-то монастыре. С Лерой они быстро сдружились. Как-то Лера сказала ему:
– Костас, помолись за меня, как следует: что-то никак не могу я работу найти. Вот во вторник снова на собеседование пойду.
– Помолюсь, конечно, – с готовностью ответил Костас. – Но и ты сама молись: «Господи, помоги!»
Во вторник Лера одела свой офисный костюм, тщательно причесалась, навела макияж, взяла папку с бумагами и отправилась по указанному в сообщении адресу. Профиль деятельности этой компании – управление финансовыми долгами – несколько смущал её, но выбирать уже особенно не приходилось.
Лера взглянула на карту и решила идти пешком – путь предстоял не слишком долгий, и ей хотелось прогуляться, чтобы еще раз прокрутить в голове возможный ход предстоящей беседы. Погода с утра стояла ясная. Ранняя весна щедро напоила улицы свежим прохладным воздухом. Первые посетители открытых кафе нежились в лучах яркого солнца. Но вот небо внезапно потемнело, невесть откуда налетела туча и спустя мгновение опрокинулась на землю проливным дождём. И, как часто случается в подобных ситуациях, зонта у Леры с собой не оказалось. Она юркнула под навес ближайшего магазина в надежде переждать короткий ливень. Но не тут-то было! Дождь только усиливался. И ни такси, ни трамваев! Взглянув на часы, Лера ахнула. «Лучше промокнуть, чем опоздать!» – подумала она и ринулась под ледяные струи.
За две минуты до назначенного времени она вбежала в офис, располагавшийся в темном двухэтажном здании, показавшемся ей мрачной крепостью в обрамлении туч. Заскочив в туалет, Лера успела отчасти привести себя в порядок: вытерла перед зеркалом расплывшуюся под глазами тушь, поправила волосы, подсушила феном пиджак. Но в туфлях хлюпало, с волос капало, на пиджаке остались темные разводы. Так вошла она в кабинет ответственного работника по кадрам.
Широкоплечая женщина, восседавшая за начальственным столом, смерила её недоуменным взглядом и кивком пригласила сесть. Лера опустилась в кожаное кресло и почувствовала под собой неприятный влажный холодок. Одежда прилипла к телу и казалась второй, сырой кожей. Ей хотелось встать, пройтись, чтобы побыстрее обсохнуть, но положение этого не позволяло. В кабинете на всю мощь работал кондиционер, вскоре Леру под струей холодного воздуха начал бить озноб; в горле першило. Хоть бы чаю горячего предложили! Но нет!
Кадровичка, полистав её бумаги, начала задавать вопросы, периодически бросая на Леру короткие взгляды. Лера чувствовала, что они находятся на разных волнах, и как ни старалась подстроиться под свою визави, ей этого не удавалось. Она понимала, что отвечает невпопад и производит совсем не то впечатление, которое требуется при приёме на работу. «Мокрая курица», – вот, что думала она про себя в тот момент. А ведь с утра выходила царевной-лебедью!
В конце концов, кадровичка, сдвинув брови, углубилась в Лерино досье. «Ага! Что-то, видно, всё же зацепило ее, – подумала Лера, поёживаясь. – Может, на это раз повезет…»
Но тут кадровичка, подавшись вперёд всем своим торсом, пробуравила Леру испытующим взглядом:
– А вы уверены, что это ваше резюме?
Это было уже чересчур! Лера поднялась, одернула юбку и направилась к выходу. Голландка протрубила ей вслед:
– К сожалению, мы не сможем вам ничего предложить!
Но это и так уже было ясно.
В очередное воскресенье, после службы в храме, Лера, увидев Костаса, пожаловалась ему:
– Костас, меня опять не взяли на работу. А ведь я просила тебя помолиться!
– Так я молился! – улыбнулся Костас. – Видишь, как хорошо!
– Ты не понял, – рассердилась Лера, – меня НЕ взяли на работу.
– Всё я понял. Но если и ты молилась, и я молился, а тебя всё-таки не взяли – значит, это не твоё место. Иначе какие были причины тебя не брать? Не беспокойся, найдёшь что-нибудь получше.
Лера с минуту удивлённо смотрела на него, потом сказала:
– Ладно, Костас, пойдем кофе пить.
Настроение у неё улучшилось.
И Костас, конечно же, оказался прав: вскоре Лера устроилась на работу в компанию, занимающуюся вполне конкретными и нужными вопросами. Располагалась она кстати в просторном светлом здании рядом с парком. И со своими новыми начальниками и подчиненными Лера ладила успешно.
Наверное, Костас и в Греции продолжал молиться за неё.
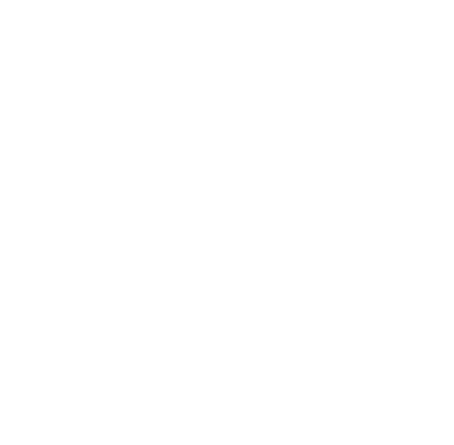
Бориславна ГАГАРИНА
Родилась в г. Киров, там же окончила факультет физвоспитания педагогического института (КГПИ). Большую часть жизни провела в г. Вятские Поляны Кировской области, работая детским тренером и педагогом дополнительного образования.
С 2014 года живу в г. Мытищи.
С 2015 года стала писать на «Prozа.ru» (Бориславна Агарина). С 2016 – член ЛИТО имени Дм.Кедрина. Пишу рассказы для взрослых и сказки для детей. Есть публикации в сборнике «Волшебные верфи» и альманахе «Кедринцы».
Родилась в г. Киров, там же окончила факультет физвоспитания педагогического института (КГПИ). Большую часть жизни провела в г. Вятские Поляны Кировской области, работая детским тренером и педагогом дополнительного образования.
С 2014 года живу в г. Мытищи.
С 2015 года стала писать на «Prozа.ru» (Бориславна Агарина). С 2016 – член ЛИТО имени Дм.Кедрина. Пишу рассказы для взрослых и сказки для детей. Есть публикации в сборнике «Волшебные верфи» и альманахе «Кедринцы».
КИСЛЯТИНА
Что ни говори, а Даша прекрасно сосуществовала с коробкой сухого итальянского вина. Несмотря на то, что оно было кислое – не зря же его продавали по акции. Одну маленькую рюмку можно было выпить, но от второй начинала болеть голова. Всё-таки пища была вкуснее, обед веселее. На рынке случайно был куплен виноград, который хорошо сочетался со вкусом вина. Хотя виноград был белый, а вино – красное.
Домохозяйка Даша ждала мужа из командировки, чтобы пожаловаться Олегу на вино, а затем использовать «кислятину» для тушения мяса, но коробка потихоньку пустела.
Утром из холодильника, пока Даша доставала сыр, масло и лимон, пышная темноволосая женщина с картинки на коробке радостно делала ручкой:
– Buon Giorno! Бон джорно! Доброе утро!
Дарья мужественно отворачивалась. В обед вино было как нельзя кстати. Красная коробка с весёлой дамой на фоне виноградника напоминала: в Средиземноморье в обед традиционно выпивают бокал вина. И ещё Даша сегодня (как, впрочем, и всегда) не за рулём. Она чувствовала себя надёжнее, когда машину водил муж.
Вечером тугая матовая гроздь винограда, свешиваясь из вазы, подмигивала: закусить ягодами рюмочку сухого на ночь не повредит, а только улучшит сон.
Бороться с соблазном в таких гомеопатических дозах не стоило.
Сегодня, наконец-таки, приехал муж. Перед ужином, встряхнув пустую коробку, Даша бросила её в мусорное ведро. «Увидимся!» – кувыркнувшись, махнула рукой на прощанье мигнувшая чёрным глазом соблазнительница. На вопросительный взгляд Олега жена коротко объяснила:
– Фу! Кислятина!
У Даши был золотой муж. Он понимающе улыбнулся и нежно обнял её:
– Скучала без меня?
– Да.
– Вот жизнь у тебя была кислой! Собирайся. Поужинаем в ресторане. Будем пить хорошее вино.
Даша обхватила ладонями любимое лицо и заглянула в смеющиеся глаза:
– Зачем? Зачем это нужно? Поужинаем дома. Сегодня я буду пьяной от тебя.
– Согласен. Я тоже.
Супруги поцеловались и, касаясь друг друга плечами, вместе стали готовить праздничный ужин.
Через неделю Олег снова уедет в по своим вечно «важным и неотложным делам», оставив жене бутылку дорогого вина. «Чтобы не было скучно».
А спустя несколько лет в солнечный сентябрьский день по тропинке, устланной золотыми монетками берёзовых, серебряными рыбками ивовых, розовыми ладошками кленовых листьев Дарья будет катить красивую детскую коляску. Вдруг какая-то знакомая картинка мелькнёт за мутным стеклом придорожного киоска. С красной картонной коробки пристально посмотрит пышная темноволосая женщина и как будто качнёт рукой. Из коляски донесётся резкий крик, похожий на кошачье мяуканье. Даша вздрогнет, приподнимет край голубой воздушной занавески, скрывающей ребёнка от посторонних. Его плоское узкоглазое личико с раздвоенной верхней губой («фетальный алкогольный синдром» – шёпотом скажет медсестре при первом осмотре младенца педиатр) недовольно, кисло искривится и снова громко мяукнет. Молодая мать опустит занавеску, толкнёт коляску и торопливо покатит прочь, чувствуя, как спину жжёт осуждающий взгляд чёрных глаз.
МУХА-ДОМОВУХА
Осень началась сразу с холода. С такого холодного холода, что все насекомые попрятались, а птицы заторопились на юг. Через пару недель пришло тёплое бабье лето. В квартире даже открыли окна. Сейчас же залетела обычная серая муха. Стала назойливо кружить, лезть везде ногами: на стол, на хлеб; садиться на головы. Вся семья гоняла наглую надоедливую гостью, кидались тапками и махались полотенцами:
– Пошла вон, муха-домовуха!
Наконец она забилась куда-то в щель, оставив в покое домочадцев, и про неё забыли.
Зима затянулась. До середины марта снег не таял, дул ледяной ветер. Дни стояли серые, скучные. И вдруг чуть слышно на кухне зажужжало. Среди комнатных растений на подоконнике обнаружилась муха.
– Муха! Смотрите, Домовуха! – вся семья собралась у окна.
– Дайте ей поесть! Она всю зиму не ела! – перед ней выложили хлеб, кружок колбасы, конфету. Скорее всего, муха была девочкой, потому что сразу подползла к карамельке и присосалась хоботком.
– Пить ей дайте! – перед гостьей капнули воды.
Три дня муха жила в заботе, среди комнатных цветов. Ей радовались, давали кусочки котлет и медовую воду. На четвёртые сутки погода разыгралась. Солнце шпарило по-весеннему, пожирая снег, звеня плачущими сосульками. Открыли настежь форточку и муха вылетела наружу, уселась рядом с остатками тающего на подоконнике снега дышать свежим воздухом.
– Вот теперь настоящая весна! С мухами и солнцем! – сказал глава семейства и захлопнул форточку.
– Открой! Наша мушка Домовушка замёрзнет! – заголосили домочадцы. Но муха так не решила. Она не спеша почистилась и полетела в свою новую жизнь, навстречу весне.
Весной уже не нужен тот, кто отмахивался от тебя осенью.
РОЖДЕНИЕ
Девочка просилась в мир. Она уже несколько часов толкала ручками и ножками мягкие стены, ища выход. Стены упруго сжимались и разжимались, стремясь избавиться от беспокойного жильца. Снаружи доносились голоса:
– Дыши! Ещё! Тужься! Ещё!
Макушке вдруг стало холодно.
– Молодец! Идёт! Идёт! Ещё!
Вокруг посветлело. «Это я иду?» Тельце сжали сильные мышщы.
– Что ты делаешь? Задушишь ребёнка! Расслабься! Стоп… Давай!
– А-а!
Совсем похолодало, зато всё свободно. Можно свободно шевелиться, ни за что не задевая. Живот коротко резануло.
– Вот и всё. Поздравляю! Девочка!
– Сама знаю. И зовут Богданилиалина. Мама говорила, – проворчала про себя девочка. А вслух крикнула:
– Уа! Уа! Холодно!
Сама себе удивилась. Раньше кричать не получалось. Тело омыла жидкость – не такая тёплая, но и не такая липкая, как раньше. Кто-то завернул девочку в сухое и чистое. Уже лучше.
– Ну, смотри!
Кто? Куда? Чьё-то милое лицо навстречу, знакомый голос. Это мама!
– Крошка моя! Красавица!
Вокруг белый свет, громкий звук, движущиеся тени. Слишком, слишком много всего. Устала, лучше поспать. Всё потом. Интервью потом.
Новорождённая в первый раз зевнула и уснула.
Что ни говори, а Даша прекрасно сосуществовала с коробкой сухого итальянского вина. Несмотря на то, что оно было кислое – не зря же его продавали по акции. Одну маленькую рюмку можно было выпить, но от второй начинала болеть голова. Всё-таки пища была вкуснее, обед веселее. На рынке случайно был куплен виноград, который хорошо сочетался со вкусом вина. Хотя виноград был белый, а вино – красное.
Домохозяйка Даша ждала мужа из командировки, чтобы пожаловаться Олегу на вино, а затем использовать «кислятину» для тушения мяса, но коробка потихоньку пустела.
Утром из холодильника, пока Даша доставала сыр, масло и лимон, пышная темноволосая женщина с картинки на коробке радостно делала ручкой:
– Buon Giorno! Бон джорно! Доброе утро!
Дарья мужественно отворачивалась. В обед вино было как нельзя кстати. Красная коробка с весёлой дамой на фоне виноградника напоминала: в Средиземноморье в обед традиционно выпивают бокал вина. И ещё Даша сегодня (как, впрочем, и всегда) не за рулём. Она чувствовала себя надёжнее, когда машину водил муж.
Вечером тугая матовая гроздь винограда, свешиваясь из вазы, подмигивала: закусить ягодами рюмочку сухого на ночь не повредит, а только улучшит сон.
Бороться с соблазном в таких гомеопатических дозах не стоило.
Сегодня, наконец-таки, приехал муж. Перед ужином, встряхнув пустую коробку, Даша бросила её в мусорное ведро. «Увидимся!» – кувыркнувшись, махнула рукой на прощанье мигнувшая чёрным глазом соблазнительница. На вопросительный взгляд Олега жена коротко объяснила:
– Фу! Кислятина!
У Даши был золотой муж. Он понимающе улыбнулся и нежно обнял её:
– Скучала без меня?
– Да.
– Вот жизнь у тебя была кислой! Собирайся. Поужинаем в ресторане. Будем пить хорошее вино.
Даша обхватила ладонями любимое лицо и заглянула в смеющиеся глаза:
– Зачем? Зачем это нужно? Поужинаем дома. Сегодня я буду пьяной от тебя.
– Согласен. Я тоже.
Супруги поцеловались и, касаясь друг друга плечами, вместе стали готовить праздничный ужин.
Через неделю Олег снова уедет в по своим вечно «важным и неотложным делам», оставив жене бутылку дорогого вина. «Чтобы не было скучно».
А спустя несколько лет в солнечный сентябрьский день по тропинке, устланной золотыми монетками берёзовых, серебряными рыбками ивовых, розовыми ладошками кленовых листьев Дарья будет катить красивую детскую коляску. Вдруг какая-то знакомая картинка мелькнёт за мутным стеклом придорожного киоска. С красной картонной коробки пристально посмотрит пышная темноволосая женщина и как будто качнёт рукой. Из коляски донесётся резкий крик, похожий на кошачье мяуканье. Даша вздрогнет, приподнимет край голубой воздушной занавески, скрывающей ребёнка от посторонних. Его плоское узкоглазое личико с раздвоенной верхней губой («фетальный алкогольный синдром» – шёпотом скажет медсестре при первом осмотре младенца педиатр) недовольно, кисло искривится и снова громко мяукнет. Молодая мать опустит занавеску, толкнёт коляску и торопливо покатит прочь, чувствуя, как спину жжёт осуждающий взгляд чёрных глаз.
МУХА-ДОМОВУХА
Осень началась сразу с холода. С такого холодного холода, что все насекомые попрятались, а птицы заторопились на юг. Через пару недель пришло тёплое бабье лето. В квартире даже открыли окна. Сейчас же залетела обычная серая муха. Стала назойливо кружить, лезть везде ногами: на стол, на хлеб; садиться на головы. Вся семья гоняла наглую надоедливую гостью, кидались тапками и махались полотенцами:
– Пошла вон, муха-домовуха!
Наконец она забилась куда-то в щель, оставив в покое домочадцев, и про неё забыли.
Зима затянулась. До середины марта снег не таял, дул ледяной ветер. Дни стояли серые, скучные. И вдруг чуть слышно на кухне зажужжало. Среди комнатных растений на подоконнике обнаружилась муха.
– Муха! Смотрите, Домовуха! – вся семья собралась у окна.
– Дайте ей поесть! Она всю зиму не ела! – перед ней выложили хлеб, кружок колбасы, конфету. Скорее всего, муха была девочкой, потому что сразу подползла к карамельке и присосалась хоботком.
– Пить ей дайте! – перед гостьей капнули воды.
Три дня муха жила в заботе, среди комнатных цветов. Ей радовались, давали кусочки котлет и медовую воду. На четвёртые сутки погода разыгралась. Солнце шпарило по-весеннему, пожирая снег, звеня плачущими сосульками. Открыли настежь форточку и муха вылетела наружу, уселась рядом с остатками тающего на подоконнике снега дышать свежим воздухом.
– Вот теперь настоящая весна! С мухами и солнцем! – сказал глава семейства и захлопнул форточку.
– Открой! Наша мушка Домовушка замёрзнет! – заголосили домочадцы. Но муха так не решила. Она не спеша почистилась и полетела в свою новую жизнь, навстречу весне.
Весной уже не нужен тот, кто отмахивался от тебя осенью.
РОЖДЕНИЕ
Девочка просилась в мир. Она уже несколько часов толкала ручками и ножками мягкие стены, ища выход. Стены упруго сжимались и разжимались, стремясь избавиться от беспокойного жильца. Снаружи доносились голоса:
– Дыши! Ещё! Тужься! Ещё!
Макушке вдруг стало холодно.
– Молодец! Идёт! Идёт! Ещё!
Вокруг посветлело. «Это я иду?» Тельце сжали сильные мышщы.
– Что ты делаешь? Задушишь ребёнка! Расслабься! Стоп… Давай!
– А-а!
Совсем похолодало, зато всё свободно. Можно свободно шевелиться, ни за что не задевая. Живот коротко резануло.
– Вот и всё. Поздравляю! Девочка!
– Сама знаю. И зовут Богданилиалина. Мама говорила, – проворчала про себя девочка. А вслух крикнула:
– Уа! Уа! Холодно!
Сама себе удивилась. Раньше кричать не получалось. Тело омыла жидкость – не такая тёплая, но и не такая липкая, как раньше. Кто-то завернул девочку в сухое и чистое. Уже лучше.
– Ну, смотри!
Кто? Куда? Чьё-то милое лицо навстречу, знакомый голос. Это мама!
– Крошка моя! Красавица!
Вокруг белый свет, громкий звук, движущиеся тени. Слишком, слишком много всего. Устала, лучше поспать. Всё потом. Интервью потом.
Новорождённая в первый раз зевнула и уснула.
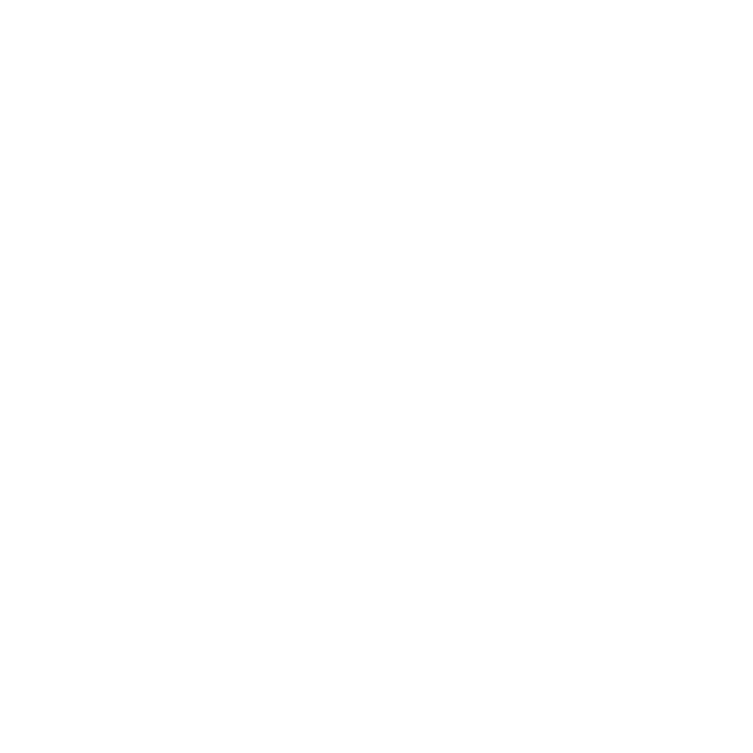
Дарья ЩЕДРИНА
Родилась в Ленинграде. Закончила в 1991 г. 1-ый ЛМИ им. И.П.Павлова, затем Санкт-Петербургский институт гештальта. По специальности врач и психолог. Работает врачом, живет в Санкт-Петербурге. Долгие годы писала «в стол», не решалась показать кому-нибудь свое творчество. В 2015 г. судьба свела Дарью с писателем, членом РСП Родченковой Е.А. Именно ей она и показала свои рассказы, которые неожиданно понравились. С тех пор – активно публикуется.
С 2017 г. является членом Союза Писателей России. За это время вышли в свет несколько книг автора: повести о любви «Звездное озеро» и «Недоразумение», роман в стиле фэнтези «Сокровище волхвов», психологические триллеры «Убить Еву» и «Черный квадрат Казимира» и два сборника рассказов.
ВКонтакте: vk.com/id458226055
Проза.ру: proza.ru/avtor/daryona67
Родилась в Ленинграде. Закончила в 1991 г. 1-ый ЛМИ им. И.П.Павлова, затем Санкт-Петербургский институт гештальта. По специальности врач и психолог. Работает врачом, живет в Санкт-Петербурге. Долгие годы писала «в стол», не решалась показать кому-нибудь свое творчество. В 2015 г. судьба свела Дарью с писателем, членом РСП Родченковой Е.А. Именно ей она и показала свои рассказы, которые неожиданно понравились. С тех пор – активно публикуется.
С 2017 г. является членом Союза Писателей России. За это время вышли в свет несколько книг автора: повести о любви «Звездное озеро» и «Недоразумение», роман в стиле фэнтези «Сокровище волхвов», психологические триллеры «Убить Еву» и «Черный квадрат Казимира» и два сборника рассказов.
ВКонтакте: vk.com/id458226055
Проза.ру: proza.ru/avtor/daryona67
НА ОСЕННЕМ ШОССЕ
Леночка выпорхнула из машины и, элегантно процокав каблучками к своему подъезду, остановилась и послала ему воздушный поцелуй. В следующую секунду чаровница исчезла за закрывшейся дверью.
Виктор улыбнулся и вздохнул с легкой грустью. Ах, какая женщина! И откуда только такие берутся? С тех пор, как в их офисе появилась новая сотрудница, как будто внезапно поменялось время года. За окнами поздняя осень моросила серыми дождями, пятная тротуары грязными обрывками желтых листьев. А внутри благоухала весна ароматом ее легких духов, наполняя скучные коридоры звуками ее нежного голоса, звонкого смеха, освещая безликое пространство офиса светом ее улыбки.
Виктор повернул руль и медленно тронул машину мимо плотно припаркованных легковушек, оккупировавших и без того тесный двор. Впереди был долгий путь домой сквозь вечерние пробки. Но он даже был рад традиционному затруднению движения в это время. Можно было без помех помечтать под тихую музыку из динамика о Леночке.
Объективности ради надо признать, что писаной красавицей Леночка не была. Но ведь понятие красоты очень относительно! Худенькая, хрупкая, с неправильными чертами лица. Но улыбка ярко накрашенных губ так манила, а взгляд серых глаз обещал так много, что при взгляде на нее невольно замирало сердце. И как она умудрялась выглядеть так сексуально в строгом деловом костюме? Ни тебе глубокого декольте, ни голых коленок под коротким подолом, а у тебя в животе что-то сладко сжимается, когда ты провожаешь взглядом ее стройную фигурку, идущую по коридору и плавно покачивающую бедрами. Не то что его Валентина в своем вечном плюшевом спортивном костюме!
Виктор вырулил на проспект и влился в плотный поток автомобилей, медленно текущий по магистрали, как вязкая кровь по вене. От мысли о жене сразу испортилось настроение. Ох, уж этот плюшевый спортивный костюм! Да еще и отвратительного малинового цвета. Он давно не обращал внимания на отсутствие макияжа и прически, бог с ними! Но малиновый костюм неизменно раздражал. А чем именно, он и сам понять не мог. Может быть вопиющей безвкусицей? Может быть полным отсутствием этой самой сексуальности? А чего ты хотел после двадцати лет совместной жизни?
Глянув в зеркало заднего вида, он заметил синие всполохи машины «скорой помощи». Пришлось сдвигаться вправо, вклиниваясь между «опелем» и «маздой» с недовольным водителем за рулем, уступая дорогу «скорой». Он конечно понимал, что где-то случилась беда и «скорая» спешит на помощь, но все равно злился, маневрируя и отодвигаясь из левого ряда. Любая помеха, отвлекающая от полета мечтаний о Леночке, злила и раздражала, словно он был не взрослым мужчиной за сорок, а маленьким ребенком, у которого отбирали любимую игрушку.
Мысли опять вернулись к Валентине и ее дурацкому костюму. В последние годы жена пополнела, меньше стала уделять себе внимания. Заботы о детях, о доме заполнили всю ее жизнь. Ни книжку умную почитать, ни в театр сходить, ни на выставку. Даже на общих друзей времени не хватает. Превратилась в какую-то курицу-наседку! А вот Леночка – интеллектуалка! С ней разговаривать на умные темы – одно удовольствие.
Он вспомнил, как во время обеденного перерыва он с интересом слушал в компании сотрудников ее размышления о современном искусстве. Потрясающе! Она еще и умна, а кругозор какой! Восторг и восхищение новой сотрудницей подталкивали Виктора к пока еще отвлеченным мечтаниям о дальнейшем развитии отношений. Сегодня же он подвез ее домой и даже заработал воздушный поцелуй. Следующим шагом, по идее, должна стать чашечка кофе в ближайшем кафе после работы. А там…
Виктор нажал на педаль тормоза. Ну что там еще случилось? Впереди на шоссе хмурый осенний вечер был пронизан красными гирляндами тормозных огней, уходящими в бесконечность. Опять встали. Черт бы побрал эти пробки!
В последние годы Валя даже книжки читать перестала, утверждала, что сил на них не хватает. Но на тупые телесериалы же хватает! Уткнется в экран и сочувственно вздыхает, глядя на экранную любовь, даже слезу пустить может. Он как-то пытался выяснить, что она находит в этой любовной дребедени? Оказалось, придуманная любовь на экране ее утешает. Чушь какая-то!
И еще эта дача… Дача принадлежала теще, но почему-то основной рабочей силой стал именно он, Виктор. То грядку вскопай, то траву покоси! И попробуй скажи, что устал и не хочешь ехать на дачу. Сразу смертная обида. Дачное рабство какое-то.
Устал он, устал от однообразия и скуки семейной жизни. И от мысли о том, что впереди еще неизвестно сколько лет этой тоски, на душе становилось совсем скверно. А вот с Леночкой было бы совсем по-другому…
Автомобили из правых рядов медленно перестраивались в левый, объезжая какое-то препятствие. Виктор вытянул шею, пытаясь разглядеть в осенних сумерках, что же именно тормозит движение. Авария?
Наконец подъехали к месту ДТП. Синие вспышки полицейских маячков, как в фильме ужасов, выхватывали из мрака огромную фуру, от удара развернувшуюся боком и перегородившую два ряда; въехавшую в отбойник легковушку; белую маршрутку с расплющенным боком и помятой мордой; машину «скорой помощи» с распахнутой дверью и суетящихся медиков в синей форме. Стойкий запах беды висел в воздухе вперемешку с выхлопными газами.
Уже проезжая мимо, краем глаза Виктор заметил возле искалеченной маршрутки на грязном асфальте неподвижное тело. Это была женщина в светло зеленой куртке… Точно такой же, как у его Валентины.
Зябкая волна страха пробежала вдоль позвоночника. Он повернул голову, чтобы рассмотреть внимательнее, и его машина вильнула, чуть не задев злополучную «мазду». Сзади сразу возмущенно просигналил клаксон.
Он выровнял руль и стал набирать скорость, испытывая непреодолимое желание как можно скорее уехать подальше от этого места. Светло зеленая куртка… А Валентина ведь именно на маршрутке ездит с работы и именно по этому шоссе. Но она наверняка уже дома. Сидит уткнувшись в телеэкран и вздыхает над своим сериалом, успокаивал он себя. Но в душе вдруг задрожала, завибрировала неведомая струна, распространяя тревожные волны по всему телу.
Правой рукой Виктор полез во внутренний карман, доставая телефон. Нет, это не может быть Валя, она точно дома. Пальцы не слушались, дрожа и промахиваясь мимо нужного номера. Наконец в темноту полетели гудки вызова. Ну же, Валя, возьми трубку! Оторвись от своего дурацкого сериала!
Телефон не отвечал. Черт возьми, где она может быть? Почему не берет трубку?! Стало жарко, так жарко, что он нервным движением оттянул ворот рубашки, распуская узел галстука. Нога сама собой надавила на педаль газа, и машина пролетела с превышением скорости под видеокамерой. Вот черт, теперь штрафа не миновать! Едва дождавшись зеленого сигнала светофора, повернул направо, на свою улицу.
Приткнув машину возле дворовой помойки, выскочил, забыв в салоне портфель, и понесся к подъезду, шлепая по лужам замшевыми ботинками. Дожидаться лифта не стал, побежал, прыгая через ступеньку, вверх по лестнице, пытаясь обогнать собственное нетерпение и тревогу. До седьмого этажа добрался задыхаясь так, что долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Сердце стучало у самого горла, глухо пульсировало в висках. Наконец распахнул входную дверь.
В коридоре стояла Валя в малиновом плюшевом спортивном костюме и смотрела на него с удивлением.
– Господи, Валя, ты почему трубку не берешь?! – с возмущением воскликнул он.
– Да у меня телефон разрядился, – пробормотала жена растерянно, – а что случилось?
– Ничего!
Он шагнул и сгреб ее в охапку, сдавив в объятиях с такой отчаянной силой, что она испуганно пискнула. И такая она была мягкая, теплая, податливая, такая родная, что на глаза навернулись слезы. И он, смутившись, уткнулся лицом в ее пушистую макушку.
– Я прошу тебя никогда больше не забывай заряжать свой телефон. Никогда! – Прошептал он сдавленным голосом.
– Хорошо. А что случилось-то? – и потерлась носом о его шею. Шее сразу стало щекотно, а душе легко и светло.
– Валюш, а давай на выходные рванем на дачу! Шашлыки устроим. Пригласим Михеевых и Стародубовых. Затопим камин и под коньячок и шашлычок попоем песни под гитару. Помнишь, как раньше?
Она подняла на него удивленные глаза.
– Ты правда этого хочешь?
– Правда.
Радостная улыбка осветила ее лицо, сделав его невероятно красивым, таким, что хотелось смотреть и смотреть, не отрываясь.
– Тогда я завтра куплю мясо и замариную. А утром в субботу поедем пораньше.
Высвободившись из его рук, которые никак не хотели ее отпускать, жена пошла на кухню, весело бросив на ходу:
– Ты раздевайся и проходи, а я пока тебе ужин разогрею.
– Да я и сам справлюсь, не маленький. У тебя же там фильм идет.
– Да ну их, эти сериалы! Я лучше составлю тебе компанию за чашкой чая.
Виктор наслаждался ужином, радостно вдыхая ароматные, умиротворяющие запахи родного дома и Валиной стряпни, без преувеличения самой вкусной на свете. Все здесь было свое, все звучало с ним на одной волне, было частью его самого. Даже вот эта любимая чашка с маленькой трещинкой на боку. И суетящаяся у плиты Валентина тоже была частью его самого. Вместе со своим плюшевым малиновом костюмом, который вдруг перестал быть воплощением безвкусицы, а превратился в символ домашнего тепла и уюта.
– Знаешь, что, Валюш, – сказал он, – я завтра уйду с работы пораньше и заеду за тобой. Сходим в торговый центр и купим тебе новую куртку. Модную, элегантную, красивую.
– Зачем? – удивилась она. – У меня же есть зеленая.
– Видеть не могу этот зеленый цвет! Не одевай ее больше никогда. Ладно? – Валентина обернулась и взглянула на него с удивлением. – И пожалуйста, не спрашивай, почему?!
Леночка выпорхнула из машины и, элегантно процокав каблучками к своему подъезду, остановилась и послала ему воздушный поцелуй. В следующую секунду чаровница исчезла за закрывшейся дверью.
Виктор улыбнулся и вздохнул с легкой грустью. Ах, какая женщина! И откуда только такие берутся? С тех пор, как в их офисе появилась новая сотрудница, как будто внезапно поменялось время года. За окнами поздняя осень моросила серыми дождями, пятная тротуары грязными обрывками желтых листьев. А внутри благоухала весна ароматом ее легких духов, наполняя скучные коридоры звуками ее нежного голоса, звонкого смеха, освещая безликое пространство офиса светом ее улыбки.
Виктор повернул руль и медленно тронул машину мимо плотно припаркованных легковушек, оккупировавших и без того тесный двор. Впереди был долгий путь домой сквозь вечерние пробки. Но он даже был рад традиционному затруднению движения в это время. Можно было без помех помечтать под тихую музыку из динамика о Леночке.
Объективности ради надо признать, что писаной красавицей Леночка не была. Но ведь понятие красоты очень относительно! Худенькая, хрупкая, с неправильными чертами лица. Но улыбка ярко накрашенных губ так манила, а взгляд серых глаз обещал так много, что при взгляде на нее невольно замирало сердце. И как она умудрялась выглядеть так сексуально в строгом деловом костюме? Ни тебе глубокого декольте, ни голых коленок под коротким подолом, а у тебя в животе что-то сладко сжимается, когда ты провожаешь взглядом ее стройную фигурку, идущую по коридору и плавно покачивающую бедрами. Не то что его Валентина в своем вечном плюшевом спортивном костюме!
Виктор вырулил на проспект и влился в плотный поток автомобилей, медленно текущий по магистрали, как вязкая кровь по вене. От мысли о жене сразу испортилось настроение. Ох, уж этот плюшевый спортивный костюм! Да еще и отвратительного малинового цвета. Он давно не обращал внимания на отсутствие макияжа и прически, бог с ними! Но малиновый костюм неизменно раздражал. А чем именно, он и сам понять не мог. Может быть вопиющей безвкусицей? Может быть полным отсутствием этой самой сексуальности? А чего ты хотел после двадцати лет совместной жизни?
Глянув в зеркало заднего вида, он заметил синие всполохи машины «скорой помощи». Пришлось сдвигаться вправо, вклиниваясь между «опелем» и «маздой» с недовольным водителем за рулем, уступая дорогу «скорой». Он конечно понимал, что где-то случилась беда и «скорая» спешит на помощь, но все равно злился, маневрируя и отодвигаясь из левого ряда. Любая помеха, отвлекающая от полета мечтаний о Леночке, злила и раздражала, словно он был не взрослым мужчиной за сорок, а маленьким ребенком, у которого отбирали любимую игрушку.
Мысли опять вернулись к Валентине и ее дурацкому костюму. В последние годы жена пополнела, меньше стала уделять себе внимания. Заботы о детях, о доме заполнили всю ее жизнь. Ни книжку умную почитать, ни в театр сходить, ни на выставку. Даже на общих друзей времени не хватает. Превратилась в какую-то курицу-наседку! А вот Леночка – интеллектуалка! С ней разговаривать на умные темы – одно удовольствие.
Он вспомнил, как во время обеденного перерыва он с интересом слушал в компании сотрудников ее размышления о современном искусстве. Потрясающе! Она еще и умна, а кругозор какой! Восторг и восхищение новой сотрудницей подталкивали Виктора к пока еще отвлеченным мечтаниям о дальнейшем развитии отношений. Сегодня же он подвез ее домой и даже заработал воздушный поцелуй. Следующим шагом, по идее, должна стать чашечка кофе в ближайшем кафе после работы. А там…
Виктор нажал на педаль тормоза. Ну что там еще случилось? Впереди на шоссе хмурый осенний вечер был пронизан красными гирляндами тормозных огней, уходящими в бесконечность. Опять встали. Черт бы побрал эти пробки!
В последние годы Валя даже книжки читать перестала, утверждала, что сил на них не хватает. Но на тупые телесериалы же хватает! Уткнется в экран и сочувственно вздыхает, глядя на экранную любовь, даже слезу пустить может. Он как-то пытался выяснить, что она находит в этой любовной дребедени? Оказалось, придуманная любовь на экране ее утешает. Чушь какая-то!
И еще эта дача… Дача принадлежала теще, но почему-то основной рабочей силой стал именно он, Виктор. То грядку вскопай, то траву покоси! И попробуй скажи, что устал и не хочешь ехать на дачу. Сразу смертная обида. Дачное рабство какое-то.
Устал он, устал от однообразия и скуки семейной жизни. И от мысли о том, что впереди еще неизвестно сколько лет этой тоски, на душе становилось совсем скверно. А вот с Леночкой было бы совсем по-другому…
Автомобили из правых рядов медленно перестраивались в левый, объезжая какое-то препятствие. Виктор вытянул шею, пытаясь разглядеть в осенних сумерках, что же именно тормозит движение. Авария?
Наконец подъехали к месту ДТП. Синие вспышки полицейских маячков, как в фильме ужасов, выхватывали из мрака огромную фуру, от удара развернувшуюся боком и перегородившую два ряда; въехавшую в отбойник легковушку; белую маршрутку с расплющенным боком и помятой мордой; машину «скорой помощи» с распахнутой дверью и суетящихся медиков в синей форме. Стойкий запах беды висел в воздухе вперемешку с выхлопными газами.
Уже проезжая мимо, краем глаза Виктор заметил возле искалеченной маршрутки на грязном асфальте неподвижное тело. Это была женщина в светло зеленой куртке… Точно такой же, как у его Валентины.
Зябкая волна страха пробежала вдоль позвоночника. Он повернул голову, чтобы рассмотреть внимательнее, и его машина вильнула, чуть не задев злополучную «мазду». Сзади сразу возмущенно просигналил клаксон.
Он выровнял руль и стал набирать скорость, испытывая непреодолимое желание как можно скорее уехать подальше от этого места. Светло зеленая куртка… А Валентина ведь именно на маршрутке ездит с работы и именно по этому шоссе. Но она наверняка уже дома. Сидит уткнувшись в телеэкран и вздыхает над своим сериалом, успокаивал он себя. Но в душе вдруг задрожала, завибрировала неведомая струна, распространяя тревожные волны по всему телу.
Правой рукой Виктор полез во внутренний карман, доставая телефон. Нет, это не может быть Валя, она точно дома. Пальцы не слушались, дрожа и промахиваясь мимо нужного номера. Наконец в темноту полетели гудки вызова. Ну же, Валя, возьми трубку! Оторвись от своего дурацкого сериала!
Телефон не отвечал. Черт возьми, где она может быть? Почему не берет трубку?! Стало жарко, так жарко, что он нервным движением оттянул ворот рубашки, распуская узел галстука. Нога сама собой надавила на педаль газа, и машина пролетела с превышением скорости под видеокамерой. Вот черт, теперь штрафа не миновать! Едва дождавшись зеленого сигнала светофора, повернул направо, на свою улицу.
Приткнув машину возле дворовой помойки, выскочил, забыв в салоне портфель, и понесся к подъезду, шлепая по лужам замшевыми ботинками. Дожидаться лифта не стал, побежал, прыгая через ступеньку, вверх по лестнице, пытаясь обогнать собственное нетерпение и тревогу. До седьмого этажа добрался задыхаясь так, что долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Сердце стучало у самого горла, глухо пульсировало в висках. Наконец распахнул входную дверь.
В коридоре стояла Валя в малиновом плюшевом спортивном костюме и смотрела на него с удивлением.
– Господи, Валя, ты почему трубку не берешь?! – с возмущением воскликнул он.
– Да у меня телефон разрядился, – пробормотала жена растерянно, – а что случилось?
– Ничего!
Он шагнул и сгреб ее в охапку, сдавив в объятиях с такой отчаянной силой, что она испуганно пискнула. И такая она была мягкая, теплая, податливая, такая родная, что на глаза навернулись слезы. И он, смутившись, уткнулся лицом в ее пушистую макушку.
– Я прошу тебя никогда больше не забывай заряжать свой телефон. Никогда! – Прошептал он сдавленным голосом.
– Хорошо. А что случилось-то? – и потерлась носом о его шею. Шее сразу стало щекотно, а душе легко и светло.
– Валюш, а давай на выходные рванем на дачу! Шашлыки устроим. Пригласим Михеевых и Стародубовых. Затопим камин и под коньячок и шашлычок попоем песни под гитару. Помнишь, как раньше?
Она подняла на него удивленные глаза.
– Ты правда этого хочешь?
– Правда.
Радостная улыбка осветила ее лицо, сделав его невероятно красивым, таким, что хотелось смотреть и смотреть, не отрываясь.
– Тогда я завтра куплю мясо и замариную. А утром в субботу поедем пораньше.
Высвободившись из его рук, которые никак не хотели ее отпускать, жена пошла на кухню, весело бросив на ходу:
– Ты раздевайся и проходи, а я пока тебе ужин разогрею.
– Да я и сам справлюсь, не маленький. У тебя же там фильм идет.
– Да ну их, эти сериалы! Я лучше составлю тебе компанию за чашкой чая.
Виктор наслаждался ужином, радостно вдыхая ароматные, умиротворяющие запахи родного дома и Валиной стряпни, без преувеличения самой вкусной на свете. Все здесь было свое, все звучало с ним на одной волне, было частью его самого. Даже вот эта любимая чашка с маленькой трещинкой на боку. И суетящаяся у плиты Валентина тоже была частью его самого. Вместе со своим плюшевым малиновом костюмом, который вдруг перестал быть воплощением безвкусицы, а превратился в символ домашнего тепла и уюта.
– Знаешь, что, Валюш, – сказал он, – я завтра уйду с работы пораньше и заеду за тобой. Сходим в торговый центр и купим тебе новую куртку. Модную, элегантную, красивую.
– Зачем? – удивилась она. – У меня же есть зеленая.
– Видеть не могу этот зеленый цвет! Не одевай ее больше никогда. Ладно? – Валентина обернулась и взглянула на него с удивлением. – И пожалуйста, не спрашивай, почему?!

Сергей МАЛУХИН
Родился в 1961 году. По профессии инженер-строитель. Проживает в г. Красноярск. Автор книг: «Две фантазии», издательство «КУБИК» (Саратов), 2013 г.; роман в 3-х частях «Красноярск-2012», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2014 г.; «Пора жёлтых цветов», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2017 год. В 2015 г. в Твери, в содружестве с писателем Виктором Калинкиным, выпущена книга рассказов и публицистики о войне «То, что было не со мной, помню».
Лауреат Международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Интересный рассказ», г. Торонто, Канада, 2017 год.
Дипломант Всероссийских литературных конкурсов: «Георгиевская лента» 2017 г., короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор» 2017 г., «Герои Великой Победы» 2018 г., национальной литературной премии «Писатель года» за 2018 год. Кроме литературного творчества, увлекается спортивными бальными танцами.
Родился в 1961 году. По профессии инженер-строитель. Проживает в г. Красноярск. Автор книг: «Две фантазии», издательство «КУБИК» (Саратов), 2013 г.; роман в 3-х частях «Красноярск-2012», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2014 г.; «Пора жёлтых цветов», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2017 год. В 2015 г. в Твери, в содружестве с писателем Виктором Калинкиным, выпущена книга рассказов и публицистики о войне «То, что было не со мной, помню».
Лауреат Международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Интересный рассказ», г. Торонто, Канада, 2017 год.
Дипломант Всероссийских литературных конкурсов: «Георгиевская лента» 2017 г., короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор» 2017 г., «Герои Великой Победы» 2018 г., национальной литературной премии «Писатель года» за 2018 год. Кроме литературного творчества, увлекается спортивными бальными танцами.
РАЗГОВОР В ПАТТАЙЕ
Наконец-то сбылась мечта всей жизни, и Семён Семёнович Горбунков поехал за границу. Да не куда-нибудь в банальный Париж или скучный Лондон, а сразу в яркий знойный Таиланд.
Но не один, конечно, поехал, а с женой. Да и какая ж дура отпустит мужа одного в обитель вселенского греха - в Паттайю? Тем более, что и ей самой хотелось поплавать в середине зимы в тёплом море, понежиться под пальмами на золотистом песке, да и себя показать миру, пока не старая.
Две недели отдыха пролетели, как один день, с краткими перерывами на тёмные тропические ночи. Пришло время прощаться с тропическим раем и собираться в обратный путь на заснеженную родину.
В последний вечер отдыха жена решила совершить вояж по магазинам и навестить ночной рынок на Тепрасит-роуд. Купить там подарки родным и друзьям, и, ясное дело, себе, любимой, что-нибудь этакое, чего у неё никогда не было.
На «тук-туке» за 10 бат с человека, чета Горбунковых с соседями по гостинице доехали до центра, и там расстались, договорившись встретиться в 22 часа на ночном рынке.
Жена повела Семёна Семёновича сначала в большой магазин, где, по её сведениям, продавали чудодейственный бальзам на основе змеиного яда.
– Маме очень нужен именно такой бальзам, – заявила жена.
– Будто у неё своего яда мало, – буркнул себе под нос Семён Семёнович.
– Что? Что ты сказал? – не расслышала жена.
Обычно она ходила по магазинам, крепко держа супруга за локоть, но сегодня её так распирала жажда деятельности, что она неслась впереди разнеженного курортным отдыхом мужа.
– Я сказал, что это как раз то, что ей нужно.
– Ну да, я знаю. Семён, ты чего плетёшься? Пошли быстрее. Где же искать, этот чёртов бальзам?
– Дорогая, мы ещё не ужинали. Давай купим хотя бы бутербродов и пива.
– Потом, потом. Вдруг, там всё раскупят…
В спешке они едва не прошли нужный отдел. Хорошо, что Семёну Семёновичу бросилась в глаза реклама: кобра, распустившая шлем, с высунутым языком и изогнутыми клыками.
«Где-то я уже видел это лицо!» – ухмыльнулся про себя Семён.
– Лена, стой! Это то, что нам надо?
– Ага, ага, оно самое! Вот точно такой мне дама из 219 номера показывала.
Баночки со змеиным бальзамом стояли в изобилии, и незаметно было, чтобы их расхватывали покупатели. Честно говоря, покупателями в этот час были только Горбунковы. И они, не мешкая, стали рассматривать товар. Бальзам в баночках был разного цвета, но текст на русском языке был везде одинаков. Надписи же на тайском языке, увы, были недоступны русским туристам.
– А отчего эти бальзамы? – спросила Елена у продавщицы, невысокой, плотной, смуглой тайки в коротком платье.
– О, мадам, осень-осень хорош! Бальзам класс! Осень, осень!
– А, ничего она не знает, – махнула рукой жена. – Сёма, какой брать?
– М-м, – задумался Семён Семёновича. – Конечно, попробовать бы надо. А давай возьмём разных? Какой-нибудь да поможет. А лечиться мы все любим. Мне можешь взять чёрный, тот, что на гуталин смахивает.
Женщина согласилась, что попробовать надо разные, и купила полдюжины баночек всевозможных цветов…
– Ну, одно дело сделано. Теперь пошли быстрее на ночной рынок.
Жену, понятное дело, переполняла энергия, полученная от тропического солнца, но её супруг уже успел проголодаться после давешнего обеда.
– Поесть надо сначала, – законно возмутился он.
– Ладно, вымогатель. Только пива – не больше бутылки. А то знаю тебя – побежишь потом кустики искать.
После ужина в ближайшем кафе Семён Семёнович подобрел и расслабился. И совсем не удивился, что по дороге на ночной рынок жена решила «заскочить» в большой торговый центр.
– Только на минуту. Я посмотрю, что тут есть и почём. Хочу сравнить с нашими магазинами. Ну и, вдруг на меня что-то будет. А то мне ведь совсем одеть нечего…
В торговый центр женщина ворвалась со скоростью тропического урагана. И даже изобилие товаров её поначалу не остановило.
– Сёма, быстрее. Пошли, сначала обувь посмотрим.
Она на ходу обернулась посмотреть, как там её драгоценный муж, не потерял ли пакет с бальзамами – и тут налетела на высокого мужчину, неосторожно оказавшегося у неё на пути.
– Ой, блин! Простите…
У мужчины на лице мелькнула гримаса боли – кажется, каблучок женской туфли врезался в его лодыжку, но тут же на лице расцвела улыбка, обнажив все 32 белейших зуба. Он на чистом английском произнёс:
– Excuse me, lady.
Семён Семёнович, который только на секунду отвлёкся, чтобы поглядеть на высокую смуглолицую незнакомку в цветастом платье до пят и белом лёгком пиджачке, не скрывавшем ни тонкой талии, ни приятных взгляду округлостей груди, моментально среагировал на назревавший конфликт двух систем. В два шага он оказался рядом с женой, напротив неосмотрительного иностранца, и строго сказал:
– Ай эм сори, – и тоже оскалил зубы, радуясь возможности показать за границей мастерство врачей отечественной стоматологии «Зубная фея».
Иностранец посмотрел сверху вниз на щуплого Семёна Семёновича, и в его безмятежных глазах мелькнул интерес.
– O-o! Do you speak English? Wow! Nice to meet a European. Are you German or Hungarian?»
Горбунков не всё понял из реплики иноземца. Но тут к ним подошла прекрасная незнакомка в белом жакете и встала рядом. Семён Семёнович ещё раз посмотрел на её великолепную грудь и отчего-то вдруг вспомнил всё то, чему его учили долгие годы на уроках английского языка в школе, а потом в строительном техникуме. Припомнились даже лекции замполита роты лейтенанта Герасименко, в далёкие годы военной службы, куда тот любил вставлять иностранные словечки. Он вторично улыбнулся, уже женщине и уже приветливо.
– Май нейм из Семён. Ой, то есть, май нейм из Сэм. Ви, ай энд май вайф Люба, фром Раша, фром Сибириа. Ви лив ин Белоярск-сити. Ши энд ай ту зе шопинг тугезе. Энд гоу ту Раша томорроу. Ви, ай энд май вайф, э-э, вери велл ауэ… э-э, ауэ митинг!
– Wow, they are from Siberia! It’s very interesting. Russia is a great country. And we are from the United States.
Американец, лучезарно улыбаясь, подошёл поближе и встал немного сбоку, так что Семёну пришлось отвернуться от своёй жены и заморской красавицы. Краем уха он расслышал, как американка представилась:
– My name is Laura Quincy. I’m from Dallas. Do you know about the «Good Life organization”? I will tell you...»
О чём дальше беседовали женщины, ему разобрать не пришлось – американец начал разговор с главного:
– President Putin is a real man, a great man. I respect him very much. Unfortunately we have not had such a President.
– А, Путин! Ну, как тебе сказать. По правде, он у власти… – Семён Семёнович чуть было не ляпнул лишнего, но вовремя прикусил язык. Он же не с мужиками в бытовке балакает, заграница тут. Дипломатичнее надо разговаривать.
– Йес. Путин вери велл. Бат энд пресидент Обама – велл.
Словно убедившись, что нашего туриста на мякине не проведёшь, американец не стал развивать скользкую тему большой политики, а резко сменил тему. Он достал из барсетки большой кожаный бумажник. Вынув из бумажника две свернутые вдвое бумажки, американец помахал ими у своего уха.
– After Pattaya we’ll go back in the States. But in February we will go to Russia, go to Sochi to the Olympic games. Are you going there? Maybe see you there?
– А? Что? На Олимпиаду летите? ЗдОрово! Вери гуд!
Беседу самым бесцеремонным образом прервала Люба. Она с силой дёрнула мужа за руку и зашептала, горячо дыша в спину:
– Сёма, пошли скорее отсюда. Она от меня чего-то хочет, не пойму. Вроде, телефон спрашивает. А я не хочу давать. И ещё чего-то в смартфоне показывает. Пошли, а?
– Да, счас! – отмахнулся муж. – Дай хоть с иностранцем поговорить. А у меня получается, – похвалился он. – Телефон не давай, если не хочешь. И вообще, не спорь с ней – сама отвяжется. Счас, скоро пойдём.
– Так вот, – продолжал он, повернувшись к американцу, – Ноу. Ай энд май вайф ноу ту зе Олимпиада. Не в этот раз. Работа, понимаешь… Арбайт, э-э, вёка. А, да, слушай: у нас в Белоярске в … твенти найнтиин уе ту би Универсиада. Гоу ту Белоярск энд ю вайф. Ви вилл би вери плизед!
– What? The Universiade? But we do not know where Beloyarsk is?
– Да ты что? Не знаешь, где Белоярск? Гм. Постой-ка, я тебе сейчас покажу. Лук эт ми.
Одним движением Семён Семёнович вынул из кармана свой бумажник и раскрыл его. Из бумажника достал одну из российских банкнот и протянул собеседнику:
– Вот, гляди, наш город даже на наших деньгах есть. Лук? Ит ис Белоярск-сити. Ит ис грейт сити. Бери себе на память. Э-э… презент!
Люба хотя и была занята беседой с американкой, беседой односторонней, где на все призывы иностранки она лишь отрицательно качала головой, бдительно следила за мужем. На открытый бумажник она среагировала незамедлительно:
– Ты с ума сошёл! – зашипела она в плечо Семёна. – Ты зачем ему деньги показываешь? Спрячь сейчас же!
Американец понял, что женщина озабочена доверчивостью мужа и засмеялся. Смех его был необидным.
– No, no lady! Okay! I will show you my wallet, - он снова достал бумажник и раскрыл его. – I am not a crook.
Семён Семёнович сравнил, вскользь, но с неприкрытой ревностью, свой, довольно тощенький бумажник, с объёмистым портмоне американца. Бросилась в глаза множество расставленных в прозрачные кармашки пластиковых карт. На одной из карт Семён приметил изображение хищной белоголовой птицы, нацелившей клюв в его сторону. На его лбу выступил пот. Сразу вспомнилось всё, чему два года учил его замполит роты.
«А вдруг он из «их» разведки? А может даже из ЦРУ?! И вдруг он здесь не так просто, а заслан завербовать меня? Хм, да ну, на кой ему простой работяга с завода резиновых изделий? Чушь. И кто «там» мог знать, что мы едем в Паттайю? Мы же брали горящие путёвки. Не-ет».
Американец не заметил смущения своего собеседника. Он спокойно достал одну из банкнот и показал Семёну.
– I want to present you Korean money. Laura recently arrived from Korea. Please accept 1000 Korean won.
Семён Семёнович бережно принял цветастую бумажку с портретом солидного восточного мужика. Поглядел сквозь неё на свет.
– О-о, вот это круто! Первый раз корейские деньги вижу. А дома у меня корейский автомобиль – забавно, да? Сыну отвезём, пусть коллекционирует вместе с марками. Сэнк ю вери мач!
Тут Люба снова потянула мужа за руку, шепча:
– Ты зачем взял? Вдруг – нельзя? И вообще, пошли уже отсюда.
Семён не стал спорить с супругой. Улыбнулся, протянул руку:
– Ну, френд, гуд бай! Нам пора идти.
Американец протянул в ответ свою мягкую ухоженную ладонь. Семён Семёнович сжал её так, что иностранец поспешно отдёрнул руку. Но наш турист уже повернулся к американке:
– Рад, очень рад знакомству! Будете у нас в Сибири – заезжайте. Велком ту Сибирь. Ви, э-э, вери хэппи куестс.
Лора мило ему улыбнулась:
– Please give me your phone number or email address. I will contact you.
Она протянула было свой блокнотик с ручкой, но жена с такой силой потянула Семёна за собой, что он в один миг очутился за пару метров от новых знакомых.
– Гуд бай! – успел ещё раз крикнуть Семён Семёнович на прощанье цветастому сарафану, и толпа прохожих и покупателей разделила американцев и чету Горбунковых.
На следующий день, уже сидя в аэропорту Суварнабхуми в ожидании своего самолёта, Семён Семёнович достал из карманной туристической схемы курорта банкноту, подаренную ему американцем. Разглядывая иноземную вещицу, он заулыбался и покачал головой:
– Надо же, никогда бы не подумал, что в чужой стране смогу разговаривать с американцем. И ведь мы понимали друг друга! Вот ведь какое дело – мы такие разные, встретились случайно, но смогли объясниться. Какие всё-таки люди на земле одинаковые. И мыслим одинаково, и живём, в принципе, тоже одинаково. Странно. Такое впечатление, что всё в мире искусственно запутано. Эти границы, всякие условности, вражда – это же всё выдумки политиков. Только теперь я понял, что на самом деле все люди – братья. Мы можем говорить на разных языках, временами ссориться, временами расставаться. Но все мы люди, все жители одной планеты. И как хорошо жить в одном большом мире!
По аэровокзалу передали сообщение о начале посадки в самолёт, вылетающий в Россию. Подошла озабоченная жена:
– Семён, где билеты и паспорта? Давай мне. Пошли скорее, опять последними будем. И сумку, сумку с фруктами осторожнее. Манго не помни!
Пассажиры неровным строем потянулись к проходу на посадку. Он уносили с собой сувениры, воспоминания и тепло гостеприимной южной страны. Счастливого пути!
Счастливо оставаться, море, солнце, пальмы! И до новой встречи!
Наконец-то сбылась мечта всей жизни, и Семён Семёнович Горбунков поехал за границу. Да не куда-нибудь в банальный Париж или скучный Лондон, а сразу в яркий знойный Таиланд.
Но не один, конечно, поехал, а с женой. Да и какая ж дура отпустит мужа одного в обитель вселенского греха - в Паттайю? Тем более, что и ей самой хотелось поплавать в середине зимы в тёплом море, понежиться под пальмами на золотистом песке, да и себя показать миру, пока не старая.
Две недели отдыха пролетели, как один день, с краткими перерывами на тёмные тропические ночи. Пришло время прощаться с тропическим раем и собираться в обратный путь на заснеженную родину.
В последний вечер отдыха жена решила совершить вояж по магазинам и навестить ночной рынок на Тепрасит-роуд. Купить там подарки родным и друзьям, и, ясное дело, себе, любимой, что-нибудь этакое, чего у неё никогда не было.
На «тук-туке» за 10 бат с человека, чета Горбунковых с соседями по гостинице доехали до центра, и там расстались, договорившись встретиться в 22 часа на ночном рынке.
Жена повела Семёна Семёновича сначала в большой магазин, где, по её сведениям, продавали чудодейственный бальзам на основе змеиного яда.
– Маме очень нужен именно такой бальзам, – заявила жена.
– Будто у неё своего яда мало, – буркнул себе под нос Семён Семёнович.
– Что? Что ты сказал? – не расслышала жена.
Обычно она ходила по магазинам, крепко держа супруга за локоть, но сегодня её так распирала жажда деятельности, что она неслась впереди разнеженного курортным отдыхом мужа.
– Я сказал, что это как раз то, что ей нужно.
– Ну да, я знаю. Семён, ты чего плетёшься? Пошли быстрее. Где же искать, этот чёртов бальзам?
– Дорогая, мы ещё не ужинали. Давай купим хотя бы бутербродов и пива.
– Потом, потом. Вдруг, там всё раскупят…
В спешке они едва не прошли нужный отдел. Хорошо, что Семёну Семёновичу бросилась в глаза реклама: кобра, распустившая шлем, с высунутым языком и изогнутыми клыками.
«Где-то я уже видел это лицо!» – ухмыльнулся про себя Семён.
– Лена, стой! Это то, что нам надо?
– Ага, ага, оно самое! Вот точно такой мне дама из 219 номера показывала.
Баночки со змеиным бальзамом стояли в изобилии, и незаметно было, чтобы их расхватывали покупатели. Честно говоря, покупателями в этот час были только Горбунковы. И они, не мешкая, стали рассматривать товар. Бальзам в баночках был разного цвета, но текст на русском языке был везде одинаков. Надписи же на тайском языке, увы, были недоступны русским туристам.
– А отчего эти бальзамы? – спросила Елена у продавщицы, невысокой, плотной, смуглой тайки в коротком платье.
– О, мадам, осень-осень хорош! Бальзам класс! Осень, осень!
– А, ничего она не знает, – махнула рукой жена. – Сёма, какой брать?
– М-м, – задумался Семён Семёновича. – Конечно, попробовать бы надо. А давай возьмём разных? Какой-нибудь да поможет. А лечиться мы все любим. Мне можешь взять чёрный, тот, что на гуталин смахивает.
Женщина согласилась, что попробовать надо разные, и купила полдюжины баночек всевозможных цветов…
– Ну, одно дело сделано. Теперь пошли быстрее на ночной рынок.
Жену, понятное дело, переполняла энергия, полученная от тропического солнца, но её супруг уже успел проголодаться после давешнего обеда.
– Поесть надо сначала, – законно возмутился он.
– Ладно, вымогатель. Только пива – не больше бутылки. А то знаю тебя – побежишь потом кустики искать.
После ужина в ближайшем кафе Семён Семёнович подобрел и расслабился. И совсем не удивился, что по дороге на ночной рынок жена решила «заскочить» в большой торговый центр.
– Только на минуту. Я посмотрю, что тут есть и почём. Хочу сравнить с нашими магазинами. Ну и, вдруг на меня что-то будет. А то мне ведь совсем одеть нечего…
В торговый центр женщина ворвалась со скоростью тропического урагана. И даже изобилие товаров её поначалу не остановило.
– Сёма, быстрее. Пошли, сначала обувь посмотрим.
Она на ходу обернулась посмотреть, как там её драгоценный муж, не потерял ли пакет с бальзамами – и тут налетела на высокого мужчину, неосторожно оказавшегося у неё на пути.
– Ой, блин! Простите…
У мужчины на лице мелькнула гримаса боли – кажется, каблучок женской туфли врезался в его лодыжку, но тут же на лице расцвела улыбка, обнажив все 32 белейших зуба. Он на чистом английском произнёс:
– Excuse me, lady.
Семён Семёнович, который только на секунду отвлёкся, чтобы поглядеть на высокую смуглолицую незнакомку в цветастом платье до пят и белом лёгком пиджачке, не скрывавшем ни тонкой талии, ни приятных взгляду округлостей груди, моментально среагировал на назревавший конфликт двух систем. В два шага он оказался рядом с женой, напротив неосмотрительного иностранца, и строго сказал:
– Ай эм сори, – и тоже оскалил зубы, радуясь возможности показать за границей мастерство врачей отечественной стоматологии «Зубная фея».
Иностранец посмотрел сверху вниз на щуплого Семёна Семёновича, и в его безмятежных глазах мелькнул интерес.
– O-o! Do you speak English? Wow! Nice to meet a European. Are you German or Hungarian?»
Горбунков не всё понял из реплики иноземца. Но тут к ним подошла прекрасная незнакомка в белом жакете и встала рядом. Семён Семёнович ещё раз посмотрел на её великолепную грудь и отчего-то вдруг вспомнил всё то, чему его учили долгие годы на уроках английского языка в школе, а потом в строительном техникуме. Припомнились даже лекции замполита роты лейтенанта Герасименко, в далёкие годы военной службы, куда тот любил вставлять иностранные словечки. Он вторично улыбнулся, уже женщине и уже приветливо.
– Май нейм из Семён. Ой, то есть, май нейм из Сэм. Ви, ай энд май вайф Люба, фром Раша, фром Сибириа. Ви лив ин Белоярск-сити. Ши энд ай ту зе шопинг тугезе. Энд гоу ту Раша томорроу. Ви, ай энд май вайф, э-э, вери велл ауэ… э-э, ауэ митинг!
– Wow, they are from Siberia! It’s very interesting. Russia is a great country. And we are from the United States.
Американец, лучезарно улыбаясь, подошёл поближе и встал немного сбоку, так что Семёну пришлось отвернуться от своёй жены и заморской красавицы. Краем уха он расслышал, как американка представилась:
– My name is Laura Quincy. I’m from Dallas. Do you know about the «Good Life organization”? I will tell you...»
О чём дальше беседовали женщины, ему разобрать не пришлось – американец начал разговор с главного:
– President Putin is a real man, a great man. I respect him very much. Unfortunately we have not had such a President.
– А, Путин! Ну, как тебе сказать. По правде, он у власти… – Семён Семёнович чуть было не ляпнул лишнего, но вовремя прикусил язык. Он же не с мужиками в бытовке балакает, заграница тут. Дипломатичнее надо разговаривать.
– Йес. Путин вери велл. Бат энд пресидент Обама – велл.
Словно убедившись, что нашего туриста на мякине не проведёшь, американец не стал развивать скользкую тему большой политики, а резко сменил тему. Он достал из барсетки большой кожаный бумажник. Вынув из бумажника две свернутые вдвое бумажки, американец помахал ими у своего уха.
– After Pattaya we’ll go back in the States. But in February we will go to Russia, go to Sochi to the Olympic games. Are you going there? Maybe see you there?
– А? Что? На Олимпиаду летите? ЗдОрово! Вери гуд!
Беседу самым бесцеремонным образом прервала Люба. Она с силой дёрнула мужа за руку и зашептала, горячо дыша в спину:
– Сёма, пошли скорее отсюда. Она от меня чего-то хочет, не пойму. Вроде, телефон спрашивает. А я не хочу давать. И ещё чего-то в смартфоне показывает. Пошли, а?
– Да, счас! – отмахнулся муж. – Дай хоть с иностранцем поговорить. А у меня получается, – похвалился он. – Телефон не давай, если не хочешь. И вообще, не спорь с ней – сама отвяжется. Счас, скоро пойдём.
– Так вот, – продолжал он, повернувшись к американцу, – Ноу. Ай энд май вайф ноу ту зе Олимпиада. Не в этот раз. Работа, понимаешь… Арбайт, э-э, вёка. А, да, слушай: у нас в Белоярске в … твенти найнтиин уе ту би Универсиада. Гоу ту Белоярск энд ю вайф. Ви вилл би вери плизед!
– What? The Universiade? But we do not know where Beloyarsk is?
– Да ты что? Не знаешь, где Белоярск? Гм. Постой-ка, я тебе сейчас покажу. Лук эт ми.
Одним движением Семён Семёнович вынул из кармана свой бумажник и раскрыл его. Из бумажника достал одну из российских банкнот и протянул собеседнику:
– Вот, гляди, наш город даже на наших деньгах есть. Лук? Ит ис Белоярск-сити. Ит ис грейт сити. Бери себе на память. Э-э… презент!
Люба хотя и была занята беседой с американкой, беседой односторонней, где на все призывы иностранки она лишь отрицательно качала головой, бдительно следила за мужем. На открытый бумажник она среагировала незамедлительно:
– Ты с ума сошёл! – зашипела она в плечо Семёна. – Ты зачем ему деньги показываешь? Спрячь сейчас же!
Американец понял, что женщина озабочена доверчивостью мужа и засмеялся. Смех его был необидным.
– No, no lady! Okay! I will show you my wallet, - он снова достал бумажник и раскрыл его. – I am not a crook.
Семён Семёнович сравнил, вскользь, но с неприкрытой ревностью, свой, довольно тощенький бумажник, с объёмистым портмоне американца. Бросилась в глаза множество расставленных в прозрачные кармашки пластиковых карт. На одной из карт Семён приметил изображение хищной белоголовой птицы, нацелившей клюв в его сторону. На его лбу выступил пот. Сразу вспомнилось всё, чему два года учил его замполит роты.
«А вдруг он из «их» разведки? А может даже из ЦРУ?! И вдруг он здесь не так просто, а заслан завербовать меня? Хм, да ну, на кой ему простой работяга с завода резиновых изделий? Чушь. И кто «там» мог знать, что мы едем в Паттайю? Мы же брали горящие путёвки. Не-ет».
Американец не заметил смущения своего собеседника. Он спокойно достал одну из банкнот и показал Семёну.
– I want to present you Korean money. Laura recently arrived from Korea. Please accept 1000 Korean won.
Семён Семёнович бережно принял цветастую бумажку с портретом солидного восточного мужика. Поглядел сквозь неё на свет.
– О-о, вот это круто! Первый раз корейские деньги вижу. А дома у меня корейский автомобиль – забавно, да? Сыну отвезём, пусть коллекционирует вместе с марками. Сэнк ю вери мач!
Тут Люба снова потянула мужа за руку, шепча:
– Ты зачем взял? Вдруг – нельзя? И вообще, пошли уже отсюда.
Семён не стал спорить с супругой. Улыбнулся, протянул руку:
– Ну, френд, гуд бай! Нам пора идти.
Американец протянул в ответ свою мягкую ухоженную ладонь. Семён Семёнович сжал её так, что иностранец поспешно отдёрнул руку. Но наш турист уже повернулся к американке:
– Рад, очень рад знакомству! Будете у нас в Сибири – заезжайте. Велком ту Сибирь. Ви, э-э, вери хэппи куестс.
Лора мило ему улыбнулась:
– Please give me your phone number or email address. I will contact you.
Она протянула было свой блокнотик с ручкой, но жена с такой силой потянула Семёна за собой, что он в один миг очутился за пару метров от новых знакомых.
– Гуд бай! – успел ещё раз крикнуть Семён Семёнович на прощанье цветастому сарафану, и толпа прохожих и покупателей разделила американцев и чету Горбунковых.
На следующий день, уже сидя в аэропорту Суварнабхуми в ожидании своего самолёта, Семён Семёнович достал из карманной туристической схемы курорта банкноту, подаренную ему американцем. Разглядывая иноземную вещицу, он заулыбался и покачал головой:
– Надо же, никогда бы не подумал, что в чужой стране смогу разговаривать с американцем. И ведь мы понимали друг друга! Вот ведь какое дело – мы такие разные, встретились случайно, но смогли объясниться. Какие всё-таки люди на земле одинаковые. И мыслим одинаково, и живём, в принципе, тоже одинаково. Странно. Такое впечатление, что всё в мире искусственно запутано. Эти границы, всякие условности, вражда – это же всё выдумки политиков. Только теперь я понял, что на самом деле все люди – братья. Мы можем говорить на разных языках, временами ссориться, временами расставаться. Но все мы люди, все жители одной планеты. И как хорошо жить в одном большом мире!
По аэровокзалу передали сообщение о начале посадки в самолёт, вылетающий в Россию. Подошла озабоченная жена:
– Семён, где билеты и паспорта? Давай мне. Пошли скорее, опять последними будем. И сумку, сумку с фруктами осторожнее. Манго не помни!
Пассажиры неровным строем потянулись к проходу на посадку. Он уносили с собой сувениры, воспоминания и тепло гостеприимной южной страны. Счастливого пути!
Счастливо оставаться, море, солнце, пальмы! И до новой встречи!
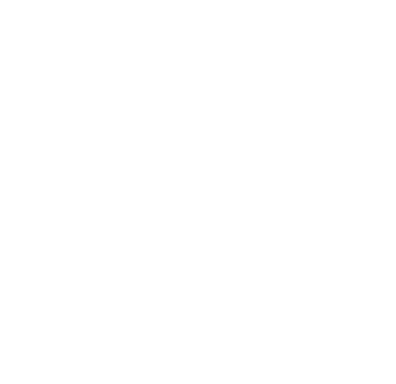
Ольга БОРИСОВА
Поэт, переводчик, писатель, член Союза писателей России. Автор пяти поэтических сборников, книги рассказов, книги сказок и двух историко-документальных книг о Болгарии. Победитель и призёр различных международных фестивалей и конкурсов в Чехии, Болгарии, Германии, Франции, Белоруссии, Украине и России. Лауреат нескольких меж-дународных премий. Стипендиат Министерства Культуры РФ. Награждена медалью имени Е. Замятина «За успехи на литературной и культурной ниве». Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и французского языков. Публикуется
в российских и зарубежных журналах.
Её стихи переведены на иностранные языки (французский, болгарский, македонский и сербский). О. Борисова – член Европейского Конгресса Литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета журнала «Белая скала». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СПР. Участник документальных фильмов, показанных телеканалами: «Культура», «Рен-ТВ», «Новости-24 Самара», «Спас», телевиденья г. Димитровграда (Болгария). Рассказ «Чёрные птицы» прозвучал на радио Гомель - Плюс (Белоруссия).
Поэт, переводчик, писатель, член Союза писателей России. Автор пяти поэтических сборников, книги рассказов, книги сказок и двух историко-документальных книг о Болгарии. Победитель и призёр различных международных фестивалей и конкурсов в Чехии, Болгарии, Германии, Франции, Белоруссии, Украине и России. Лауреат нескольких меж-дународных премий. Стипендиат Министерства Культуры РФ. Награждена медалью имени Е. Замятина «За успехи на литературной и культурной ниве». Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и французского языков. Публикуется
в российских и зарубежных журналах.
Её стихи переведены на иностранные языки (французский, болгарский, македонский и сербский). О. Борисова – член Европейского Конгресса Литераторов (Чехия), руководитель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели», член редакционного совета журнала «Белая скала». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СПР. Участник документальных фильмов, показанных телеканалами: «Культура», «Рен-ТВ», «Новости-24 Самара», «Спас», телевиденья г. Димитровграда (Болгария). Рассказ «Чёрные птицы» прозвучал на радио Гомель - Плюс (Белоруссия).
ТАКОЕ ВРЕМЯ
«Все вздор и суета...
в своей нечестности
виноват не я, а время...»
А. П. Чехов «Палата № 6»
Платон Эдуардович любил прогуливаться у небольшого пруда, заросшего камышом, и названным в народе лягушатником. В последнее время в нём развилось много бесхвостых земноводных. Их монотонное кваканье не давало покоя жителям домов, расположенных по соседству с лягушечьим царством. Но Платон Эдуардович на этот счёт имел своё мнение. «Это музыка природы!» – утверждал он, когда кто-то, очередной раз, начинал высказывать своё негодование. Вот и сегодня ему пришлось прочитать лекцию о пользе слияния голосовых вибраций в городской среде недовольному старичку, когда тот подсел к нему на скамейку. Вскоре утомлённый разговором старик ушёл, предоставив ему право самому размышлять об этой самой пользе. Платону Эдуардовичу стало скучно, но тут он вспомнил, что сегодня на заседании учёного совета ему снова объявили благодарность и вручили солидную премию за руководство над очередным научным проектом. А ведь совсем недавно Платон Чванов и мечтать не смел о таких успехах. А теперь, уважаемый человек, кандидат социологических наук и вот-вот получит доктора.
Ему вспомнилось, как обучаясь в техническом университете, с головой ушёл в социологию, и его способности заметил профессор Богачёв. Это он рекомендовал способного студента в Институт социологии. Затем работа над первым проектом и награда в виде премии. Платон Эдуардович довольно улыбнулся. Нахлынувшие воспоминания унесли его в милое прошлое…
Вот он – подтянутый брюнет в кожаной куртке и супер модных джинсах спешит на работу. Мимо проходят девушки, оценивающе оглядывая его. Но ему не до них. В умной голове рождаются те или иные идеи, требующие немедленного осмысления и воплощения в жизнь. Созданные им проекты принесли и немалые материальные блага. Что делать с деньгами Платон не знал и потому транжирил их, как ему вздумается. Вскоре появилась Галочка – черноглазая красотка с длинными пушистыми ресницами и стройной фигуркой. Галочка оказалась девушкой смышленой и сразу взяла его в оборот.
«Платоша, мы скоро поженимся, а жить нам негде. Может пора приобрести квартирку?» Вот так у него появилась новая однокомнатная квартира, и Галочка взялась за её благоустройство. Постепенно комната наполнилась мебелью. Появился деревянный шкаф, стоивший баснословных денег, немецкая мягкая мебель, чешский кухонный гарнитур.
– Дорогой, мне пришлось подзанять деньжат. Тебе придётся поднапрячься.
– Галчонок, может можно было купить что-то подешевле?
– Разве можно?! – возмутилась она. – Учёный, подающий большие надежды, не может жить как все! Скоро мы начнём принимать гостей.
Обворожительная Галочка как магнитом притягивала к себе людей, и вот уже к ним на ужин стали захаживали кандидаты и доктора наук со своими женами или любовницами. Они дарили Галочке комплименты, иногда цветы, засиживались до полуночи и, любезно распрощавшись, нехотя разбредались по домам. После их ухода оставались горы немытой посуды, пустой холодильник и едкий запах табачного дыма. Сославшись на усталость, Галочка уходила спать, при этом, не забыв дать распоряжение мужу: «Сегодня был замечательный вечер! Милый, помой посуду! Я так для тебя старалась». После таких посиделок, как по мановению волшебной палочки, Платон стал быстро подниматься вверх по карьерной лестнице.
– Платоша, нам пора купить машину! – как-то заявила она. – Непристойно хорошему учёному ходить в магазины пешком и носить тяжелые сумки. Я уже договорилась, завтра нужно оплатить, – и, не терпящим возражения голосом, добавила, – новенький опель должен тебе понравиться. За опелем последовала норковая шубка, да такая, чтоб ни у кого не было, брильянты авторской работы, а потом вдруг Галочка исчезла. А вместе с ней исчезла и немецкая мягкая мебель. Оставленная на столе записка гласила: «Прости, милый, я полюбила другого…» Другим оказался именитый профессор с большим кошельком, четырёхкомнатной квартирой и дорогой машиной.
Платоша тосковал недолго, так как утешить брошенного заведующего отделом пришла белокурая Вероника, работающая лаборанткой в институте. Утешились они милым гнёздышком – трёхкомнатной квартирой, так как ничего не должно напоминать о прошлом, чёрным BMW и участком под дачу в престижном дачном массиве. Постепенно Платон превратился в Платона Эдуардовича – руководителя отдела, куратора крупных проектов, над которыми, не покладая рук, работали молодые специалисты, а он получал славу, дополненную знаками отличия и премиями. Его стали приглашать на различные совещания и заседания, к нему прислушивались, его мнение считалось чуть ли не приоритетным, хотя все знали, кто на самом деле на него работает. Он же купил себе трость, шляпу, ходил важный, козыряя своим положением.
Вероника задержалась недолго. Она исчезла также быстро, как и появилась, прихватив с собой новенький BMW. Вскоре на горизонте замаячила Шурочка – женщина эпохи Ренессанса (так сама себя называла), невесть откуда взявшаяся. «Я тебя сама нашла», – как-то разоткровенничалась она во время очередного отдыха на море в одной из зарубежных стран. Шурочка не любила готовить, поэтому они частенько ужинали в ресторане, запивая изысканные блюда дорогими винами. Благодаря её стараниям, у них появился двухэтажный загородный дом. Но, наученный горьким опытом, Платон Эдуардович оформил недвижимость на себя, чем вызвал бурю негодования Шурочки. Обиженная на весь мир, она, собрав вещи, гордо удалилась из его жизни.
Сейчас он жил один в трехкомнатной квартире в престижном районе города и имел всё, что нужно для хорошей обеспеченной жизни, в том числе хорошо обставленный загородный дом на берегу реки.
Женщины его больше не интересовали.
Ему и без них жилось неплохо.
«Галочка, Вероника, Шурочка, – театрально произнёс Платон Эдуардович, вставая со скамейки. – Ах, эти женщины! Всё суета, всё вздор! Разве я в чём виноват?! Какое нынче время, такие нравы!»
Он некоторое время постоял, видимо раздумывая, куда пойти дальше, но тут услышал, как умопомрачительно выводила своё незабываемое «ква» какая-то особь. Встал со скамьи и подошёл к воде. На листе кувшинки сидела толстая зелёная лягушка. Она внимательно посмотрела на человека, посмевшего прервать её пение, недовольно квакнула и юркнула в воду. Платон Эдуардович с умилением смотрел, как рябь расплывается по глади пруда. Постепенно, потревоженная вода, успокоилась, и, словно в зеркале, он увидел себя… Приземистый, с плешью на голове, с располневшим брюшком, с невыразительным лицом с провисшим вторым подбородком – этот автопортрет чем-то напомнил ему только что исчезнувшую в толще вод земноводную.
«М-да! – озадачено произнёс он. – Время, время…»
«Все вздор и суета...
в своей нечестности
виноват не я, а время...»
А. П. Чехов «Палата № 6»
Платон Эдуардович любил прогуливаться у небольшого пруда, заросшего камышом, и названным в народе лягушатником. В последнее время в нём развилось много бесхвостых земноводных. Их монотонное кваканье не давало покоя жителям домов, расположенных по соседству с лягушечьим царством. Но Платон Эдуардович на этот счёт имел своё мнение. «Это музыка природы!» – утверждал он, когда кто-то, очередной раз, начинал высказывать своё негодование. Вот и сегодня ему пришлось прочитать лекцию о пользе слияния голосовых вибраций в городской среде недовольному старичку, когда тот подсел к нему на скамейку. Вскоре утомлённый разговором старик ушёл, предоставив ему право самому размышлять об этой самой пользе. Платону Эдуардовичу стало скучно, но тут он вспомнил, что сегодня на заседании учёного совета ему снова объявили благодарность и вручили солидную премию за руководство над очередным научным проектом. А ведь совсем недавно Платон Чванов и мечтать не смел о таких успехах. А теперь, уважаемый человек, кандидат социологических наук и вот-вот получит доктора.
Ему вспомнилось, как обучаясь в техническом университете, с головой ушёл в социологию, и его способности заметил профессор Богачёв. Это он рекомендовал способного студента в Институт социологии. Затем работа над первым проектом и награда в виде премии. Платон Эдуардович довольно улыбнулся. Нахлынувшие воспоминания унесли его в милое прошлое…
Вот он – подтянутый брюнет в кожаной куртке и супер модных джинсах спешит на работу. Мимо проходят девушки, оценивающе оглядывая его. Но ему не до них. В умной голове рождаются те или иные идеи, требующие немедленного осмысления и воплощения в жизнь. Созданные им проекты принесли и немалые материальные блага. Что делать с деньгами Платон не знал и потому транжирил их, как ему вздумается. Вскоре появилась Галочка – черноглазая красотка с длинными пушистыми ресницами и стройной фигуркой. Галочка оказалась девушкой смышленой и сразу взяла его в оборот.
«Платоша, мы скоро поженимся, а жить нам негде. Может пора приобрести квартирку?» Вот так у него появилась новая однокомнатная квартира, и Галочка взялась за её благоустройство. Постепенно комната наполнилась мебелью. Появился деревянный шкаф, стоивший баснословных денег, немецкая мягкая мебель, чешский кухонный гарнитур.
– Дорогой, мне пришлось подзанять деньжат. Тебе придётся поднапрячься.
– Галчонок, может можно было купить что-то подешевле?
– Разве можно?! – возмутилась она. – Учёный, подающий большие надежды, не может жить как все! Скоро мы начнём принимать гостей.
Обворожительная Галочка как магнитом притягивала к себе людей, и вот уже к ним на ужин стали захаживали кандидаты и доктора наук со своими женами или любовницами. Они дарили Галочке комплименты, иногда цветы, засиживались до полуночи и, любезно распрощавшись, нехотя разбредались по домам. После их ухода оставались горы немытой посуды, пустой холодильник и едкий запах табачного дыма. Сославшись на усталость, Галочка уходила спать, при этом, не забыв дать распоряжение мужу: «Сегодня был замечательный вечер! Милый, помой посуду! Я так для тебя старалась». После таких посиделок, как по мановению волшебной палочки, Платон стал быстро подниматься вверх по карьерной лестнице.
– Платоша, нам пора купить машину! – как-то заявила она. – Непристойно хорошему учёному ходить в магазины пешком и носить тяжелые сумки. Я уже договорилась, завтра нужно оплатить, – и, не терпящим возражения голосом, добавила, – новенький опель должен тебе понравиться. За опелем последовала норковая шубка, да такая, чтоб ни у кого не было, брильянты авторской работы, а потом вдруг Галочка исчезла. А вместе с ней исчезла и немецкая мягкая мебель. Оставленная на столе записка гласила: «Прости, милый, я полюбила другого…» Другим оказался именитый профессор с большим кошельком, четырёхкомнатной квартирой и дорогой машиной.
Платоша тосковал недолго, так как утешить брошенного заведующего отделом пришла белокурая Вероника, работающая лаборанткой в институте. Утешились они милым гнёздышком – трёхкомнатной квартирой, так как ничего не должно напоминать о прошлом, чёрным BMW и участком под дачу в престижном дачном массиве. Постепенно Платон превратился в Платона Эдуардовича – руководителя отдела, куратора крупных проектов, над которыми, не покладая рук, работали молодые специалисты, а он получал славу, дополненную знаками отличия и премиями. Его стали приглашать на различные совещания и заседания, к нему прислушивались, его мнение считалось чуть ли не приоритетным, хотя все знали, кто на самом деле на него работает. Он же купил себе трость, шляпу, ходил важный, козыряя своим положением.
Вероника задержалась недолго. Она исчезла также быстро, как и появилась, прихватив с собой новенький BMW. Вскоре на горизонте замаячила Шурочка – женщина эпохи Ренессанса (так сама себя называла), невесть откуда взявшаяся. «Я тебя сама нашла», – как-то разоткровенничалась она во время очередного отдыха на море в одной из зарубежных стран. Шурочка не любила готовить, поэтому они частенько ужинали в ресторане, запивая изысканные блюда дорогими винами. Благодаря её стараниям, у них появился двухэтажный загородный дом. Но, наученный горьким опытом, Платон Эдуардович оформил недвижимость на себя, чем вызвал бурю негодования Шурочки. Обиженная на весь мир, она, собрав вещи, гордо удалилась из его жизни.
Сейчас он жил один в трехкомнатной квартире в престижном районе города и имел всё, что нужно для хорошей обеспеченной жизни, в том числе хорошо обставленный загородный дом на берегу реки.
Женщины его больше не интересовали.
Ему и без них жилось неплохо.
«Галочка, Вероника, Шурочка, – театрально произнёс Платон Эдуардович, вставая со скамейки. – Ах, эти женщины! Всё суета, всё вздор! Разве я в чём виноват?! Какое нынче время, такие нравы!»
Он некоторое время постоял, видимо раздумывая, куда пойти дальше, но тут услышал, как умопомрачительно выводила своё незабываемое «ква» какая-то особь. Встал со скамьи и подошёл к воде. На листе кувшинки сидела толстая зелёная лягушка. Она внимательно посмотрела на человека, посмевшего прервать её пение, недовольно квакнула и юркнула в воду. Платон Эдуардович с умилением смотрел, как рябь расплывается по глади пруда. Постепенно, потревоженная вода, успокоилась, и, словно в зеркале, он увидел себя… Приземистый, с плешью на голове, с располневшим брюшком, с невыразительным лицом с провисшим вторым подбородком – этот автопортрет чем-то напомнил ему только что исчезнувшую в толще вод земноводную.
«М-да! – озадачено произнёс он. – Время, время…»
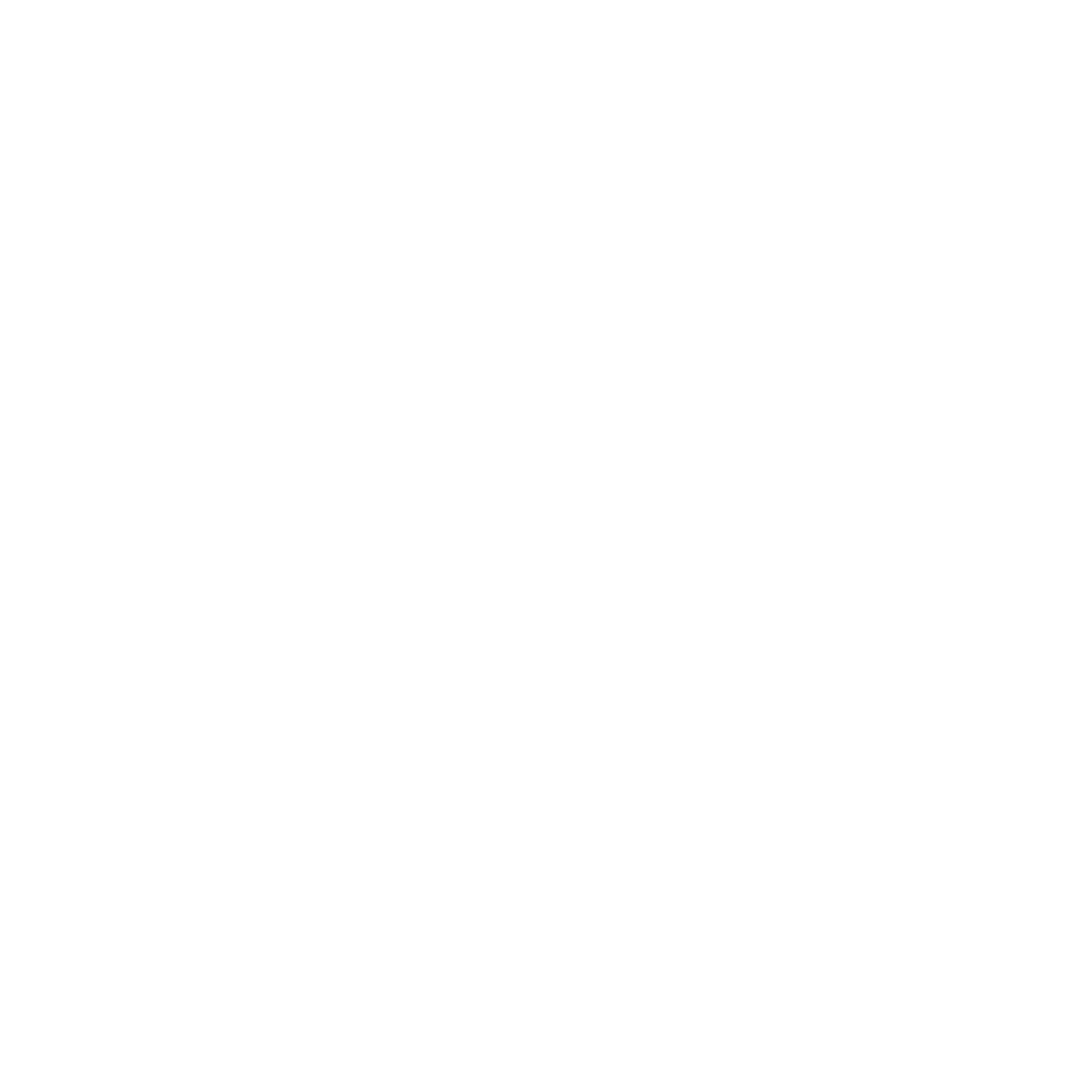
Нина КРОМИНА
Родилась и живёт в Москве. Окончила Московский университет культуры и информации. Выпускница Высших литературных курсов при Литературном институте им. Горького. Публиковаться начала в 2011 году. Печаталась в журналах «Простор» (Казахстан), «Вологодская литература», «Москва», «Звезда», «Новый журнал», «Наш современник», сборниках «Точки», «Мастерская Е.К. Антология современной петербургской прозы», в альманахах «Путь мастерства-2», «Путь мастерства-3», «ЛитЭра», «Притяжение» (Культурный центр «Фелисион»), «Параллели» (г. Самара), интернет-издании «Отчее слово», на сайте «Писатель в интернет-пространстве». Лауреат фестиваля «Славянские традиции» (2014, 2017 гг.). Автор книги «В городе и на отшибе» (2015 г.).
Член Союза писателей России.
Родилась и живёт в Москве. Окончила Московский университет культуры и информации. Выпускница Высших литературных курсов при Литературном институте им. Горького. Публиковаться начала в 2011 году. Печаталась в журналах «Простор» (Казахстан), «Вологодская литература», «Москва», «Звезда», «Новый журнал», «Наш современник», сборниках «Точки», «Мастерская Е.К. Антология современной петербургской прозы», в альманахах «Путь мастерства-2», «Путь мастерства-3», «ЛитЭра», «Притяжение» (Культурный центр «Фелисион»), «Параллели» (г. Самара), интернет-издании «Отчее слово», на сайте «Писатель в интернет-пространстве». Лауреат фестиваля «Славянские традиции» (2014, 2017 гг.). Автор книги «В городе и на отшибе» (2015 г.).
Член Союза писателей России.
ТРОФЕИ
Маргарита Владимировна стояла у окна, с тревогой ожидая Надю: ругала себя за то, что дала волю немощи и не пошла с внучкой в магазин. Она боялась, что к Наде опять пристанут мальчишки, будут смеяться над ней, обижать. Надя, которая и в раннем детстве была упитанной и крупной девочкой, за последний год изменилась, грудь у нее выросла так, что вся одежда оказалась мала и даже зеленое, в разноцветный горошек платье, недавно купленное на вырост, с трудом вмещало новое Надино тело. Надя не понимала, что она уже не девочка, но и не была готова считать себя женщиной: по-прежнему ходила, загребая ногами, давала сдачи мальчишкам, усаживаясь перед телевизором, жевала булочки, конфеты или просто куски хлеба, посыпанные сахаром. Одно время Маргарита Владимировна просила Надю не есть столько сладкого, пыталась объяснить ей, что это вредно для здоровья, да и денег у них на лакомства нет. Но убедить в чем-то Надю, которая всегда настаивала на своем, она, конечно, не могла, знала, все обязательно закончится истерикой: сначала Надя заплачет, потом закричит, повалится на пол, начнет стучать ногами, биться головой. Ее лицо, и без того некрасивое, станет звериным, изо рта потекут слюни, потом Надя потеряет сознание, и тогда скорая, уколы…
По-прежнему вглядываясь в просвет между домами, думала Маргарита Владимировна о том, как в такой благополучной семье могла родиться больная девочка. И еще она думала о том, что скоро не сможет уберечь Надю от дворовых мальчишек, которые когда-нибудь уволокут ее в какую-нибудь подворотню… И вообще, как Надя будет жить, когда Маргарита Владимировна жить уже не будет?
Наконец увидев за окном Надю, Маргарита Владимировна поспешила к входной двери. Открыла замок и вышла на лестничную площадку, глядя в пролет. Поднимаясь по лестнице, Надя громко, с одышкой дышала. Но лифтом она не пользовалась, боялась. Кажется, это было единственное, в чем Маргарита Владимировна сумела убедить внучку. Хотя, конечно, тут помог случай: как-то Надя с бабушкой застряли в лифте между этажами и просидели в нем несколько часов. Теперь Надю беспокоило даже его приближение.
Увидев бабушку, Надя радостно забасила:
— Все, ба, хватит копейки считать. На работу устраиваюсь.
Какой-то мужчина, спускавшийся с верхнего этажа, с усмешкой посмотрел на них.
— На работу? Да кто же возьмет инвалида на работу?! — возопила Маргарита Владимировна, одновременно испуганно глядя на незнакомца и уже подталкивая Надю к двери. Ей вдруг стало очень холодно, и на какое-то время она будто остолбенела: перед ней вставала проблема, с которой она не знала, как справиться.
— Халид с рынка! — Надя протянула бабушке руку, согнутую в локте. — На, пощупай мои мускулы.
И тут же принялась взволнованно-радостно рассказывать о том, как она зашла на рынок и стояла там возле прилавка с выпечкой, глядя на булочки. И как к ней подошел важный толстогубый толстяк и спросил, любит ли она сладкое, потом велел одному молодому парню дать ей всякой сдобы с собой и пригласил завтра выходить на работу.
— Ба, ставь чайник. Сейчас поедим! — возбужденно почти кричала внучка, и Маргарита Владимировна уже боялась, как бы у Нади не начался припадок.
Стараясь не показывать внучке свой страх, как всегда, спокойно Маргарита Владимировна сказала:
— Надюша, он пошутил.
— Да ну тебя! Всегда ты так, — нахмурившись и топнув ногой, сердито сказала Надя.
И по лицу Нади сквозняком прошла первая судорога.
Маргарита Владимировна, конечно, знала, сколько ни говори, ни убеждай внучку, все будет только раздражать Надю, поэтому с упавшим сердцем, думая только о том, как бы не разрыдаться, прошла в свою комнату, там легла на постель и, уткнувшись в подушку, тихо заплакала. Она слышала, как за стеной шумел чайник и ее внучка напевала что-то веселое.
Маргарита Владимировна проплакала всю ночь. Она понимала, что не сможет теперь уберечь Надю от этой жизни. Она давно свыклась со своей долей, с тем, что уже десять лет живет без мужа, дочери, с больной от рождения внучкой. Привыкла к тому, что раз в год ей приходится ходить в органы опеки и выкупать там Надю, вкладывая в карман инспекторши скромный конверт с деньгами. Давно примирилась с тем, что в этой новой жизни, которая совсем немногих озолотила, убив при этом многих, для нее не осталось ничего более-менее ценного от той старой жизни, которая, может, и казалась порой скудной, но всегда воспринималась Маргаритой Владимировной как счастье.
И теперь здесь у Маргариты Владимировны оставалась только Надежда. Она была в ее жизни всем: последней любовью, последней радостью и вообще последним, ради чего ей стоило, нет, ради чего она была обязана жить и ради чего она клеила вечерами бесконечные коробочки для какой-то компании, надеясь получить добавку к пенсии и как-то избежать интерната, в который социальные тетки пытались упечь Надю.
Но здоровье Маргариты Владимировны становилось все хуже. Участковая врачиха, которую нет-нет да приходилось вызывать на дом, забегала ненадолго, да и то все больше ругала Маргариту Владимировну за то, что та не оформляет Надю в интернат. Отказывалась от коробки конфет, которую Маргарита Владимировна берегла на всякий случай, ухмыляясь бросала взгляд на обрывки картонных заготовок, которые уже вечером должны были превратиться в коробочки для лекарств. Только складывать да склеивать заготовки Маргарите Владимировне становилось все труднее. Надя же такую тонкую работу и вовсе делать не могла и, когда бабушка просила ее помочь, только злилась да кричала, а однажды даже ударила ее по лицу.
В эту ночь Маргарита Владимировна не смогла уснуть. Слышала, как у Нади опять до утра работал телевизор, слышала пьяные крики с улицы, шум проезжавших под окном машин, потом лай собак, грохот мусорных баков, воющие звуки автомобильной сигнализации и плач детей, которых родители тянули в детские сады. И все думала о том, как уговорить Надю не идти на рынок. И сна совсем не было, а если он и приходил, прогоняла, потому что главное теперь было — не пустить Надю туда. Но как?! Взять и умереть перед ней? Под утро она все же забылась на несколько минут, но тут же проснулась и сразу, испугавшись тишины в квартире, бросилась в комнату внучки. А там — лежащее на полу одеяло, разбросанные фантики от конфет, огрызки яблок…
«Не удержала!» — охнула Маргарита Владимировна.
Не зная, что ей теперь делать, Маргарита Владимировна ходила по квартире, то и дело заглядывая в комнату к Наде, словно она там могла вдруг найтись где-то за тумбочкой. Неожиданно ее взгляд упал на стену. Оттуда с фотографии смотрел на нее улыбающийся муж, еще в военной форме. Кажется, это фото было сделано в сорок пятом… И тут она кое-что вспомнила. Из кухни принесла табурет, на него поставила стул и кое-как вскарабкалась на него. Открыла антресоль и принялась скидывать на пол какие-то кульки, тряпки. Наконец нашла что искала, кое-как слезла на пол. Прижимая к груди завернутый в пожелтевшую газету сверток, вошла в кухню, там развернула. Мелькнула фотография Сталина в траурной рамке. Небольшая, белого металла коробочка, доверху заполненная некогда ценными, а теперь никому не нужными иголками для швейных машинок. Это был свадебный подарок мужа. Маргарита Владимировна погладила блестящую поверхность коробки, потом принялась что-то искать на ней. «Если серебряная, должно быть клеймо», — думала она. Не найдя никаких отметин на коробке, взяла с подоконника свежую газету, одну из тех, которые запихивают в почтовые ящики вместе с рекламными листками, и увидела лицо молодого мужчины, поразившее ее решительным взглядом стальных глаз и волевым подбородком. «Голосуйте за Навального!» — прочитала она. Обернула в эту новую газету коробочку, оделась и вышла из квартиры.
До рынка было недалеко, через сквер минут пятнадцать. Но Маргарита Владимировна шла долго, потому что дыхание то и дело прерывалось, а сердце стучало так громко, что прохожие то и дело бросали на нее удивленные взгляды. Она уже подходила к рынку, когда мимо нее, заполняя собой всю проезжую часть, прокатил черный автомобиль. Ей даже пришлось отойти в сторону. Из машины вывалился приземистый пузатый мужчина, несший себя вперед как абсолютную ценность, и Маргарита Владимировна почему-то сразу поняла, что это и есть Халид. Мужчина вяло махнул рукой шоферу и нехотя вошел в здание рынка.
А Маргарита Владимировна вдруг ощутила такую вялость, что не могла бы теперь сделать ни шагу. Однако там была ее внучка, и Маргарита Владимировна все же открыла дверь.
За одним из прилавков она сразу увидела Надю и рядом с ней кривлявшегося паренька лет восемнадцати, с густой челкой на глазах, который все пытался схватить Надю за грудь и при этом громко смеялся. Надя отталкивала его и что-то кричала, впрочем не сердито. Маргарита Владимировна была готова уже броситься внучке на помощь, схватить ее за руку и утащить с рынка, но вместо этого решительно направилась к Халиду. Почувствовав на себе чей-то напряженный взгляд, Халид занервничал, но, увидев старую женщину, внимательно смотревшую на него, только сказал:
— Чего надо, уважаемая?
— Вот, возьмите, — жалко улыбнувшись, сказала Маргарита Владимировна и протянула коробочку Халиду. — Это у меня от мужа осталось. С фронта трофей привез. Она серебряная, вы только клеймо поищите. Раньше это очень ценилось. Больше у меня ничего нет. Это вам… за Надю. Прошу, не обижайте ее.
Будто вспоминая что-то, Халид смотрел на коробочку, потом взял ее из рук Маргариты Владимировны и открыл. Завернутые в чуть просвечивающий пергамент, перед ним лежали швейные иглы. Точно такие, какими шила мама Халида, вынимая их из такой же серебристой коробочки. «Халид, смотри. Твой отец с войны привез!» — любила повторять она, улыбаясь при этом как-то особенно счастливо. И Халид уже почувствовал запах свежей лепешки с ароматом печного дыма, уже видел, как мать, молодая, с гордо откинутой назад головой, сидит у окна с этой коробочкой на коленях и смотрит куда-то вдаль. Он видел голубое небо, рыжую гору над аулом — где-то там теперь лежали его отец и мать. Кровь медленно схлынула с лица Халида…
Когда он пришел в себя, старой женщины рядом уже не было. А ему хотелось сказать ей сейчас, что все будет хорошо, что он, конечно, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах…
Но за прилавком со сдобой стояла с некрасивым лицом и безумными глазами девочка в зеленом, с разноцветным горохом платье и изо всех сил отталкивала от себя его шкодливого племянника.
Маргарита Владимировна стояла у окна, с тревогой ожидая Надю: ругала себя за то, что дала волю немощи и не пошла с внучкой в магазин. Она боялась, что к Наде опять пристанут мальчишки, будут смеяться над ней, обижать. Надя, которая и в раннем детстве была упитанной и крупной девочкой, за последний год изменилась, грудь у нее выросла так, что вся одежда оказалась мала и даже зеленое, в разноцветный горошек платье, недавно купленное на вырост, с трудом вмещало новое Надино тело. Надя не понимала, что она уже не девочка, но и не была готова считать себя женщиной: по-прежнему ходила, загребая ногами, давала сдачи мальчишкам, усаживаясь перед телевизором, жевала булочки, конфеты или просто куски хлеба, посыпанные сахаром. Одно время Маргарита Владимировна просила Надю не есть столько сладкого, пыталась объяснить ей, что это вредно для здоровья, да и денег у них на лакомства нет. Но убедить в чем-то Надю, которая всегда настаивала на своем, она, конечно, не могла, знала, все обязательно закончится истерикой: сначала Надя заплачет, потом закричит, повалится на пол, начнет стучать ногами, биться головой. Ее лицо, и без того некрасивое, станет звериным, изо рта потекут слюни, потом Надя потеряет сознание, и тогда скорая, уколы…
По-прежнему вглядываясь в просвет между домами, думала Маргарита Владимировна о том, как в такой благополучной семье могла родиться больная девочка. И еще она думала о том, что скоро не сможет уберечь Надю от дворовых мальчишек, которые когда-нибудь уволокут ее в какую-нибудь подворотню… И вообще, как Надя будет жить, когда Маргарита Владимировна жить уже не будет?
Наконец увидев за окном Надю, Маргарита Владимировна поспешила к входной двери. Открыла замок и вышла на лестничную площадку, глядя в пролет. Поднимаясь по лестнице, Надя громко, с одышкой дышала. Но лифтом она не пользовалась, боялась. Кажется, это было единственное, в чем Маргарита Владимировна сумела убедить внучку. Хотя, конечно, тут помог случай: как-то Надя с бабушкой застряли в лифте между этажами и просидели в нем несколько часов. Теперь Надю беспокоило даже его приближение.
Увидев бабушку, Надя радостно забасила:
— Все, ба, хватит копейки считать. На работу устраиваюсь.
Какой-то мужчина, спускавшийся с верхнего этажа, с усмешкой посмотрел на них.
— На работу? Да кто же возьмет инвалида на работу?! — возопила Маргарита Владимировна, одновременно испуганно глядя на незнакомца и уже подталкивая Надю к двери. Ей вдруг стало очень холодно, и на какое-то время она будто остолбенела: перед ней вставала проблема, с которой она не знала, как справиться.
— Халид с рынка! — Надя протянула бабушке руку, согнутую в локте. — На, пощупай мои мускулы.
И тут же принялась взволнованно-радостно рассказывать о том, как она зашла на рынок и стояла там возле прилавка с выпечкой, глядя на булочки. И как к ней подошел важный толстогубый толстяк и спросил, любит ли она сладкое, потом велел одному молодому парню дать ей всякой сдобы с собой и пригласил завтра выходить на работу.
— Ба, ставь чайник. Сейчас поедим! — возбужденно почти кричала внучка, и Маргарита Владимировна уже боялась, как бы у Нади не начался припадок.
Стараясь не показывать внучке свой страх, как всегда, спокойно Маргарита Владимировна сказала:
— Надюша, он пошутил.
— Да ну тебя! Всегда ты так, — нахмурившись и топнув ногой, сердито сказала Надя.
И по лицу Нади сквозняком прошла первая судорога.
Маргарита Владимировна, конечно, знала, сколько ни говори, ни убеждай внучку, все будет только раздражать Надю, поэтому с упавшим сердцем, думая только о том, как бы не разрыдаться, прошла в свою комнату, там легла на постель и, уткнувшись в подушку, тихо заплакала. Она слышала, как за стеной шумел чайник и ее внучка напевала что-то веселое.
Маргарита Владимировна проплакала всю ночь. Она понимала, что не сможет теперь уберечь Надю от этой жизни. Она давно свыклась со своей долей, с тем, что уже десять лет живет без мужа, дочери, с больной от рождения внучкой. Привыкла к тому, что раз в год ей приходится ходить в органы опеки и выкупать там Надю, вкладывая в карман инспекторши скромный конверт с деньгами. Давно примирилась с тем, что в этой новой жизни, которая совсем немногих озолотила, убив при этом многих, для нее не осталось ничего более-менее ценного от той старой жизни, которая, может, и казалась порой скудной, но всегда воспринималась Маргаритой Владимировной как счастье.
И теперь здесь у Маргариты Владимировны оставалась только Надежда. Она была в ее жизни всем: последней любовью, последней радостью и вообще последним, ради чего ей стоило, нет, ради чего она была обязана жить и ради чего она клеила вечерами бесконечные коробочки для какой-то компании, надеясь получить добавку к пенсии и как-то избежать интерната, в который социальные тетки пытались упечь Надю.
Но здоровье Маргариты Владимировны становилось все хуже. Участковая врачиха, которую нет-нет да приходилось вызывать на дом, забегала ненадолго, да и то все больше ругала Маргариту Владимировну за то, что та не оформляет Надю в интернат. Отказывалась от коробки конфет, которую Маргарита Владимировна берегла на всякий случай, ухмыляясь бросала взгляд на обрывки картонных заготовок, которые уже вечером должны были превратиться в коробочки для лекарств. Только складывать да склеивать заготовки Маргарите Владимировне становилось все труднее. Надя же такую тонкую работу и вовсе делать не могла и, когда бабушка просила ее помочь, только злилась да кричала, а однажды даже ударила ее по лицу.
В эту ночь Маргарита Владимировна не смогла уснуть. Слышала, как у Нади опять до утра работал телевизор, слышала пьяные крики с улицы, шум проезжавших под окном машин, потом лай собак, грохот мусорных баков, воющие звуки автомобильной сигнализации и плач детей, которых родители тянули в детские сады. И все думала о том, как уговорить Надю не идти на рынок. И сна совсем не было, а если он и приходил, прогоняла, потому что главное теперь было — не пустить Надю туда. Но как?! Взять и умереть перед ней? Под утро она все же забылась на несколько минут, но тут же проснулась и сразу, испугавшись тишины в квартире, бросилась в комнату внучки. А там — лежащее на полу одеяло, разбросанные фантики от конфет, огрызки яблок…
«Не удержала!» — охнула Маргарита Владимировна.
Не зная, что ей теперь делать, Маргарита Владимировна ходила по квартире, то и дело заглядывая в комнату к Наде, словно она там могла вдруг найтись где-то за тумбочкой. Неожиданно ее взгляд упал на стену. Оттуда с фотографии смотрел на нее улыбающийся муж, еще в военной форме. Кажется, это фото было сделано в сорок пятом… И тут она кое-что вспомнила. Из кухни принесла табурет, на него поставила стул и кое-как вскарабкалась на него. Открыла антресоль и принялась скидывать на пол какие-то кульки, тряпки. Наконец нашла что искала, кое-как слезла на пол. Прижимая к груди завернутый в пожелтевшую газету сверток, вошла в кухню, там развернула. Мелькнула фотография Сталина в траурной рамке. Небольшая, белого металла коробочка, доверху заполненная некогда ценными, а теперь никому не нужными иголками для швейных машинок. Это был свадебный подарок мужа. Маргарита Владимировна погладила блестящую поверхность коробки, потом принялась что-то искать на ней. «Если серебряная, должно быть клеймо», — думала она. Не найдя никаких отметин на коробке, взяла с подоконника свежую газету, одну из тех, которые запихивают в почтовые ящики вместе с рекламными листками, и увидела лицо молодого мужчины, поразившее ее решительным взглядом стальных глаз и волевым подбородком. «Голосуйте за Навального!» — прочитала она. Обернула в эту новую газету коробочку, оделась и вышла из квартиры.
До рынка было недалеко, через сквер минут пятнадцать. Но Маргарита Владимировна шла долго, потому что дыхание то и дело прерывалось, а сердце стучало так громко, что прохожие то и дело бросали на нее удивленные взгляды. Она уже подходила к рынку, когда мимо нее, заполняя собой всю проезжую часть, прокатил черный автомобиль. Ей даже пришлось отойти в сторону. Из машины вывалился приземистый пузатый мужчина, несший себя вперед как абсолютную ценность, и Маргарита Владимировна почему-то сразу поняла, что это и есть Халид. Мужчина вяло махнул рукой шоферу и нехотя вошел в здание рынка.
А Маргарита Владимировна вдруг ощутила такую вялость, что не могла бы теперь сделать ни шагу. Однако там была ее внучка, и Маргарита Владимировна все же открыла дверь.
За одним из прилавков она сразу увидела Надю и рядом с ней кривлявшегося паренька лет восемнадцати, с густой челкой на глазах, который все пытался схватить Надю за грудь и при этом громко смеялся. Надя отталкивала его и что-то кричала, впрочем не сердито. Маргарита Владимировна была готова уже броситься внучке на помощь, схватить ее за руку и утащить с рынка, но вместо этого решительно направилась к Халиду. Почувствовав на себе чей-то напряженный взгляд, Халид занервничал, но, увидев старую женщину, внимательно смотревшую на него, только сказал:
— Чего надо, уважаемая?
— Вот, возьмите, — жалко улыбнувшись, сказала Маргарита Владимировна и протянула коробочку Халиду. — Это у меня от мужа осталось. С фронта трофей привез. Она серебряная, вы только клеймо поищите. Раньше это очень ценилось. Больше у меня ничего нет. Это вам… за Надю. Прошу, не обижайте ее.
Будто вспоминая что-то, Халид смотрел на коробочку, потом взял ее из рук Маргариты Владимировны и открыл. Завернутые в чуть просвечивающий пергамент, перед ним лежали швейные иглы. Точно такие, какими шила мама Халида, вынимая их из такой же серебристой коробочки. «Халид, смотри. Твой отец с войны привез!» — любила повторять она, улыбаясь при этом как-то особенно счастливо. И Халид уже почувствовал запах свежей лепешки с ароматом печного дыма, уже видел, как мать, молодая, с гордо откинутой назад головой, сидит у окна с этой коробочкой на коленях и смотрит куда-то вдаль. Он видел голубое небо, рыжую гору над аулом — где-то там теперь лежали его отец и мать. Кровь медленно схлынула с лица Халида…
Когда он пришел в себя, старой женщины рядом уже не было. А ему хотелось сказать ей сейчас, что все будет хорошо, что он, конечно, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах…
Но за прилавком со сдобой стояла с некрасивым лицом и безумными глазами девочка в зеленом, с разноцветным горохом платье и изо всех сил отталкивала от себя его шкодливого племянника.
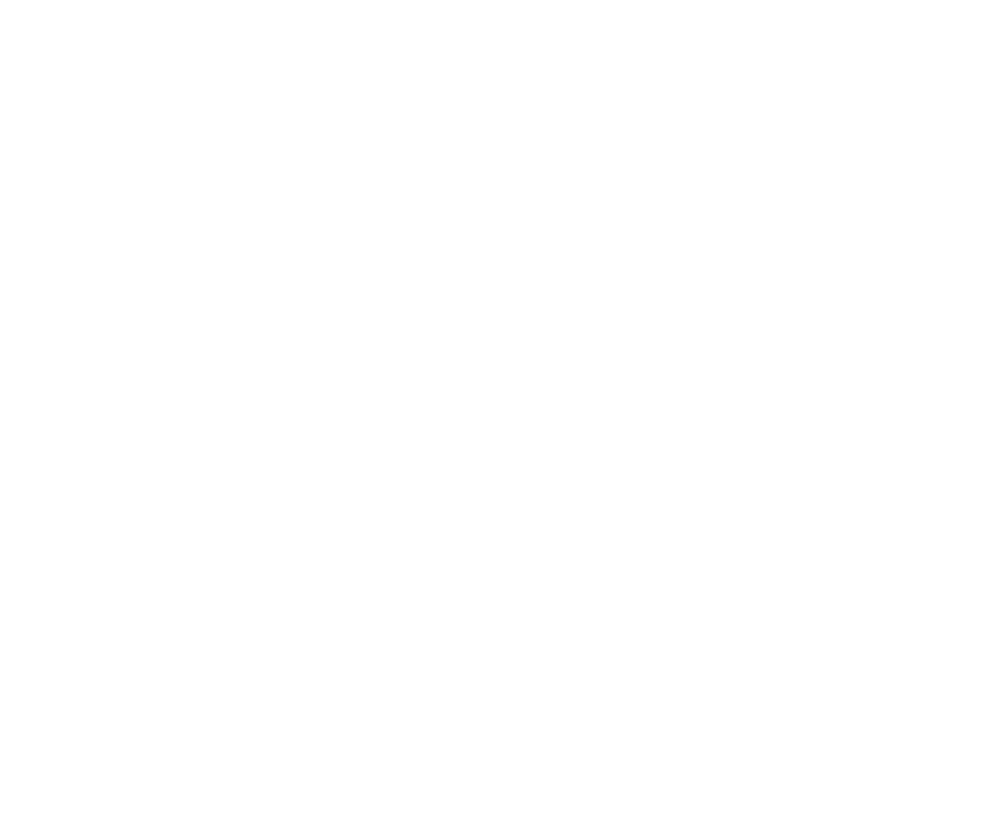
Николай ШОЛАСТЕР
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал не долго, вскоре, начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году, привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году освободившись от занимаемой должности, в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить, давно терзающий душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал не долго, вскоре, начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году, привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году освободившись от занимаемой должности, в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить, давно терзающий душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
ГРОМ
Вот и кончается лето, не успеешь моргнуть, зевнуть и потянуться, как засверкают, кружась и падая на землю, первые снежинки. Люблю за ними гоняться, выбираю себе самую вертлявую, самую изворотливую, разбегусь, потом подпрыгну и хвать ее зубами! Не всегда, правда, получается, но какой азарт, какое веселье для души и гимнастика для всего тела! Бывает, что долго так забавляешься, лапы уже все в грязи запачканы, а домой, однако, уже пора, хозяину-то некогда, не может же он со мной тут целый день торчать.
Ах да, забыл представиться!
Я – собака.
Да, рыжая кавказская овчарка по имени Гром, меня так назвали за мой внушительный громкий лай, он у меня с детства такой. Хозяин мой, Шпеер Глеб Артемьевич, человек не простой, литературовед, на филологическом факультете студентов учит, главный он там у них! В общем, я безмерно горжусь своим пребыванием в его семье.
А соседский мальчишка, Колька, даже утверждает, что мы с Глебом похожи! Вот чудак, – ну как собака на человека может быть похожа? Еще наоборот, согласен, бывает. Да как еще бывает-то, смотришь на некоторых, и на четвереньки встают, и лают, и туалет у них под каждым столбом. Ну, собака настоящая. Глеб же вовсе не такой, он настоящий, культурный человек! Ну, а сосед-то не со зла так думает, просто ребенок еще, что с него взять!
Кстати, Колька, тот еще перец, мастер на всякие выдумки! Собак, однако, он давно уже боится, видно куснул его кто-то когда-то, может и не сильно и не со зла, но напугал крепко и надолго. Вот и не получается никак у нас с ним взаимопонимания и доверия. А мне жаль, я приличный пес, из приличной семьи, не какая-нибудь, там, шавка брехучая.
Мы живем в двухэтажном домике, на первом этаже я с Глебом и семьей, а на втором Колька с родителями и Вульфсоны, у них Сашка-сын, но он уже большой, в седьмой класс ходит, не то, что Колька-второклассник. С Сашкой проблем никаких, полное согласие и понимание, а вот этот «собака-бояка» чудит из-за своих комплексов.
Небольшая широкая лестница прямо с улицы упирается ступеньками в обе наши двери. Одна ведет на второй этаж, а соседняя, к нам. Ну, понятно, я постоянно там сижу за дверью в небольшой прихожей. Чтобы мне не душно было, дверь всегда приоткрыта, но на цепочке, чтобы я сдуру не убежал куда. И вот чудик этот боится, что я залаю. Да я только на чужих лаю! Дурак я что ли, на своих пасть раскрывать! Хотя, впрочем…. Ну, было разок, что греха таить, задремал как-то, а этот из школы пришел, я спросонья не разобрался и тявкнул, так пару раз-то всего!
А ему, как я понимаю, страшнее всего неожиданность события, когда я уже лаю, он не так боится, прижмется к стене и быстро, быстро пробегает к своей двери. И вот что удумал, крендель этакий. Теперь приходит когда, из своей школы или с гулянья, берет камушки и кидает в мою дверь, кидает до тех пор, пока не залаю! А мне-то делать, что ли нечего, кидаться каждый раз, ведь чую носом, он! Мне ведь бывает и не до него совсем, свои имеются дела, понимаешь, а то и устал и неохота подниматься из-за пустяков.
Хотя, иногда бывает, и сам ему подыгрываю. Чую, приперся, стоит, переминается с ноги на ногу нерешительный такой, потом – «бум, бум», камушки полетели, ну я ему, как положено:
– Гав, гав! Проходите товарищ генерал! Я на чеку, враг не пройдет! – докладываю, стало быть, обстановку. А он по стеночке, по стеночке, потом шасть в свою дверь и уже, слышу, спокойно по лестнице к себе поднимается. Еще и песню поет! Ну что ему меня бояться? Сколько раз говорил ему:
– Не укушу! Не бойся, я своих не трогаю! Только не зли меня и не беспокой понапрасну, – а он, то ли не понимает, то ли не верит. Вот уж действительно, «собака-бояка»!
Но как-то раз собрались все три семьи у нас, у Глеба Артемьевича день рождения был. Глеб сразу мне сказал:
– Гром, на место! Сиди в этой комнате, а мы в той праздновать будем.
Ну, я, конечно, послушался, как иначе. Потом застолье кончилось, все разбрелись по интересам, как полагается, взрослые в одну сторону, разговоры разговаривать, да анекдоты травить, дети в другую. Сашка с Танькой, дочкой Глеба, одногодки, у них свои интересы, а Колька-то маленький, им с ним скучно, бросили они его. И мне тоже скучно стало, не выдержал я, вышел. Колька сразу напрягся, задрожал, сейчас заплачет. Глеб снова мне:
– Гром, на место! Кому сказал!
А Сашка с Танькой в один голос:
– Да не бойся ты его, он тебя любит! Он к тебе поиграть пришел!
Я подошел к нему, как можно осторожнее, уткнулся ему в грудь своим влажным, холодным носом и говорю:
– Колька, не бойся меня, я тебя так люблю, ты же тут самый маленький, как тебя не любить!
И тут…. О, чудо! Наконец-таки, понял он меня, обнял и крепко прижался всем телом! Вот, давно бы так, а то все «боюсь, боюсь». Так мы с ним весь вечер и просидели. Играли в разные веселые игры и расставаться совсем не хотели. А напоследок сказал я ему:
– Жаль не увижу тебя, когда ты вырастешь, собаки-то меньше людей живут, но так интересно было бы посмотреть! Кем ты там будешь, может литератором, как Глеб? Не знаю уж! Но, обещай, если вдруг писателем, там каким станешь или просто сочинение какое-нибудь писать будешь, черкани про меня хоть пару строчек…
Вот и кончается лето, не успеешь моргнуть, зевнуть и потянуться, как засверкают, кружась и падая на землю, первые снежинки. Люблю за ними гоняться, выбираю себе самую вертлявую, самую изворотливую, разбегусь, потом подпрыгну и хвать ее зубами! Не всегда, правда, получается, но какой азарт, какое веселье для души и гимнастика для всего тела! Бывает, что долго так забавляешься, лапы уже все в грязи запачканы, а домой, однако, уже пора, хозяину-то некогда, не может же он со мной тут целый день торчать.
Ах да, забыл представиться!
Я – собака.
Да, рыжая кавказская овчарка по имени Гром, меня так назвали за мой внушительный громкий лай, он у меня с детства такой. Хозяин мой, Шпеер Глеб Артемьевич, человек не простой, литературовед, на филологическом факультете студентов учит, главный он там у них! В общем, я безмерно горжусь своим пребыванием в его семье.
А соседский мальчишка, Колька, даже утверждает, что мы с Глебом похожи! Вот чудак, – ну как собака на человека может быть похожа? Еще наоборот, согласен, бывает. Да как еще бывает-то, смотришь на некоторых, и на четвереньки встают, и лают, и туалет у них под каждым столбом. Ну, собака настоящая. Глеб же вовсе не такой, он настоящий, культурный человек! Ну, а сосед-то не со зла так думает, просто ребенок еще, что с него взять!
Кстати, Колька, тот еще перец, мастер на всякие выдумки! Собак, однако, он давно уже боится, видно куснул его кто-то когда-то, может и не сильно и не со зла, но напугал крепко и надолго. Вот и не получается никак у нас с ним взаимопонимания и доверия. А мне жаль, я приличный пес, из приличной семьи, не какая-нибудь, там, шавка брехучая.
Мы живем в двухэтажном домике, на первом этаже я с Глебом и семьей, а на втором Колька с родителями и Вульфсоны, у них Сашка-сын, но он уже большой, в седьмой класс ходит, не то, что Колька-второклассник. С Сашкой проблем никаких, полное согласие и понимание, а вот этот «собака-бояка» чудит из-за своих комплексов.
Небольшая широкая лестница прямо с улицы упирается ступеньками в обе наши двери. Одна ведет на второй этаж, а соседняя, к нам. Ну, понятно, я постоянно там сижу за дверью в небольшой прихожей. Чтобы мне не душно было, дверь всегда приоткрыта, но на цепочке, чтобы я сдуру не убежал куда. И вот чудик этот боится, что я залаю. Да я только на чужих лаю! Дурак я что ли, на своих пасть раскрывать! Хотя, впрочем…. Ну, было разок, что греха таить, задремал как-то, а этот из школы пришел, я спросонья не разобрался и тявкнул, так пару раз-то всего!
А ему, как я понимаю, страшнее всего неожиданность события, когда я уже лаю, он не так боится, прижмется к стене и быстро, быстро пробегает к своей двери. И вот что удумал, крендель этакий. Теперь приходит когда, из своей школы или с гулянья, берет камушки и кидает в мою дверь, кидает до тех пор, пока не залаю! А мне-то делать, что ли нечего, кидаться каждый раз, ведь чую носом, он! Мне ведь бывает и не до него совсем, свои имеются дела, понимаешь, а то и устал и неохота подниматься из-за пустяков.
Хотя, иногда бывает, и сам ему подыгрываю. Чую, приперся, стоит, переминается с ноги на ногу нерешительный такой, потом – «бум, бум», камушки полетели, ну я ему, как положено:
– Гав, гав! Проходите товарищ генерал! Я на чеку, враг не пройдет! – докладываю, стало быть, обстановку. А он по стеночке, по стеночке, потом шасть в свою дверь и уже, слышу, спокойно по лестнице к себе поднимается. Еще и песню поет! Ну что ему меня бояться? Сколько раз говорил ему:
– Не укушу! Не бойся, я своих не трогаю! Только не зли меня и не беспокой понапрасну, – а он, то ли не понимает, то ли не верит. Вот уж действительно, «собака-бояка»!
Но как-то раз собрались все три семьи у нас, у Глеба Артемьевича день рождения был. Глеб сразу мне сказал:
– Гром, на место! Сиди в этой комнате, а мы в той праздновать будем.
Ну, я, конечно, послушался, как иначе. Потом застолье кончилось, все разбрелись по интересам, как полагается, взрослые в одну сторону, разговоры разговаривать, да анекдоты травить, дети в другую. Сашка с Танькой, дочкой Глеба, одногодки, у них свои интересы, а Колька-то маленький, им с ним скучно, бросили они его. И мне тоже скучно стало, не выдержал я, вышел. Колька сразу напрягся, задрожал, сейчас заплачет. Глеб снова мне:
– Гром, на место! Кому сказал!
А Сашка с Танькой в один голос:
– Да не бойся ты его, он тебя любит! Он к тебе поиграть пришел!
Я подошел к нему, как можно осторожнее, уткнулся ему в грудь своим влажным, холодным носом и говорю:
– Колька, не бойся меня, я тебя так люблю, ты же тут самый маленький, как тебя не любить!
И тут…. О, чудо! Наконец-таки, понял он меня, обнял и крепко прижался всем телом! Вот, давно бы так, а то все «боюсь, боюсь». Так мы с ним весь вечер и просидели. Играли в разные веселые игры и расставаться совсем не хотели. А напоследок сказал я ему:
– Жаль не увижу тебя, когда ты вырастешь, собаки-то меньше людей живут, но так интересно было бы посмотреть! Кем ты там будешь, может литератором, как Глеб? Не знаю уж! Но, обещай, если вдруг писателем, там каким станешь или просто сочинение какое-нибудь писать будешь, черкани про меня хоть пару строчек…

Антон ПАНФЕРОВ
Родился в 1980 году в городе Калининград (ныне Королев) Московской области. С 1999 года работает в структуре ОАО «РЖД». Имеет 2 дан по айкидо. В 2015 году окончил РГУТиС (МГУС) по специальности «Экономика труда и управление персоналом». Именно в годы учебы появились на свет первые пробы пера. На первом этапе это были статьи, отчеты, зарисовки на экономические, исторические и социальные темы, которые со временем обросли художественными образами. В 2017 году Антон выпустил свой первый роман: «Сунгирь – тайна древней стоянки». В 2018 вступил в члены Литературного объединения им. Дм. Кедрина (г. Мытищи).
https://www.proza.ru/avtor/bookinist
Родился в 1980 году в городе Калининград (ныне Королев) Московской области. С 1999 года работает в структуре ОАО «РЖД». Имеет 2 дан по айкидо. В 2015 году окончил РГУТиС (МГУС) по специальности «Экономика труда и управление персоналом». Именно в годы учебы появились на свет первые пробы пера. На первом этапе это были статьи, отчеты, зарисовки на экономические, исторические и социальные темы, которые со временем обросли художественными образами. В 2017 году Антон выпустил свой первый роман: «Сунгирь – тайна древней стоянки». В 2018 вступил в члены Литературного объединения им. Дм. Кедрина (г. Мытищи).
https://www.proza.ru/avtor/bookinist
СТРАННАЯ ВСТРЕЧА
Железнодорожная платформа одного из подмосковных городков каждый будний день живет своей обыденной жизнью, радушно встречая пассажиров, спешащих на работу. Ступени, двери вестибюля, шум открывающихся и закрывающихся турникетов, цветные ограждения, газетные киоски, информационные табло и, конечно, большие станционные часы, висящие в центре платформы на столбе, – все это заставляет обращать на себя внимание пассажиров. Каждый спешащий нет-нет да и взглянет на эти часы, сверившись со своими, наручными. Если внимательно понаблюдать, то каждый в отдельности ежедневно делает приблизительно одно и то же. Кто-то курит в сторонке, забившись в уголок, чтобы, не дай бог, не разозлить какого-нибудь придирчивого гражданина, кто-то читает газету, одним глазом поглядывая по сторонам. Кто-то сосредоточенно рассматривает стройные женские ножки, не пропуская ни одной юбки, но большинство из тех, кто оказался в столь ранний час на платформе, просто торчат в телефонах, в ожидании поезда.
Вот из дверей вестибюля показался темный силуэт очередного пассажира. Он шел прямо, целенаправленной армейской походкой, не останавливаясь и не оборачиваясь по сторонам. Им оказался молодой человек лет двадцати. Светлые волосы, голубые глаза, бледное худощавое лицо слегка подернутое еще юношеским пушком. Судя по виду, он был чем-то расстроен. Его сосредоточенное лицо и задумчивый взгляд подтверждали это. Постоянно запахивая на себе черное полупальто, он щурился от налетевшегого потока холодного сентябрьского ветра.
«Зачем я стал ей доказывать свою правоту, ведь мог же промолчать!» – думал он хмурясь. «А она не лучше! Знает прекрасно мой характер и продолжает обижаться. Сколько раз мы ругались на этой почве и ничего…! Почему в этот раз она сказала, что ей надоело?! Значит, не любит. Все это показное! В конце концов, я ничего обидного ей не сказал, просто отстаивал свою точку зрения в тех вопросах, в которых она просто ничего не смыслит. Почему я должен лебезить перед ней?! Да, она мне нравится, но и что с того! Человеку свойственно ошибаться и нужно признавать свои ошибки, а она этого не хочет. На что она рассчитывала, на то, что я с ней соглашусь?! Глупо. Подумаешь, не хочет меня больше видеть! Можно подумать, что на ней свет клином сошелся! Посмотришь, вокруг полно красивых девчонок, стоит только свистнуть.
Пока он размышлял о прошедшем вечере, к перрону медленно подкатилась электричка и ярким светом прожектора осветила все вокруг. Те, кто стояли совсем близко к краю платформы, невольно отпрянули назад. Задние ряды напирали, толпились в местах остановки дверей и не собирались сдавать своих позиций. Молодой человек стоял спокойно. Он изначально занял проверенную позицию, и не сомневался, что двери остановятся именно в том месте, где он стоит, и ему удастся первом заскочить внутрь и занять вакантное место.
Но ему не повезло, впрочем, как и многим, кто стоял рядом. Двери в этом месте не открылись. «Поцеловав» белую табличку с надписью «автоматические двери не работают», пассажиры, обгоняя друг друга, помчались в другую сторону вагона. По иронии судьбы, молодой человек, несмотря на юный свой возраст, оказался в конце забега.
«Плохая примета!» – подумал он поежившись, после того как один грузный мужичок припечатал его к стене. «День начался не лучшим образом! Впрочем, если предположить что это продолжение вчерашнего вечера, то все сходится». Несмотря на утреннюю прохладу, в вагоне было душно и тесно. Сдавленный со всех сторон, молодой человек попытался облегчить свое положение небольшими поворотами корпуса, но ощутимого результата это не давало. Все находились в равных условиях, поэтому те, кому нужно было выходить на остановках, не протискивались, а протекали сквозь плотные ряды пассажиров.
«Ну, куда же без вас...» – тут же всплыло в голове у него, когда в другом конце вагона молодой человек увидел контролеров. «Когда же вы спите?» – только подумав, он услышал за спиной басовитый голос представителя старшего поколения.
– Этих еще здесь не хватало! И так полный вагон, куда их черт несет с утра пораньше!
С появлением в вагоне контролеров, атмосфера несколько изменилась. Пассажиры напряглись, и с интересом стали наблюдать за процессом проверки билетов. Кто-то хаотично рылся у себя в карманах и сумках в поисках своего проездного, но основная масса пристально наблюдала и ждала, когда начнут освобождаться места. По статистике десять процентов от общего пассажиропотока – безбилетники, поэтому ездят «зайцем», а в переполненном вагоне, это гарантированные 10-15 мест для законопослушных граждан, которым по воле случая пришлось стоять.
«Вот и первые счастливчики!» – молодую пару, которая еще несколько минут назад шутила и смеялась на весь вагон, – попросили на выход. Под пристальные взгляды стоящих вывели еще троих закадычных товарищей, которых по внешнему виду можно смело причислить к маргинальным слоям общества, и которые по всей видимости не покидали вагон уже долгое время, так как на их месте остался стойкий тяжелый запах немытого тела. Те, кто вовремя приметил контролеров, покинули насиженные места заблаговременно и мелкими перебежками перебрались в другую часть состава.
Контролеры вышли на одной из центральных станций, а вместе с ними большая часть пассажиров, и в вагоне сразу стало свободно. Молодой человек достал из кармана наушники, и подсоединив их к телефону вставил в уши. «Теперь можно расслабиться и послушать любимую музыку». Он закрыл от удовольствия глаза и на минуту задумался. Ему не давала покоя ссора с любимой девушкой, о чем он не переставал думать. Когда он снова их открыл, то его взгляд тут же упал на особу очень приятной внешности. Она стояла внутри салона, прислонившись плечом к стене, и что-то писала в телефоне. Молодой человек не мог ее не заметить, так как их разделяла всего-навсего стеклянная дверь. Он оценивающим взглядом окинул ее с ног до головы, и все его крайне порадовало. «Вот так встреча», – подумал он и вытащил один наушник из уха. Выпрямившись, расправив плечи и поправив сбившуюся во время давки одежду, он сделал шаг навстречу незнакомке, вплотную приблизившись к двери.
«Таких шансов упускать не стоит», – подумал он, продолжая сверлить взглядом девушку. «Подожди! Не торопись!» – услышал он свой внутренний голос. «Дождись того момента, когда она взглянет на тебя». В этот момент поезд остановился, и на остановке вошли очередные пассажиры, они тут же ворвались в салон и столпились возле дверей, перекрыв ему обзор.
«Вот черт! Ну что вы здесь встали, пройдите дальше, мне из-за вас ничего не видно». Подпрыгивая и пригибаясь, он пытался поймать ее взгляд, который уже оторвался от телефона и блуждал по вагону, разглядывая пассажиров. Со стороны он выглядел несколько забавно. «Так, спокойно! В конце концов я ее вижу и это уже хорошо. Как только путь освободится, буду действовать». Ждать пришлось недолго. Те, кто закрывал ему обзор, чудесным образом испарились, и его взору снова открылась прекрасная незнакомка, которая смотрела на него в упор сквозь стекло, хлопая огромными ресницами, которые прекрасно дополняли большие карие глаза. Столь пронзительный взгляд девушки заставил смутиться молодого человека, и он даже отвернулся в сторону. Незнакомка провела рукой по густым волнистым волосам и кокетливо накрутила их кончики на палец.
Увидев это, он неожиданно почувствовал какую-то приятную немоту во всем теле. В этот момент поезд вошел в кривую и вагон сильно наклонился. Покоившаяся на роликах дверь поехала в сторону, увлекая за собой молодого человека, который едва удержался, чтобы не рухнуть на пол. Эта сценка развеселила девушку, и она громко хихикнула.
«А он забавный», – подумала она.
Ему было не до смеха, и от стыда он даже покраснел. «Не хватало тебе еще растянуться у нее на глазах». Закинув на плечо рюкзак, он сделал решительный шаг в ее сторону, и глядя прямо в глаза уже было открыл рот, чтобы что-то произнести, как вдруг двери снова открылись и в тамбур влетело еще одно создание неопределенного пола. Внешность этого создания заставила его задуматься, «это парень или девушка?» Короткая мальчишеская стрижка, мешковатая кофта, черные джинсы, массивные бесформенные кроссовки, все это относило мысли молодого человека в сторону от того, чтобы с уверенность утверждать, что перед ним еще одно создание женского пола.
«Кто ты, чудо?» Взгляд молодого человека метался между двумя интересовавшими его субъектами, один из которых его радовал и притягивал к себе, другой же был полной противоположностью. «Все же это девушка». С уверенностью подметил он, разглядев простенькие сережки, украшавшие ее уши, и небольшой бюстик выбивавшийся из под плотной кофты.
Его интерес возрос, когда он увидел реакцию красивой незнакомки, попытку познакомиться с которой, он вынужден был отложить. Как только появилась вторая девушка, он понял, «они знают друг друга». Та в ответ приветливо улыбнулась, и протянула руку. Пацанка с легкостью оттолкнув молодого человека и наградив его парой нелестных фраз, приблизилась к другой. Дальше произошло то, что происходит, когда муж, вернувшийся из командировки, застает в постели своей жены любовника. Размахивая руками и указывая в его сторону, вульгарная девушка кричала на свою «подругу», не обращая внимания на то, что становится объектом наблюдения со стороны окружающих.
Вдруг, в его голове промелькнуло:
«За этот срок предельно малый
Он понял; бедный мой дружок,
Ведь ты тогда меня спасала,
Нарочно затянув прыжок».
Почти вслух повторив строки из стихотворения Е.Долматовского, которое часто слышал в детстве от матери, молодой человек тем самым благодарил судьбу за то, что не поддался животному искушению и оттянул тот прыжок в неизвестность, который неизвестно к чему бы привел.
Выйдя на своей остановке, он встал перед открытыми дверями и напоследок с осуждением взглянул на девчонок, которые продолжали выяснять отношения. Поезд тронулся, и перед глазами молодого человека замелькал свет проносившихся мимо окон электрички, и образ любимой девушки, который так естественно всплыл перед ним, и унесся вслед за составом. Он проводил его взглядом и не спеша пробрел, не оглядываясь по сторонам, пытаясь осмыслить увиденное, Потом, достал из кармана телефон и набрал номер. Как только в трубке послышался голос, он сказал:
– Наташ, прости меня за вчерашнее…!
Железнодорожная платформа одного из подмосковных городков каждый будний день живет своей обыденной жизнью, радушно встречая пассажиров, спешащих на работу. Ступени, двери вестибюля, шум открывающихся и закрывающихся турникетов, цветные ограждения, газетные киоски, информационные табло и, конечно, большие станционные часы, висящие в центре платформы на столбе, – все это заставляет обращать на себя внимание пассажиров. Каждый спешащий нет-нет да и взглянет на эти часы, сверившись со своими, наручными. Если внимательно понаблюдать, то каждый в отдельности ежедневно делает приблизительно одно и то же. Кто-то курит в сторонке, забившись в уголок, чтобы, не дай бог, не разозлить какого-нибудь придирчивого гражданина, кто-то читает газету, одним глазом поглядывая по сторонам. Кто-то сосредоточенно рассматривает стройные женские ножки, не пропуская ни одной юбки, но большинство из тех, кто оказался в столь ранний час на платформе, просто торчат в телефонах, в ожидании поезда.
Вот из дверей вестибюля показался темный силуэт очередного пассажира. Он шел прямо, целенаправленной армейской походкой, не останавливаясь и не оборачиваясь по сторонам. Им оказался молодой человек лет двадцати. Светлые волосы, голубые глаза, бледное худощавое лицо слегка подернутое еще юношеским пушком. Судя по виду, он был чем-то расстроен. Его сосредоточенное лицо и задумчивый взгляд подтверждали это. Постоянно запахивая на себе черное полупальто, он щурился от налетевшегого потока холодного сентябрьского ветра.
«Зачем я стал ей доказывать свою правоту, ведь мог же промолчать!» – думал он хмурясь. «А она не лучше! Знает прекрасно мой характер и продолжает обижаться. Сколько раз мы ругались на этой почве и ничего…! Почему в этот раз она сказала, что ей надоело?! Значит, не любит. Все это показное! В конце концов, я ничего обидного ей не сказал, просто отстаивал свою точку зрения в тех вопросах, в которых она просто ничего не смыслит. Почему я должен лебезить перед ней?! Да, она мне нравится, но и что с того! Человеку свойственно ошибаться и нужно признавать свои ошибки, а она этого не хочет. На что она рассчитывала, на то, что я с ней соглашусь?! Глупо. Подумаешь, не хочет меня больше видеть! Можно подумать, что на ней свет клином сошелся! Посмотришь, вокруг полно красивых девчонок, стоит только свистнуть.
Пока он размышлял о прошедшем вечере, к перрону медленно подкатилась электричка и ярким светом прожектора осветила все вокруг. Те, кто стояли совсем близко к краю платформы, невольно отпрянули назад. Задние ряды напирали, толпились в местах остановки дверей и не собирались сдавать своих позиций. Молодой человек стоял спокойно. Он изначально занял проверенную позицию, и не сомневался, что двери остановятся именно в том месте, где он стоит, и ему удастся первом заскочить внутрь и занять вакантное место.
Но ему не повезло, впрочем, как и многим, кто стоял рядом. Двери в этом месте не открылись. «Поцеловав» белую табличку с надписью «автоматические двери не работают», пассажиры, обгоняя друг друга, помчались в другую сторону вагона. По иронии судьбы, молодой человек, несмотря на юный свой возраст, оказался в конце забега.
«Плохая примета!» – подумал он поежившись, после того как один грузный мужичок припечатал его к стене. «День начался не лучшим образом! Впрочем, если предположить что это продолжение вчерашнего вечера, то все сходится». Несмотря на утреннюю прохладу, в вагоне было душно и тесно. Сдавленный со всех сторон, молодой человек попытался облегчить свое положение небольшими поворотами корпуса, но ощутимого результата это не давало. Все находились в равных условиях, поэтому те, кому нужно было выходить на остановках, не протискивались, а протекали сквозь плотные ряды пассажиров.
«Ну, куда же без вас...» – тут же всплыло в голове у него, когда в другом конце вагона молодой человек увидел контролеров. «Когда же вы спите?» – только подумав, он услышал за спиной басовитый голос представителя старшего поколения.
– Этих еще здесь не хватало! И так полный вагон, куда их черт несет с утра пораньше!
С появлением в вагоне контролеров, атмосфера несколько изменилась. Пассажиры напряглись, и с интересом стали наблюдать за процессом проверки билетов. Кто-то хаотично рылся у себя в карманах и сумках в поисках своего проездного, но основная масса пристально наблюдала и ждала, когда начнут освобождаться места. По статистике десять процентов от общего пассажиропотока – безбилетники, поэтому ездят «зайцем», а в переполненном вагоне, это гарантированные 10-15 мест для законопослушных граждан, которым по воле случая пришлось стоять.
«Вот и первые счастливчики!» – молодую пару, которая еще несколько минут назад шутила и смеялась на весь вагон, – попросили на выход. Под пристальные взгляды стоящих вывели еще троих закадычных товарищей, которых по внешнему виду можно смело причислить к маргинальным слоям общества, и которые по всей видимости не покидали вагон уже долгое время, так как на их месте остался стойкий тяжелый запах немытого тела. Те, кто вовремя приметил контролеров, покинули насиженные места заблаговременно и мелкими перебежками перебрались в другую часть состава.
Контролеры вышли на одной из центральных станций, а вместе с ними большая часть пассажиров, и в вагоне сразу стало свободно. Молодой человек достал из кармана наушники, и подсоединив их к телефону вставил в уши. «Теперь можно расслабиться и послушать любимую музыку». Он закрыл от удовольствия глаза и на минуту задумался. Ему не давала покоя ссора с любимой девушкой, о чем он не переставал думать. Когда он снова их открыл, то его взгляд тут же упал на особу очень приятной внешности. Она стояла внутри салона, прислонившись плечом к стене, и что-то писала в телефоне. Молодой человек не мог ее не заметить, так как их разделяла всего-навсего стеклянная дверь. Он оценивающим взглядом окинул ее с ног до головы, и все его крайне порадовало. «Вот так встреча», – подумал он и вытащил один наушник из уха. Выпрямившись, расправив плечи и поправив сбившуюся во время давки одежду, он сделал шаг навстречу незнакомке, вплотную приблизившись к двери.
«Таких шансов упускать не стоит», – подумал он, продолжая сверлить взглядом девушку. «Подожди! Не торопись!» – услышал он свой внутренний голос. «Дождись того момента, когда она взглянет на тебя». В этот момент поезд остановился, и на остановке вошли очередные пассажиры, они тут же ворвались в салон и столпились возле дверей, перекрыв ему обзор.
«Вот черт! Ну что вы здесь встали, пройдите дальше, мне из-за вас ничего не видно». Подпрыгивая и пригибаясь, он пытался поймать ее взгляд, который уже оторвался от телефона и блуждал по вагону, разглядывая пассажиров. Со стороны он выглядел несколько забавно. «Так, спокойно! В конце концов я ее вижу и это уже хорошо. Как только путь освободится, буду действовать». Ждать пришлось недолго. Те, кто закрывал ему обзор, чудесным образом испарились, и его взору снова открылась прекрасная незнакомка, которая смотрела на него в упор сквозь стекло, хлопая огромными ресницами, которые прекрасно дополняли большие карие глаза. Столь пронзительный взгляд девушки заставил смутиться молодого человека, и он даже отвернулся в сторону. Незнакомка провела рукой по густым волнистым волосам и кокетливо накрутила их кончики на палец.
Увидев это, он неожиданно почувствовал какую-то приятную немоту во всем теле. В этот момент поезд вошел в кривую и вагон сильно наклонился. Покоившаяся на роликах дверь поехала в сторону, увлекая за собой молодого человека, который едва удержался, чтобы не рухнуть на пол. Эта сценка развеселила девушку, и она громко хихикнула.
«А он забавный», – подумала она.
Ему было не до смеха, и от стыда он даже покраснел. «Не хватало тебе еще растянуться у нее на глазах». Закинув на плечо рюкзак, он сделал решительный шаг в ее сторону, и глядя прямо в глаза уже было открыл рот, чтобы что-то произнести, как вдруг двери снова открылись и в тамбур влетело еще одно создание неопределенного пола. Внешность этого создания заставила его задуматься, «это парень или девушка?» Короткая мальчишеская стрижка, мешковатая кофта, черные джинсы, массивные бесформенные кроссовки, все это относило мысли молодого человека в сторону от того, чтобы с уверенность утверждать, что перед ним еще одно создание женского пола.
«Кто ты, чудо?» Взгляд молодого человека метался между двумя интересовавшими его субъектами, один из которых его радовал и притягивал к себе, другой же был полной противоположностью. «Все же это девушка». С уверенностью подметил он, разглядев простенькие сережки, украшавшие ее уши, и небольшой бюстик выбивавшийся из под плотной кофты.
Его интерес возрос, когда он увидел реакцию красивой незнакомки, попытку познакомиться с которой, он вынужден был отложить. Как только появилась вторая девушка, он понял, «они знают друг друга». Та в ответ приветливо улыбнулась, и протянула руку. Пацанка с легкостью оттолкнув молодого человека и наградив его парой нелестных фраз, приблизилась к другой. Дальше произошло то, что происходит, когда муж, вернувшийся из командировки, застает в постели своей жены любовника. Размахивая руками и указывая в его сторону, вульгарная девушка кричала на свою «подругу», не обращая внимания на то, что становится объектом наблюдения со стороны окружающих.
Вдруг, в его голове промелькнуло:
«За этот срок предельно малый
Он понял; бедный мой дружок,
Ведь ты тогда меня спасала,
Нарочно затянув прыжок».
Почти вслух повторив строки из стихотворения Е.Долматовского, которое часто слышал в детстве от матери, молодой человек тем самым благодарил судьбу за то, что не поддался животному искушению и оттянул тот прыжок в неизвестность, который неизвестно к чему бы привел.
Выйдя на своей остановке, он встал перед открытыми дверями и напоследок с осуждением взглянул на девчонок, которые продолжали выяснять отношения. Поезд тронулся, и перед глазами молодого человека замелькал свет проносившихся мимо окон электрички, и образ любимой девушки, который так естественно всплыл перед ним, и унесся вслед за составом. Он проводил его взглядом и не спеша пробрел, не оглядываясь по сторонам, пытаясь осмыслить увиденное, Потом, достал из кармана телефон и набрал номер. Как только в трубке послышался голос, он сказал:
– Наташ, прости меня за вчерашнее…!

Нина ШАМАРИНА
Родилась в подмосковной деревне, уже более 40 лет живет в Москве. Детство в деревне почти всегда присутствует в рассказах Нины, в описаниях природы, деталях и героях, даже если рассказ не о деревне. Начала писать небольшие рассказы давно, но публиковаться стала только с 2017 года в Альманахе культурного центра «Фелисион». Вышли два сборника детских рассказов на площадке Литреса, там же опубликована повесть «Остров». Рассказ «Птица цвета метели» вошел в шорт-лист конкурса рассказов о любви на сайте «Счастье слова».
В 2019 года в издательстве «Фелисион» вышла первая книга Нины Шамариной «Двадцать семнадцать».
Родилась в подмосковной деревне, уже более 40 лет живет в Москве. Детство в деревне почти всегда присутствует в рассказах Нины, в описаниях природы, деталях и героях, даже если рассказ не о деревне. Начала писать небольшие рассказы давно, но публиковаться стала только с 2017 года в Альманахе культурного центра «Фелисион». Вышли два сборника детских рассказов на площадке Литреса, там же опубликована повесть «Остров». Рассказ «Птица цвета метели» вошел в шорт-лист конкурса рассказов о любви на сайте «Счастье слова».
В 2019 года в издательстве «Фелисион» вышла первая книга Нины Шамариной «Двадцать семнадцать».
ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЦЕ
Кристина неслась по глинистому склону вниз-вниз-вниз. Оскальзывались ноги в слипонах с мелким горошистым рисунком, слетели на ходу тёмные очки, и в глаза брызнуло ослепительное солнце. Впереди неё скакали мелкие камешки, а в голове вязко билось и дрожало только одно слово: «Нет!!!»
День не задался с той самой минуты, как на пляже появилась Юлька. До этого всё было не просто хорошо, а превосходно, великолепно, восхитительно!
Утром позвонил Егор, и они пошли купаться. Они вдвоём – Егор и Кристина, больше никого. Конечно, на карьере было полно народу, несмотря на утро четверга. Тянуло жирным дымом от близкого мангала, визжали и брызгались дети, которых оттаскивали от воды мамаши с пухлыми телесами. Но знакомых – никого, во всяком случае, поблизости. Парочка окунулась несколько раз. Егор плавал плохо, быстро выдыхался и спешил к берегу, поэтому Кристина делала вид, что плавать больше не хочет, неторопливо шла к одеялу, расстеленному на песке, ощущая себя нимфой, Афродитой и вообще – прекрасной девушкой. Золотился пушок на спине Егора, пунцовели его уши, пропуская солнечный свет, поблёскивали песчинки на икрах и плечах, колыхался над песком знойный воздух. Счастье!
Юлька появилась неожиданно, но так, словно знала, где их искать. Юлька и Кристина – очень похожи. Одинаково струятся по спине длинные русые волосы, одинаковые серо-голубые глаза, тонкая талия, длинные ноги; даже купальники у подружек одного, модного нынче бежевого цвета. Только Юлька – смешлива, дерзка, самоуверенна, и поэтому нравится парням чаще, чем Кристина.
Юлька по-хозяйски уселась на Кристинкино одеяльце: «Мы ж подруги», хохотала, запрокинув голову, строила глазки Егору и приобнимала его доверительно за голое плечо, словом, вела себя так, точно, её, а не Кристину позвал сегодня Егор на пляж, более того, как будто Кристины здесь и не было!
А уж когда Юлька, припав грудью к Егору, стала что-то шептать ему на ухо, лукаво посматривая при этом на Кристину, та не выдержала и, схватив телефон и шорты, побежала сначала по пляжу, а потом на высокий обрыв карьера всё выше и выше. Слёзы, растекаясь по стёклам очков, заляпали мир черными кляксами, а солнце стало какого-то непонятного зловещего зелёного цвета. Бег Кристины становился всё медленнее.
– Ну и пожалуйста, ну и пусть! – шептала девушка без остановки. Поднявшись на высокий берег, она торопливо оделась и глянула вниз, на простыню воды. Отсюда, сверху, вода казалась голубой, как в бассейне. На том берегу, где совсем недавно Кристина сидела с Егором, наслаждаясь тем, как всё у них хорошо, Юлька и Егор шли к вышке. Сердце Кристины сжалось:
– Чтоб вы! Чтоб вам!!! – в исступлении выкрикивала она.
Егор уверенно вскарабкался на вышку, помахал рукой оставшейся внизу Юльке. Глаза Кристины вновь налились слезами («Предатель!»), она вытерла их кулаком, не волнуясь о том, что теперь будут красными глаза и опухшими губы. Кому до этого дело!!! Но, несмотря на коварство Егора, Кристине хотелось закричать ему, как-то остановить: плавать не умеет, утонет!!! Зачем полез!!!
Егор оттолкнулся от вышки, но полетел куда-то вбок, у самой воды беспомощно всплеснул руками, нырнул и не всплывал целую вечность, как показалось Кристине. Подавшись вперёд, с ужасом глядела она туда, где скрылся Егор. Юлька болтала, смеясь и жестикулируя, у подножия вышки с какими-то девчонками и не видела, что Егор не выплыл после прыжка.
Кристина заорала «Егооооор!!!», но из сдавленного горла вырывался только сип, и она рванулась по обрыву вниз-вниз-вниз, всё быстрее и быстрее.
Задыхаясь, пробежала по вязкому песку и пробилась сквозь образовавшийся круг молчащих людей, но замерла, как в столбняке, не решаясь ступить дальше, не веря тому, что видит. Егор лежал на песке, сквозь щёлочки не до конца закрытых глаз пробивалась синева; голенастые ноги, как у маленького жеребёнка, на лбу – звёздочкой, как у того же жеребёнка, маленькое розовое пятнышко, из которого тоненькой струйкой сочилась кровь. Здоровый загорелый мужик с татуировкой «ВДВ» на атласно лоснящемся плече что-то делал с Егором: сгибал и разгибал его ноги, давил на грудь, сжимал бока. Но вот он остановился, оглядел круг, резко спросил у высокого парня, полностью одетого, в отличие от остальных:
– Скорую вызвали?
А Кристина, наконец, преодолев смятение и упав на колени, схватила Егора за руку. И была в этой беспомощной руке такая чудовищная безжизненность, что позвоночник Кристины продрал мороз.
Мужик отодвинул девочку довольно грубо:
– Давай, подруга, не до тебя сейчас, – и снова навалился на грудь Егору.
Приехала скорая, вслед за ней – жёлтый реанимобиль. В толпе говорили, что воды Егор не нахлебался: то ли ударился обо что, то ли сердце остановилось раньше, чем он нырнул.
В реанимобиль никого не пустили, даже прибежавшую мать Егора. Она сидела тут же, на земле, мерно раскачиваясь взад-вперёд и мелко-мелко перебирая пальцами красную полу униформы Ашана. Кто-то принёс ей страшную новость прямо на работу. Реанимобиль не двигался с места, только слышались оттуда резкие команды.
Кристина и Юлька, вцепившись друг в друга и забыв о недавней ссоре, кутались в пляжное одеяльце. Но у Кристины всё равно стучали зубы, и противно трясся подбородок. Пляж опустел, и на всё это равнодушно взирало зелёное солнце.
ПОДАРОК
Ненавижу ноябрь. Мелкая колючая крупка, мёрзлые комья земли, темно и ночью и днём..
Только один ноябрь другим у меня случился. Не то, чтобы светлее было, а только сын у меня родился.
Сыночек.
Любил я его? Не помню уже. Помню, ворох цветных тряпочек в руки мне сунули, а что там внутри – и не разглядеть сразу. Домой приехали – орал всё время, может, больной какой?
А потом как-то всё завертелось быстро. С работы меня турнули, другой никак не находилось. С женой поругиваться стали. Она ночью сына качает, а днём то спать прикладывается, то сына кормит, на меня внимания почти не обращала.
Мамаша моя подсуетилась и забрала меня. И только запись в моём паспорте осталась, сын, мол, у тебя – Иван Максимович Потапов.
Я долго отходил. Сына не видел. С женой нет-нет, встречался: суды какие-то, алименты, претензии. А я уж и забывать о них стал, только иногда к пацанятам в метро приглядывался: сначала к годовалым, потом – десятилеткам, потом на юношей лет шестнадцати..
Думал:
– Мой такой же, бегает где-то…
Почему не искал? Говорю же: работы нет, мамаша не разрешает.
И вот однажды – помню прекрасно, как это было – позвонили в дверь. А меж тем – суббота: пиво, рыбка. Так вот, звонок. Открываю. Парень высокий, худощавый. И говорит баском:
– Здравствуй, папа.
Громко так, то ли с издёвкой, то ли ещё что.
Я опешил, пиво чуть не выронил:
– Ошиблись, молодой человек.
– Да нет, – говорит, – не ошибся. Потапов Иван Максимович – знакомое имя?
Обомлел я. Ноги ватные, но за рукав тащу его в квартиру.
– Сынок!
А он то ли идёт, то ли не идёт. Собранный весь, сосредоточенный. А ну, думаю, засветит сейчас меж глаз папашке-то за всё хорошее.
За рукав тащу, обнять хочу, а боязно. Ну, в коридоре потолкались, вошли. Я стол маленько расчистил, как бы его глазами на свою квартиру глянул. Прямо сказать, неважнецкая квартира. Как мамаша моя померла, убираюсь редко, готовлю кое-как. И бутылок – полкухни. А куда их девать? Не сдавать же, а выбросить – руки не доходят. Нет, я не пью, вы не подумайте, так, в субботу под рыбку, ну, или там – в праздник какой.
Поговорили мы с ним. От пива начисто отказался, на рыбку с какой-то даже брезгливостью глянул.
– Зла, говорит, не держу, вырос без вашей помощи. За маму обидно – тяжело ей пришлось. Но семья наша дружная – все помогали.
И слово «наша» особо так голосом выделил, мол, не про вас это, дядя. Повернулся и вон пошёл.
– Сынок, погоди, сынок! Дай хоть подарю тебе что, на память.Кинулся я в комнату, разворошил тряпки, что в шкафу навалены. На дне, в коробке мамаша игрушки мои хранила, дневники школьные, другую белиберду. А как померла, я выбросить хотел, но не успел как-то. Растеребил коробку-то, грузовик, помню, у меня был большой красный, с синим кузовом. Достал я его, пыль смахнул.
– Вот, возьми, сынок, на память. И прости меня.
– Бог простит, – ответствовал он.
И ушёл. А грузовик оставил.
УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Деревенская начальная школа располагалась в бывшей барской усадьбе. Старый парк давно превратился в лес, но самые древние липы ещё держали строй, а у заросшего кувшинками прудика оставался остов резной деревянной лавочки, на спинке которой, правда, было вырезано «Лёша+Тоня».
В пустом классе за первой партой в третьем (ближнем от двери ряду) – двое, мать и дочь. На улице – солнечно, жёлто, весело: там идёт линейка, первый звонок, первое сентября.
Отголоски речей, звуки горна и громкий, слегка невпопад, бой барабана залетают в класс поздними легкокрылыми бабочками. Но вот шум на улице стихает, распадается на отдельные голоса и смешки и исчезает почти полностью. В открытую дверь класса слышно, как шумят большие берёзы, да перекликаются грачи, распуганные горном и барабаном.
В класс порывисто входит Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна – самая опытная, самая лучшая учительница. Сегодня она приняла первый класс.
Мать поднимается, откинув крышку парты. Ей это удаётся не сразу, маленькая парта цепляется за платье, ставит подножку туфелькам на каблучках – мать сегодня нарядна и празднична. Татьяна Ивановна учила когда-то её старшую дочь, когда та была, как младшая – та, что сидит сейчас рядом с ней. Татьяна Ивановна – очень хорошая учительница, она обязательно разберётся.
– Что ты, что ты, Валентина, сиди, – Татьяна Семёновна не даёт молодой женщине встать, лёгким нажимом руки на плечо, снова её усаживая, – а вот Нина могла бы и встать.
Нина взирает на учительницу круглыми испуганными шоколадными глазами, упирается взглядом в талию её отрезного тёмно-фиолетового шерстяного платья, но не встаёт, как будто не очень понимая, что речь идёт о ней.
– Нина, встань, поприветствуй учителя, – обращается Татьяна Ивановна теперь к девочке напрямую.
И мать подталкивает Нину в бок, приговаривая заискивающей скороговоркой:
– Когда учительница входит, надо вставать.
Девочка, наконец, поднимается неумело. Она не догадывается откинуть крышку парты, как это только что делала её мать, путается в своих ногах и руках, дрожит мелкой знобкой дрожью.
– Вот так, хорошо, – говорит Татьяна Ивановна, – садись.
Она отходит к окну и долго стоит там, не двигаясь. А, может, матери и дочери только кажется, что долго?
Они воровато переглядываются, молчат.
Татьяна Ивановна садится за учительский стол.
– Когда у тебя день рождения, Нина? – спрашивает она.
– Двадцать первого ноября, – отвечает девочка.
– А сейчас месяц какой?
– Сентябрь.
А сколько тебе лет, если у тебя день рождения в ноябре?
Мать пытается что-то сказать, но учительница останавливает её резким жестом.
– Семь, – говорит Нина, – скоро будет. В ноябре.
– В ноябре. А сейчас тебе сколько?
– Шесть.
– А в школу дети идут когда? Когда им сколько лет?
– Семь.
– Вот! – Татьяна Ивановна пристукивает этим словом по столу, так, что девочка подпрыгивает на скамеечке парты. Подскакивают и со стуком возвращаются на место ножки в коричневых ботиночках на шнурках.
Мать снова порывается что-то сказать, но Татьяна Ивановна, не слушая её, начинает медленно ходить перед партой туда и сюда.
Две пары глаз следят за ней, повторяя её движение. Глаза девочки до краёв полны слёз. Так же полно бывает блестящее оцинкованное ведро, подставленное под водосток, после июльского ливня.
– Пойду к директору, ждите, – Татьяна Ивановна прекращает своё движение маятника и уходит.
Мать и дочь сидят молча. Поникли оборки на платье матери, опустились крылышки белоснежного накрахмаленного и отутюженного фартучка дочки, съёжились и посерели банты на тоненьких косичках. Вянут георгины в роскошном букете, лежащем на парте. Кажется, что даже никелированный замочек портфеля, который пускал радужных солнечных зайчиков, пока Нина несла его к школе – первый раз, в первый класс, – потускнел и больше никогда не засияет. Нина с отчаянием думает о том, как она будет разбирать не пригодившийся портфель: вытаскивать деревянный упоительно пахнущий лаком салатовый пенал с выдвигающейся крышкой, пёстрый, нарядный букварь, который непонятно, правда, зачем нужен: Нина прочла его до самой последней страницы ещё в августе. Достанет из портфеля и положит на столик у окна ручку и три запасных пёрышка к ней, чернильницу-непроливайку, ластик и простой карандаш. Вчера они весь вечер точили цветные карандаши «Сакко и Ванцетти», хотя мама говорила, что карандаши первого сентября вряд ли понадобятся: первоклассники сходят на линейку, и только второго сентября начнут учиться по-настоящему. Но перед самой линейкой к ним подошла Татьяна Ивановна и сказала, что Нина – маленькая, в школу её возьмут только в следующем году. Нина, как сквозь вату, слышала, что мама о чём-то спорила с учительницей, а потом та сказала, что пусть идут в класс и ждут. После линейки директор решит, что делать с Ниной.
И вот они сидят и ждут. Мама говорит, что Татьяна Ивановна – очень опытная и очень хорошая, она обязательно что-нибудь придумает. К тому же (Нина знает) Татьяна Ивановна учила Таю, старшую сестру. Это очень важно! Татьяна Ивановна – опытный и справедливый педагог.
Мать обнимает дочку за плечи:
– Ничего не бойся, всё будет хорошо, – и от этих слов слёзы, наконец, проливаются и бегут быстрым и прозрачным лесным ручьём.
Но вот Татьяна Ивановна возвращается и снова останавливается перед партой, и снова девочка смотрит на талию её парадного платья.
– Ну что ж, Нина, – голос учительницы торжественен и громок, – директор разрешил.
Неведомый директор представляется Нине величественным бородачом, благосклонно кивающим.
– Директор разрешил, хотя ты и маленькая, и завтра приходи в школу со всеми детьми. Только обещай мне, Нина, – голос Татьяны Ивановны становится ещё более торжественным, хотя казалось, что торжественнее уже некуда, – учиться ты будешь только на пятёрки. Обещаешь?
Девочка быстро-быстро кивает, облегчённо переводит дух мать, торопливо выпрастываясь из парты. Они бегут к двери, забыв цветы, как будто Татьяна Ивановна может передумать, хотя как такое может быть? Татьяна Ивановна – очень опытная, и очень хорошая. Нине повезло, что она попала в её класс.
Все десять лет Нина была отличницей, училась только на пятёрки. Она же обещала! Но свою первую учительницу – Татьяну Ивановну – любила только за то, что та когда-то учила Таю. Старшую сестру.
ЭТЮД В КОФЕЙНЫХ ТОНАХ
Я рассталась с любимым. Ну вот то есть начисто – был и нету. И снова остались в квартире мама, Настюха и я. Всё было хорошо: и к завтраку никогда в трусах одних выйти себе не позволял, и дочку мою пару раз из школы приводил, но слушать человек совершенно не умеет, перебьёт на самом интересном месте. И отношение к моим полотнам удручающее. Накануне я как раз работу закончила, хотела её назвать, как-нибудь необычно – «Осенние галактики» или что-нибудь в таком же духе. Он постоял, с мыска на пятки перекатываясь, на картину задумчиво глядя. Я обрадовалась, спрашиваю:
– Нравится? – а он рассеянно откликнувшись:
– А? Кофе пролила ненароком?
Я ночь без сна провела, Фейсбук перелистывая бездумно, пока он рядом храпел заливисто, а утром, с работы в Вайбере написала, чтоб свои вещи забирал и уходил. Вечером пришла – да, вешалки его пустые, ноута нет, и ключи от двери – на полочке под зеркалом. Вот и ладно.
Мама говорит наутро:
– Езжай куда-нибудь, развейся. У меня отпуск, я пока с Настюшкой побуду.
А куда ехать? Учебный год только начался, у меня хоть часов и мало, но не бросишь же свой «11 Н»! Им ЕГЭ в этом году, а они – дети детьми, хоть некоторые и покуривают за школой.
Подумала-подумала и решила на нашу старую дачу съездить. Кофе сварить, в плед завернуться, сквозь жёлтые листья на синее яркое сентябрьское небо посмотреть, горячий кофе прихлёбывая. Паутинки прозрачные летают, шиповник алеет, лес на горизонте серой суровой ниткой тянется… Глядишь, успокоюсь в благодатной тишине, воздухом пряным омоюсь, мысли бег укротят, вскачь, по кругу нестись не будут: «Опять одна, опять одна!»
Сказано – сделано! В субботу покидала в рюкзак кой-какие вещи: дождевик на случай дождя, банку растворимого кофе, печенье, шоколад, свитер – и поехала. На машине за сто вёрст, да по пробкам не отважилась, водитель я не ахти какой, вожу недавно, поскакала на электричку. И всё как-то не очень складно сложилось, всё против меня: и автобус к электричке не пришёл, пришлось на другом – только до поворота– ехать, а потом четыре километра пёхать; дождь стал накрапывать откуда ни возьмись (вроде, ничего не предвещало); пока дождевик достала (а он, конечно, в рюкзаке на самом дне) – промокла, одежда противно к коже липнет; насилу дверь отперла: ключ в замке проворачивается, а никак не открывает…Короче, пока то да сё – пятый час, солнце уже к лесу покатилось, на облачке, как на трамплине, задержалось, вот-вот в тучку нырнёт. Скорей-скорей – на чердак, там пледы в пыльном шкафу лежали. Мама, как на пенсию вышла, много пледов навязала, надеялась, в интернет-магазине продавать, но что-то не пошли они, вот их на дачу все и отвезли, так и лежат, никому не нужные. Это уж потом мама опять работу нашла, по своей специальности – анестезиологом в частную клинику. Мы потому и на дачу теперь не ездим.
Вот они пледики! Сейчас найду терракотовый, под цвет осени и настроения, завернусь в него и помечтаю. Терракотовый плед нашёлся, но был таким влажным и колючим, к тому же псиной отчего-то припахивал (из собачьей шерсти что ли?), что я схватила другой, из середины, непонятного цвета – то ли синий, то ли чёрный, и, перекинув его через плечо, поспешила на кухню. Чайник не нашла, вскипятила воду в маленькой алюминиевой кастрюльке, поворошив на полке нашла тусклую чашку с коровой на боку и сколотым краешком. Ограбили нас что ли? Ни одной целой чашки, ни чайника…Но не стала на мелочах заостряться, вытянула на крыльцо табурет и, обхватив пледом, как рукавицами, горячую кружку с кофе, попыталась угнездиться. Плед сползал и никак не хотел держаться на плечах. Поставила кружку на пол, укуталась в плед, потянувшись за кружкой, чуть не свалилась. А солнце меж тем уже давно булькнуло в лесок, только торчала самая-самая макушка, золотила верхушку молодой сосны. Ничего, в потёмках лучше думается. Только мысли никак не умиротворялись, теперь к основной «Опять одна», добавились другие «Почему мне так не везёт» и «Что со мной не так», вот, даже малюсенькая романтическая идея – попить кофе, завернувшись в плед, на крыльце в час заката, обернулась чехардой и бессмыслицей. Я допила противный горький кофе, отнесла на кухню табурет и плед, и быстро-быстро пошла на остановку: может, успею на последний автобус. Телефон сел, поэтому, когда я около полуночи ввалилась домой без звонка, встревоженная мама долго не могла взять в толк, почему я вернулась в тот же день.
Утром, потянувшись, я выплыла на кухню, где стоял уютный и плотный запах свежемолотого кофе. Мама как-то наловчилась варить его в микроволновке, поэтому могла приготовить его секунда в секунду к моему приходу. Настя ещё спала, мы с мамой сели в кресла, укрыли ноги пледами (их и в городской квартире было предостаточно). Тикали настенные часы, шаркала на улице метла дворника. Я посмотрела на свою картину:
– Мам, а не кажется тебе, как будто кофе пролили ненароком?
– Есть немножко, – ответила мама.
Кристина неслась по глинистому склону вниз-вниз-вниз. Оскальзывались ноги в слипонах с мелким горошистым рисунком, слетели на ходу тёмные очки, и в глаза брызнуло ослепительное солнце. Впереди неё скакали мелкие камешки, а в голове вязко билось и дрожало только одно слово: «Нет!!!»
День не задался с той самой минуты, как на пляже появилась Юлька. До этого всё было не просто хорошо, а превосходно, великолепно, восхитительно!
Утром позвонил Егор, и они пошли купаться. Они вдвоём – Егор и Кристина, больше никого. Конечно, на карьере было полно народу, несмотря на утро четверга. Тянуло жирным дымом от близкого мангала, визжали и брызгались дети, которых оттаскивали от воды мамаши с пухлыми телесами. Но знакомых – никого, во всяком случае, поблизости. Парочка окунулась несколько раз. Егор плавал плохо, быстро выдыхался и спешил к берегу, поэтому Кристина делала вид, что плавать больше не хочет, неторопливо шла к одеялу, расстеленному на песке, ощущая себя нимфой, Афродитой и вообще – прекрасной девушкой. Золотился пушок на спине Егора, пунцовели его уши, пропуская солнечный свет, поблёскивали песчинки на икрах и плечах, колыхался над песком знойный воздух. Счастье!
Юлька появилась неожиданно, но так, словно знала, где их искать. Юлька и Кристина – очень похожи. Одинаково струятся по спине длинные русые волосы, одинаковые серо-голубые глаза, тонкая талия, длинные ноги; даже купальники у подружек одного, модного нынче бежевого цвета. Только Юлька – смешлива, дерзка, самоуверенна, и поэтому нравится парням чаще, чем Кристина.
Юлька по-хозяйски уселась на Кристинкино одеяльце: «Мы ж подруги», хохотала, запрокинув голову, строила глазки Егору и приобнимала его доверительно за голое плечо, словом, вела себя так, точно, её, а не Кристину позвал сегодня Егор на пляж, более того, как будто Кристины здесь и не было!
А уж когда Юлька, припав грудью к Егору, стала что-то шептать ему на ухо, лукаво посматривая при этом на Кристину, та не выдержала и, схватив телефон и шорты, побежала сначала по пляжу, а потом на высокий обрыв карьера всё выше и выше. Слёзы, растекаясь по стёклам очков, заляпали мир черными кляксами, а солнце стало какого-то непонятного зловещего зелёного цвета. Бег Кристины становился всё медленнее.
– Ну и пожалуйста, ну и пусть! – шептала девушка без остановки. Поднявшись на высокий берег, она торопливо оделась и глянула вниз, на простыню воды. Отсюда, сверху, вода казалась голубой, как в бассейне. На том берегу, где совсем недавно Кристина сидела с Егором, наслаждаясь тем, как всё у них хорошо, Юлька и Егор шли к вышке. Сердце Кристины сжалось:
– Чтоб вы! Чтоб вам!!! – в исступлении выкрикивала она.
Егор уверенно вскарабкался на вышку, помахал рукой оставшейся внизу Юльке. Глаза Кристины вновь налились слезами («Предатель!»), она вытерла их кулаком, не волнуясь о том, что теперь будут красными глаза и опухшими губы. Кому до этого дело!!! Но, несмотря на коварство Егора, Кристине хотелось закричать ему, как-то остановить: плавать не умеет, утонет!!! Зачем полез!!!
Егор оттолкнулся от вышки, но полетел куда-то вбок, у самой воды беспомощно всплеснул руками, нырнул и не всплывал целую вечность, как показалось Кристине. Подавшись вперёд, с ужасом глядела она туда, где скрылся Егор. Юлька болтала, смеясь и жестикулируя, у подножия вышки с какими-то девчонками и не видела, что Егор не выплыл после прыжка.
Кристина заорала «Егооооор!!!», но из сдавленного горла вырывался только сип, и она рванулась по обрыву вниз-вниз-вниз, всё быстрее и быстрее.
Задыхаясь, пробежала по вязкому песку и пробилась сквозь образовавшийся круг молчащих людей, но замерла, как в столбняке, не решаясь ступить дальше, не веря тому, что видит. Егор лежал на песке, сквозь щёлочки не до конца закрытых глаз пробивалась синева; голенастые ноги, как у маленького жеребёнка, на лбу – звёздочкой, как у того же жеребёнка, маленькое розовое пятнышко, из которого тоненькой струйкой сочилась кровь. Здоровый загорелый мужик с татуировкой «ВДВ» на атласно лоснящемся плече что-то делал с Егором: сгибал и разгибал его ноги, давил на грудь, сжимал бока. Но вот он остановился, оглядел круг, резко спросил у высокого парня, полностью одетого, в отличие от остальных:
– Скорую вызвали?
А Кристина, наконец, преодолев смятение и упав на колени, схватила Егора за руку. И была в этой беспомощной руке такая чудовищная безжизненность, что позвоночник Кристины продрал мороз.
Мужик отодвинул девочку довольно грубо:
– Давай, подруга, не до тебя сейчас, – и снова навалился на грудь Егору.
Приехала скорая, вслед за ней – жёлтый реанимобиль. В толпе говорили, что воды Егор не нахлебался: то ли ударился обо что, то ли сердце остановилось раньше, чем он нырнул.
В реанимобиль никого не пустили, даже прибежавшую мать Егора. Она сидела тут же, на земле, мерно раскачиваясь взад-вперёд и мелко-мелко перебирая пальцами красную полу униформы Ашана. Кто-то принёс ей страшную новость прямо на работу. Реанимобиль не двигался с места, только слышались оттуда резкие команды.
Кристина и Юлька, вцепившись друг в друга и забыв о недавней ссоре, кутались в пляжное одеяльце. Но у Кристины всё равно стучали зубы, и противно трясся подбородок. Пляж опустел, и на всё это равнодушно взирало зелёное солнце.
ПОДАРОК
Ненавижу ноябрь. Мелкая колючая крупка, мёрзлые комья земли, темно и ночью и днём..
Только один ноябрь другим у меня случился. Не то, чтобы светлее было, а только сын у меня родился.
Сыночек.
Любил я его? Не помню уже. Помню, ворох цветных тряпочек в руки мне сунули, а что там внутри – и не разглядеть сразу. Домой приехали – орал всё время, может, больной какой?
А потом как-то всё завертелось быстро. С работы меня турнули, другой никак не находилось. С женой поругиваться стали. Она ночью сына качает, а днём то спать прикладывается, то сына кормит, на меня внимания почти не обращала.
Мамаша моя подсуетилась и забрала меня. И только запись в моём паспорте осталась, сын, мол, у тебя – Иван Максимович Потапов.
Я долго отходил. Сына не видел. С женой нет-нет, встречался: суды какие-то, алименты, претензии. А я уж и забывать о них стал, только иногда к пацанятам в метро приглядывался: сначала к годовалым, потом – десятилеткам, потом на юношей лет шестнадцати..
Думал:
– Мой такой же, бегает где-то…
Почему не искал? Говорю же: работы нет, мамаша не разрешает.
И вот однажды – помню прекрасно, как это было – позвонили в дверь. А меж тем – суббота: пиво, рыбка. Так вот, звонок. Открываю. Парень высокий, худощавый. И говорит баском:
– Здравствуй, папа.
Громко так, то ли с издёвкой, то ли ещё что.
Я опешил, пиво чуть не выронил:
– Ошиблись, молодой человек.
– Да нет, – говорит, – не ошибся. Потапов Иван Максимович – знакомое имя?
Обомлел я. Ноги ватные, но за рукав тащу его в квартиру.
– Сынок!
А он то ли идёт, то ли не идёт. Собранный весь, сосредоточенный. А ну, думаю, засветит сейчас меж глаз папашке-то за всё хорошее.
За рукав тащу, обнять хочу, а боязно. Ну, в коридоре потолкались, вошли. Я стол маленько расчистил, как бы его глазами на свою квартиру глянул. Прямо сказать, неважнецкая квартира. Как мамаша моя померла, убираюсь редко, готовлю кое-как. И бутылок – полкухни. А куда их девать? Не сдавать же, а выбросить – руки не доходят. Нет, я не пью, вы не подумайте, так, в субботу под рыбку, ну, или там – в праздник какой.
Поговорили мы с ним. От пива начисто отказался, на рыбку с какой-то даже брезгливостью глянул.
– Зла, говорит, не держу, вырос без вашей помощи. За маму обидно – тяжело ей пришлось. Но семья наша дружная – все помогали.
И слово «наша» особо так голосом выделил, мол, не про вас это, дядя. Повернулся и вон пошёл.
– Сынок, погоди, сынок! Дай хоть подарю тебе что, на память.Кинулся я в комнату, разворошил тряпки, что в шкафу навалены. На дне, в коробке мамаша игрушки мои хранила, дневники школьные, другую белиберду. А как померла, я выбросить хотел, но не успел как-то. Растеребил коробку-то, грузовик, помню, у меня был большой красный, с синим кузовом. Достал я его, пыль смахнул.
– Вот, возьми, сынок, на память. И прости меня.
– Бог простит, – ответствовал он.
И ушёл. А грузовик оставил.
УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Деревенская начальная школа располагалась в бывшей барской усадьбе. Старый парк давно превратился в лес, но самые древние липы ещё держали строй, а у заросшего кувшинками прудика оставался остов резной деревянной лавочки, на спинке которой, правда, было вырезано «Лёша+Тоня».
В пустом классе за первой партой в третьем (ближнем от двери ряду) – двое, мать и дочь. На улице – солнечно, жёлто, весело: там идёт линейка, первый звонок, первое сентября.
Отголоски речей, звуки горна и громкий, слегка невпопад, бой барабана залетают в класс поздними легкокрылыми бабочками. Но вот шум на улице стихает, распадается на отдельные голоса и смешки и исчезает почти полностью. В открытую дверь класса слышно, как шумят большие берёзы, да перекликаются грачи, распуганные горном и барабаном.
В класс порывисто входит Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна – самая опытная, самая лучшая учительница. Сегодня она приняла первый класс.
Мать поднимается, откинув крышку парты. Ей это удаётся не сразу, маленькая парта цепляется за платье, ставит подножку туфелькам на каблучках – мать сегодня нарядна и празднична. Татьяна Ивановна учила когда-то её старшую дочь, когда та была, как младшая – та, что сидит сейчас рядом с ней. Татьяна Ивановна – очень хорошая учительница, она обязательно разберётся.
– Что ты, что ты, Валентина, сиди, – Татьяна Семёновна не даёт молодой женщине встать, лёгким нажимом руки на плечо, снова её усаживая, – а вот Нина могла бы и встать.
Нина взирает на учительницу круглыми испуганными шоколадными глазами, упирается взглядом в талию её отрезного тёмно-фиолетового шерстяного платья, но не встаёт, как будто не очень понимая, что речь идёт о ней.
– Нина, встань, поприветствуй учителя, – обращается Татьяна Ивановна теперь к девочке напрямую.
И мать подталкивает Нину в бок, приговаривая заискивающей скороговоркой:
– Когда учительница входит, надо вставать.
Девочка, наконец, поднимается неумело. Она не догадывается откинуть крышку парты, как это только что делала её мать, путается в своих ногах и руках, дрожит мелкой знобкой дрожью.
– Вот так, хорошо, – говорит Татьяна Ивановна, – садись.
Она отходит к окну и долго стоит там, не двигаясь. А, может, матери и дочери только кажется, что долго?
Они воровато переглядываются, молчат.
Татьяна Ивановна садится за учительский стол.
– Когда у тебя день рождения, Нина? – спрашивает она.
– Двадцать первого ноября, – отвечает девочка.
– А сейчас месяц какой?
– Сентябрь.
А сколько тебе лет, если у тебя день рождения в ноябре?
Мать пытается что-то сказать, но учительница останавливает её резким жестом.
– Семь, – говорит Нина, – скоро будет. В ноябре.
– В ноябре. А сейчас тебе сколько?
– Шесть.
– А в школу дети идут когда? Когда им сколько лет?
– Семь.
– Вот! – Татьяна Ивановна пристукивает этим словом по столу, так, что девочка подпрыгивает на скамеечке парты. Подскакивают и со стуком возвращаются на место ножки в коричневых ботиночках на шнурках.
Мать снова порывается что-то сказать, но Татьяна Ивановна, не слушая её, начинает медленно ходить перед партой туда и сюда.
Две пары глаз следят за ней, повторяя её движение. Глаза девочки до краёв полны слёз. Так же полно бывает блестящее оцинкованное ведро, подставленное под водосток, после июльского ливня.
– Пойду к директору, ждите, – Татьяна Ивановна прекращает своё движение маятника и уходит.
Мать и дочь сидят молча. Поникли оборки на платье матери, опустились крылышки белоснежного накрахмаленного и отутюженного фартучка дочки, съёжились и посерели банты на тоненьких косичках. Вянут георгины в роскошном букете, лежащем на парте. Кажется, что даже никелированный замочек портфеля, который пускал радужных солнечных зайчиков, пока Нина несла его к школе – первый раз, в первый класс, – потускнел и больше никогда не засияет. Нина с отчаянием думает о том, как она будет разбирать не пригодившийся портфель: вытаскивать деревянный упоительно пахнущий лаком салатовый пенал с выдвигающейся крышкой, пёстрый, нарядный букварь, который непонятно, правда, зачем нужен: Нина прочла его до самой последней страницы ещё в августе. Достанет из портфеля и положит на столик у окна ручку и три запасных пёрышка к ней, чернильницу-непроливайку, ластик и простой карандаш. Вчера они весь вечер точили цветные карандаши «Сакко и Ванцетти», хотя мама говорила, что карандаши первого сентября вряд ли понадобятся: первоклассники сходят на линейку, и только второго сентября начнут учиться по-настоящему. Но перед самой линейкой к ним подошла Татьяна Ивановна и сказала, что Нина – маленькая, в школу её возьмут только в следующем году. Нина, как сквозь вату, слышала, что мама о чём-то спорила с учительницей, а потом та сказала, что пусть идут в класс и ждут. После линейки директор решит, что делать с Ниной.
И вот они сидят и ждут. Мама говорит, что Татьяна Ивановна – очень опытная и очень хорошая, она обязательно что-нибудь придумает. К тому же (Нина знает) Татьяна Ивановна учила Таю, старшую сестру. Это очень важно! Татьяна Ивановна – опытный и справедливый педагог.
Мать обнимает дочку за плечи:
– Ничего не бойся, всё будет хорошо, – и от этих слов слёзы, наконец, проливаются и бегут быстрым и прозрачным лесным ручьём.
Но вот Татьяна Ивановна возвращается и снова останавливается перед партой, и снова девочка смотрит на талию её парадного платья.
– Ну что ж, Нина, – голос учительницы торжественен и громок, – директор разрешил.
Неведомый директор представляется Нине величественным бородачом, благосклонно кивающим.
– Директор разрешил, хотя ты и маленькая, и завтра приходи в школу со всеми детьми. Только обещай мне, Нина, – голос Татьяны Ивановны становится ещё более торжественным, хотя казалось, что торжественнее уже некуда, – учиться ты будешь только на пятёрки. Обещаешь?
Девочка быстро-быстро кивает, облегчённо переводит дух мать, торопливо выпрастываясь из парты. Они бегут к двери, забыв цветы, как будто Татьяна Ивановна может передумать, хотя как такое может быть? Татьяна Ивановна – очень опытная, и очень хорошая. Нине повезло, что она попала в её класс.
Все десять лет Нина была отличницей, училась только на пятёрки. Она же обещала! Но свою первую учительницу – Татьяну Ивановну – любила только за то, что та когда-то учила Таю. Старшую сестру.
ЭТЮД В КОФЕЙНЫХ ТОНАХ
Я рассталась с любимым. Ну вот то есть начисто – был и нету. И снова остались в квартире мама, Настюха и я. Всё было хорошо: и к завтраку никогда в трусах одних выйти себе не позволял, и дочку мою пару раз из школы приводил, но слушать человек совершенно не умеет, перебьёт на самом интересном месте. И отношение к моим полотнам удручающее. Накануне я как раз работу закончила, хотела её назвать, как-нибудь необычно – «Осенние галактики» или что-нибудь в таком же духе. Он постоял, с мыска на пятки перекатываясь, на картину задумчиво глядя. Я обрадовалась, спрашиваю:
– Нравится? – а он рассеянно откликнувшись:
– А? Кофе пролила ненароком?
Я ночь без сна провела, Фейсбук перелистывая бездумно, пока он рядом храпел заливисто, а утром, с работы в Вайбере написала, чтоб свои вещи забирал и уходил. Вечером пришла – да, вешалки его пустые, ноута нет, и ключи от двери – на полочке под зеркалом. Вот и ладно.
Мама говорит наутро:
– Езжай куда-нибудь, развейся. У меня отпуск, я пока с Настюшкой побуду.
А куда ехать? Учебный год только начался, у меня хоть часов и мало, но не бросишь же свой «11 Н»! Им ЕГЭ в этом году, а они – дети детьми, хоть некоторые и покуривают за школой.
Подумала-подумала и решила на нашу старую дачу съездить. Кофе сварить, в плед завернуться, сквозь жёлтые листья на синее яркое сентябрьское небо посмотреть, горячий кофе прихлёбывая. Паутинки прозрачные летают, шиповник алеет, лес на горизонте серой суровой ниткой тянется… Глядишь, успокоюсь в благодатной тишине, воздухом пряным омоюсь, мысли бег укротят, вскачь, по кругу нестись не будут: «Опять одна, опять одна!»
Сказано – сделано! В субботу покидала в рюкзак кой-какие вещи: дождевик на случай дождя, банку растворимого кофе, печенье, шоколад, свитер – и поехала. На машине за сто вёрст, да по пробкам не отважилась, водитель я не ахти какой, вожу недавно, поскакала на электричку. И всё как-то не очень складно сложилось, всё против меня: и автобус к электричке не пришёл, пришлось на другом – только до поворота– ехать, а потом четыре километра пёхать; дождь стал накрапывать откуда ни возьмись (вроде, ничего не предвещало); пока дождевик достала (а он, конечно, в рюкзаке на самом дне) – промокла, одежда противно к коже липнет; насилу дверь отперла: ключ в замке проворачивается, а никак не открывает…Короче, пока то да сё – пятый час, солнце уже к лесу покатилось, на облачке, как на трамплине, задержалось, вот-вот в тучку нырнёт. Скорей-скорей – на чердак, там пледы в пыльном шкафу лежали. Мама, как на пенсию вышла, много пледов навязала, надеялась, в интернет-магазине продавать, но что-то не пошли они, вот их на дачу все и отвезли, так и лежат, никому не нужные. Это уж потом мама опять работу нашла, по своей специальности – анестезиологом в частную клинику. Мы потому и на дачу теперь не ездим.
Вот они пледики! Сейчас найду терракотовый, под цвет осени и настроения, завернусь в него и помечтаю. Терракотовый плед нашёлся, но был таким влажным и колючим, к тому же псиной отчего-то припахивал (из собачьей шерсти что ли?), что я схватила другой, из середины, непонятного цвета – то ли синий, то ли чёрный, и, перекинув его через плечо, поспешила на кухню. Чайник не нашла, вскипятила воду в маленькой алюминиевой кастрюльке, поворошив на полке нашла тусклую чашку с коровой на боку и сколотым краешком. Ограбили нас что ли? Ни одной целой чашки, ни чайника…Но не стала на мелочах заостряться, вытянула на крыльцо табурет и, обхватив пледом, как рукавицами, горячую кружку с кофе, попыталась угнездиться. Плед сползал и никак не хотел держаться на плечах. Поставила кружку на пол, укуталась в плед, потянувшись за кружкой, чуть не свалилась. А солнце меж тем уже давно булькнуло в лесок, только торчала самая-самая макушка, золотила верхушку молодой сосны. Ничего, в потёмках лучше думается. Только мысли никак не умиротворялись, теперь к основной «Опять одна», добавились другие «Почему мне так не везёт» и «Что со мной не так», вот, даже малюсенькая романтическая идея – попить кофе, завернувшись в плед, на крыльце в час заката, обернулась чехардой и бессмыслицей. Я допила противный горький кофе, отнесла на кухню табурет и плед, и быстро-быстро пошла на остановку: может, успею на последний автобус. Телефон сел, поэтому, когда я около полуночи ввалилась домой без звонка, встревоженная мама долго не могла взять в толк, почему я вернулась в тот же день.
Утром, потянувшись, я выплыла на кухню, где стоял уютный и плотный запах свежемолотого кофе. Мама как-то наловчилась варить его в микроволновке, поэтому могла приготовить его секунда в секунду к моему приходу. Настя ещё спала, мы с мамой сели в кресла, укрыли ноги пледами (их и в городской квартире было предостаточно). Тикали настенные часы, шаркала на улице метла дворника. Я посмотрела на свою картину:
– Мам, а не кажется тебе, как будто кофе пролили ненароком?
– Есть немножко, – ответила мама.
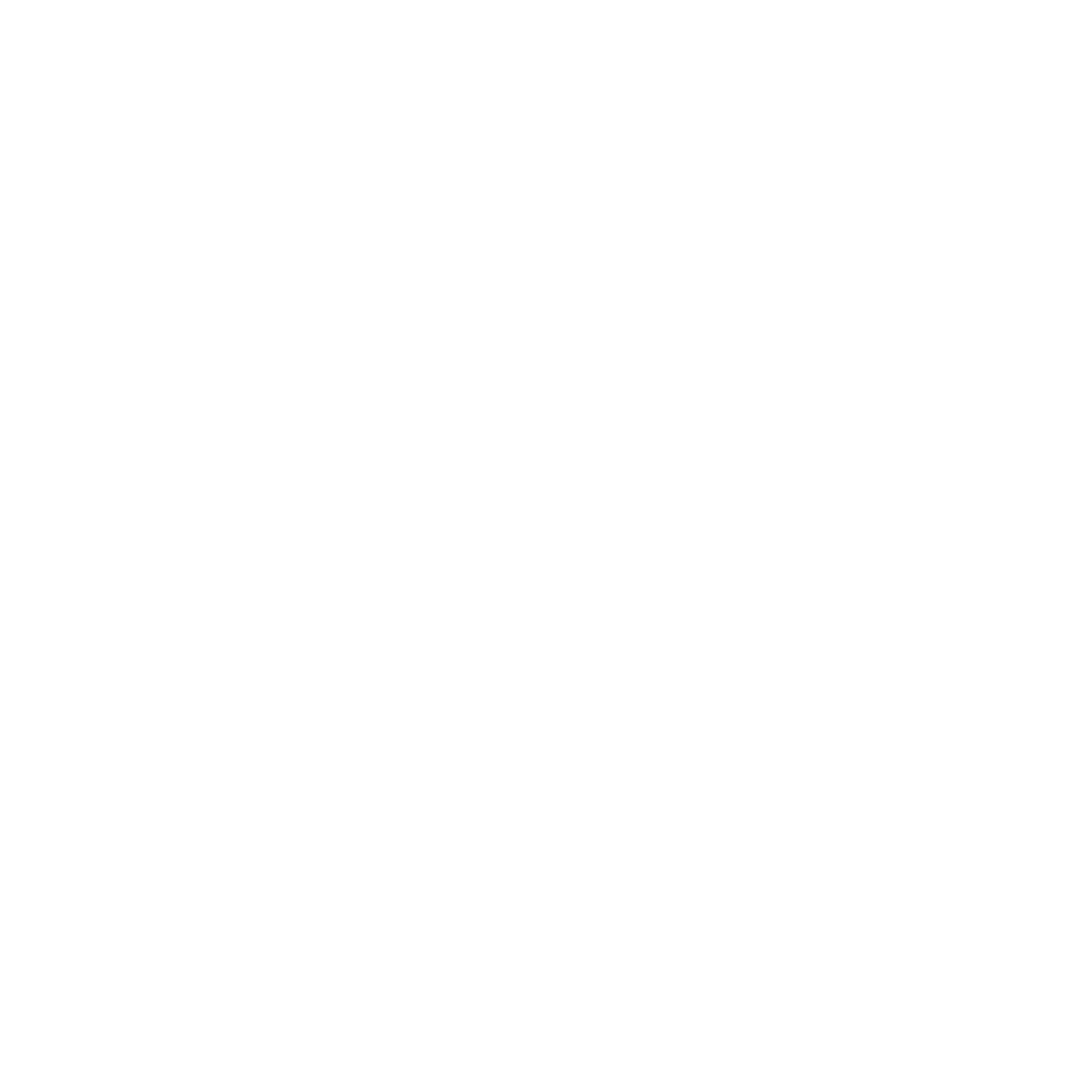
Оразбек САРСЕНБИ
Родился в Алматы в 1968 году, окончил школу в с. Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области, высшее образование получил в Казахском Политехническом институте в 1993 году. Служил в Советской Армии 1987-1989 годы.
Работал в коммерческих и государственных структурах. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в г. Бишкек.
Писать стихи и рассказы начал относительно недавно. В 2019 году опубликовал рассказ в альманахе «Точки» (Москва). Свои работы размещает на собственной странице в социальной сети Фейсбук: https://www.facebook.com/orazbek.sarsenbi
Почта: orixsarsenbi@gmail.com
Родился в Алматы в 1968 году, окончил школу в с. Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области, высшее образование получил в Казахском Политехническом институте в 1993 году. Служил в Советской Армии 1987-1989 годы.
Работал в коммерческих и государственных структурах. В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью в г. Бишкек.
Писать стихи и рассказы начал относительно недавно. В 2019 году опубликовал рассказ в альманахе «Точки» (Москва). Свои работы размещает на собственной странице в социальной сети Фейсбук: https://www.facebook.com/orazbek.sarsenbi
Почта: orixsarsenbi@gmail.com
БЕРИК ЛАСКОВЫЙ
ИЛИ СЛУЧАЙ НА КОРПОРАТИВЕ
В большом зале четырехкомнатной квартиры за массивным дубовым столом с толстыми ножками сидели шестеро парней и играли в «дурака». Квартиру снимала госкорпорация «Казойлгаз», в которой молодые люди работали. Все они съехались из разных уголков Казахстана в поисках лучшей жизни в новую столицу – Астану.
Бывший провинциальный городок, Целиноград, встречал чиновников безликой инфраструктурой, нехваткой жилых и офисных помещений, неустроенным и скромным бытом, морозными зимами, могучими степными ветрами и едкими насмешками местных старожилов: «Вон смотри кого-то сносит ветром, наверняка это «лохматинец»». Это слово первоначально образовалось от двух других: «лох» и «алматинец», но впоследствии так стали называть всех бросающихся в глаза южан.
Здесь же на экране телевизора в сотый раз крутился фильм: «Семнадцать мгновений весны». В квартире имелся кассетный видеопроигрыватель с тремя шедеврами советского кино: первый – уже шел, второй – «Джентльмены удачи» и третий – «Место встречи изменить нельзя». Иногда ребята приносили с проката другие фильмы, но эти неизменно находились дома и просматривались довольно часто, при этом, как ни странно, не наскучивали.
На конец декабря 1997 года пришлись лютые морозы, усугубляемые пронизывающими ветрами, поэтому сегодня, как, впрочем, и несколько дней подряд, все жители квартиры собрались в зале и от нечего делать достали карты. В такую погоду, как говорится, плохой хозяин не выгнал бы паршивую собаку на улицу.
– Чья очередь идти за водкой? – лениво потянувшись, вопросил Данияр.
– Кто сегодня дежурный, тот и идёт, – хитрый взгляд Сабыржана остановился на добродушном толстячке Ардаке.
– «А почему я? Как что – так сразу Косой...» – Ардак покосил глаза и полуоткрыл рот. Он часто повторял фразы или даже мог наизусть произнести синхронно с лентой целые сцены из уже названных нами фильмов. Сидящие за столом дружно гоготнули. Ситуация очень напоминала сцену у зимнего пруда из «Джентльменов удачи».
– Потому что твоя очередь «нырять», – ответил за всех Берик, тревожно глядя на свои карты.
– А давайте по справедливости – кто проиграет, тот и идёт?.. – подбросил своё предложение Ардак.
Его реплика осталась незамеченной. Будто услышав перепалку молодых людей хлесткий ветер нетерпеливо забился в окно, предвкушая очередную жертву. Ардак поглубже втянул голову в круглые плечи.
– По справедливости – это значит по очереди, – заметил Азамат и атакуя звонко шлепнул картой об стол, – На тебе «вальта»... козырного... Берешь? – он поднял брови и посмотрел на Берика.
Тот кинул короткий взгляд на внушительный веер карт в руке…, внимательно и испытующе взглянул на Азамата, сидящего слева… на Данияра, сидящего справа…, вытянул одну карту и..., бросив на стол, выдавил отчаянное:
– Нате вам «даму-козырь»! – и, после непродолжительной паузы, поднял тревожный взгляд на атакующих соседей, – Есть?..
Те начали смотреть на картинки в руках, спрятавшиеся в полосатые рубашки. Данияр вдруг просиял и аккуратно вытащил одну из них.
– На тебе «дама-крести»!.. – с нажимом резанул он. – Тащи еще одного козыря, если есть!
Берик бросил пришибленный взгляд на Даника, почесал хмурый лоб, криво ухмыльнулся и поднял весь розыгрыш.
В этом круге Берик пришел последним. Как проигравший, он собрал колоду и начал медленно тасовать. Вдруг юноша остановился и положил карты на стол. Чувствуя, что игра не ладится, Берик глухим голосом произнес:
– Если рыба не клюёт, то надо выпить… и поменять место… – здесь он, посмотрев на Ардака, уже громче и злее добавил, – Место можно не менять, но выпить надо обязательно!
При этом на лице Берика не виднелось и тени улыбки, роль обозленного неудачника удавалась ему легко.
Ардак лениво поморщил нос…, нехотя встал…, потянулся…, всем видом будто показывая, что никуда идти не собирается…, но, сделав несколько неторопливых шагов в сторону двери, с деланной неохотой добавил:
– Ладно… Пойду.
Парни разом загалдели, началось оживление, послышался смех. Вмиг повеселевший Берик, перебивая всех, разбирал неудачный ход козырным «вальтом». Вскоре Ардак в шубе и шапке, показался опять:
– Сколько брать?
– Возьми два, чтобы два раза не бегать? – ответил за всех Данияр.
– А не много будет, завтра на работу?
– Одного будет мало, – вставил немногословный Миржан вескую, как всегда, фразу.
Убедительный аргумент прекратил споры и шаги Ардака уверенно застучали прочь.
За отсутствием одного из участников, игра остановилась. Расторопный Сабыржан принес несколько несъеденных мант с ужина, который сегодня приготовила нанятая в складчину домработница, нарезал овощей, вскрыл две банки со шпротами. Для завершения картины не доставало веселой злодейки с наклейкой.
– Сегодня меня вызвал к себе директор, – прервал молчание Данияр, который недавно был назначен управляющим директором. – Скоро новогодний корпоратив нашего министерства. Будет конкурс номеров. Шеф хочет, чтобы мы тоже выступили, но при этом всех удивили, – в его голосе почувствовались смешанные оттенки нескрываемого сомнения и скрываемой надежды. – Какие будут идеи?..
– Идеи будут…, – рубанул Миржан, – но пусть в начале придет Ардак.
Дружный хохот заглушил стук входной двери. Вошел раскрасневшийся Ардак с большим гремящим пакетом, зябко передернул плечами:
– Брр… Я взял два пузыря и еще напитки на всякий случай. Предупреждаю, второй раз бегать не буду!
Через минуту веселая компания пропустила первый круг и стаканы обновились новой порцией крепкой прозрачной жидкости.
– Между первой и второй перерывчик небольшой, - произнес на этот раз избитую фразу Сабыржан.
Пошла вторая порция…, затем третья… холодный свет люстры становился теплее, толстый стол начал приобретать изящество, а уличный ветер ласковее хлестать окно.
– Мне кажется, я знаю, что нужно нашему шефу…, – промолвил задумчиво Азамат, глядя на экран телевизора.
– А что ему надо? – не понял пропустивший разговор Ардак.
– Имеешь ввиду выступление?.. – подхватил Данияр.
– Да. Слушайте…
* * *
Большой банкетный зал одного из престижных ресторанов новой столицы был битком набит нарядными гостями из числа работников Минэнерго, служащих его комитетов и подведомственных госкорпораций. Просматривались семейные пары и много молодежи, потому как после смены столицы обновился и кадровый состав правительственных учреждений. Гости проходили в дальний угол к фуршетным столам и, образовывая небольшие кружки по интересам, выпивали и закусывали стоя. Начались официальные речи, переходящие в тосты. Выступил министр, за ним вице-министры. Наступила череда директоров подразделений и госпредприятий. Они поднимались на сцену, произносили торжественные речи и приглашали своих подопечных для выступления.
Это были номера с неумелыми перепевками популярных песен или несуразными танцами подвыпивших гостей. Было даже несколько выступлений с юмористическими миниатюрами, но люди смеялись скорее от исполнения, чем от шуток. Подошла очередь вновь организованной «Казойлгаз», в которой работали наши герои. Зал с интересом вскинул лица в ожидании выхода новых персон.
На сцену поднялась группа молодых людей, среди которых были уже известные нам шестеро парней. Из группы выступил высокий работник торгового отдела, по имени Сергей, в милицейской фуражке без кокарды. Одет он был в ладно сидевший длинный черный кожаный плащ. На ногах поблескивали хорошо начищенные хромовые сапоги. Чувствовалась серьезная подготовка.
Группа удалилась на дальний угол сцены, один Берик остался возле Сергея. Вплотную приблизившись к нему, он присел на корточки, руками и ногами схватился за его ногу, и повис на ней, оттягивая одну штанину вниз.
Зазвучала музыка. Люди начали улыбаться, узнавая родной мотив из известного фильма, образ героя которого вышел далеко за рамки картины и стал персонажем анекдотов.
«Я прошу, хоть ненадолго…»
Тут конструкция из двух человек повернулась задом наперед к смотрящим. На спине Сергея висела бумажная табличка с надписью: «ШТИРЛИЦ», на Берике – «БОЛЬ». С зала послышался первые смешки и хлопки.
Прозвучали следующие слова:
«…Боль моя, ты покинь меня…»
Пронзительно-серьезным и вместе с тем жаждуще-страждущим взглядом серых глаз, демонстрирующих одновременно нордический характер истинного арийца и безысходную тоску советского человека на чужбине, «ШТИРЛИЦ» сверху вниз посмотрел на судорожно цепляющуюся к ноге «БОЛЬ».
«…Облаком, сизым облаком, …»
Из толпы в дальнем углу сцены выделился добродушно улыбающийся пухленький Ардак. Показывая надпись «ОБЛАКО» на спине, он, плавно размахивал руками и передвигался мелкими шажками. Сделав небольшой круг, Ардак приблизился к Сергею. Тот обхватил его за плечи одной рукой и, указывая второй в сторону выступающего из толпы высокого и худосочного Мержана, подтолкнул «ОБЛАКО» к нему.
«… Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому…»
Мержан засветил зрителям приколотую на спине надпись: «РОДНОЙ ДОМ». Зал, знавший слова песни наизусть, уже не нуждался в этих табличках, а встречал каждый персонаж веселыми возгласами и восторженными аплодисментами. Ардак, продолжая махать руками, посеменил к Мержану. «РОДНОЙ ДОМ» с широкими объятиями и ослепительной улыбкой встретил «ОБЛАКО».
«… Берег мой, покажись вдали,
Краешком, тонкой линией…»
Ардак и Мержан к этому моменту растворились в толпе, а вышедший из неё Данияр с надписью «БЕРЕГ» изогнулся, выставил вперед толстое бедро и пальцем провел по нему, начертав тонкую линию.
«… Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь…»
«БЕРЕГ» с лаской всем телом тянулся к «ШТИРЛИЦУ», а тот резво рубил воздух руками, изображая пловца.
«…Где-то далеко, где-то далеко
Идут грибные дожди,…»
Из массовки появились Тимур с Азаматом и промаршировали к краю сцены и обратно, удаляясь с подпрыгивающими в такт шагам надписями: «ГРИБНЫЕ ДОЖДИ» на спине.
«…Прямо у реки в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли…»
Две стройные девушки с приемной шефа, Галия и Айнагуль, с табличками «ВИШНИ» выбежали и грациозно склонились в земном поклоне.
«…Где-то далеко в памяти моей
Сейчас, как в детстве, тепло…»
Появился низкорослый Адильжан, закутанный в теплую шубу, обмотанный толстым шарфом, с шапкой ушанкой на голове и надписью на шапке: «ПАМЯТЬ».
«…Хоть память укрыта
Такими большими снегами…»
Большеразмерный Василий с вывеской на груди: «БОЛЬШИЕ СНЕГА» укрыл Адильжана толстыми руками и грузным телом так, что последний почти полностью растворился в первом.
Начался новый куплет.
«…Ты, гроза, напои меня…»
Ширин из отдела закупок с табличкой «ГРОЗА» подбежала к «ШТИРЛИЦУ» и протянула ему стакан с прозрачной жидкостью. Тот одним глотком выпил содержимое, поморщился, притянул Ширин за голову и шумно втянул носом воздух с её волос. Беспрерывно шумевший зал разразился неистовым хохотом и бурными овациями.
«…Допьяна, да не до смерти…»
К «ШТИРЛИЦУ» подбежали двое, знакомый уже нам Сабыржан и угрюмый верзила Болат из отдела безопасности. Сергей обнял Сабыржана в роли: «ДОПЬЯНА», а Болата с надписью: «ДОСМЕРТИ» злобно оттолкнул прочь.
«…Вот опять, как в последний раз,
Я все гляжу куда-то в небо,
Как-будто ищу ответа…»
Появились на сцене еще двое. За высокой и плечистой фигурой Динмухамеда, с приколотым словом: «НЕБО», спрятался и выглядывал Нурсултан, с надписью: «ОТВЕТ». «ШТИРЛИЦ» в этот момент наклонялся вправо и влево, высматривая «ОТВЕТ» из-за могучей спины «НЕБА».
Песня подходила к концу и пошёл повтор:
«Я прошу, хоть ненадолго
Боль моя, ты покинь меня,
Облаком, сизым облаком,
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.»
Берик, висевший на ноге Сергея во время всего действа, вцепился с удвоенной силой и изобразил на лице остервенелую ярость. Получилось достаточно правдоподобно, ярость и злость были его коньком. Сергей сделал несколько шагов с тяжелым грузом и начал встряхивать ногу, но отвязаться от «БОЛИ» не удавалось. «ОБЛАКО» ещё раз «пролетел» круг и снова попал в объятия «РОДНОГО ДОМА».
Музыка умолкла, песня закончилась, а вместе с ней завершился номер.
Сергей широко улыбнулся и пригласил участников сцены подойти ближе, парни и девушки ровно выстроились в ряд справа и слева от него, и поклонились как заправские актёры. Зал громко рукоплескал, слышались восторженные возгласы «Браво!.. Браво!..».
Номер удался. Задача шефа была выполнена. До конца корпоратива незнакомые люди хотели познакомиться с героями вечеринки, по-свойски хлопали участников любительской труппы по плечу и звали выпить. К ним пришла неожиданная популярность, а вместе с ней вынужденное опьянение.
* * *
Под конец вечера порядком набравшиеся Данияр и Берик тупо наблюдали за танцующей молодежью в зале. К ним подошли две девушки, в походке которых тоже угадывалось легкое влияние напитка для смелости. Невысокая и полненькая с огненно-рыжими волосами тянула за руку гибкую и несильно отпирающуюся брюнетку.
– «БЕРЕГ», моя подружка хочет с тобой познакомиться, – как можно обаятельнее улыбаясь заявила рыжая, обращаясь к Данияру. – Жанура…, – представила она подругу, и добавила, указывая на себя, – Динара.
– Я, вообще-то, не Берик… Берик это он, – Даник, неловко улыбаясь, указал на стоявшего рядом товарища и, по-детски насупившись, добавил, тыкая себя. – Я, вообще-то, Данияр.
– Какой же он «БЕРЕГ»??? Он же «БОЛЬ»!!! – иронично недоумевая воскликнула Динара, а подружка её, прелестно прыснула и застенчиво спрятала улыбку ладонью. – А ты – «БЕРЕГ ЛАСКОВЫЙ»!
Последние слова девушка произнесла нежно, и выразительно посмотрела на все еще смущающуюся подружку. Даник с широко открытыми деланно-изумленными глазами уставился на Берика, а Берик отреагировал шуточно отвисшей челюстью и частым-частным морганием. Пауза затягивалась…
– Ну, что ж…, в таком случае, тебе сегодня ночью будет о-о-о-очень больно! – нашелся Берик, обращаясь к Динаре, и нахмурил брови, показывая коронную злость, граничащую со свирепостью.
Динара будто на секунду попала в ступор, но, быстро придя в себя, покорно ответила:
– Ладно…, – и прильнула к нему.
Данияр обнял оставшуюся в одиночестве Жануру за плечи:
– Не будем смущать себя этими извращенцами, – ласково промурлыкал большой мартовский кот по кличке «БЕРЕГ» и потянул девушку на танцпол.
* * *
В эту ночь Данияру и Берику повезло больше других, – они домой ночевать не пришли…
ИЛИ СЛУЧАЙ НА КОРПОРАТИВЕ
В большом зале четырехкомнатной квартиры за массивным дубовым столом с толстыми ножками сидели шестеро парней и играли в «дурака». Квартиру снимала госкорпорация «Казойлгаз», в которой молодые люди работали. Все они съехались из разных уголков Казахстана в поисках лучшей жизни в новую столицу – Астану.
Бывший провинциальный городок, Целиноград, встречал чиновников безликой инфраструктурой, нехваткой жилых и офисных помещений, неустроенным и скромным бытом, морозными зимами, могучими степными ветрами и едкими насмешками местных старожилов: «Вон смотри кого-то сносит ветром, наверняка это «лохматинец»». Это слово первоначально образовалось от двух других: «лох» и «алматинец», но впоследствии так стали называть всех бросающихся в глаза южан.
Здесь же на экране телевизора в сотый раз крутился фильм: «Семнадцать мгновений весны». В квартире имелся кассетный видеопроигрыватель с тремя шедеврами советского кино: первый – уже шел, второй – «Джентльмены удачи» и третий – «Место встречи изменить нельзя». Иногда ребята приносили с проката другие фильмы, но эти неизменно находились дома и просматривались довольно часто, при этом, как ни странно, не наскучивали.
На конец декабря 1997 года пришлись лютые морозы, усугубляемые пронизывающими ветрами, поэтому сегодня, как, впрочем, и несколько дней подряд, все жители квартиры собрались в зале и от нечего делать достали карты. В такую погоду, как говорится, плохой хозяин не выгнал бы паршивую собаку на улицу.
– Чья очередь идти за водкой? – лениво потянувшись, вопросил Данияр.
– Кто сегодня дежурный, тот и идёт, – хитрый взгляд Сабыржана остановился на добродушном толстячке Ардаке.
– «А почему я? Как что – так сразу Косой...» – Ардак покосил глаза и полуоткрыл рот. Он часто повторял фразы или даже мог наизусть произнести синхронно с лентой целые сцены из уже названных нами фильмов. Сидящие за столом дружно гоготнули. Ситуация очень напоминала сцену у зимнего пруда из «Джентльменов удачи».
– Потому что твоя очередь «нырять», – ответил за всех Берик, тревожно глядя на свои карты.
– А давайте по справедливости – кто проиграет, тот и идёт?.. – подбросил своё предложение Ардак.
Его реплика осталась незамеченной. Будто услышав перепалку молодых людей хлесткий ветер нетерпеливо забился в окно, предвкушая очередную жертву. Ардак поглубже втянул голову в круглые плечи.
– По справедливости – это значит по очереди, – заметил Азамат и атакуя звонко шлепнул картой об стол, – На тебе «вальта»... козырного... Берешь? – он поднял брови и посмотрел на Берика.
Тот кинул короткий взгляд на внушительный веер карт в руке…, внимательно и испытующе взглянул на Азамата, сидящего слева… на Данияра, сидящего справа…, вытянул одну карту и..., бросив на стол, выдавил отчаянное:
– Нате вам «даму-козырь»! – и, после непродолжительной паузы, поднял тревожный взгляд на атакующих соседей, – Есть?..
Те начали смотреть на картинки в руках, спрятавшиеся в полосатые рубашки. Данияр вдруг просиял и аккуратно вытащил одну из них.
– На тебе «дама-крести»!.. – с нажимом резанул он. – Тащи еще одного козыря, если есть!
Берик бросил пришибленный взгляд на Даника, почесал хмурый лоб, криво ухмыльнулся и поднял весь розыгрыш.
В этом круге Берик пришел последним. Как проигравший, он собрал колоду и начал медленно тасовать. Вдруг юноша остановился и положил карты на стол. Чувствуя, что игра не ладится, Берик глухим голосом произнес:
– Если рыба не клюёт, то надо выпить… и поменять место… – здесь он, посмотрев на Ардака, уже громче и злее добавил, – Место можно не менять, но выпить надо обязательно!
При этом на лице Берика не виднелось и тени улыбки, роль обозленного неудачника удавалась ему легко.
Ардак лениво поморщил нос…, нехотя встал…, потянулся…, всем видом будто показывая, что никуда идти не собирается…, но, сделав несколько неторопливых шагов в сторону двери, с деланной неохотой добавил:
– Ладно… Пойду.
Парни разом загалдели, началось оживление, послышался смех. Вмиг повеселевший Берик, перебивая всех, разбирал неудачный ход козырным «вальтом». Вскоре Ардак в шубе и шапке, показался опять:
– Сколько брать?
– Возьми два, чтобы два раза не бегать? – ответил за всех Данияр.
– А не много будет, завтра на работу?
– Одного будет мало, – вставил немногословный Миржан вескую, как всегда, фразу.
Убедительный аргумент прекратил споры и шаги Ардака уверенно застучали прочь.
За отсутствием одного из участников, игра остановилась. Расторопный Сабыржан принес несколько несъеденных мант с ужина, который сегодня приготовила нанятая в складчину домработница, нарезал овощей, вскрыл две банки со шпротами. Для завершения картины не доставало веселой злодейки с наклейкой.
– Сегодня меня вызвал к себе директор, – прервал молчание Данияр, который недавно был назначен управляющим директором. – Скоро новогодний корпоратив нашего министерства. Будет конкурс номеров. Шеф хочет, чтобы мы тоже выступили, но при этом всех удивили, – в его голосе почувствовались смешанные оттенки нескрываемого сомнения и скрываемой надежды. – Какие будут идеи?..
– Идеи будут…, – рубанул Миржан, – но пусть в начале придет Ардак.
Дружный хохот заглушил стук входной двери. Вошел раскрасневшийся Ардак с большим гремящим пакетом, зябко передернул плечами:
– Брр… Я взял два пузыря и еще напитки на всякий случай. Предупреждаю, второй раз бегать не буду!
Через минуту веселая компания пропустила первый круг и стаканы обновились новой порцией крепкой прозрачной жидкости.
– Между первой и второй перерывчик небольшой, - произнес на этот раз избитую фразу Сабыржан.
Пошла вторая порция…, затем третья… холодный свет люстры становился теплее, толстый стол начал приобретать изящество, а уличный ветер ласковее хлестать окно.
– Мне кажется, я знаю, что нужно нашему шефу…, – промолвил задумчиво Азамат, глядя на экран телевизора.
– А что ему надо? – не понял пропустивший разговор Ардак.
– Имеешь ввиду выступление?.. – подхватил Данияр.
– Да. Слушайте…
* * *
Большой банкетный зал одного из престижных ресторанов новой столицы был битком набит нарядными гостями из числа работников Минэнерго, служащих его комитетов и подведомственных госкорпораций. Просматривались семейные пары и много молодежи, потому как после смены столицы обновился и кадровый состав правительственных учреждений. Гости проходили в дальний угол к фуршетным столам и, образовывая небольшие кружки по интересам, выпивали и закусывали стоя. Начались официальные речи, переходящие в тосты. Выступил министр, за ним вице-министры. Наступила череда директоров подразделений и госпредприятий. Они поднимались на сцену, произносили торжественные речи и приглашали своих подопечных для выступления.
Это были номера с неумелыми перепевками популярных песен или несуразными танцами подвыпивших гостей. Было даже несколько выступлений с юмористическими миниатюрами, но люди смеялись скорее от исполнения, чем от шуток. Подошла очередь вновь организованной «Казойлгаз», в которой работали наши герои. Зал с интересом вскинул лица в ожидании выхода новых персон.
На сцену поднялась группа молодых людей, среди которых были уже известные нам шестеро парней. Из группы выступил высокий работник торгового отдела, по имени Сергей, в милицейской фуражке без кокарды. Одет он был в ладно сидевший длинный черный кожаный плащ. На ногах поблескивали хорошо начищенные хромовые сапоги. Чувствовалась серьезная подготовка.
Группа удалилась на дальний угол сцены, один Берик остался возле Сергея. Вплотную приблизившись к нему, он присел на корточки, руками и ногами схватился за его ногу, и повис на ней, оттягивая одну штанину вниз.
Зазвучала музыка. Люди начали улыбаться, узнавая родной мотив из известного фильма, образ героя которого вышел далеко за рамки картины и стал персонажем анекдотов.
«Я прошу, хоть ненадолго…»
Тут конструкция из двух человек повернулась задом наперед к смотрящим. На спине Сергея висела бумажная табличка с надписью: «ШТИРЛИЦ», на Берике – «БОЛЬ». С зала послышался первые смешки и хлопки.
Прозвучали следующие слова:
«…Боль моя, ты покинь меня…»
Пронзительно-серьезным и вместе с тем жаждуще-страждущим взглядом серых глаз, демонстрирующих одновременно нордический характер истинного арийца и безысходную тоску советского человека на чужбине, «ШТИРЛИЦ» сверху вниз посмотрел на судорожно цепляющуюся к ноге «БОЛЬ».
«…Облаком, сизым облаком, …»
Из толпы в дальнем углу сцены выделился добродушно улыбающийся пухленький Ардак. Показывая надпись «ОБЛАКО» на спине, он, плавно размахивал руками и передвигался мелкими шажками. Сделав небольшой круг, Ардак приблизился к Сергею. Тот обхватил его за плечи одной рукой и, указывая второй в сторону выступающего из толпы высокого и худосочного Мержана, подтолкнул «ОБЛАКО» к нему.
«… Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому…»
Мержан засветил зрителям приколотую на спине надпись: «РОДНОЙ ДОМ». Зал, знавший слова песни наизусть, уже не нуждался в этих табличках, а встречал каждый персонаж веселыми возгласами и восторженными аплодисментами. Ардак, продолжая махать руками, посеменил к Мержану. «РОДНОЙ ДОМ» с широкими объятиями и ослепительной улыбкой встретил «ОБЛАКО».
«… Берег мой, покажись вдали,
Краешком, тонкой линией…»
Ардак и Мержан к этому моменту растворились в толпе, а вышедший из неё Данияр с надписью «БЕРЕГ» изогнулся, выставил вперед толстое бедро и пальцем провел по нему, начертав тонкую линию.
«… Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь…»
«БЕРЕГ» с лаской всем телом тянулся к «ШТИРЛИЦУ», а тот резво рубил воздух руками, изображая пловца.
«…Где-то далеко, где-то далеко
Идут грибные дожди,…»
Из массовки появились Тимур с Азаматом и промаршировали к краю сцены и обратно, удаляясь с подпрыгивающими в такт шагам надписями: «ГРИБНЫЕ ДОЖДИ» на спине.
«…Прямо у реки в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли…»
Две стройные девушки с приемной шефа, Галия и Айнагуль, с табличками «ВИШНИ» выбежали и грациозно склонились в земном поклоне.
«…Где-то далеко в памяти моей
Сейчас, как в детстве, тепло…»
Появился низкорослый Адильжан, закутанный в теплую шубу, обмотанный толстым шарфом, с шапкой ушанкой на голове и надписью на шапке: «ПАМЯТЬ».
«…Хоть память укрыта
Такими большими снегами…»
Большеразмерный Василий с вывеской на груди: «БОЛЬШИЕ СНЕГА» укрыл Адильжана толстыми руками и грузным телом так, что последний почти полностью растворился в первом.
Начался новый куплет.
«…Ты, гроза, напои меня…»
Ширин из отдела закупок с табличкой «ГРОЗА» подбежала к «ШТИРЛИЦУ» и протянула ему стакан с прозрачной жидкостью. Тот одним глотком выпил содержимое, поморщился, притянул Ширин за голову и шумно втянул носом воздух с её волос. Беспрерывно шумевший зал разразился неистовым хохотом и бурными овациями.
«…Допьяна, да не до смерти…»
К «ШТИРЛИЦУ» подбежали двое, знакомый уже нам Сабыржан и угрюмый верзила Болат из отдела безопасности. Сергей обнял Сабыржана в роли: «ДОПЬЯНА», а Болата с надписью: «ДОСМЕРТИ» злобно оттолкнул прочь.
«…Вот опять, как в последний раз,
Я все гляжу куда-то в небо,
Как-будто ищу ответа…»
Появились на сцене еще двое. За высокой и плечистой фигурой Динмухамеда, с приколотым словом: «НЕБО», спрятался и выглядывал Нурсултан, с надписью: «ОТВЕТ». «ШТИРЛИЦ» в этот момент наклонялся вправо и влево, высматривая «ОТВЕТ» из-за могучей спины «НЕБА».
Песня подходила к концу и пошёл повтор:
«Я прошу, хоть ненадолго
Боль моя, ты покинь меня,
Облаком, сизым облаком,
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.»
Берик, висевший на ноге Сергея во время всего действа, вцепился с удвоенной силой и изобразил на лице остервенелую ярость. Получилось достаточно правдоподобно, ярость и злость были его коньком. Сергей сделал несколько шагов с тяжелым грузом и начал встряхивать ногу, но отвязаться от «БОЛИ» не удавалось. «ОБЛАКО» ещё раз «пролетел» круг и снова попал в объятия «РОДНОГО ДОМА».
Музыка умолкла, песня закончилась, а вместе с ней завершился номер.
Сергей широко улыбнулся и пригласил участников сцены подойти ближе, парни и девушки ровно выстроились в ряд справа и слева от него, и поклонились как заправские актёры. Зал громко рукоплескал, слышались восторженные возгласы «Браво!.. Браво!..».
Номер удался. Задача шефа была выполнена. До конца корпоратива незнакомые люди хотели познакомиться с героями вечеринки, по-свойски хлопали участников любительской труппы по плечу и звали выпить. К ним пришла неожиданная популярность, а вместе с ней вынужденное опьянение.
* * *
Под конец вечера порядком набравшиеся Данияр и Берик тупо наблюдали за танцующей молодежью в зале. К ним подошли две девушки, в походке которых тоже угадывалось легкое влияние напитка для смелости. Невысокая и полненькая с огненно-рыжими волосами тянула за руку гибкую и несильно отпирающуюся брюнетку.
– «БЕРЕГ», моя подружка хочет с тобой познакомиться, – как можно обаятельнее улыбаясь заявила рыжая, обращаясь к Данияру. – Жанура…, – представила она подругу, и добавила, указывая на себя, – Динара.
– Я, вообще-то, не Берик… Берик это он, – Даник, неловко улыбаясь, указал на стоявшего рядом товарища и, по-детски насупившись, добавил, тыкая себя. – Я, вообще-то, Данияр.
– Какой же он «БЕРЕГ»??? Он же «БОЛЬ»!!! – иронично недоумевая воскликнула Динара, а подружка её, прелестно прыснула и застенчиво спрятала улыбку ладонью. – А ты – «БЕРЕГ ЛАСКОВЫЙ»!
Последние слова девушка произнесла нежно, и выразительно посмотрела на все еще смущающуюся подружку. Даник с широко открытыми деланно-изумленными глазами уставился на Берика, а Берик отреагировал шуточно отвисшей челюстью и частым-частным морганием. Пауза затягивалась…
– Ну, что ж…, в таком случае, тебе сегодня ночью будет о-о-о-очень больно! – нашелся Берик, обращаясь к Динаре, и нахмурил брови, показывая коронную злость, граничащую со свирепостью.
Динара будто на секунду попала в ступор, но, быстро придя в себя, покорно ответила:
– Ладно…, – и прильнула к нему.
Данияр обнял оставшуюся в одиночестве Жануру за плечи:
– Не будем смущать себя этими извращенцами, – ласково промурлыкал большой мартовский кот по кличке «БЕРЕГ» и потянул девушку на танцпол.
* * *
В эту ночь Данияру и Берику повезло больше других, – они домой ночевать не пришли…
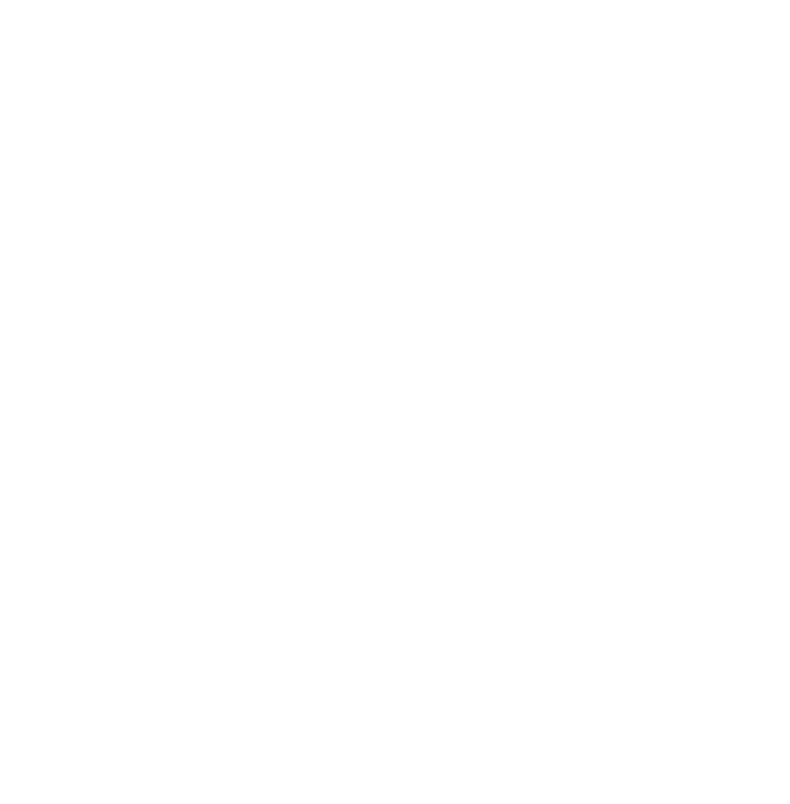
Ирина КОСТИНА
Родилась в Харькове. Живет в г. Лесной Свердловской области. Закончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1993 г. по специальности «Русский язык и литература». В 1999 г. окончила Уральский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» и магистратуру при нем. Тридцать лет проработала в школе, преподает психологию в ВУЗе. Литературным творчеством занимается одновременно с преподаванием. Печатные издания: книга «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», сборник рассказов (2016); повесть «Селфи с улыбкой» (2018). Есть публикации в журнале «Аргументы времени» и в литературном приложении к нему «Ритмы жизни», №№ 1-6, 2017-2018 гг. Является членом Российского союза писателей с 2018 года.
Родилась в Харькове. Живет в г. Лесной Свердловской области. Закончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1993 г. по специальности «Русский язык и литература». В 1999 г. окончила Уральский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» и магистратуру при нем. Тридцать лет проработала в школе, преподает психологию в ВУЗе. Литературным творчеством занимается одновременно с преподаванием. Печатные издания: книга «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», сборник рассказов (2016); повесть «Селфи с улыбкой» (2018). Есть публикации в журнале «Аргументы времени» и в литературном приложении к нему «Ритмы жизни», №№ 1-6, 2017-2018 гг. Является членом Российского союза писателей с 2018 года.
ПТИЦА СЧАСТЬЯ
Никто не может заменить нам какого-то человека. Нельзя никого никем заменить. Никто не может встать на чье-то место. И любить нельзя – ВМЕСТО… Быть вместо кого-то умным, красивым, счастливым, любимым. Каждый похож только на себя и проживает только свою жизнь. Каждому хочется прожить ее ярко, не засыпая от безнадежности, не теряя ее вкуса, ощущая кожей свежесть каждого дня, не теряя стремления куда-то бежать и кого-то встретить сегодня. Всегда видно человека, потерявшего этот самый вкус. Его выдают глаза, которые хотят спрятаться под бровями. Никогда не замечали? Они больные. У них БОЛЬШЕ НЕТ ЦВЕТА!! Они бесцветные, потому что им этого цвета больше не надо. Никто не будет в них всматриваться, спрашивать: «Какие у тебя глаза?» Никто никогда не станет больше их целовать. Ни как в детстве – мама, ни как любимая. Одна. Единственная. Или Единственный. У такого человека жесткие губы, потому что он их всегда сжимает. Они не тянутся к другим губам. И по ним никто не проведет теплым пальчиком, не согреет их трепетными губами…
Расточительными нас делает жизнь по объективным причинам. Мы не понимаем в молодости, что дорогие нам люди могут просто внезапно уйти. Из нашей жизни или из жизни вообще. Теряем их походя. Мы не прощаем ничего. Думаем, что жизнь впереди вечная, и мы все еще успеем: простить, поговорить, долюбить, досказать. Боимся унизиться перед нужным сердцу человеком. Ленимся сто раз позвать, сто раз сказать, как нужен он, как скучаем! Близкие когда-то люди вдруг кажутся предателями. И через сорок лет мы понимаем, что это были глупость и снобизм. Но уже не вернуть. И не хочется. В глухом сердце живут глухая боль и беда. И никому не нужен. Это расплата за неоказанное хотя бы однажды внимание, за непрощение, за не сделанное вовремя движение комуто навстречу, за нашу душевную лень.
Татьяна давно думала: кого обидела в этой жизни так, что судьба забирала всех, кого она сильно любила?
Жизнь поначалу дала все: заботливого мужа, детей, дом, хорошую работу…Казалось, все пришло легко, само собой, без усилий, и так будет постоянно. А потом все благополучие стало таять, как песочный замок у моря. Кажется, что построен основательно, из влажного песка, он высох на солнце и простоял крепенько полдня…А при первой сильной вечерней волне его стало вымывать в основании. Сначала скосило на один бок, потом посыпались другие бока. И он осыпался весь. Только цветок мальвы, воткнутый куда-то у окна, траурно, как на венках, развевал на ветру алые слипшиеся лепестки. Так из всей ее жизни вымылось нужное, осталась гора песка…и далеко не золотого. Где желтый, где серый, где с тоскливой тиной. И когда рассыпалось почти все, Татьяна испугалась! Удержать то, что осталось, то немногое, что еще греет, что дорого!...Но как, если не знаешь, отчего все посыпалось?
Примерно об этом говорила она с одноклассниками на встрече выпускников чудесным майским днем в одном из городских кафе. Тридцать лет мало кто заметил из ее старых друзей. Выпили сначала, как обычно, за тех, кто никогда больше не сядет с ними за стол. Их было четверо. Так рано и нелепо ушли все четверо. Первого убили в армии. Другой, имевший семью, детей, дом в Прибалтике, сгорел от алкоголя. Двое ушли от болезни, название которой мы боимся проговаривать не только вслух, но и мысленно…Потом разговоры стали веселее. И веселее. А потом душевнее и откровеннее – по мере выпитого. Школьные друзья самые добрые к нам по жизни. Они простили нам все наши недостатки давно, априори, еще в прошлой радостной жизни. Мы им давно все доказали совместным десятилетним сосуществованием, все простили, знаем многие их недостатки, они помнят нас без понтов, в моменты наших позорных поражений. Поэтому и наши лучшие качества они помнят, это остается на подкорке. Люди по жизни не меняются в главном – в доброте к этой жизни, к тем , кто рядом, в умении сделать выбор в сторону порядочности.
Леша – частый сосед по парте. Они регулярно усаживались вместе. Он складывал ей из бумаги оригами – разные фигурки, чаще птиц – на счастье! Надо только его дождаться. Дружба была взаимовыгодной: Леха чистой слезы технарь и математик, Таня делилась размышлениями по литературе, истории, обществознанию. На пару чудно сдали экзамены и окончили школу. Леша потом редко приезжал в родной город, мама сама чаще приезжала к нему. Он служил в одной московской конторе программистом. Хорошая квартира, семья, взрослый сын… Сейчас они снова сидели за одним столом, прижавшись друг к другу локтями. И Таня откровенно, бессовестно кокетничала с Лешей. Она улыбалась ему нежно, говорила теплым голосом, заглядывала проникновенно в глаза. Ей на минуту показалось, что она сейчас сможет перейти ту черту, которую нельзя переступать с одноклассниками, ставшими братьями. Но сейчас он стал единственным мужчиной в ее подвыпитом сердечке. Леша нежно обнял ее всю, просто сгреб. Приник лбом к ее дорогостоящей укладке. И поцеловал, как ребенка:
– Вот веришь? Все наладится. Все еще у нас будет. Ты только хоти этого. Как тогда, в детстве. Не переставай ждать и верить…
Татьяна чуть не расплакалась:
– Леш.. Я что, действительно, .. никакая?? Абсолютно непривлекательная как женщина??..
– Это что за вывод? Ты привлекательна, сексуальна и желанна. Это я пустой.
– Так не бывает! Нам нет и пятидесяти…Мы не можем быть пустыми.
– Так есть.
– Если женщина не цепляет... значит, дело только в ней! Ну... это, собственно, и ответ...я сама все сказала. Можно было даже не спрашивать. А ты просто не смог сказать правду, хорошо воспитан... правильные методы воспитания были...
– Ты… цепляешь. Я – воспитанный. А дело не в этом. Хочешь честно? Я всегда хотел быть с тобой. В школе. После школы. Через пять, потом через десять лет. И я всегда знал, что ты – та женщина, которая мне нужна. Что в тебе счастье. Но жизнь сложилась так, как сложилась. И никто так и не смог тебя заменить. А вот сейчас думаю: мы можем украсть это счастье сегодня. А что мы ПОТОМ будем с ним делать?
– Странное такое слово – счастье! Нельзя быть счастливым в жизни. Бунин писал в «Жизни Арсеньева», что счастье существует в нашем прошлом, в будущем, но никогда – в настоящем. Наше счастье – штука мгновенная. От него больше боли, чем толку. Понимаешь, что оно было, тогда, когда его уже нет.
Музыка в кафе громыхала, давая двоим, так неожиданно соединенным воспоминаниями и шальными надеждами, быть еще ближе. Они склонились головами и говорили только друг для друга, касались губами щек и уха, щекоча волосами.
– Лешка! Я хотела только прижаться к тебе. Прикоснуться к твоей руке. Поцеловать на груди волосы, выбивающиеся из распахнутого ворота рубахи. И было вначале все понятно и весело! Почему мне сейчас так тревожно? Что вдруг произошло?
– Иллюзия пропала. Ты потеряла веру.
– Ребятааа!! Пошли танцевать!!! - одноклассниц явно не устраивало, что за столами остались отбившиеся «от стаи», было желание всех прибрать, снова организовать в тесный круг. У Лены и Юли все всегда было по плану: они знали, когда кому плясать, когда перекусить, когда время разговорам. Диспутам, конечно, быть, но только тогда, когда Лена решит, что пора!
Тане не хотелось двигаться. Ей казалось, что вот – вот сейчас она что-то поймет, и песчаный замок окажется не из песка, а из чего-то покрепче, если она все решит для себя. Плечи обняла майская черемуховая дымка, касалась ее лица. Уже было близко у сердца и в животе сладкое теплое дыхание. Влюбленность в Лешу была сейчас невероятно юной и весенней. Хотелось видеть только его глаза и губы. Но Юля решительно тянула за руку. Татьяна поднялась, провела ладонями по бедрам, поправляя вниз шелковистый бархат облегающего платья, и медленно пошла в круг, надев дежурную улыбку для друзей. Для всех она – счастливая женщина!
– Оппа-оппа-оппа, давай, давай, народ! Веселее! – уже хрипло подзадоривала всех Лена.
Одна бравурная песня сменяла другую, одноклассники дурили, кружили ее, выталкивая в круг, знали, что она любит танцевать, хлопали в ладоши, разбивая хрупкую нежность в ее сердечке. Из круга она выбралась незаметно только минут через десять.
Таня подошла к столу. Алеши не было. Она оглядела зал, ища его около мужчин, и не нашла. Она подумала, что он решил дать ей передышку от танцев, от трудных разговоров. Протянув руку к бокалу с минеральной водой, она замерла. На бокале сидела бумажная птичка, каких Леша делал на уроке из промокашек. «Он ушел!..Совсем». Не оставил номер телефона. … Можно узнать у подруг. Только зачем? Если он Никто в ее жизни, значит, расстаться так – лучше всего. А если суждено, встреча все равно будет. Таня взяла птичку, положила на раскрытую ладошку, приложила ее к груди, откинулась и прижалась к спинке дивана. Птица такая, как в юности, когда было Счастье…
Или как Счастье, которое скоро будет.
Никто не может заменить нам какого-то человека. Нельзя никого никем заменить. Никто не может встать на чье-то место. И любить нельзя – ВМЕСТО… Быть вместо кого-то умным, красивым, счастливым, любимым. Каждый похож только на себя и проживает только свою жизнь. Каждому хочется прожить ее ярко, не засыпая от безнадежности, не теряя ее вкуса, ощущая кожей свежесть каждого дня, не теряя стремления куда-то бежать и кого-то встретить сегодня. Всегда видно человека, потерявшего этот самый вкус. Его выдают глаза, которые хотят спрятаться под бровями. Никогда не замечали? Они больные. У них БОЛЬШЕ НЕТ ЦВЕТА!! Они бесцветные, потому что им этого цвета больше не надо. Никто не будет в них всматриваться, спрашивать: «Какие у тебя глаза?» Никто никогда не станет больше их целовать. Ни как в детстве – мама, ни как любимая. Одна. Единственная. Или Единственный. У такого человека жесткие губы, потому что он их всегда сжимает. Они не тянутся к другим губам. И по ним никто не проведет теплым пальчиком, не согреет их трепетными губами…
Расточительными нас делает жизнь по объективным причинам. Мы не понимаем в молодости, что дорогие нам люди могут просто внезапно уйти. Из нашей жизни или из жизни вообще. Теряем их походя. Мы не прощаем ничего. Думаем, что жизнь впереди вечная, и мы все еще успеем: простить, поговорить, долюбить, досказать. Боимся унизиться перед нужным сердцу человеком. Ленимся сто раз позвать, сто раз сказать, как нужен он, как скучаем! Близкие когда-то люди вдруг кажутся предателями. И через сорок лет мы понимаем, что это были глупость и снобизм. Но уже не вернуть. И не хочется. В глухом сердце живут глухая боль и беда. И никому не нужен. Это расплата за неоказанное хотя бы однажды внимание, за непрощение, за не сделанное вовремя движение комуто навстречу, за нашу душевную лень.
Татьяна давно думала: кого обидела в этой жизни так, что судьба забирала всех, кого она сильно любила?
Жизнь поначалу дала все: заботливого мужа, детей, дом, хорошую работу…Казалось, все пришло легко, само собой, без усилий, и так будет постоянно. А потом все благополучие стало таять, как песочный замок у моря. Кажется, что построен основательно, из влажного песка, он высох на солнце и простоял крепенько полдня…А при первой сильной вечерней волне его стало вымывать в основании. Сначала скосило на один бок, потом посыпались другие бока. И он осыпался весь. Только цветок мальвы, воткнутый куда-то у окна, траурно, как на венках, развевал на ветру алые слипшиеся лепестки. Так из всей ее жизни вымылось нужное, осталась гора песка…и далеко не золотого. Где желтый, где серый, где с тоскливой тиной. И когда рассыпалось почти все, Татьяна испугалась! Удержать то, что осталось, то немногое, что еще греет, что дорого!...Но как, если не знаешь, отчего все посыпалось?
Примерно об этом говорила она с одноклассниками на встрече выпускников чудесным майским днем в одном из городских кафе. Тридцать лет мало кто заметил из ее старых друзей. Выпили сначала, как обычно, за тех, кто никогда больше не сядет с ними за стол. Их было четверо. Так рано и нелепо ушли все четверо. Первого убили в армии. Другой, имевший семью, детей, дом в Прибалтике, сгорел от алкоголя. Двое ушли от болезни, название которой мы боимся проговаривать не только вслух, но и мысленно…Потом разговоры стали веселее. И веселее. А потом душевнее и откровеннее – по мере выпитого. Школьные друзья самые добрые к нам по жизни. Они простили нам все наши недостатки давно, априори, еще в прошлой радостной жизни. Мы им давно все доказали совместным десятилетним сосуществованием, все простили, знаем многие их недостатки, они помнят нас без понтов, в моменты наших позорных поражений. Поэтому и наши лучшие качества они помнят, это остается на подкорке. Люди по жизни не меняются в главном – в доброте к этой жизни, к тем , кто рядом, в умении сделать выбор в сторону порядочности.
Леша – частый сосед по парте. Они регулярно усаживались вместе. Он складывал ей из бумаги оригами – разные фигурки, чаще птиц – на счастье! Надо только его дождаться. Дружба была взаимовыгодной: Леха чистой слезы технарь и математик, Таня делилась размышлениями по литературе, истории, обществознанию. На пару чудно сдали экзамены и окончили школу. Леша потом редко приезжал в родной город, мама сама чаще приезжала к нему. Он служил в одной московской конторе программистом. Хорошая квартира, семья, взрослый сын… Сейчас они снова сидели за одним столом, прижавшись друг к другу локтями. И Таня откровенно, бессовестно кокетничала с Лешей. Она улыбалась ему нежно, говорила теплым голосом, заглядывала проникновенно в глаза. Ей на минуту показалось, что она сейчас сможет перейти ту черту, которую нельзя переступать с одноклассниками, ставшими братьями. Но сейчас он стал единственным мужчиной в ее подвыпитом сердечке. Леша нежно обнял ее всю, просто сгреб. Приник лбом к ее дорогостоящей укладке. И поцеловал, как ребенка:
– Вот веришь? Все наладится. Все еще у нас будет. Ты только хоти этого. Как тогда, в детстве. Не переставай ждать и верить…
Татьяна чуть не расплакалась:
– Леш.. Я что, действительно, .. никакая?? Абсолютно непривлекательная как женщина??..
– Это что за вывод? Ты привлекательна, сексуальна и желанна. Это я пустой.
– Так не бывает! Нам нет и пятидесяти…Мы не можем быть пустыми.
– Так есть.
– Если женщина не цепляет... значит, дело только в ней! Ну... это, собственно, и ответ...я сама все сказала. Можно было даже не спрашивать. А ты просто не смог сказать правду, хорошо воспитан... правильные методы воспитания были...
– Ты… цепляешь. Я – воспитанный. А дело не в этом. Хочешь честно? Я всегда хотел быть с тобой. В школе. После школы. Через пять, потом через десять лет. И я всегда знал, что ты – та женщина, которая мне нужна. Что в тебе счастье. Но жизнь сложилась так, как сложилась. И никто так и не смог тебя заменить. А вот сейчас думаю: мы можем украсть это счастье сегодня. А что мы ПОТОМ будем с ним делать?
– Странное такое слово – счастье! Нельзя быть счастливым в жизни. Бунин писал в «Жизни Арсеньева», что счастье существует в нашем прошлом, в будущем, но никогда – в настоящем. Наше счастье – штука мгновенная. От него больше боли, чем толку. Понимаешь, что оно было, тогда, когда его уже нет.
Музыка в кафе громыхала, давая двоим, так неожиданно соединенным воспоминаниями и шальными надеждами, быть еще ближе. Они склонились головами и говорили только друг для друга, касались губами щек и уха, щекоча волосами.
– Лешка! Я хотела только прижаться к тебе. Прикоснуться к твоей руке. Поцеловать на груди волосы, выбивающиеся из распахнутого ворота рубахи. И было вначале все понятно и весело! Почему мне сейчас так тревожно? Что вдруг произошло?
– Иллюзия пропала. Ты потеряла веру.
– Ребятааа!! Пошли танцевать!!! - одноклассниц явно не устраивало, что за столами остались отбившиеся «от стаи», было желание всех прибрать, снова организовать в тесный круг. У Лены и Юли все всегда было по плану: они знали, когда кому плясать, когда перекусить, когда время разговорам. Диспутам, конечно, быть, но только тогда, когда Лена решит, что пора!
Тане не хотелось двигаться. Ей казалось, что вот – вот сейчас она что-то поймет, и песчаный замок окажется не из песка, а из чего-то покрепче, если она все решит для себя. Плечи обняла майская черемуховая дымка, касалась ее лица. Уже было близко у сердца и в животе сладкое теплое дыхание. Влюбленность в Лешу была сейчас невероятно юной и весенней. Хотелось видеть только его глаза и губы. Но Юля решительно тянула за руку. Татьяна поднялась, провела ладонями по бедрам, поправляя вниз шелковистый бархат облегающего платья, и медленно пошла в круг, надев дежурную улыбку для друзей. Для всех она – счастливая женщина!
– Оппа-оппа-оппа, давай, давай, народ! Веселее! – уже хрипло подзадоривала всех Лена.
Одна бравурная песня сменяла другую, одноклассники дурили, кружили ее, выталкивая в круг, знали, что она любит танцевать, хлопали в ладоши, разбивая хрупкую нежность в ее сердечке. Из круга она выбралась незаметно только минут через десять.
Таня подошла к столу. Алеши не было. Она оглядела зал, ища его около мужчин, и не нашла. Она подумала, что он решил дать ей передышку от танцев, от трудных разговоров. Протянув руку к бокалу с минеральной водой, она замерла. На бокале сидела бумажная птичка, каких Леша делал на уроке из промокашек. «Он ушел!..Совсем». Не оставил номер телефона. … Можно узнать у подруг. Только зачем? Если он Никто в ее жизни, значит, расстаться так – лучше всего. А если суждено, встреча все равно будет. Таня взяла птичку, положила на раскрытую ладошку, приложила ее к груди, откинулась и прижалась к спинке дивана. Птица такая, как в юности, когда было Счастье…
Или как Счастье, которое скоро будет.
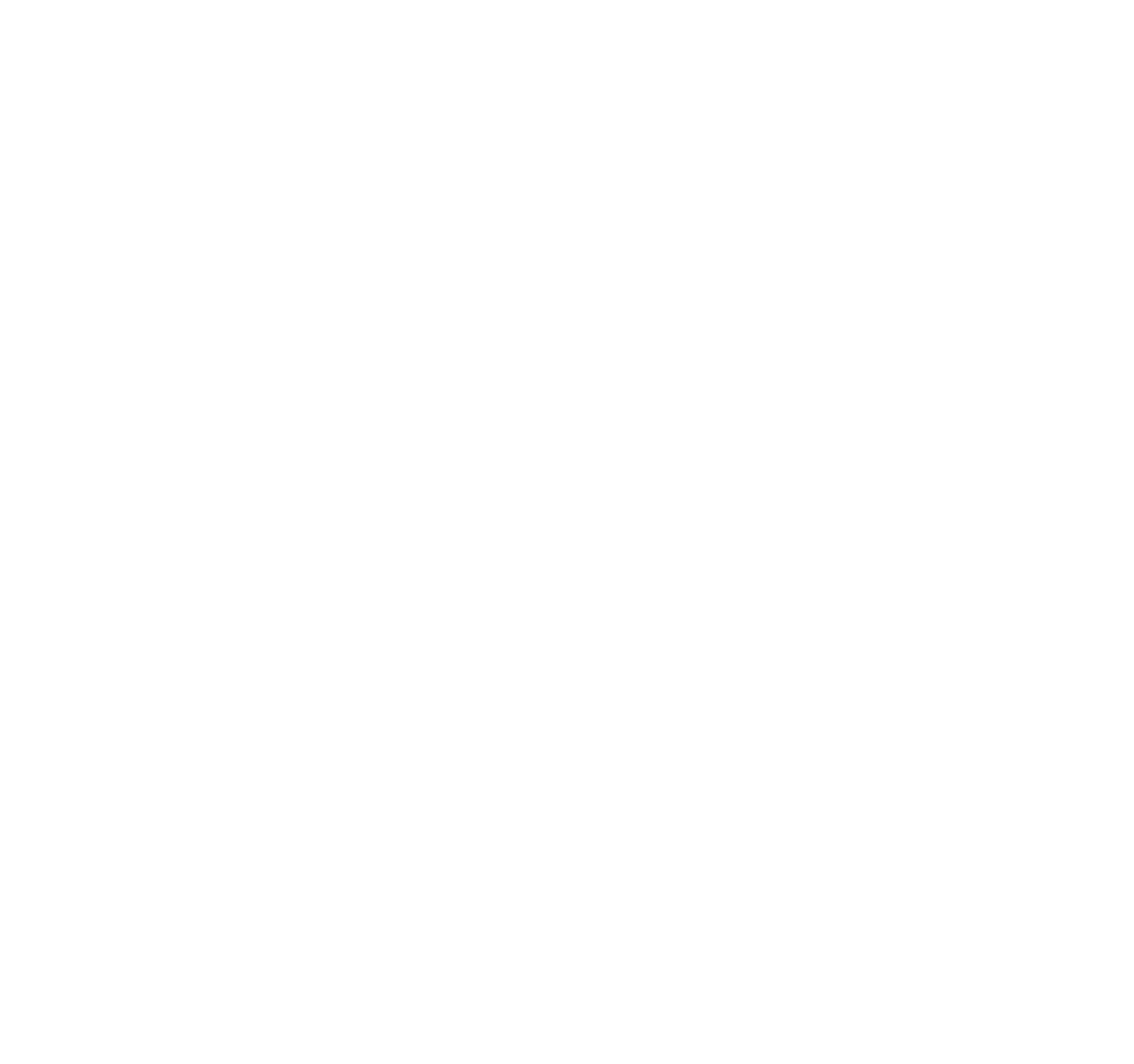
Роман БРЮХАНОВ
Родился в 1982 году в Амурске – небольшом городке на реке Амур. Высшее образование получил в Хабаровске, где в конце концов и остался. Свой первый рассказ написал в 15 лет, однако всерьез за перо взялся только в студенческие годы. Вдохновение черпаю из поездок, путешествий и исследований чего-то нового. Иногда для этого не обязательно даже выбраться из квартиры, ибо я верю, что человеческая фантазия способна совершать самые потрясающие и невероятные открытия…
Родился в 1982 году в Амурске – небольшом городке на реке Амур. Высшее образование получил в Хабаровске, где в конце концов и остался. Свой первый рассказ написал в 15 лет, однако всерьез за перо взялся только в студенческие годы. Вдохновение черпаю из поездок, путешествий и исследований чего-то нового. Иногда для этого не обязательно даже выбраться из квартиры, ибо я верю, что человеческая фантазия способна совершать самые потрясающие и невероятные открытия…
КАНДАР
Зверёк жил в норке у самого входа в грот, Максим знал это. Пару раз он чуть было не увидел его, заметил самый хвостик, юркнувший в темноту. Если бы не отвлекся тогда на пролетавшую мимо чайку, было б чем похвастаться перед одноклассниками после каникул. Далась ему эта чайка. Чайки не прячутся по норам, а летают себе: смотри на здоровье!
Не проходило дня, чтобы Максим не бегал проведать зверька. Как только голос отца начинал становиться громче, а речь сливалась в один длинный звук, мальчик вдруг вспоминал, что сегодня ещё не был у грота. Ему казалось в такие моменты, что зверёк тоскует не меньше, чем он сам, сидит, поджав хвостик, у входа в нору и, переступая с лапки на лапку, смотрит в сторону куста с мелкими белыми пахучими цветками, из-за которого всегда появлялся Максим. Тайком, чтобы не заметил отец, мальчик прокрадывался к двери на задний двор коттеджа, арендованного семьей на время отпуска на Самоанском побережье, осторожно прикрывал её, огромными прыжками пересекал песчаную площадку, умело лавируя между качелями, невысокой деревянной горкой и покосившимся грибком, отгибал край жестяного забора и, воображая себя индейцем, несся через густую мангровую рощу к морю.
В свои десять лет он понимал, что простоять час в углу за побег, пускай даже в компании с висящим над головой пауком – менее серьезное наказание, чем видеть, как краснеет лицо отца, а шея начинает походить на густо овитый лианами ствол дерева. Жаль было лишь, что наказание расстраивало маму.
Роща сразу принимала Максима в свои объятья, закрывала его листьями, смыкала за его спиной лиановые алебарды, шумела ветвями, заглушая его шаги. Деревья радовались мальчику, а он – деревьям. Он нежно касался пальцами стволов, растущих вдоль тропинки, провожал взглядом бабочек, потревоженных его появлением, низко кланялся толстым сучьям, пригнувшимся к земле, быстрыми короткими вдохами втягивал в себя ароматы прелой травы и стелющихся по земле больших красно-желтых цветов. Свой куст мальчик замечал издали: здесь ветви деревьев образовывали длинный ровный коридор, расширявшийся у самого моря. Не всякому индейцу разрешалось пройти здесь. Корни деревьев коварно выныривали из-под земли, стоило как следует разогнаться, и Максим трижды падал, сдирая кожу на ладонях и сбивая в кровь колени, прежде чем научился ставить ноги так, чтобы корни не доставали его.
Куст с белыми цветками стоял на самом краю крутого песчаного обрыва. Максим смело сигал с него, ногами прочерчивая две глубокие борозды в горячем желтом песке. Морские ветры за долгие годы обратили ветки кустарника к роще, но цветы упрямились и поворачивали мордочки к солнцу, чуть подрагивая от смеха, гордясь свободой поступать так, как им хочется.
Едва приземлившись, Максим скидывал сандалии, перекатывался влево и бросался бежать к огромной черной пасти грота, зиявшей в тридцати шагах от куста. Песок обжигал босые ноги, ветер вцеплялся в соломенного цвета вихры, швырял в мальчика соленые брызги, шутливо пихал его в бок, дергал за рубашку. Каждый раз Максиму казалось, что вот-вот он увидит скрывающиеся в норе лапки зверька, а может быть даже разглядит цвет его шкурки, но отверстие, куда с трудом мог бы поместиться кулак взрослого человека, пустовало. Мальчик готов был поклясться здоровьем всех своих родных, что на песке под норкой мог различить отпечатки лап таинственного животного – крошечные коготки оставляли мелкие бороздки, а пяточки выдавливали неправильной формы окружности. По следам было видно, что зверек кружился на месте, словно не решаясь уйти и в то же время стремясь поскорее спрятаться от палящего солнца, соленого ветра и хищников, которые могли жить в мангровой роще.
В один из дней Максим сбежал из дома, как только услышал звонкий удар о стену гостиной, крик мамы и ругань отца. Проделав привычный путь, мальчик плюхнулся на песок у самой норки и долго вслушивался в звуки бешено колотящегося сердца, пытаясь понять, стучит оно так от индейского бега по джунглям или от переживаний за маму. Он скинул голубую льняную рубашку и подставил солнечным лучам живот, ставший шоколадно-коричневым за две недели отдыха.
– Ты здесь? – спросил в норку.
Внутри что-то шевельнулось.
– Я пришёл, – сказал мальчик. – Посижу здесь с тобой, ладно? Мне домой сейчас нельзя.
Максим перевернулся на живот и долго всматривался в темноту норы. Ему показалось, что в глубине блеснули бусинки глаз.
От грота веяло прохладой и сыростью. Волны закатывались в него, шурша галькой, по сводам носились солнечные блики.
– Представляешь, сегодня я нашел на заднем дворе бутылку с письмом! Рыл ход под забором, чтоб не дергать этот лист, а то он гремит, и нашел бутылку! – Максим заглянул в норку, чтобы убедиться, что зверек его слушает, и обратил взгляд к морю. – Я не открыл её, а спрятал под кроватью. У меня есть фонарик, мне дед подарил. А у тебя есть дедушка? И сегодня ночью я устрою настоящее пиратское собрание. Ты придешь? Я накрою стулья одеялом, чтоб получилась палатка, включу фонарик и открою бутылку!
Лицо мальчика расцвело. Он сложил ладони так, будто держит бутылку, и поднял их высоко над головой.
– А вдруг там письмо от капитана, который затерялся в океане, и ему нужна помощь? – воскликнул Максим. – Тогда мы построим плот или даже яхту и поплывем его спасать! Ты и я! Представляешь? Это будет путешествие века! Про нас напишут книгу!
Он вскочил на ноги и подбежал к кромке воды, позволив волнам омыть его ступни. Руки взметнулись к голове, поправляя воображаемую треуголку.
– Или нет! – обернулся он к норке. – Вдруг там карта сокровищ, которые пираты зарыли на этом острове триста лет назад! И никто не мог их найти, потому что пираты поубивали друг друга, а карту нарисовал и спрятал тот, кого убили первым, и он никогда никому не смог ничего рассказать! Точно! – мальчик захлебывался от восторга. – Тогда ты поможешь мне своим отличным нюхом искать место, где зарыт клад, и мы станем самыми богатыми на свете. Я куплю нам отдельный остров, и построю тебе огромный дом! Там будет много ходов, норок и всяких игрушек. Ты сможешь кушать всё, что захочешь, а еду нам будут привозить на вертолете!
Дрожа всем телом, Максим принялся прыгать на месте, вскидывая руки к небу.
– И я заберу туда маму и… деда, и Никитоса… и ещё кого-нибудь позовем. У тебя есть, кого позвать? Мама будет так рада! Я сделаю ей бассейн и большую комнату с мягким диваном… А кухни вообще не будет у нас, потому что мама нам не кухарка и не прислуга, понимаешь, друг? Нам станут готовить в ресторанах и будут привозить еду в таких пластмассовых коробочках с крышками, а мы только будем заказывать новые блюда. Каждый раз новые! Только шоколадный коктейль я буду постоянно заказывать. Ты пьешь шоколадный коктейль?
Максим сел рядом с норкой и обхватил колени руками. Он делился со зверьком планами на будущее и версиями о том, что спрятано в бутылке, пока оранжевое солнце не коснулось горизонта. Море стихло, галька в гроте лениво перекатывалась вслед за неспешными волнами, прохлада пещеры сменилась холодом. Накинув на плечи рубашку, мальчик попрощался с загадочным другом и, захватив по пути обувь, побрел через помрачневшую рощу к дому.
Выстояв свой час в углу, из которого сбежал даже паук, Максим закрылся в своей комнате и, как обещал зверьку, построил шатер из покрывала и двух старых деревянных стульев. Некогда ярко-зеленая бархатная обивка на их спинках выцвела и стерлась до желтых пятен, из которых буграми торчал порыжевший поролон. Палатка получилась хоть куда: плотное покрывало свисало до самого пола, не пропуская наружу ни лучика света, так что даже загляни кто-то из родителей в комнату – с виду всё в порядке. А там уж Максим что-нибудь придумает.
Тусклый свет фонарика, чьи батарейки изрядно подсели за долгие ночи с книгой, превратил шатер в настоящее пиратское логово, мрачное и немного зловещее. Мальчик установил фонарик лампой вверх и представил, что это факел.
Бутылка из зеленого стекла, закупоренная выструганной из дерева палочкой, пахла землей и плесенью. Максим осторожно стер с сосуда остатки засохшей грязи влажной салфеткой и осмотрел содержимое на просвет: скрученный в тугую трубочку лист бумаги, перевязанный бечевкой, кусочки пожухлой травы, останки засохших насекомых. Сердце мальчика затрепетало, когда он осторожно вынул палочку из горлышка, несколько раз провернув её против часовой стрелки. Сверток бесшумно выскользнул на пол. Коричневатая бумага сохранила на своей поверхности отпечатки чьих-то грязных пальцев – наверное, зарывший бутылку сначала выкопал яму, а уж затем свернул письмо в рулон. Максим замер над ним, боясь дышать. Неизвестно, сколько лет бутылка пролежала в земле, а вдруг бумага развалится от неосторожного прикосновения, и тогда невозможно будет понять, кто и зачем её спрятал.
Юный исследователь аккуратно перерезал бечевку мамиными маникюрными ножницами и только после этого выдохнул. Прижав край бумаги к полу, Максим осторожно развернул сверток. В самом центре листка черными чернилами каллиграфическим почерком были выведены три слова:
KANDAR – ANDAF – ZEIST
В правом нижнем углу стояла приписка мелкими буквами: «aussprechen laut».
Мальчик взял фонарик и обследовал каждый квадратный сантиметр бумаги. Следов каких-либо других надписей не было. «Странно, – подумал он. – А где же просьба о помощи от капитана или карта сокровищ? Что это значит?».
– Кандар, – прошептал Максим, – андаф… зейст? Или цейст? Это на каком вообще?
Внизу хлопнула дверь. Донеслись звуки отцовского баса, срывающегося на крик. Родители вернулись из бара, и отец опять был чем-то недоволен.
Действуя быстро, но аккуратно, Максим свернул лист, вынырнул из шалаша, сунул бутылку с веревкой и пробкой под кровать, записку – под подушку. Затем сдернул покрывало, подхватил начавший заваливаться стул и прыгнул на кровать, натянув покрывало до глаз. Дыхание постепенно выровнялось, отцовский голос внизу стих. Мальчик слышал, как за окном разгулялся ветер, заставляя скрипеть качели на заднем дворе, куда выходили окна комнаты. «Кандар… кандар… кандар», – крутилось в голове Максима. Три слова вместе были похожи на маршрут по трем городам, название какого-то лекарства или… заклинание?
Мальчик подскочил на кровати и воровато обернулся к окну. Спрыгнул, выглянул на пустующий двор, задернул шторы, бегом вернулся в постель.
Мысли о заклинании ещё долго не давали ему уснуть, но, когда усталость взяла верх, Максиму приснились несметные сокровища, открывающиеся его взору после произнесения заклинания, как в пещере Аладдина, и чудесный остров, который он купил для себя, своей мамы и зверька, и длинные столы, заставленные самыми вкусными блюдами. Мальчик подходил к столу с коктейлями, выбирал шоколадный и жадно выпивал его через толстую соломинку. Стакан каждый раз чудесными образом наполнялся, стоило только произнести заклинание, и Максим пил и пил любимый напиток без остановки.
А потом он заметил на столе между стаканов серого паучка, вроде того, что висел в углу.
– Ты кто? – спросил Максим.
– Я – Кандар, – ответил паучок.
И вмиг всё исчезло.
На следующий день после завтрака отец повез Максима и маму на рынок в Апиа, чтобы набрать сувениров родственникам. Бумагу со странными словами мальчик сложил вчетверо и сунул за резинку шорт. Время от времени он доставал записку и украдкой разглядывал черные буквы, бормоча их про себя, будто пробуя на вкус снова и снова.
Ещё утром, пока отец был в душе, Максим выпросил у мамы телефон и нашел в поисковике, что фраза в углу написана на немецком и означает «произносить громко». Он завопил, что было сил, захлопал в ладоши и перекувыркнулся через кровать. Онлайн-переводчик объяснил, что ZEIST читается «цайст», но никакого значения не имеет, как и первые два слова. Вспомнился паучок из сна. «Кандар – это имя», – подумал мальчик.
– Ты чего кричишь? – в комнату заглянула мама. Лицо её выглядело усталым, глубокая вертикальная морщинка пролегла между бровями. Роскошные рыжие волосы, запах которых всегда так нравился Максиму, были стянуты в тугой хвост на затылке.
– Я просто, – мальчик лег на кровать, накрыв телом телефон и записку.
– Ну ясно, – она улыбнулась с такой нежностью, что Максиму захотелось немедленно её обнять, однако секретность информации показалась ему важнее. – Спускайся завтракать.
Максим потратил ещё пятнадцать минут на поиски следов немцев на Самоа. Он прочитал, что в начале XX века Германия считала западные острова архипелага своей колонией, а в 1907 году эти места посетил Гвидо фон Лист, оккультные идеи которого впоследствии развивал Адольф Гитлер. Статьи выдавали всё новые ссылки, изучать которые времени уже не было, и Максим поспешил на завтрак.
Центральный рынок самоанской столицы даже в будний день напоминал разворошенный муравейник. Всюду сновали носильщики с тележками, груженными большими волосатыми кокосами и зелеными бананами, огромные гроздья которых выглядели, как куски чешуйчатой кожи дракона. Самоанские женщины, смуглые, грузные, одетые в цветастые юбки и просторные блузы, перекрикивались, стоя за прилавками на удаленных друг от друга рядах, перемежая самоанские слова с английскими. Между ними проворно курсировали дети, доставляя то сдачу, то какой-нибудь товар, то таская записки на клочках грязной замусоленной бумаги.
Первый эшелон рыночных рядов занимали аккуратно сложенные на земле горы кокосовых ядер, рядом с которыми сидели загорелые мужчины в мокрых от пота рубашках. В отличие от женщин они по большей части молчали, с презрительным равнодушием разглядывая проходящих мимо иностранных туристов. Дальше, под навесом, располагались неспелые бананы, ощетинившиеся ананасы, желто-зеленые гладкокожие папайя, внушительных размеров тыквы и какие-то неизвестные Максиму фрукты с яркой оранжевой кожурой.
Ближе к центру рынка находились прилавки с тканями, одеждой и сувенирами: раскрашенными круглыми камешками, магнитами и прочей мелочью.
После сорока минут ходьбы по рынку, показавшихся Максиму вечностью, родители остановились у одного из прилавков и принялись откладывать в сторону понравившиеся сувениры, переговариваясь между собой и торгуясь с продавцом. Про сына на некоторое время позабыли. Воспользовавшись этим, мальчик отошел к соседнему ряду и спрятался за углом, где свисающие с перекладин ткани образовывали небольшую комнатку, вход в которую был прикрыт тюлем. Внутри в полумраке кто-то издавал едва слышный храп.
Убедившись, что за ним не следят, Максим развернул письмо. Заклинание нужно произнести громко, говорила записка. Вот бы она ещё объясняла, что произойдет потом. Вдруг это чья-то шутка, а никакое не заклинание? Будет обидно, если ничего не произойдет. «Надо прогладить её утюгом, – подумал мальчик. – Может, тут есть надписи невидимыми чернилами, в книжках всегда так делают те, кто хочет что-то спрятать».
Он уже собрался спрятать записку и вернуться к родителям, которые, судя по голосам, начали переругиваться, как из-за сетки вынырнула смуглая костлявая рука и схватила его за запястье. От неожиданности Максим оцепенел. Он дернулся, что было сил, но дряблая на вид рука оказалась на удивление сильной. Вслед за ней из полумрака показалось сморщенное лицо старухи. Один глаз её был прищурен, на веке зрел большой прыщ, второй глаз – ярко-голубой, очень ясный и чистый, будто бы искусственный – внимательно разглядывал мальчика. Дыхание Максима перехватило, он сделал ещё одну попытку вырваться и обмяк, руки и ноги перестали слушаться.
Старуха перевела взгляд на бумагу, сильнее сжала запастье и ткнулась носом в щеку мальчика. Пахнуло чесноком и гнилью.
– Was ist denn das? – Прошипела она. – Wo hast du das gefunden?
– Пустите, – залепетал Максим. – Я не понимаю.
– Wirf mal aus dem Kopf, darin zu lesen! – Старуха затряслась, разжала пальцы и отдернула шторку. – Du brauchst nicht, es zu lesen!
Старая самоанка выросла в размерах, поднявшись высоко над Максимом. На ней болталось грязное желтое платье, едва прикрывающее тощую смуглую грудь. Она распрямилась, схватилась за шесты, на которых держались стены её комнатки и стала выбираться наружу. Шаткая конструкция закачалась. Лицо старухи исказилось не то болью, не то ужасом, прищуренный глаз приоткрылся, под веком обнаружилось слезящееся бельмо.
Оцепенение прошло, Максим попятился, комкая бумагу и запихивая её в карман.
– Wirf das mal weg! – Закричала старуха. – Ich sage dir doch, wirf weg!
Максим наткнулся на корзину с фруктами, опрокинул её, чуть было не упал сам, однако удержался на ногах, повернулся и побежал. Старуха что-то кричала ему вслед, но мальчик летел между рыночными рядами, перепрыгивая через мешки и сумки, стремительно удаляясь от того места, где стояли его родители. Кто-то из продавцов попытался схватить его за руку, но Максим вырвался, нырнул под прилавок, выскочил с другой стороны и понесся дальше, оставив позади шеренги исполинских тыкв.
Он остановился, только когда выбежал из-под навеса и налетел на ограждение у края проезжей части. Развернулся и вжался в ограждение спиной, снуя глазами по рыночным рядам, выискивая признаки погони. Легкие вспыхивали болью, живот свело судорогой.
Старухи не было видно. Никто за ним не гнался. Продавцы неспешно шли по своим делам, туристы лениво обмахивались веерами, лишь один торговец кокосами пристально смотрел на мальчика.
Максим извлек из кармана скомканное письмо. Старая бумага местами раскрошилась, но надпись по-прежнему читалась хорошо. О чём говорила эта сумасшедшая? Почему она так испугалась написанного? Мальчик догадывался, что она говорила по-немецки, а значит, прочитав записку, поняла что-то такое, от чего ей стало страшно.
– Кандар, – прошептал Максим. – Кто ты такой?
Вспомнился паучок из сна.
Мальчик бережно свернул бумагу и сунул её за резинку шорт. Огляделся. Он не узнавал местность, а это значило, что он потерялся, родители долго будут его искать, и ему опять попадет от отца. Возвращаться под навес, где его могла поджидать старуха, Максиму не хотелось. Он присел на бордюр, обхватил ноги руками, положил подбородок на колени и стал ждать.
Его нашли спустя час. Мальчик сразу понял, что необходимость оставить покупку сувениров и в самое пекло таскаться по рынку в поисках сына привела отца в бешенство. Взмокшее, раскрасневшееся лицо его будто пульсировало, ноздри расширились, шея вздулась жилами.
– Ты где был? – прорычал отец сквозь зубы, сжимая кулаки. Мама попыталась мягко перехватить руку мужа, но тот отпихнул её, даже не удостоив взглядом.
Максим съежился, прижался к ограждению и поднял ладони к лицу, инстинктивно защищаясь.
– Я спрашиваю, где ты был?! – рявкнул отец, сбил одной рукой слабую защиту сына, а другой отвесил ему звонкую оплеуху, да так, что в глазах мальчика поплыли круги. – Какого черта ты убежал сюда?! Мы с матерью целый час шляемся по долбаному базару, ищем этого говнюка, а он тут сидит, прохлаждается! – Отца понесло. – Какого черта я потащил вас в этот отпуск, если с вами нормально не отдохнешь! То одна хрень, то другая!
Максим молчал, прижав руки к уху, ноющему от отцовского удара. Он знал, что отвечать что-либо бессмысленно, только больше злить отца. Мальчик напустил на себя виноватый вид и стал разглядывать пальцы ног. Для убедительности всхлипнул.
– В такси! – гаркнул отец, пихнув сына в шею и бросив на жену гневный взгляд, от которого она отшатнулась, словно от удара.
Мама приобняла Максима за плечи и повела его к стоянке белых с желто-зелеными кругами на боках такси, шепча слова утешения. Мальчик, однако, этих слов не слышал. Он погрузился в свои мысли и стал мечтать о том, как было бы здорово сейчас оказаться на берегу моря, у норки таинственного зверька, рассказать ему о произошедшем, поплакать, попросить совета и, может быть, помощи.
За окном такси мелькал уже не казавшийся восхитительным самоанский пейзаж. Поднялся ветер, пригибавший пальмы и вытягивающий их длинные изумрудные листья параллельно земле. Максим прижался пылающим ухом к прохладному стеклу и в очередной раз нащупал в кармане письмо. Никогда он ещё не чувствовал себя более одиноким.
– До завтра не гуляешь, – мрачно сказал отец, когда они вошли в дом. Он уселся на кухне, налил себе виски из большой бутылки и уткнулся в планшет.
Путь на задний двор был отрезан.
Мама собрала разбросанные по гостиной вещи и ушла в ванную. Мальчик прокрался вслед за ней и заглянул в дверной проем. Мама, тихо всхлипывая и утирая лицо ладонями, складывала грязную одежду в стиральную машину. Закрыв дверцу машины, она уткнулась в нее лбом. Мамины плечи стали подрагивать, однако она не издала ни звука, только задышала чаще и глубже.
Максим вернулся в гостиную и, изучив обстановку, бесшумно выскочил из коттеджа через главный вход.
Линия домов преграждала доступ к мангровой роще, и мальчику пришлось добежать до конца улицы, чтобы найти выход к морю. Свернув за угол, он сбавил шаг, однако то и дело оглядывался проверить, не идут ли за ним. Ветер крепчал. Деревья рощи угрожающе шумели, далеко впереди слышался гул моря. Тучи закрыли дневной свет и провисли низко над землей, будто хотели разглядеть, кто тут обижает маленького мальчика.
Дойдя до рощи, Максим обернулся. В десяти шагах от него трусила большая рыжая лохматая собака.
– Фу! – крикнул мальчик. – Пошла вон!
Собака остановилась и зарычала. Максим попятился к деревьям, стараясь держать пса на виду. Животное сделало несколько шагов, оскалив зубы. Максим поднял с земли камень и швырнул его в собаку. Та без особого труда увернулась и басовито залаяла. Шерсть на её загривке встала дыбом. Услыхав лай, из-под ближайшего забора выскочили ещё два пса, небольшой белый в черных пятнах и огромный, даже больше, чем первая собака, черный, с разорванным в клочья ухом. Все три оскалились и стали приближаться к мальчику.
Внутри у Максима похолодело. Издав истошный вопль, он бросился бежать через рощу к морю. Собаки ринулись за ним.
Мальчик петлял между деревьями, привычно перепрыгивая через торчащие корни и уклоняясь от свисающих лиан. В какой-то момент погоня захватила его, он вновь ощутил себя индейцем, путающим следы в диком лесу, воображая, что за ним гонится огромный медведь гризли или стая волков, и ему во что бы то ни стало нужно прорваться к своему стойбищу, где братья-индейцы несколькими меткими выстрелами уложат преследователей и принесут их в жертву богам охоты. Собаки не отставали. Каждая из них пыталась вырваться вперед, из-за чего они мешали друг другу и злобно переругивались, однако скорости не сбавляли.
Стоило Максиму вынырнуть из-под крон мангровой рощи, как его встретила плотная стена ветра и соленых брызг. Дыхание перехватило, по телу пробежал озноб.
Спасительный грот, чьи выступы могли послужить укрытием для мальчика, оказался дальше, чем обычно. Максим взметнул сноп песчаных брызг, вскочил и бросился к нему. Псы замешкались, зарывшись в песок, но быстро сориентировались и с громким лаем продолжили погоню.
Достигнув грота, Максим пришел в ужас. Пещера была наполнена водой! Огромные волны, взбитые в белую пену, с грохотом разбивались о стены грота, и высокий выступ оказался затоплен.
Беглец развернулся лицом к собакам и вытянул вперед руки, защищаясь. Животные поняли, что жертве никуда не спрятаться, остановились и, угрожающе рыча, стали приближаться к Максиму. Мальчик бросил взгляд на норку своего невидимого друга и подумал, что самое время ему появиться и помочь. Мысль, стремительная, как порыв морского ветра, мелькнула в его голове.
Максим достал из кармана письмо, развернул и завопил, пытаясь перекричать грохот волн:
– Кандар! Андаф! Цайст!
Собаки зашлись грозным лаем.
– Кандар! – голос мальчика срывался и хрипел. – Андаф! Цайст!
Звери приблизились на расстояние трех шагов. Он разжал пальцы, и письмо унесло ветром.
– Кандар! Андаф! – Максим выбился из сил и последнее слово сказал уже тихо. – Цайст.
Земля под ногами содрогнулась. Псы присмирели и замолкли. Ещё один толчок тряхнул пляж. Почва вокруг норки неизвестного существа покрылась трещинами, верхний слой грунта осыпался и сполз на песок. Под ним оказалась дыра размером с хороший арбуз. По мере того, как дрожь усиливалась, края норы проваливались внутрь, отчего она расширялась и вскоре достигла величины автомобильного колеса.
Максим попятился назад, не ощущая, как брызги волн, разбивавшихся о стены грота, мочат его рубашку. Собаки заскулили и стали топтаться на месте, от их свирепости не осталось и следа.
Из провала в земле показалась черная зубчатая пика. Она вытянулась на пару метров вверх, затем согнулась пополам и заостренным концом уперлась в землю. Максим вспомнил маленького паучка, прятавшегося между стаканами в его сне, и понял, что это не пика, а лапа. Вслед за ней показалась ещё одна, которая уперлась в песок с другой стороны норы. Две другие лапы воткнулись в грунт сверху, ещё две – снизу. Землетрясение достигло максимума. Лапы существа напряглись, впились в землю, и тогда из провала показалось бочкообразное тело, вытянутое, мохнатое, с черным лоснящимся брюхом и бледно-желтой спиной, украшенной причудливым рисунком. Двое щупалец свисали вниз, на их концах клацали, сжимаясь и разжимаясь, исполинских размеров клешни, каждая из которых, казалось, запросто перережет пополам лошадь. На морде существа блестел один черный, как смола, глаз, по его поверхности бешено сновал белесый зрачок.
Ноги Максима подогнулись, и он сел на мокрый песок.
Существо вытянулось на ногах-пиках и выросло до размеров самых высоких самоанских пальм. Черно-желтое тело покачивалось на упругих лапах из стороны в сторону. Раздался громкий звук разрываемой плоти, и под глазом разверзлась покрытая мелкими зубами пасть омерзительного розового цвета. На песок из нее хлынул поток вязкой слизи. Распрямив ноги, существо подалось вверх и издало протяжный вой.
Собаки, прижав уши и поджав хвосты попятились, развернулись и бросились бежать тем же путем, каким преследовали мальчика.
Существо повернулось в их сторону. Пронзительный вой вновь огласил округу. Потоптавшись на месте, будто бы вспоминая, как нужно двигаться по земной поверхности, подземный житель ринулся за убегавшими животными. Нагнав наименее расторопного пса, существо резко согнуло ноги, нырнув к земле, схватило собаку клешнями и, подняв высоко в воздух, разорвало на две части, залив свою желтую спину кровью и ошметками плоти. Части бедного животного отлетели в стороны. Второго, рыжего, пса существо нанизало на лапу и, волоча его тело за собой, устремилось за самой большой черной собакой. Ей почти удалось добежать до опушки мангровой рощи, но паук подпрыгнул высоко вверх и мягко приземлился перед обезумевшим от страха животным. Существо разинуло пасть и, издав дикий вопль, сомкнуло челюсти на шее собаки.
Максим попытался подняться на ноги, но конечности его не слушались. Уже ни ветер, ни крупные капли дождя, начавшие падать на песок, ни волны, бушевавшие за его спиной, не имели значения.
Существо не спеша подобрало клешнями всех поверженных собак и, разорвав их на куски, отправило в рот. Ещё пережевывая последнюю жертву, оно приблизилось к мальчику. Максим накрыл голову руками и зажмурил глаза. Ожидание тянулось вечность. Когда он решился открыть глаза, то понял, что ничего страшного не произошло. Огромный паук распластался рядом с мальчиком и внимательно разглядывал его своим единственным зрачком, издавая грудные урчащие звуки. От него пахло сырой землей и чем-то паленым. Существо начало посвистывать и покачиваться вперед-назад, слегка подталкивая Максима в колено. Максим поднялся на ноги.
– Ты – Кандар? – спросил он.
В ответ раздался продолжительный свист.
– Ты – Кандар, – прошептал мальчик. – И ты защитил меня. Я знал, что ты мой друг.
Он протянул руку вперед и осторожно погладил Кандара по мохнатому черному боку. Урчание стало громче.
Небо над морем разрезала молния. Незаметно сгустившиеся сумерки озарились яркой вспышкой. Дождь участился.
– Мне надо домой, – сказал Максим. – Я сейчас должен уйти. Но я вернусь к тебе, слышишь? Ты живи в своей норе, а я к тебе вернусь. Я буду часто приходить.
Кандар прерывисто засвистел и поднялся на полную высоту своих ног. Он несколько раз качнулся, клацнул клешнями и проворно забрался в провал, пропихнув в него тело и втянув внутрь лапы. Мальчик подошел и заглянул внутрь: темно и пахнет плесенью. «Пожалуй, даже такой дом лучше моего», – подумал он и, промокший и дрожащий, поплелся знакомой тропинкой к коттеджу.
Взволнованный произошедшим, Максим не подумал о том, что отец мог всё ещё находиться в кухне. Вывозившись в грязи, он пробрался через свой подкоп, на дне которого уже начала скапливаться лужица, пересек игровую площадку и уже открыл дверь заднего входа, когда вспомнил о своей ошибке. На удивление, сердце не сжалось, как обычно, в ожидании окрика или оплеухи. Непривычное спокойствие владело мальчиком.
Отца, однако, за столом не было.
Вместо этого взору Максима открылась картина страшного беспорядка. Стол был усеян осколками стекла и залит резко пахнущей жидкостью, вероятно, виски. Большая клякса распласталась на стене над мойкой, в самой мойке лежало отколотое горлышко бутылки и гора осколков. Вывернутая наружу дверца холодильника обнаруживала полную разруху внутри: полочки были разбиты, продукты грудой лежали на полу, от холодильника к столу протянулся молочный ручей. Два стула валялись в разных углах кухни, у одного из них отсутствовала ножка. В доме стояла тишина, настолько плотная, что было слышно, как разбиваются о дно мойки капли воды из кухонного крана.
Мальчик поднял стул и придвинул его к столу.
На втором этаже раздался грохот, словно уронили шкаф, затем закричала мама.
Максим бросился наверх, перепрыгивая через две ступени, рывком распахнул дверь родительской спальни. Опрокинутое трюмо преграждало вход. Пошатываясь, у дальней стены комнаты стоял отец с пустым стаканом в руке. Постель была смята, белая простыня усеяна красными крапинками.
– Папа! – Максим перепрыгнул через трюмо. Голос его задрожал. – А мама где?
Мужчина повернулся к сыну. Глаза его налились кровью, губы сжались в тонкую полоску, нижняя челюсть подрагивала. Отец смотрел будто бы сквозь мальчика, не понимая, кто перед ним.
– Максик, – раздался слабый голос матери. – Иди, милый… Иди к себе. Мама сейчас придет.
Мама лежала между кроватью и стеной. Она схватилась за покрывало и попыталась подняться, но постель сползла вниз, и женщина со стоном упала. Вторая рука стала шарить по стене в поисках опоры, и Максим увидел, что один из пальцев неестественно изогнут, а предплечье покрыто кровью.
– Лежать, тварь! – заорал отец и швырнул в жену стакан. Тот разбился о стену в десяти сантиметрах над её головой. Женщина зарыдала.
Не отдавая отчета в своих действиях, Максим перемахнул через кровать и, боясь взглянуть в сторону мамы, встал между ней и отцом. Мальчик до боли сжал кулаки и широко расставил ноги.
– Только попробуй, – тихо, но твердо сказал он. – Только тронь её ещё раз.
– Уйди в сторону, маленький ублюдок! – язык отца заплетался. – Я разберусь с ней, а потом дойду и до тебя. Вы будет знать у меня! Вы все будете знать!
Он стал приближаться. Максим было отступил, но сжал зубы и поднял кулаки. Отец ударил наотмашь, и мальчик влепился в стену, больно стукнувшись головой.
– Я предупреждал, – пролепетал мужчина. – Теперь в сторону, сын. Это не твой бой.
– А вот и мой, – сказал Максим, поднимаясь и размазывая по щеке кровь, вытекшую из носа, – Ты больше не посмеешь трогать маму, пап.
Отец усмехнулся.
– Кандар! – громко произнес мальчик. – Андаф! Цайст!
– Что за чушь ты несешь? – отец схватил сына подмышки и швырнул через всю комнату, в трюмо. – Лежи там и не вставай, сучий выродок!
Дом содрогнулся.
– Землетрясения не хватало, – пробормотал отец.
Повторный толчок, сильнее.
Мужчина повернулся к жене. Ей удалось сесть и привалиться спиной к стене. Она всхлипывала и прижимала к груди поврежденную руку.
Сквозь завывания ветра за окном прорвался протяжный звериный вой. Максим встал на четвереньки и потряс головой. Она кружилась, на правом виске наливалась большая шишка.
Вой повторился, уже ближе.
– Откуда здесь волки? – спросил отец.
Наконец, Максим пришел в себя и поднялся на ноги.
– Больше никогда, – сказал он. – Слышишь, отец? Никогда.
На первом этаже с оглушительным звоном вылетело окно.
Зверёк жил в норке у самого входа в грот, Максим знал это. Пару раз он чуть было не увидел его, заметил самый хвостик, юркнувший в темноту. Если бы не отвлекся тогда на пролетавшую мимо чайку, было б чем похвастаться перед одноклассниками после каникул. Далась ему эта чайка. Чайки не прячутся по норам, а летают себе: смотри на здоровье!
Не проходило дня, чтобы Максим не бегал проведать зверька. Как только голос отца начинал становиться громче, а речь сливалась в один длинный звук, мальчик вдруг вспоминал, что сегодня ещё не был у грота. Ему казалось в такие моменты, что зверёк тоскует не меньше, чем он сам, сидит, поджав хвостик, у входа в нору и, переступая с лапки на лапку, смотрит в сторону куста с мелкими белыми пахучими цветками, из-за которого всегда появлялся Максим. Тайком, чтобы не заметил отец, мальчик прокрадывался к двери на задний двор коттеджа, арендованного семьей на время отпуска на Самоанском побережье, осторожно прикрывал её, огромными прыжками пересекал песчаную площадку, умело лавируя между качелями, невысокой деревянной горкой и покосившимся грибком, отгибал край жестяного забора и, воображая себя индейцем, несся через густую мангровую рощу к морю.
В свои десять лет он понимал, что простоять час в углу за побег, пускай даже в компании с висящим над головой пауком – менее серьезное наказание, чем видеть, как краснеет лицо отца, а шея начинает походить на густо овитый лианами ствол дерева. Жаль было лишь, что наказание расстраивало маму.
Роща сразу принимала Максима в свои объятья, закрывала его листьями, смыкала за его спиной лиановые алебарды, шумела ветвями, заглушая его шаги. Деревья радовались мальчику, а он – деревьям. Он нежно касался пальцами стволов, растущих вдоль тропинки, провожал взглядом бабочек, потревоженных его появлением, низко кланялся толстым сучьям, пригнувшимся к земле, быстрыми короткими вдохами втягивал в себя ароматы прелой травы и стелющихся по земле больших красно-желтых цветов. Свой куст мальчик замечал издали: здесь ветви деревьев образовывали длинный ровный коридор, расширявшийся у самого моря. Не всякому индейцу разрешалось пройти здесь. Корни деревьев коварно выныривали из-под земли, стоило как следует разогнаться, и Максим трижды падал, сдирая кожу на ладонях и сбивая в кровь колени, прежде чем научился ставить ноги так, чтобы корни не доставали его.
Куст с белыми цветками стоял на самом краю крутого песчаного обрыва. Максим смело сигал с него, ногами прочерчивая две глубокие борозды в горячем желтом песке. Морские ветры за долгие годы обратили ветки кустарника к роще, но цветы упрямились и поворачивали мордочки к солнцу, чуть подрагивая от смеха, гордясь свободой поступать так, как им хочется.
Едва приземлившись, Максим скидывал сандалии, перекатывался влево и бросался бежать к огромной черной пасти грота, зиявшей в тридцати шагах от куста. Песок обжигал босые ноги, ветер вцеплялся в соломенного цвета вихры, швырял в мальчика соленые брызги, шутливо пихал его в бок, дергал за рубашку. Каждый раз Максиму казалось, что вот-вот он увидит скрывающиеся в норе лапки зверька, а может быть даже разглядит цвет его шкурки, но отверстие, куда с трудом мог бы поместиться кулак взрослого человека, пустовало. Мальчик готов был поклясться здоровьем всех своих родных, что на песке под норкой мог различить отпечатки лап таинственного животного – крошечные коготки оставляли мелкие бороздки, а пяточки выдавливали неправильной формы окружности. По следам было видно, что зверек кружился на месте, словно не решаясь уйти и в то же время стремясь поскорее спрятаться от палящего солнца, соленого ветра и хищников, которые могли жить в мангровой роще.
В один из дней Максим сбежал из дома, как только услышал звонкий удар о стену гостиной, крик мамы и ругань отца. Проделав привычный путь, мальчик плюхнулся на песок у самой норки и долго вслушивался в звуки бешено колотящегося сердца, пытаясь понять, стучит оно так от индейского бега по джунглям или от переживаний за маму. Он скинул голубую льняную рубашку и подставил солнечным лучам живот, ставший шоколадно-коричневым за две недели отдыха.
– Ты здесь? – спросил в норку.
Внутри что-то шевельнулось.
– Я пришёл, – сказал мальчик. – Посижу здесь с тобой, ладно? Мне домой сейчас нельзя.
Максим перевернулся на живот и долго всматривался в темноту норы. Ему показалось, что в глубине блеснули бусинки глаз.
От грота веяло прохладой и сыростью. Волны закатывались в него, шурша галькой, по сводам носились солнечные блики.
– Представляешь, сегодня я нашел на заднем дворе бутылку с письмом! Рыл ход под забором, чтоб не дергать этот лист, а то он гремит, и нашел бутылку! – Максим заглянул в норку, чтобы убедиться, что зверек его слушает, и обратил взгляд к морю. – Я не открыл её, а спрятал под кроватью. У меня есть фонарик, мне дед подарил. А у тебя есть дедушка? И сегодня ночью я устрою настоящее пиратское собрание. Ты придешь? Я накрою стулья одеялом, чтоб получилась палатка, включу фонарик и открою бутылку!
Лицо мальчика расцвело. Он сложил ладони так, будто держит бутылку, и поднял их высоко над головой.
– А вдруг там письмо от капитана, который затерялся в океане, и ему нужна помощь? – воскликнул Максим. – Тогда мы построим плот или даже яхту и поплывем его спасать! Ты и я! Представляешь? Это будет путешествие века! Про нас напишут книгу!
Он вскочил на ноги и подбежал к кромке воды, позволив волнам омыть его ступни. Руки взметнулись к голове, поправляя воображаемую треуголку.
– Или нет! – обернулся он к норке. – Вдруг там карта сокровищ, которые пираты зарыли на этом острове триста лет назад! И никто не мог их найти, потому что пираты поубивали друг друга, а карту нарисовал и спрятал тот, кого убили первым, и он никогда никому не смог ничего рассказать! Точно! – мальчик захлебывался от восторга. – Тогда ты поможешь мне своим отличным нюхом искать место, где зарыт клад, и мы станем самыми богатыми на свете. Я куплю нам отдельный остров, и построю тебе огромный дом! Там будет много ходов, норок и всяких игрушек. Ты сможешь кушать всё, что захочешь, а еду нам будут привозить на вертолете!
Дрожа всем телом, Максим принялся прыгать на месте, вскидывая руки к небу.
– И я заберу туда маму и… деда, и Никитоса… и ещё кого-нибудь позовем. У тебя есть, кого позвать? Мама будет так рада! Я сделаю ей бассейн и большую комнату с мягким диваном… А кухни вообще не будет у нас, потому что мама нам не кухарка и не прислуга, понимаешь, друг? Нам станут готовить в ресторанах и будут привозить еду в таких пластмассовых коробочках с крышками, а мы только будем заказывать новые блюда. Каждый раз новые! Только шоколадный коктейль я буду постоянно заказывать. Ты пьешь шоколадный коктейль?
Максим сел рядом с норкой и обхватил колени руками. Он делился со зверьком планами на будущее и версиями о том, что спрятано в бутылке, пока оранжевое солнце не коснулось горизонта. Море стихло, галька в гроте лениво перекатывалась вслед за неспешными волнами, прохлада пещеры сменилась холодом. Накинув на плечи рубашку, мальчик попрощался с загадочным другом и, захватив по пути обувь, побрел через помрачневшую рощу к дому.
Выстояв свой час в углу, из которого сбежал даже паук, Максим закрылся в своей комнате и, как обещал зверьку, построил шатер из покрывала и двух старых деревянных стульев. Некогда ярко-зеленая бархатная обивка на их спинках выцвела и стерлась до желтых пятен, из которых буграми торчал порыжевший поролон. Палатка получилась хоть куда: плотное покрывало свисало до самого пола, не пропуская наружу ни лучика света, так что даже загляни кто-то из родителей в комнату – с виду всё в порядке. А там уж Максим что-нибудь придумает.
Тусклый свет фонарика, чьи батарейки изрядно подсели за долгие ночи с книгой, превратил шатер в настоящее пиратское логово, мрачное и немного зловещее. Мальчик установил фонарик лампой вверх и представил, что это факел.
Бутылка из зеленого стекла, закупоренная выструганной из дерева палочкой, пахла землей и плесенью. Максим осторожно стер с сосуда остатки засохшей грязи влажной салфеткой и осмотрел содержимое на просвет: скрученный в тугую трубочку лист бумаги, перевязанный бечевкой, кусочки пожухлой травы, останки засохших насекомых. Сердце мальчика затрепетало, когда он осторожно вынул палочку из горлышка, несколько раз провернув её против часовой стрелки. Сверток бесшумно выскользнул на пол. Коричневатая бумага сохранила на своей поверхности отпечатки чьих-то грязных пальцев – наверное, зарывший бутылку сначала выкопал яму, а уж затем свернул письмо в рулон. Максим замер над ним, боясь дышать. Неизвестно, сколько лет бутылка пролежала в земле, а вдруг бумага развалится от неосторожного прикосновения, и тогда невозможно будет понять, кто и зачем её спрятал.
Юный исследователь аккуратно перерезал бечевку мамиными маникюрными ножницами и только после этого выдохнул. Прижав край бумаги к полу, Максим осторожно развернул сверток. В самом центре листка черными чернилами каллиграфическим почерком были выведены три слова:
KANDAR – ANDAF – ZEIST
В правом нижнем углу стояла приписка мелкими буквами: «aussprechen laut».
Мальчик взял фонарик и обследовал каждый квадратный сантиметр бумаги. Следов каких-либо других надписей не было. «Странно, – подумал он. – А где же просьба о помощи от капитана или карта сокровищ? Что это значит?».
– Кандар, – прошептал Максим, – андаф… зейст? Или цейст? Это на каком вообще?
Внизу хлопнула дверь. Донеслись звуки отцовского баса, срывающегося на крик. Родители вернулись из бара, и отец опять был чем-то недоволен.
Действуя быстро, но аккуратно, Максим свернул лист, вынырнул из шалаша, сунул бутылку с веревкой и пробкой под кровать, записку – под подушку. Затем сдернул покрывало, подхватил начавший заваливаться стул и прыгнул на кровать, натянув покрывало до глаз. Дыхание постепенно выровнялось, отцовский голос внизу стих. Мальчик слышал, как за окном разгулялся ветер, заставляя скрипеть качели на заднем дворе, куда выходили окна комнаты. «Кандар… кандар… кандар», – крутилось в голове Максима. Три слова вместе были похожи на маршрут по трем городам, название какого-то лекарства или… заклинание?
Мальчик подскочил на кровати и воровато обернулся к окну. Спрыгнул, выглянул на пустующий двор, задернул шторы, бегом вернулся в постель.
Мысли о заклинании ещё долго не давали ему уснуть, но, когда усталость взяла верх, Максиму приснились несметные сокровища, открывающиеся его взору после произнесения заклинания, как в пещере Аладдина, и чудесный остров, который он купил для себя, своей мамы и зверька, и длинные столы, заставленные самыми вкусными блюдами. Мальчик подходил к столу с коктейлями, выбирал шоколадный и жадно выпивал его через толстую соломинку. Стакан каждый раз чудесными образом наполнялся, стоило только произнести заклинание, и Максим пил и пил любимый напиток без остановки.
А потом он заметил на столе между стаканов серого паучка, вроде того, что висел в углу.
– Ты кто? – спросил Максим.
– Я – Кандар, – ответил паучок.
И вмиг всё исчезло.
На следующий день после завтрака отец повез Максима и маму на рынок в Апиа, чтобы набрать сувениров родственникам. Бумагу со странными словами мальчик сложил вчетверо и сунул за резинку шорт. Время от времени он доставал записку и украдкой разглядывал черные буквы, бормоча их про себя, будто пробуя на вкус снова и снова.
Ещё утром, пока отец был в душе, Максим выпросил у мамы телефон и нашел в поисковике, что фраза в углу написана на немецком и означает «произносить громко». Он завопил, что было сил, захлопал в ладоши и перекувыркнулся через кровать. Онлайн-переводчик объяснил, что ZEIST читается «цайст», но никакого значения не имеет, как и первые два слова. Вспомнился паучок из сна. «Кандар – это имя», – подумал мальчик.
– Ты чего кричишь? – в комнату заглянула мама. Лицо её выглядело усталым, глубокая вертикальная морщинка пролегла между бровями. Роскошные рыжие волосы, запах которых всегда так нравился Максиму, были стянуты в тугой хвост на затылке.
– Я просто, – мальчик лег на кровать, накрыв телом телефон и записку.
– Ну ясно, – она улыбнулась с такой нежностью, что Максиму захотелось немедленно её обнять, однако секретность информации показалась ему важнее. – Спускайся завтракать.
Максим потратил ещё пятнадцать минут на поиски следов немцев на Самоа. Он прочитал, что в начале XX века Германия считала западные острова архипелага своей колонией, а в 1907 году эти места посетил Гвидо фон Лист, оккультные идеи которого впоследствии развивал Адольф Гитлер. Статьи выдавали всё новые ссылки, изучать которые времени уже не было, и Максим поспешил на завтрак.
Центральный рынок самоанской столицы даже в будний день напоминал разворошенный муравейник. Всюду сновали носильщики с тележками, груженными большими волосатыми кокосами и зелеными бананами, огромные гроздья которых выглядели, как куски чешуйчатой кожи дракона. Самоанские женщины, смуглые, грузные, одетые в цветастые юбки и просторные блузы, перекрикивались, стоя за прилавками на удаленных друг от друга рядах, перемежая самоанские слова с английскими. Между ними проворно курсировали дети, доставляя то сдачу, то какой-нибудь товар, то таская записки на клочках грязной замусоленной бумаги.
Первый эшелон рыночных рядов занимали аккуратно сложенные на земле горы кокосовых ядер, рядом с которыми сидели загорелые мужчины в мокрых от пота рубашках. В отличие от женщин они по большей части молчали, с презрительным равнодушием разглядывая проходящих мимо иностранных туристов. Дальше, под навесом, располагались неспелые бананы, ощетинившиеся ананасы, желто-зеленые гладкокожие папайя, внушительных размеров тыквы и какие-то неизвестные Максиму фрукты с яркой оранжевой кожурой.
Ближе к центру рынка находились прилавки с тканями, одеждой и сувенирами: раскрашенными круглыми камешками, магнитами и прочей мелочью.
После сорока минут ходьбы по рынку, показавшихся Максиму вечностью, родители остановились у одного из прилавков и принялись откладывать в сторону понравившиеся сувениры, переговариваясь между собой и торгуясь с продавцом. Про сына на некоторое время позабыли. Воспользовавшись этим, мальчик отошел к соседнему ряду и спрятался за углом, где свисающие с перекладин ткани образовывали небольшую комнатку, вход в которую был прикрыт тюлем. Внутри в полумраке кто-то издавал едва слышный храп.
Убедившись, что за ним не следят, Максим развернул письмо. Заклинание нужно произнести громко, говорила записка. Вот бы она ещё объясняла, что произойдет потом. Вдруг это чья-то шутка, а никакое не заклинание? Будет обидно, если ничего не произойдет. «Надо прогладить её утюгом, – подумал мальчик. – Может, тут есть надписи невидимыми чернилами, в книжках всегда так делают те, кто хочет что-то спрятать».
Он уже собрался спрятать записку и вернуться к родителям, которые, судя по голосам, начали переругиваться, как из-за сетки вынырнула смуглая костлявая рука и схватила его за запястье. От неожиданности Максим оцепенел. Он дернулся, что было сил, но дряблая на вид рука оказалась на удивление сильной. Вслед за ней из полумрака показалось сморщенное лицо старухи. Один глаз её был прищурен, на веке зрел большой прыщ, второй глаз – ярко-голубой, очень ясный и чистый, будто бы искусственный – внимательно разглядывал мальчика. Дыхание Максима перехватило, он сделал ещё одну попытку вырваться и обмяк, руки и ноги перестали слушаться.
Старуха перевела взгляд на бумагу, сильнее сжала запастье и ткнулась носом в щеку мальчика. Пахнуло чесноком и гнилью.
– Was ist denn das? – Прошипела она. – Wo hast du das gefunden?
– Пустите, – залепетал Максим. – Я не понимаю.
– Wirf mal aus dem Kopf, darin zu lesen! – Старуха затряслась, разжала пальцы и отдернула шторку. – Du brauchst nicht, es zu lesen!
Старая самоанка выросла в размерах, поднявшись высоко над Максимом. На ней болталось грязное желтое платье, едва прикрывающее тощую смуглую грудь. Она распрямилась, схватилась за шесты, на которых держались стены её комнатки и стала выбираться наружу. Шаткая конструкция закачалась. Лицо старухи исказилось не то болью, не то ужасом, прищуренный глаз приоткрылся, под веком обнаружилось слезящееся бельмо.
Оцепенение прошло, Максим попятился, комкая бумагу и запихивая её в карман.
– Wirf das mal weg! – Закричала старуха. – Ich sage dir doch, wirf weg!
Максим наткнулся на корзину с фруктами, опрокинул её, чуть было не упал сам, однако удержался на ногах, повернулся и побежал. Старуха что-то кричала ему вслед, но мальчик летел между рыночными рядами, перепрыгивая через мешки и сумки, стремительно удаляясь от того места, где стояли его родители. Кто-то из продавцов попытался схватить его за руку, но Максим вырвался, нырнул под прилавок, выскочил с другой стороны и понесся дальше, оставив позади шеренги исполинских тыкв.
Он остановился, только когда выбежал из-под навеса и налетел на ограждение у края проезжей части. Развернулся и вжался в ограждение спиной, снуя глазами по рыночным рядам, выискивая признаки погони. Легкие вспыхивали болью, живот свело судорогой.
Старухи не было видно. Никто за ним не гнался. Продавцы неспешно шли по своим делам, туристы лениво обмахивались веерами, лишь один торговец кокосами пристально смотрел на мальчика.
Максим извлек из кармана скомканное письмо. Старая бумага местами раскрошилась, но надпись по-прежнему читалась хорошо. О чём говорила эта сумасшедшая? Почему она так испугалась написанного? Мальчик догадывался, что она говорила по-немецки, а значит, прочитав записку, поняла что-то такое, от чего ей стало страшно.
– Кандар, – прошептал Максим. – Кто ты такой?
Вспомнился паучок из сна.
Мальчик бережно свернул бумагу и сунул её за резинку шорт. Огляделся. Он не узнавал местность, а это значило, что он потерялся, родители долго будут его искать, и ему опять попадет от отца. Возвращаться под навес, где его могла поджидать старуха, Максиму не хотелось. Он присел на бордюр, обхватил ноги руками, положил подбородок на колени и стал ждать.
Его нашли спустя час. Мальчик сразу понял, что необходимость оставить покупку сувениров и в самое пекло таскаться по рынку в поисках сына привела отца в бешенство. Взмокшее, раскрасневшееся лицо его будто пульсировало, ноздри расширились, шея вздулась жилами.
– Ты где был? – прорычал отец сквозь зубы, сжимая кулаки. Мама попыталась мягко перехватить руку мужа, но тот отпихнул её, даже не удостоив взглядом.
Максим съежился, прижался к ограждению и поднял ладони к лицу, инстинктивно защищаясь.
– Я спрашиваю, где ты был?! – рявкнул отец, сбил одной рукой слабую защиту сына, а другой отвесил ему звонкую оплеуху, да так, что в глазах мальчика поплыли круги. – Какого черта ты убежал сюда?! Мы с матерью целый час шляемся по долбаному базару, ищем этого говнюка, а он тут сидит, прохлаждается! – Отца понесло. – Какого черта я потащил вас в этот отпуск, если с вами нормально не отдохнешь! То одна хрень, то другая!
Максим молчал, прижав руки к уху, ноющему от отцовского удара. Он знал, что отвечать что-либо бессмысленно, только больше злить отца. Мальчик напустил на себя виноватый вид и стал разглядывать пальцы ног. Для убедительности всхлипнул.
– В такси! – гаркнул отец, пихнув сына в шею и бросив на жену гневный взгляд, от которого она отшатнулась, словно от удара.
Мама приобняла Максима за плечи и повела его к стоянке белых с желто-зелеными кругами на боках такси, шепча слова утешения. Мальчик, однако, этих слов не слышал. Он погрузился в свои мысли и стал мечтать о том, как было бы здорово сейчас оказаться на берегу моря, у норки таинственного зверька, рассказать ему о произошедшем, поплакать, попросить совета и, может быть, помощи.
За окном такси мелькал уже не казавшийся восхитительным самоанский пейзаж. Поднялся ветер, пригибавший пальмы и вытягивающий их длинные изумрудные листья параллельно земле. Максим прижался пылающим ухом к прохладному стеклу и в очередной раз нащупал в кармане письмо. Никогда он ещё не чувствовал себя более одиноким.
– До завтра не гуляешь, – мрачно сказал отец, когда они вошли в дом. Он уселся на кухне, налил себе виски из большой бутылки и уткнулся в планшет.
Путь на задний двор был отрезан.
Мама собрала разбросанные по гостиной вещи и ушла в ванную. Мальчик прокрался вслед за ней и заглянул в дверной проем. Мама, тихо всхлипывая и утирая лицо ладонями, складывала грязную одежду в стиральную машину. Закрыв дверцу машины, она уткнулась в нее лбом. Мамины плечи стали подрагивать, однако она не издала ни звука, только задышала чаще и глубже.
Максим вернулся в гостиную и, изучив обстановку, бесшумно выскочил из коттеджа через главный вход.
Линия домов преграждала доступ к мангровой роще, и мальчику пришлось добежать до конца улицы, чтобы найти выход к морю. Свернув за угол, он сбавил шаг, однако то и дело оглядывался проверить, не идут ли за ним. Ветер крепчал. Деревья рощи угрожающе шумели, далеко впереди слышался гул моря. Тучи закрыли дневной свет и провисли низко над землей, будто хотели разглядеть, кто тут обижает маленького мальчика.
Дойдя до рощи, Максим обернулся. В десяти шагах от него трусила большая рыжая лохматая собака.
– Фу! – крикнул мальчик. – Пошла вон!
Собака остановилась и зарычала. Максим попятился к деревьям, стараясь держать пса на виду. Животное сделало несколько шагов, оскалив зубы. Максим поднял с земли камень и швырнул его в собаку. Та без особого труда увернулась и басовито залаяла. Шерсть на её загривке встала дыбом. Услыхав лай, из-под ближайшего забора выскочили ещё два пса, небольшой белый в черных пятнах и огромный, даже больше, чем первая собака, черный, с разорванным в клочья ухом. Все три оскалились и стали приближаться к мальчику.
Внутри у Максима похолодело. Издав истошный вопль, он бросился бежать через рощу к морю. Собаки ринулись за ним.
Мальчик петлял между деревьями, привычно перепрыгивая через торчащие корни и уклоняясь от свисающих лиан. В какой-то момент погоня захватила его, он вновь ощутил себя индейцем, путающим следы в диком лесу, воображая, что за ним гонится огромный медведь гризли или стая волков, и ему во что бы то ни стало нужно прорваться к своему стойбищу, где братья-индейцы несколькими меткими выстрелами уложат преследователей и принесут их в жертву богам охоты. Собаки не отставали. Каждая из них пыталась вырваться вперед, из-за чего они мешали друг другу и злобно переругивались, однако скорости не сбавляли.
Стоило Максиму вынырнуть из-под крон мангровой рощи, как его встретила плотная стена ветра и соленых брызг. Дыхание перехватило, по телу пробежал озноб.
Спасительный грот, чьи выступы могли послужить укрытием для мальчика, оказался дальше, чем обычно. Максим взметнул сноп песчаных брызг, вскочил и бросился к нему. Псы замешкались, зарывшись в песок, но быстро сориентировались и с громким лаем продолжили погоню.
Достигнув грота, Максим пришел в ужас. Пещера была наполнена водой! Огромные волны, взбитые в белую пену, с грохотом разбивались о стены грота, и высокий выступ оказался затоплен.
Беглец развернулся лицом к собакам и вытянул вперед руки, защищаясь. Животные поняли, что жертве никуда не спрятаться, остановились и, угрожающе рыча, стали приближаться к Максиму. Мальчик бросил взгляд на норку своего невидимого друга и подумал, что самое время ему появиться и помочь. Мысль, стремительная, как порыв морского ветра, мелькнула в его голове.
Максим достал из кармана письмо, развернул и завопил, пытаясь перекричать грохот волн:
– Кандар! Андаф! Цайст!
Собаки зашлись грозным лаем.
– Кандар! – голос мальчика срывался и хрипел. – Андаф! Цайст!
Звери приблизились на расстояние трех шагов. Он разжал пальцы, и письмо унесло ветром.
– Кандар! Андаф! – Максим выбился из сил и последнее слово сказал уже тихо. – Цайст.
Земля под ногами содрогнулась. Псы присмирели и замолкли. Ещё один толчок тряхнул пляж. Почва вокруг норки неизвестного существа покрылась трещинами, верхний слой грунта осыпался и сполз на песок. Под ним оказалась дыра размером с хороший арбуз. По мере того, как дрожь усиливалась, края норы проваливались внутрь, отчего она расширялась и вскоре достигла величины автомобильного колеса.
Максим попятился назад, не ощущая, как брызги волн, разбивавшихся о стены грота, мочат его рубашку. Собаки заскулили и стали топтаться на месте, от их свирепости не осталось и следа.
Из провала в земле показалась черная зубчатая пика. Она вытянулась на пару метров вверх, затем согнулась пополам и заостренным концом уперлась в землю. Максим вспомнил маленького паучка, прятавшегося между стаканами в его сне, и понял, что это не пика, а лапа. Вслед за ней показалась ещё одна, которая уперлась в песок с другой стороны норы. Две другие лапы воткнулись в грунт сверху, ещё две – снизу. Землетрясение достигло максимума. Лапы существа напряглись, впились в землю, и тогда из провала показалось бочкообразное тело, вытянутое, мохнатое, с черным лоснящимся брюхом и бледно-желтой спиной, украшенной причудливым рисунком. Двое щупалец свисали вниз, на их концах клацали, сжимаясь и разжимаясь, исполинских размеров клешни, каждая из которых, казалось, запросто перережет пополам лошадь. На морде существа блестел один черный, как смола, глаз, по его поверхности бешено сновал белесый зрачок.
Ноги Максима подогнулись, и он сел на мокрый песок.
Существо вытянулось на ногах-пиках и выросло до размеров самых высоких самоанских пальм. Черно-желтое тело покачивалось на упругих лапах из стороны в сторону. Раздался громкий звук разрываемой плоти, и под глазом разверзлась покрытая мелкими зубами пасть омерзительного розового цвета. На песок из нее хлынул поток вязкой слизи. Распрямив ноги, существо подалось вверх и издало протяжный вой.
Собаки, прижав уши и поджав хвосты попятились, развернулись и бросились бежать тем же путем, каким преследовали мальчика.
Существо повернулось в их сторону. Пронзительный вой вновь огласил округу. Потоптавшись на месте, будто бы вспоминая, как нужно двигаться по земной поверхности, подземный житель ринулся за убегавшими животными. Нагнав наименее расторопного пса, существо резко согнуло ноги, нырнув к земле, схватило собаку клешнями и, подняв высоко в воздух, разорвало на две части, залив свою желтую спину кровью и ошметками плоти. Части бедного животного отлетели в стороны. Второго, рыжего, пса существо нанизало на лапу и, волоча его тело за собой, устремилось за самой большой черной собакой. Ей почти удалось добежать до опушки мангровой рощи, но паук подпрыгнул высоко вверх и мягко приземлился перед обезумевшим от страха животным. Существо разинуло пасть и, издав дикий вопль, сомкнуло челюсти на шее собаки.
Максим попытался подняться на ноги, но конечности его не слушались. Уже ни ветер, ни крупные капли дождя, начавшие падать на песок, ни волны, бушевавшие за его спиной, не имели значения.
Существо не спеша подобрало клешнями всех поверженных собак и, разорвав их на куски, отправило в рот. Ещё пережевывая последнюю жертву, оно приблизилось к мальчику. Максим накрыл голову руками и зажмурил глаза. Ожидание тянулось вечность. Когда он решился открыть глаза, то понял, что ничего страшного не произошло. Огромный паук распластался рядом с мальчиком и внимательно разглядывал его своим единственным зрачком, издавая грудные урчащие звуки. От него пахло сырой землей и чем-то паленым. Существо начало посвистывать и покачиваться вперед-назад, слегка подталкивая Максима в колено. Максим поднялся на ноги.
– Ты – Кандар? – спросил он.
В ответ раздался продолжительный свист.
– Ты – Кандар, – прошептал мальчик. – И ты защитил меня. Я знал, что ты мой друг.
Он протянул руку вперед и осторожно погладил Кандара по мохнатому черному боку. Урчание стало громче.
Небо над морем разрезала молния. Незаметно сгустившиеся сумерки озарились яркой вспышкой. Дождь участился.
– Мне надо домой, – сказал Максим. – Я сейчас должен уйти. Но я вернусь к тебе, слышишь? Ты живи в своей норе, а я к тебе вернусь. Я буду часто приходить.
Кандар прерывисто засвистел и поднялся на полную высоту своих ног. Он несколько раз качнулся, клацнул клешнями и проворно забрался в провал, пропихнув в него тело и втянув внутрь лапы. Мальчик подошел и заглянул внутрь: темно и пахнет плесенью. «Пожалуй, даже такой дом лучше моего», – подумал он и, промокший и дрожащий, поплелся знакомой тропинкой к коттеджу.
Взволнованный произошедшим, Максим не подумал о том, что отец мог всё ещё находиться в кухне. Вывозившись в грязи, он пробрался через свой подкоп, на дне которого уже начала скапливаться лужица, пересек игровую площадку и уже открыл дверь заднего входа, когда вспомнил о своей ошибке. На удивление, сердце не сжалось, как обычно, в ожидании окрика или оплеухи. Непривычное спокойствие владело мальчиком.
Отца, однако, за столом не было.
Вместо этого взору Максима открылась картина страшного беспорядка. Стол был усеян осколками стекла и залит резко пахнущей жидкостью, вероятно, виски. Большая клякса распласталась на стене над мойкой, в самой мойке лежало отколотое горлышко бутылки и гора осколков. Вывернутая наружу дверца холодильника обнаруживала полную разруху внутри: полочки были разбиты, продукты грудой лежали на полу, от холодильника к столу протянулся молочный ручей. Два стула валялись в разных углах кухни, у одного из них отсутствовала ножка. В доме стояла тишина, настолько плотная, что было слышно, как разбиваются о дно мойки капли воды из кухонного крана.
Мальчик поднял стул и придвинул его к столу.
На втором этаже раздался грохот, словно уронили шкаф, затем закричала мама.
Максим бросился наверх, перепрыгивая через две ступени, рывком распахнул дверь родительской спальни. Опрокинутое трюмо преграждало вход. Пошатываясь, у дальней стены комнаты стоял отец с пустым стаканом в руке. Постель была смята, белая простыня усеяна красными крапинками.
– Папа! – Максим перепрыгнул через трюмо. Голос его задрожал. – А мама где?
Мужчина повернулся к сыну. Глаза его налились кровью, губы сжались в тонкую полоску, нижняя челюсть подрагивала. Отец смотрел будто бы сквозь мальчика, не понимая, кто перед ним.
– Максик, – раздался слабый голос матери. – Иди, милый… Иди к себе. Мама сейчас придет.
Мама лежала между кроватью и стеной. Она схватилась за покрывало и попыталась подняться, но постель сползла вниз, и женщина со стоном упала. Вторая рука стала шарить по стене в поисках опоры, и Максим увидел, что один из пальцев неестественно изогнут, а предплечье покрыто кровью.
– Лежать, тварь! – заорал отец и швырнул в жену стакан. Тот разбился о стену в десяти сантиметрах над её головой. Женщина зарыдала.
Не отдавая отчета в своих действиях, Максим перемахнул через кровать и, боясь взглянуть в сторону мамы, встал между ней и отцом. Мальчик до боли сжал кулаки и широко расставил ноги.
– Только попробуй, – тихо, но твердо сказал он. – Только тронь её ещё раз.
– Уйди в сторону, маленький ублюдок! – язык отца заплетался. – Я разберусь с ней, а потом дойду и до тебя. Вы будет знать у меня! Вы все будете знать!
Он стал приближаться. Максим было отступил, но сжал зубы и поднял кулаки. Отец ударил наотмашь, и мальчик влепился в стену, больно стукнувшись головой.
– Я предупреждал, – пролепетал мужчина. – Теперь в сторону, сын. Это не твой бой.
– А вот и мой, – сказал Максим, поднимаясь и размазывая по щеке кровь, вытекшую из носа, – Ты больше не посмеешь трогать маму, пап.
Отец усмехнулся.
– Кандар! – громко произнес мальчик. – Андаф! Цайст!
– Что за чушь ты несешь? – отец схватил сына подмышки и швырнул через всю комнату, в трюмо. – Лежи там и не вставай, сучий выродок!
Дом содрогнулся.
– Землетрясения не хватало, – пробормотал отец.
Повторный толчок, сильнее.
Мужчина повернулся к жене. Ей удалось сесть и привалиться спиной к стене. Она всхлипывала и прижимала к груди поврежденную руку.
Сквозь завывания ветра за окном прорвался протяжный звериный вой. Максим встал на четвереньки и потряс головой. Она кружилась, на правом виске наливалась большая шишка.
Вой повторился, уже ближе.
– Откуда здесь волки? – спросил отец.
Наконец, Максим пришел в себя и поднялся на ноги.
– Больше никогда, – сказал он. – Слышишь, отец? Никогда.
На первом этаже с оглушительным звоном вылетело окно.
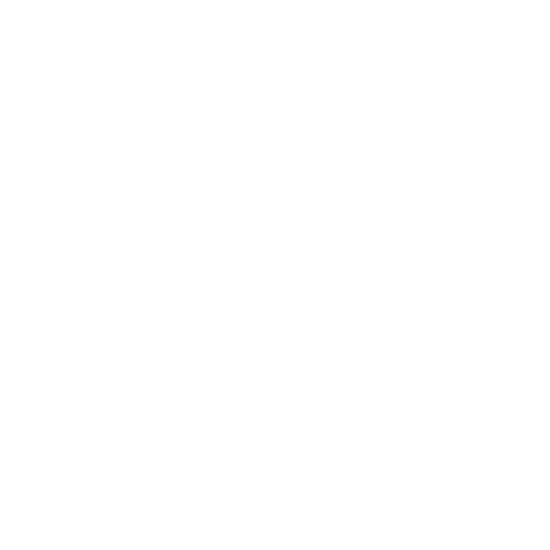
Лариса КЕФФЕЛЬ
Родилась и выросла в Москве. Училась в музыкальной школе имени
М. Ростроповича. После средней школы окончила Московский Библиотечный техникум и, далее, Московский Государственный институт Культуры по специализации «Художественная литература и искусство».
Профессия - библиограф. С 1986 года работала в Тимирязевской библиотечной системе г. Москвы, затем перешла на работу зав. сектором чит. зала в Университет Дружбы народов им. П.Лумумбы. В 1993 году вышла замуж и уехала в Германию.
Разведена. Живу уже около 20 лет в г. Майнц. Работала в научной библиотеке Высшей Католической школы Майнца. (Земля Райнланд - Пфальц) на Юго-Западе Германии. Хорошо владею немецким, но пишу только на русском. Писала стихи с юности. Готовы к публикации два романа, несколько рассказов. Люблю театр, живопись, книги.
Родилась и выросла в Москве. Училась в музыкальной школе имени
М. Ростроповича. После средней школы окончила Московский Библиотечный техникум и, далее, Московский Государственный институт Культуры по специализации «Художественная литература и искусство».
Профессия - библиограф. С 1986 года работала в Тимирязевской библиотечной системе г. Москвы, затем перешла на работу зав. сектором чит. зала в Университет Дружбы народов им. П.Лумумбы. В 1993 году вышла замуж и уехала в Германию.
Разведена. Живу уже около 20 лет в г. Майнц. Работала в научной библиотеке Высшей Католической школы Майнца. (Земля Райнланд - Пфальц) на Юго-Западе Германии. Хорошо владею немецким, но пишу только на русском. Писала стихи с юности. Готовы к публикации два романа, несколько рассказов. Люблю театр, живопись, книги.
МОНЕТКА
Сергей открыл глаза.
– Серёжа-а-а!
Кира звала. Идти в воду не хотелось, хотя было и правда жарко. Ну и климат в Испании. Как они здесь живут? Настоящее пекло! Он бы не смог всю жизнь в такой жаре. Вот в Малоярославце наверняка сейчас красота! Как там, интересно, стройка? Сачкуют, конечно, без него. Хотя ребята в меру алчные. Кира знает с кем имеет дело.
Сергей помахал отрицательно рукой. Обратил внимание, как Кира надула и без того надутые губки. Он улыбнулся, заметив себе, что думает о ней снисходительно-ласково, как думают о жене, с которой прожили долгие годы, как о матери своих детей. Вот только с детьми у них никак не выходило... У Киры случилось уже два выкидыша. Беременеть-то она беременела, да выносить не могла. Закатывала ему истерики по ночам, била даже! Внезапно в ней будто просыпалась фурия. Сергею иногда казалось, что она не в адеквате. Но он её понимал... Бабе уже под сорок, карьера состоялась. Кира разбогатела на продаже микроволновок в «лихих девяностых», рискнула – как и многие в те годы. Заняла приличную сумму у подруги под проценты, а буквально через месяц всё сумела ей вернуть, с лихвой окупив вложение капитала. С тех пор карта пошла, но счастья не случалось. Влюблялась, в неё влюблялись. Сменялись ухажёры, а чувства – такого, чтоб разрывало, чтоб таяла по ночам – не было. Он усмехнулся. С ним она таяла...
Кира безнадежно махнула и поплыла. Плавала она хорошо. Мужики-испанцы с берега с удовольствием любовались её плавными взмахами, скользящими движениями. Сразу видно, что училась. Их тётки тут же, моментально, чуяли опасность:
– Vamos, vayamos. Хватит, давай пойдём! Нечего тут глазеть!
Сергей множество раз наблюдал подобное зрелище: как по одному только окрику очередной подкаблучник (иногда вполне даже свирепого вида) вытаскивал детей из воды и наскоро, на ходу обтирая малышей, виновато гуськом плёлся за своей доньей. А ведь, на первый взгляд, вроде – мужик как мужик!..
Плавать Киру научил отец – учёный, имевший отношение к космосу ещё в советское время. Вот он и командует сейчас всей этой «шайкой-лейкой» в Малоярославце. Строят ему поместье. Ему – Сергею Бочарову!
Замёрзшие как цуцики, малыши – посиневшие, с фиолетовыми губами, дрожа так, что зуб на зуб не попадал – пробежали мимо него, что-то возмущённо галдя на гортанном испанском, возражая матери. Испанский ассоциировался у него с неистовым команданте Фиделем в телевизоре. А ещё с Домингесом – испанцем, который учился в их классе. Он был потомком тех немногих незадачливых республиканцев, которые в 30-е остались в России. Это был очень закрытый парень. Почему-то неизменно в снежно-белом вязаном свитере. Как он умудрялся его не запачкать?
Испанцы такие детолюбивые! Впрочем, во многих южных странах он наблюдал это чересчур уж трепетное отношение отцов к своим чадам. В то время как мамочки лениво возлежали, они услужливо носились с детьми как «электровеники» в воду и обратно, отводили в туалет, меняли памперсы, переодевали в сухое...
Сергей нахмурился. С ним мать так не нянькалась. Откуда-то, из подсознания, вспышками высвечивались кадры из детства, о которых хотелось забыть. Да он и забыл, и сейчас вспомнил – как будто не про себя, а про какого-то чужого мальчишку, который мёрз в парке в стареньком пальто. У пальто почти не осталось подкладки. Было стыдно даже вешать его в школе на вешалку. Серёжа переминался с ноги на ногу, поглядывая на свои окна и дожидаясь, когда мать со своим кавалером напразднуются и погасят свет в комнате коммуналки. Он знал, что никто не ждёт его с горячим ужином на столе. Пустые бутылки и огрызки колбасы; в лучшем случае – ухажёр ушёл, а мать пьяная спит, раскинувшись поперёк единственной кровати. В худшем – они спят вместе, и он стелил себе на полу, на стареньком коврике, прямо под ними. Иногда он не мог заснуть от их пьяных тисканий, и в скрипе кровати ему чудились страшные звуки. Тогда он выползал из-под одеяла и сбегал на кухню, чтобы не слышать, как мать продолжала охать и ахать, пьяно требуя от ухажёра ласк. А на общей кухне дядь Федя, пожилой мужик, всю жизнь проработавший на производстве в гальваническом цехе и теперь мучающийся астмой, тоже не спал. В растянутых на коленках выцветших трениках и застиранной майке-алкашке, он втихую от своей матери, баб Лизы, курил в форточку.
– Что? Опять?! – Дядя Федя всё понимал без лишних слов. – Терпи, парень. С матерью-то оно лучше, чем в детдоме.
А ещё, в раннем детстве, мать закрывала его на ночь одного. Один раз – «забыла» на два дня: оставила бутылку кефира и батон хлеба около батареи, к которой она его привязала. Но он не кричал: не хотел, чтобы соседи знали.
– Что же ты делаешь, Милка? Креста на тебе нет! – стенала в коридоре баба Лиза, почуяв неладное. – Серёженька? Серёжка? Ты там живой? – ласково звала она из щели под дверью. Он плакал беззвучно, размазывая слёзы кулачком, но не откликался – а так хотелось, чтобы пожалели. И отвязали от батареи! Было стыдно за мокрые штаны, но больше всего он боялся, что если не выдержит, сорвётся на крик, то у мамы будут неприятности.
На дворе стоял конец мая. Солнышко. Вытягиваясь к окну, он видел двор, весь в пуху от высоченных пирамидальных тополей из парка поблизости. Колька – здоровенный парень, осенью пришедший из армии, – всё-таки выломал на вторые сутки дверь. Тогда соседи и пригрозили детдомом. Милка на короткое время опомнилась. Приходил добрый дядя: Серёжа запомнил слово – «следователь»... Участливо погладил его, Серёжу, по голове, вытащил из кармана пиджака замусоленный леденец. От леденца пахло табаком, но всё равно Серёжа с благодарностью сосал конфету. Его мальчишечью душу покорили мужская сила и человеческая доброта, которые исходили от незнакомца. Чувства эти остались с Сергеем навсегда. Позже, уже в школе, он решил, что станет следователем.
Сергей вздрогнул. На него летели брызги. Кира, только что выскочившая из воды, тряся руками, волосами, падала в мокром купальнике прямо на него. Шезлонг под ними затрещал.
– Ну-ну, Кира!..
– Ты всё мечтаешь. Тебя в воду не затащишь!
Наскоро обтершись полотенцем, она кинулась на лежак, блестя на солнце загорелой влажной кожей, вытянулась, глубоко вздохнула и замерла от удовольствия. Она хорошо загорала: не краснела, не обгорала, а как-то сразу становилась коричневая, как папуаска. Загар ей шёл.
Мимо прошел испанский мачо, одобрительно оглядев Киру. Чуть не споткнулся, засмотревшись.
– М-мм, какой спелий пэрсик! Вах! – Сергей сымитировал характерный для кавказца акцент и прищёлкнул языком, насмешливым взглядом провожая мачо.
– Не иронизируй! Знаешь, сколько ко мне сейчас самцов местных приставало?! Думали, что я одна. Я говорю: «У меня муж есть, хасбенд!» А они смеются. Не верят! Ты муж или не муж? Ты можешь, наконец, выйти на авансцену, «Савва Игнатич»?
В этом её вопросе была скрыта извечная женская надежда на замужество. Они не были официально женаты. Сергей видел, что ей хотелось вызвать в нём ревность. Ох уж эти женские штучки! Решил свести всё к шутке:
– Кто пристаёт? Где он? Подать его сюда! – Сергей продолжал играть роль мужа-кавказца.
– Да ладно, уж успокойся! Проехали… – Кира разрешительно махнула рукой. – Пойду, мороженое куплю. Тебе тоже?
Сергей отрицательно мотнул головой. Она развернулась и плавно пошла по песку, на ходу влезая в шлёпки и подкручивая мокрые волосы под заколку. Он какое-то время смотрел ей вслед. Фигурка у неё была – что надо! Тело крепкое, налитое, живот подтянут. Конечно! Не рожала. Сергей опять думал о матери...
Они жили в центре Москвы. Серёжа учился в спецшколе с английским уклоном. Учился, несмотря на все трудности и лишения, хорошо. Всегда держал всё в себе, был застенчив. Он не мог привести к себе друзей, но, если его приглашали в гости, то с радостью шёл. Ему хотелось хоть на час вырваться из их унылой, безрадостной комнаты, но не навсегда. Мать он, несмотря ни на что, любил – жалел... Какой бы она ни была!
Услышав однажды, как на коммунальной кухне соседи судачат о «Милке» не стесняясь в выражениях, Сергей вбежал туда весь багрово-красный и, задыхаясь от возмущения, грозно прокричал:
– Вы не смеете так говорить про мою маму! Моя мама – самая лучшая на свете!
Те от неожиданности на миг потеряли дар речи. В повисшей тишине он, выходя, услышал в спину:
– Ишь ты. Защитничек нашёлся!..
Да! Он был её защитником – как умел, заботился о матери. Когда приходя домой, находил мать спящей, укрывал её одеялом, когда болела – сам варил картошку, мыл пол, бегал за лекарствами. Когда ей было плохо, он был ей всем!
– Серёжка, какой ты у меня хороший. В кого ты такой? Отец твой – «дурак на букву эм…», да и я тоже... А я ведь красивая была. Ко мне один сватался, Слава Раевский, режиссёр сейчас известный, а я, дура, ему отказала. Твой отец тогда ещё на гитаре играл, ох, баб у него бы-ло-о-о!.. Толпами за ним бегали, проходу не давали. А мне льстило, что он меня выбрал.
Сергей слышал эти сказанные-пересказанные истории, наверное, сотню раз, но всякий раз терпеливо присаживался на край кровати, слушал. Она читала ему простуженным голосом стихи Гумилёва, Цветаевой, Волошина... В такие вот «вечера воспоминаний» он готов был простить ей всё: и пьянство, и вечно пустой и грязный холодильник, и оскорбления. Она была как раненая птица. Странная.
Мила была дочерью известного художника. Привычное благополучие их семьи закончилась со смертью деда. Внука назвали в его честь. Сергей Петрович – мастер русского пейзажа, рано умер. Бабушка (дед привез её из деревни, когда ездил на этюды) никогда не работала. Мила училась на искусствоведа. Жили на то, что продавали картины деда. Потом обменяли квартиру в Доме художников на Верхней Масловке на эту убогую комнату в коммуналке с доплатой. Выскочила замуж. Родила. Вскоре после рождения Серёжи умерла и бабушка. А через пару лет вообще всё в их жизни разладилось. Отец Серёжи куда-то исчез. Просто перестал приходить домой. Мила обзванивала его друзей. Оставив трёхлетнего Серёжу в кроватке, она наскоро накидывала пальто и бежала на поиски. Несколько раз возвращалась с ним. Потом – без него. Плакала. Серёжа помнил всё, хотя мать говорила, что этого не может быть... У матери, вслед за этим всем, с горя, пошли постоянные вечеринки. Случайные знакомые, приятельницы из артистической тусовки, подружки. Утешительницы... После и их не стало. Повыходили замуж. Разъехались по заграницам. Привозили оттуда Миле бессмысленные подарки – вроде соски-пустышки, хотя Серёжа к тому времени уже ходил в детский сад.
Мамина близкая подруга, тётя Ира со своим мужем, каким-то начальником, министерским работником, однажды взяли их с собой в отпуск за границу. Серёжа впервые увидел море. Они купались целыми днями, а вечером прогуливались по набережной. Нарядные. Тётя Ира одевала маму из своего гардероба.
Серёжка, всё время скачущий от избытка счастья вприпрыжку, одетый в только вчера купленные, настоящие тёртые джинсы «Леви Страус» и кроссовки «Адидас», уплетая необыкновенной вкусноты ореховое мороженое на палочке, услышал, как Тётя Ира говорила маме, обнимая её за плечи:
– Мила, всё наладится! Ты же вон у меня какая красавица! Умница! У тебя, смотри, какой Серёжка чудесный!
Всё: и этот бархатный голос и заливистый, почти незнакомый ему раньше, смех матери, шёпот и смешки женщин что-то весёлое рассказывающих друг другу, запах ванили от дорогих сигар, которые курили муж тёти Иры и другие мужчины; солёный привкус моря на коже; чужая речь, зазывные вскрики на испанском продавца мороженого, похожего на коробейника, ходившего по кромке пляжа внизу; режущий слух, резкий хохот чаек, которые оторвавшись от волн белыми треугольниками поднимались к самым облакам, спикировав и поймав восходящий поток воздуха, останавливались, размахнув бумеранги крыльев, и чуть покачиваясь, словно вальсируя, удерживались на одном месте, купаясь в невидимых волнах – всё кричало, вопило в нём такой безмерной радостью, что, казалось, он не выдержит столько счастья и взорвётся яркой звездой!
Серёжа впервые видел мать такой безмятежной и беспечной.
Ночью, засыпая, он тайком плакал, с ужасом понимая, что всему этому скоро придет конец. Молиться он не умел, но он знал, что есть Боженька, чей строгий лик он видел на иконе, оставшейся от бабушки, которую Серёжа почти не помнил. Он есть – там, на небе, и он всё видит, и он всё может. Молитвенно сложив руки, Серёжа с надеждой шептал: «Боженька! Помоги мне! Ну что тебе стоит! Ну сделай так, чтобы все самолёты и пароходы перестали летать и плавать, и мы бы навсегда остались здесь!!!» И взглянув на вулкан, встающий в рассветной дымке из ночи, весь розовый как клубничный торт, – Серёжа, улыбнувшись, успокоенный, наконец, засыпал.
Пару раз в зале дома, где они жили, собирались знакомые тёти Иры и её мужа. Тихо звучала музыка – или кто-то вживую играл на рояле? Серёжа, причёсанный и одетый во всё белое, слонялся от одной группы к другой, то тут, то там с интересом прислушиваясь к весёлому смеху гостей и обрывкам разговоров. Спустя немного времени, наевшись пирожных, разложенных по тарелкам на маленьких фуршетных столиках, он уселся на мягком диванчике и стал рассматривать красочные комиксы с супергероями. Тётя Ира в качестве хозяйки развлекала гостей, чтобы никто не скучал, а её муж танцевал весь вечер с мамой. Это было самое счастливое лето в его жизни!
Утром, в день отъезда, он побежал на пляж и бросил монетку в море – чтобы опять вернуться. Он видел, так делали все туристы. Иногда, ему казалось, что стоит только возвратиться туда – и мама станет счастливой и весёлой, как прежде. В той поездке подруга Ира подарила маме платье цвета морской волны. Этот цвет очень ей шёл. Потом оно недолго висело в шкафу, и Серёжа зарывался в него лицом и скулил, вспоминая эти короткие дни счастья. Никогда больше он не слышал от неё такого беззаботного смеха, не видел её такой красивой... Серёжа вспоминал, как они плавали вдвоём наперегонки, ныряли, обдавая брызгами друг друга. И ему хотелось остаться в том мгновении, навсегда остановить время… Вскоре мать то платье продала. Ушла в загул на неделю. И тётя Ира больше не приходила.
В старших классах Сергею нравилась одна девочка, как говорится, «из хорошей семьи». Мама – преподаватель в консерватории, отец – известный хирург. Сергея приглашали в дом, но серьёзно не воспринимали. Он страдал. Покупал девочке цветы, подрабатывая грузчиком в соседнем магазине. Когда он шёл к ним в гости – влюблённый, почти теряющий сознание от волнения, – то прежде чем позвонить в обитую кожей, с золотыми гвоздиками, дверь квартиры в чопорном сталинском доме, с широкими лестничными пролётами и грохочущим лифтом, на котором он почему-то боялся ехать и скакал по высоким ступенькам до четвёртого этажа, несколько раз глубоко вздыхал, чтобы успокоить гулко стучащее радостью, сердце. На «свидание» Сергей одевался тщательно, вытаскивал свои единственные хорошие ботинки. Он купил их на толкучке и берёг для особого случая. К его отчаянию, родители избранницы были против этой дружбы: встали стеной и разрушили первое, такое щенячье, хрупкое ещё чувство. Ждали, видимо, более выгодного, подходящего им по статусу.
Мать становилась старше, ухажёров становилось меньше. Денег на питьё и веселье не стало. Серёжа учился уже в университете на юрфаке. Подрабатывал, где только мог. Заканчивались «лихие девяностые». Сергей устроился в ближайшее УВД помощником следователя. Поработал. Заматерел... Его первая любовь, та девочка «из хорошей семьи», выучилась на врача и уехала жить в Германию. Но её тонкий «ахматовский» профиль с лёгкой горбинкой, изумрудно-зелёного цвета глаза, густую темноту волос и какую-то милую, присущую только ей, встрёпанность он не забыл...
Мать как-то сама по себе почти перестала пить. Постарела. Всё время бегала по магазинам в поисках дешёвой еды, мыла и туалетной бумаги. Ничего нигде нельзя было купить на символическую зарплату сына и крошечную пенсию. Однажды Сергей, проходя мимо, увидел мать в очереди: пальто на ней висело, поредевшие волосы выбивались из-под заколки. В ней было что-то от встревоженной старой вороны. Она суетилась и быстро вертела головой, отвечая очередникам. Он прошёл, не окликнув её. Больно кольнуло сердце. Тогда он себе сказал: «Она никогда не будет ни в чём нуждаться!»
Свои дни мать проводила в этой беготне, в просмотре телевизора и в болтовне на кухне с жильцами коммуналки. Дядя Федя умер. Бабу Лизу увезли в дом престарелых. На кухне появились новые владельцы их комнат – ушлые ребята из Закавказья. Закидывали удочки: как им расселить жильцов квартиры на окраины, предлагали отступные, расписывали прелести спальных районов… Но русские чего-то «сдаваться» не спешили. Коля, тот что вышибал когда-то дверь, особенно не жаловал «хачиков», как он любил выражаться. Они быстро шмыгали по своим комнатам, когда недовольный пенсионер-десантник, выходил на кухню.
– Понаехали, чебуреки! Скоро всю Москву скупят! Нам только на кладбище место останется.
– Ну ты, Коля, скажешь! Они же тоже люди! – пыталась возразить мать.
– Люди на блюде! Слыхала, что в ЖКХ к Галине клинья подбивают, насчёт квартир? Во! – Он для пущей убедительности поднял указательный палец. – Ты тут, Людмила, всё со своими интеллигентскими штучками! Вот вы, интеллигенты, страну-то и просрали, а я за неё кровь проливал, – распалялся Николай.
Мила не любила Колю. Ей больше нравились вкрадчивые и обходительные «горцы». К ней они относились, как к матери следака, с уважением и осторожностью. Мало ли что! Когда их с Колей разговор принимал военный оборот, Мила брала с конфорки чайник и шла в комнату, ждать с работы сына. Если Сергея долго не было, она звонила в УВД. Волновалась. Он же с бандитами. Как бы не убили. Вон что по телевизору показывают! Боялась, что останется одна. Он ей стал нужен.
Сергей приходил домой и садился за стол. С удовольствием уплетал жареную картошку с малосольными огурцами из банки на подоконнике. Ему всю жизнь этого не хватало. То, что другие в «благополучной семье» получили от матери в детстве и воспринимали как должное, он переживал сейчас и наслаждался. Добирал.
Однажды, вернувшись с работы, он нашёл мать в комнате с ворохом старых фотографий на столе.
– Серёжа! Ты помнишь тётю Иру?
– Конечно, а что с ней? – Сергей подошёл к столу. С фотографии смотрели счастливые лица: всклокоченный мальчик и две женщины в купальниках. Все улыбались. – У тебя была хорошая фигура.
Мать перехватила его взгляд.
– Это Вадик фотографировал. Он звонил.
Мать помолчала.
– Ира умерла. И я скоро умру, – она всхлипнула, проведя сухонькой ручкой по лицу.
– Ма, перестань! – Сергей часто видел смерть. Не любил разговоров о ней. Сколько отпущено, столько и проживём. Чего туда торопиться!
– А Вадик был влюблён в меня тогда. – Мать покачала головой, чему-то тихо улыбаясь. – Там была такая красота! Если бы ещё разок увидеть! – мечтательно вздохнула она.
– Я там бросил монетку в море, – вспомнил Сергей.
– Иди, мой руки, – сказала мать, как бы очнувшись от грёз и сгребая фотографии в кучу. – Сейчас ужин разогрею.
Она улыбнулась чему-то:
– Монетку...
На работе всё шло своим чередом. Кражи. Грабежи. Бандиты. Стрелки. Разборки. Сегодня обмывали капитанские погоны. Проставился. Отделение находилось недалеко от дома.
Шёл напрямик, благостно расстегнувшись после выпитого. Решил срезать через парк. Вдруг, в темени высоченных голых деревьев – крик. Мелькнул силуэт женщины. Две тени метнулись ей вслед. Сергей вынырнул на тротуар. Внедорожник. Двери и багажник открыты. Мужик около машины скулил и матерился, тёр руками глаза. «Шофёр», – догадался Сергей и тоже матюкнулся. Скользя по наледи и выписывая ногами восьмерки, выхватил на ходу пистолет. В ушах от быстрого бега звенело. Многовато сегодня выпили. Слышал своё тяжелое дыхание. Один из нападавших душил женщину, придавив её для верности коленкой. Другой пытался обыскивать у несчастной карманы, повесив на себя её сумку как санитар. С разбегу Сергей профессионально сбил «санитара» с ног, перевернул, закрутил руки назад. На другого наставил пистолет.
– Начальник, начальник, не надо! Не стреляй! Всё! Всё! Сдаюсь!
Ба! Мать честная! Гарик и Руслан! Друзья-разбойники из его собственной коммунальной кухни. Он крикнул женщине, которая надрывно откашливалась на снегу:
– Звони в полицию!
Спасённая им бизнес-вумен была уже не первой жертвой «дуэта». Вконец обнаглев, они начали бомбить «сверх нормы» и в неурочное время, как только стемнеет. Шофёру в лицо газовым баллончиком – когда вышел, чтобы вынуть сумки с продуктами из багажника…
Прощаясь, она смело посмотрела в глаза Сергею и пожала его руку, немного задержав в своей.
– Спасибо Вам! – протянула визитку. – Я Кира!
Как будто сказала: «Я – королева Англии!» Сергей любил независимых женщин. Успешных. Доминантных. К тому же, они оказались соседями. Всё случилось в соседнем дворе. А ещё, этот поворот головы напомнил ему ту девочку из сталинской высотки. Хм… Почему бы и не выпить с ней на брудершафт на досуге?..
Кира была прирождённой бизнес-леди. Обходила конкурентов она с таким изяществом – не грубо, но так находчиво и жёстко, что просто хотелось снять шляпу! Она не посвящала Сергея в свои дела, но он бывал у неё в офисе. Нечасто. И всегда предупреждал. Первый раз по глупости зашёл спонтанно. Секретарши в «предбаннике» не было. Из полуоткрытой двери он услышал:
– Танька! Ну ты и дура! Ну что ты веришь всем этим бомжам! Ага: они тебе расскажут... Операция ей нужна. Да ещё в Израиле. Что ты покупаешься на всю эту туфту! Разговариваешь с ними в переходах. Да они богаче нас! Лапшу тебе на уши вешают, а нужны им только твои деньги! В министерство она названивает… Вот там, небось, смеются над дурочкой, которая звонит и за бомжей хлопочет! Я вот никогда бомжам ничего не дала бы!
Другой голосок, в котором сквозили нотки отчаяния, возразил:
– …Но, Кира Борисовна! Она сказала, что если не прооперировать, ребёнок умрёт, а такие операции делают только в израильской клинике на Мёртвом море!
– Ах, ещё и Мёртвое море! Слушай сюда, хроническая идиотка! Все деньги в конце дня они отдают смотрящему, бандиту. Тот делится с ментами, а те откатывают наверх...
«Откуда такая осведомлённость?» – подумал тогда Сергей. Резануло: «менты» и «наверх».
– Ты в своей Германии милостыню давала?! Тебе давали! Обратно прибежала. Скажи спасибо, что я тебя к себе взяла! Ты с ребёнком сухари бы грызла. Дура! Иди уже!..
– Дело не в них, – безнадёжно сказал голос, – а в нас.
В дверь просунулась бледная девушка с дрожащими губами. Увидела Сергея, ойкнула. «Мы с тобой одной крови!» – хотелось сказать ей.
– Я к Кире Борисовне. Бочаров.
Выбежала Кира:
– Что же ты не предупредил?
– Да был тут поблизости...
Как будто другой человек! Его Кира, которая млела и таяла в его руках! А сейчас он ужаснулся – перед ним настоящая «акула»! Вроде Додсона из рассказа О’Генри, где жили по законам Дикого Запада – тут уж, простите, только бизнес, ничего личного… Он даже вспотел! Пройдя в кабинет, услышал сзади растерянный Кирин шёпот:
– Таня! Чаю! Чаю! Да, ещё всё, ну, там... сама знаешь, коньячку...
Сергей усмехнулся: вишь, как ментов-то принимают! – почему-то, подумал о себе во множественном числе.
Кабинет представлял собой мешанину из каких-то обрывков хай-тека и райкомовского «красного уголка», где его принимали в комсомол. Разогревшись коньячком и закусив лимончиком, угостившись «дежурной» канапешкой с икрой, уходя, поймал взглядом пластиковую доску, стоящую позади, и рисунок на ней: схему сделки, наскоро начерченные маркерами кружочки откатов, дельты, стрелочки увода денег.
«Ого!» – подумал он. Вот, именно: «ого!» С тех пор он предупреждал о приходе. А то ещё найдёшь на свою голову приключений!
Всё-таки надо окунуться. Зашёл в воду. Море чересчур тёплое. Вода мутная. Солнце жаркое. Но он был счастлив. Рядом дети брызгались водой на родителей.
– Баста! Баста! – смеялась мать, цветущая испанка, заслоняясь от брызг. Она поймала отрешённо-благостный взгляд Сергея и вопросительно улыбнулась в ответ...
Сначала Кира ревновала, не понимала его безусловной любви к матери, считая Сергея типичным «маменькиным сынком». Как-то даже вспылила: «Я к ней не пойду больше. И тебе не советую».
Он молча собрал чемодан и ушёл. Такого с ней ещё не бывало. Кира не смогла выдержать и недели. Помирились. Теперь она точно знала его приоритеты. Она оперативно расселила их коммуналку, сделала ремонт. Мать осталась одна в четырёх комнатах. Кира ей подарила кота: «лысого» и морщинистого – но дорогого. Та испугалась: «Мать честная! Такое ночью увидишь – заикой останешься!» Кота продали. Вместо него Кира купила собаку, смешного мопса. Сергей гулял с Мурзиком сам (имя осталось от кота) – заодно бывал у матери. Она всё хватала его за рукав, чтобы не уходил, ещё посидел.
– Твоя Кира мне всё время шофёра с пакетом присылает. Ну зачем мне столько еды? Вот сегодня клубнику прислала, а что мне с ней делать?
– Варенье свари, – буркнул Сергей, поднимаясь из-за стола.
Сергею не спалось. Повернулся на бок и взглянул на электронное табло часов. Три с копейками. Он тихонько вылез из-под одеяла. Прошёл на кухню. Пошарил в стойке коньяк. Взял стакан. Выпил. Сел на холодный табурет. Поёжился. Повернулся к окну, посмотрел на город со своего четвёртого этажа. Город, в котором он родился и вырос, спал. Он давно привык смотреть на него глазами защитника. Жить его жизнью, по мере своих сил воевать за его покой. Людям нужна справедливость. А страна прозябала в столбняке, преступность срасталась с милицией, бандюки отжимали и отбирали мелкий бизнес. И он мог противостоять этому беспределу.
Но сегодня случилось то, что поколебало его собственную веру в справедливость. Несколько часов назад чуть не убили его лучшего друга. Всё ради чего? Бабло не поделили. Попалили друг в друга. А потом перетёрли, разрулили и – отбой. Боссы отвалили за границу. Бандиты на геликах дали по газам. А Славка в Склифе... Нет. Он на это не подписывался. Неужели это была всего лишь иллюзия, Серёжина мальчишеская мечта – стать похожим на своего героя, следователя, из детства? На самом деле, мир не так устроен, как он себе его вообразил..?
Он усмехнулся, залпом выпил коньяк. Поморщился. Услышал тихие шаги Киры, но не обернулся.
– Серёжа?
Она сонно вошла в кухню. Не включая света, присела на другой табурет, запахивая халат.
– Зай, ты чего не спишь?
«Зая», не отвечая, глядел мимо неё в окно на тёмное небо.
– Что-то случилось? Проблемы на работе?
Налила себе коньяку в рюмку. Сделала глоток. Зажевала печеньем из вазочки. Он перевёл взгляд на неё.
– Вчера Славку ранили. Бандюганы. В реанимации сейчас.
Кира ахнула. Славка единственный друг, к кому Сергей прислушивался и кому доверял безоговорочно. Всю жизнь они вместе, со школы. Растерянно молчала. Представила, что у него сейчас на душе. Смотрела на него, ждала. Знала, что расскажет сам.
Сергей сидел, обхватив голову руками.
– Он давно предлагал вместе ЧОП открыть, а я, дурак, всё противился. Думал, это не моё – типов этих охранять.
Сергей помолчал. Налил себе ещё коньяку. Выпил.
– Кира… Я тебе хотел сказать. Если Славка выкарабкается…
Голос его дрогнул. Она увидела, как заиграли желваки на скулах.
– Если Славка выкарабкается – сделаю как он хотел. Откроем фирму.
– Давно пора. Ты у меня голова!
Кира одобрительно кивнула, понимающе коснулась его руки.
– И ещё…
Он тяжело вздохнул, собираясь с мыслями.
– Надо тебе заканчивать игры с государством. Прижмут – и я тогда не смогу ничего для тебя сделать.
– А что? – Кира непонимающе смотрела на него.
– Время сейчас такое. Займись чем-нибудь попроще.
Он помолчал.
– Магазин, что ли, открой.
Она приготовилась спорить.
– Ага! А «крыша»? Легально работать-то не дадут. Замурыжат.
– Обижаешь, дорогая, а я на что? Я от тебя кого хочешь отобью!
– Да?
– Не сомневайся! – он взял её руки в свои, поцеловал. – «Крыша» у тебя будет. Давай, прекращай эти схемы, – допил остатки коньяка. – Так что, думай, Кирюш! Ты у меня умная, за то и люблю.
Кира хотела что-то сказать, но Сергей встал, потянул за собой, не отпуская её руки.
– Всё! Пошли спать.
Славка выкарабкался. Открыли фирму. Подтянулись ещё несколько ребят, из бывших следаков. Создали базу клиентов за счёт прошлых наработок. Вениамин, адвокат и сокурсник по юрфаку, согласился быть с ними в деле. Дела потихоньку пошли. Кира продала свою фирму, открыла большой магазин электротоваров.
Он поплыл. Плыл минут пять-семь. Потом остановился и, медленно загребая, оглянулся, окидывая панораму взглядом. Гора была здесь, сияя снежной вершиной. Да... Она была здесь...
Сергей заехал в гараж. По дороге они купили свежий хлеб. Длинный, только что испечённый. Он почему-то здесь всегда очень вкусный. Во всех южных странах это целая гастрономическая традиция. Его едят на завтрак с молоком: мать раздаёт ещё тёплый хлеб детям, и дети кидают куски в пиалу. А Сергей, выйдя из булочной, тут же, на ходу, любил отломить горбушку и с хрустом жевать. Поэтому всегда покупал больше...
Он привычно взбежал по ступенькам. Они приобрели виллу два года назад, но вид, открывающийся из огромных, до пола, окон, до сих пор его потрясал. За террасами виноградников, блистая и маня, – казалось, что совсем близко, – поднимался вулкан с белой, словно облитой сахарной глазурью, вершиной. Они любили сидеть в столовой, смакуя блюда местной кухни, которые отменно готовила пухлая повариха Кончита, и попивая лимонад со льдом. Справа, до самого горизонта простиралась играющая искрами солнца сине-бирюзовая гладь моря. Когда вечером открывали окна-купе, лёгкий бриз долетал до них. Но, это – вечером... Хотя, строго говоря, вечера-то никакого не было. Сразу обрушивалась влажная жаркая ночь. Дома, в России, летние вечера длятся до бесконечности. Север.
Прохладный кондиционированный воздух так и манил! Сейчас Сергею хотелось только одного: рухнуть в кресло – сплетённое, кстати, из экологической пальмы (Кира любила такого рода дорогие снобистские прибамбасы), – и накинуться на приготовленное! Есть, подтирая соус свежим хлебом и проливая через край лимонад с льдинками, хрустящими на зубах. Что там у нас сегодня на обед? Сергей почувствовал приступ дикого голода.
Он услышал лёгкие шаги. Из глубины дома, со стороны кухни, появилась женщина и пошла к нему, всплёскивая руками:
– Ну где же вы, Серёжа? Ты же сказал, к трём вернётесь? Кончита волнуется!
Женщина была пожилой, очень ухоженной. Летний костюм цвета морской волны. Маникюр. Причёска. Ослепительная улыбка… Это была его мать.
Сергей открыл глаза.
– Серёжа-а-а!
Кира звала. Идти в воду не хотелось, хотя было и правда жарко. Ну и климат в Испании. Как они здесь живут? Настоящее пекло! Он бы не смог всю жизнь в такой жаре. Вот в Малоярославце наверняка сейчас красота! Как там, интересно, стройка? Сачкуют, конечно, без него. Хотя ребята в меру алчные. Кира знает с кем имеет дело.
Сергей помахал отрицательно рукой. Обратил внимание, как Кира надула и без того надутые губки. Он улыбнулся, заметив себе, что думает о ней снисходительно-ласково, как думают о жене, с которой прожили долгие годы, как о матери своих детей. Вот только с детьми у них никак не выходило... У Киры случилось уже два выкидыша. Беременеть-то она беременела, да выносить не могла. Закатывала ему истерики по ночам, била даже! Внезапно в ней будто просыпалась фурия. Сергею иногда казалось, что она не в адеквате. Но он её понимал... Бабе уже под сорок, карьера состоялась. Кира разбогатела на продаже микроволновок в «лихих девяностых», рискнула – как и многие в те годы. Заняла приличную сумму у подруги под проценты, а буквально через месяц всё сумела ей вернуть, с лихвой окупив вложение капитала. С тех пор карта пошла, но счастья не случалось. Влюблялась, в неё влюблялись. Сменялись ухажёры, а чувства – такого, чтоб разрывало, чтоб таяла по ночам – не было. Он усмехнулся. С ним она таяла...
Кира безнадежно махнула и поплыла. Плавала она хорошо. Мужики-испанцы с берега с удовольствием любовались её плавными взмахами, скользящими движениями. Сразу видно, что училась. Их тётки тут же, моментально, чуяли опасность:
– Vamos, vayamos. Хватит, давай пойдём! Нечего тут глазеть!
Сергей множество раз наблюдал подобное зрелище: как по одному только окрику очередной подкаблучник (иногда вполне даже свирепого вида) вытаскивал детей из воды и наскоро, на ходу обтирая малышей, виновато гуськом плёлся за своей доньей. А ведь, на первый взгляд, вроде – мужик как мужик!..
Плавать Киру научил отец – учёный, имевший отношение к космосу ещё в советское время. Вот он и командует сейчас всей этой «шайкой-лейкой» в Малоярославце. Строят ему поместье. Ему – Сергею Бочарову!
Замёрзшие как цуцики, малыши – посиневшие, с фиолетовыми губами, дрожа так, что зуб на зуб не попадал – пробежали мимо него, что-то возмущённо галдя на гортанном испанском, возражая матери. Испанский ассоциировался у него с неистовым команданте Фиделем в телевизоре. А ещё с Домингесом – испанцем, который учился в их классе. Он был потомком тех немногих незадачливых республиканцев, которые в 30-е остались в России. Это был очень закрытый парень. Почему-то неизменно в снежно-белом вязаном свитере. Как он умудрялся его не запачкать?
Испанцы такие детолюбивые! Впрочем, во многих южных странах он наблюдал это чересчур уж трепетное отношение отцов к своим чадам. В то время как мамочки лениво возлежали, они услужливо носились с детьми как «электровеники» в воду и обратно, отводили в туалет, меняли памперсы, переодевали в сухое...
Сергей нахмурился. С ним мать так не нянькалась. Откуда-то, из подсознания, вспышками высвечивались кадры из детства, о которых хотелось забыть. Да он и забыл, и сейчас вспомнил – как будто не про себя, а про какого-то чужого мальчишку, который мёрз в парке в стареньком пальто. У пальто почти не осталось подкладки. Было стыдно даже вешать его в школе на вешалку. Серёжа переминался с ноги на ногу, поглядывая на свои окна и дожидаясь, когда мать со своим кавалером напразднуются и погасят свет в комнате коммуналки. Он знал, что никто не ждёт его с горячим ужином на столе. Пустые бутылки и огрызки колбасы; в лучшем случае – ухажёр ушёл, а мать пьяная спит, раскинувшись поперёк единственной кровати. В худшем – они спят вместе, и он стелил себе на полу, на стареньком коврике, прямо под ними. Иногда он не мог заснуть от их пьяных тисканий, и в скрипе кровати ему чудились страшные звуки. Тогда он выползал из-под одеяла и сбегал на кухню, чтобы не слышать, как мать продолжала охать и ахать, пьяно требуя от ухажёра ласк. А на общей кухне дядь Федя, пожилой мужик, всю жизнь проработавший на производстве в гальваническом цехе и теперь мучающийся астмой, тоже не спал. В растянутых на коленках выцветших трениках и застиранной майке-алкашке, он втихую от своей матери, баб Лизы, курил в форточку.
– Что? Опять?! – Дядя Федя всё понимал без лишних слов. – Терпи, парень. С матерью-то оно лучше, чем в детдоме.
А ещё, в раннем детстве, мать закрывала его на ночь одного. Один раз – «забыла» на два дня: оставила бутылку кефира и батон хлеба около батареи, к которой она его привязала. Но он не кричал: не хотел, чтобы соседи знали.
– Что же ты делаешь, Милка? Креста на тебе нет! – стенала в коридоре баба Лиза, почуяв неладное. – Серёженька? Серёжка? Ты там живой? – ласково звала она из щели под дверью. Он плакал беззвучно, размазывая слёзы кулачком, но не откликался – а так хотелось, чтобы пожалели. И отвязали от батареи! Было стыдно за мокрые штаны, но больше всего он боялся, что если не выдержит, сорвётся на крик, то у мамы будут неприятности.
На дворе стоял конец мая. Солнышко. Вытягиваясь к окну, он видел двор, весь в пуху от высоченных пирамидальных тополей из парка поблизости. Колька – здоровенный парень, осенью пришедший из армии, – всё-таки выломал на вторые сутки дверь. Тогда соседи и пригрозили детдомом. Милка на короткое время опомнилась. Приходил добрый дядя: Серёжа запомнил слово – «следователь»... Участливо погладил его, Серёжу, по голове, вытащил из кармана пиджака замусоленный леденец. От леденца пахло табаком, но всё равно Серёжа с благодарностью сосал конфету. Его мальчишечью душу покорили мужская сила и человеческая доброта, которые исходили от незнакомца. Чувства эти остались с Сергеем навсегда. Позже, уже в школе, он решил, что станет следователем.
Сергей вздрогнул. На него летели брызги. Кира, только что выскочившая из воды, тряся руками, волосами, падала в мокром купальнике прямо на него. Шезлонг под ними затрещал.
– Ну-ну, Кира!..
– Ты всё мечтаешь. Тебя в воду не затащишь!
Наскоро обтершись полотенцем, она кинулась на лежак, блестя на солнце загорелой влажной кожей, вытянулась, глубоко вздохнула и замерла от удовольствия. Она хорошо загорала: не краснела, не обгорала, а как-то сразу становилась коричневая, как папуаска. Загар ей шёл.
Мимо прошел испанский мачо, одобрительно оглядев Киру. Чуть не споткнулся, засмотревшись.
– М-мм, какой спелий пэрсик! Вах! – Сергей сымитировал характерный для кавказца акцент и прищёлкнул языком, насмешливым взглядом провожая мачо.
– Не иронизируй! Знаешь, сколько ко мне сейчас самцов местных приставало?! Думали, что я одна. Я говорю: «У меня муж есть, хасбенд!» А они смеются. Не верят! Ты муж или не муж? Ты можешь, наконец, выйти на авансцену, «Савва Игнатич»?
В этом её вопросе была скрыта извечная женская надежда на замужество. Они не были официально женаты. Сергей видел, что ей хотелось вызвать в нём ревность. Ох уж эти женские штучки! Решил свести всё к шутке:
– Кто пристаёт? Где он? Подать его сюда! – Сергей продолжал играть роль мужа-кавказца.
– Да ладно, уж успокойся! Проехали… – Кира разрешительно махнула рукой. – Пойду, мороженое куплю. Тебе тоже?
Сергей отрицательно мотнул головой. Она развернулась и плавно пошла по песку, на ходу влезая в шлёпки и подкручивая мокрые волосы под заколку. Он какое-то время смотрел ей вслед. Фигурка у неё была – что надо! Тело крепкое, налитое, живот подтянут. Конечно! Не рожала. Сергей опять думал о матери...
Они жили в центре Москвы. Серёжа учился в спецшколе с английским уклоном. Учился, несмотря на все трудности и лишения, хорошо. Всегда держал всё в себе, был застенчив. Он не мог привести к себе друзей, но, если его приглашали в гости, то с радостью шёл. Ему хотелось хоть на час вырваться из их унылой, безрадостной комнаты, но не навсегда. Мать он, несмотря ни на что, любил – жалел... Какой бы она ни была!
Услышав однажды, как на коммунальной кухне соседи судачат о «Милке» не стесняясь в выражениях, Сергей вбежал туда весь багрово-красный и, задыхаясь от возмущения, грозно прокричал:
– Вы не смеете так говорить про мою маму! Моя мама – самая лучшая на свете!
Те от неожиданности на миг потеряли дар речи. В повисшей тишине он, выходя, услышал в спину:
– Ишь ты. Защитничек нашёлся!..
Да! Он был её защитником – как умел, заботился о матери. Когда приходя домой, находил мать спящей, укрывал её одеялом, когда болела – сам варил картошку, мыл пол, бегал за лекарствами. Когда ей было плохо, он был ей всем!
– Серёжка, какой ты у меня хороший. В кого ты такой? Отец твой – «дурак на букву эм…», да и я тоже... А я ведь красивая была. Ко мне один сватался, Слава Раевский, режиссёр сейчас известный, а я, дура, ему отказала. Твой отец тогда ещё на гитаре играл, ох, баб у него бы-ло-о-о!.. Толпами за ним бегали, проходу не давали. А мне льстило, что он меня выбрал.
Сергей слышал эти сказанные-пересказанные истории, наверное, сотню раз, но всякий раз терпеливо присаживался на край кровати, слушал. Она читала ему простуженным голосом стихи Гумилёва, Цветаевой, Волошина... В такие вот «вечера воспоминаний» он готов был простить ей всё: и пьянство, и вечно пустой и грязный холодильник, и оскорбления. Она была как раненая птица. Странная.
Мила была дочерью известного художника. Привычное благополучие их семьи закончилась со смертью деда. Внука назвали в его честь. Сергей Петрович – мастер русского пейзажа, рано умер. Бабушка (дед привез её из деревни, когда ездил на этюды) никогда не работала. Мила училась на искусствоведа. Жили на то, что продавали картины деда. Потом обменяли квартиру в Доме художников на Верхней Масловке на эту убогую комнату в коммуналке с доплатой. Выскочила замуж. Родила. Вскоре после рождения Серёжи умерла и бабушка. А через пару лет вообще всё в их жизни разладилось. Отец Серёжи куда-то исчез. Просто перестал приходить домой. Мила обзванивала его друзей. Оставив трёхлетнего Серёжу в кроватке, она наскоро накидывала пальто и бежала на поиски. Несколько раз возвращалась с ним. Потом – без него. Плакала. Серёжа помнил всё, хотя мать говорила, что этого не может быть... У матери, вслед за этим всем, с горя, пошли постоянные вечеринки. Случайные знакомые, приятельницы из артистической тусовки, подружки. Утешительницы... После и их не стало. Повыходили замуж. Разъехались по заграницам. Привозили оттуда Миле бессмысленные подарки – вроде соски-пустышки, хотя Серёжа к тому времени уже ходил в детский сад.
Мамина близкая подруга, тётя Ира со своим мужем, каким-то начальником, министерским работником, однажды взяли их с собой в отпуск за границу. Серёжа впервые увидел море. Они купались целыми днями, а вечером прогуливались по набережной. Нарядные. Тётя Ира одевала маму из своего гардероба.
Серёжка, всё время скачущий от избытка счастья вприпрыжку, одетый в только вчера купленные, настоящие тёртые джинсы «Леви Страус» и кроссовки «Адидас», уплетая необыкновенной вкусноты ореховое мороженое на палочке, услышал, как Тётя Ира говорила маме, обнимая её за плечи:
– Мила, всё наладится! Ты же вон у меня какая красавица! Умница! У тебя, смотри, какой Серёжка чудесный!
Всё: и этот бархатный голос и заливистый, почти незнакомый ему раньше, смех матери, шёпот и смешки женщин что-то весёлое рассказывающих друг другу, запах ванили от дорогих сигар, которые курили муж тёти Иры и другие мужчины; солёный привкус моря на коже; чужая речь, зазывные вскрики на испанском продавца мороженого, похожего на коробейника, ходившего по кромке пляжа внизу; режущий слух, резкий хохот чаек, которые оторвавшись от волн белыми треугольниками поднимались к самым облакам, спикировав и поймав восходящий поток воздуха, останавливались, размахнув бумеранги крыльев, и чуть покачиваясь, словно вальсируя, удерживались на одном месте, купаясь в невидимых волнах – всё кричало, вопило в нём такой безмерной радостью, что, казалось, он не выдержит столько счастья и взорвётся яркой звездой!
Серёжа впервые видел мать такой безмятежной и беспечной.
Ночью, засыпая, он тайком плакал, с ужасом понимая, что всему этому скоро придет конец. Молиться он не умел, но он знал, что есть Боженька, чей строгий лик он видел на иконе, оставшейся от бабушки, которую Серёжа почти не помнил. Он есть – там, на небе, и он всё видит, и он всё может. Молитвенно сложив руки, Серёжа с надеждой шептал: «Боженька! Помоги мне! Ну что тебе стоит! Ну сделай так, чтобы все самолёты и пароходы перестали летать и плавать, и мы бы навсегда остались здесь!!!» И взглянув на вулкан, встающий в рассветной дымке из ночи, весь розовый как клубничный торт, – Серёжа, улыбнувшись, успокоенный, наконец, засыпал.
Пару раз в зале дома, где они жили, собирались знакомые тёти Иры и её мужа. Тихо звучала музыка – или кто-то вживую играл на рояле? Серёжа, причёсанный и одетый во всё белое, слонялся от одной группы к другой, то тут, то там с интересом прислушиваясь к весёлому смеху гостей и обрывкам разговоров. Спустя немного времени, наевшись пирожных, разложенных по тарелкам на маленьких фуршетных столиках, он уселся на мягком диванчике и стал рассматривать красочные комиксы с супергероями. Тётя Ира в качестве хозяйки развлекала гостей, чтобы никто не скучал, а её муж танцевал весь вечер с мамой. Это было самое счастливое лето в его жизни!
Утром, в день отъезда, он побежал на пляж и бросил монетку в море – чтобы опять вернуться. Он видел, так делали все туристы. Иногда, ему казалось, что стоит только возвратиться туда – и мама станет счастливой и весёлой, как прежде. В той поездке подруга Ира подарила маме платье цвета морской волны. Этот цвет очень ей шёл. Потом оно недолго висело в шкафу, и Серёжа зарывался в него лицом и скулил, вспоминая эти короткие дни счастья. Никогда больше он не слышал от неё такого беззаботного смеха, не видел её такой красивой... Серёжа вспоминал, как они плавали вдвоём наперегонки, ныряли, обдавая брызгами друг друга. И ему хотелось остаться в том мгновении, навсегда остановить время… Вскоре мать то платье продала. Ушла в загул на неделю. И тётя Ира больше не приходила.
В старших классах Сергею нравилась одна девочка, как говорится, «из хорошей семьи». Мама – преподаватель в консерватории, отец – известный хирург. Сергея приглашали в дом, но серьёзно не воспринимали. Он страдал. Покупал девочке цветы, подрабатывая грузчиком в соседнем магазине. Когда он шёл к ним в гости – влюблённый, почти теряющий сознание от волнения, – то прежде чем позвонить в обитую кожей, с золотыми гвоздиками, дверь квартиры в чопорном сталинском доме, с широкими лестничными пролётами и грохочущим лифтом, на котором он почему-то боялся ехать и скакал по высоким ступенькам до четвёртого этажа, несколько раз глубоко вздыхал, чтобы успокоить гулко стучащее радостью, сердце. На «свидание» Сергей одевался тщательно, вытаскивал свои единственные хорошие ботинки. Он купил их на толкучке и берёг для особого случая. К его отчаянию, родители избранницы были против этой дружбы: встали стеной и разрушили первое, такое щенячье, хрупкое ещё чувство. Ждали, видимо, более выгодного, подходящего им по статусу.
Мать становилась старше, ухажёров становилось меньше. Денег на питьё и веселье не стало. Серёжа учился уже в университете на юрфаке. Подрабатывал, где только мог. Заканчивались «лихие девяностые». Сергей устроился в ближайшее УВД помощником следователя. Поработал. Заматерел... Его первая любовь, та девочка «из хорошей семьи», выучилась на врача и уехала жить в Германию. Но её тонкий «ахматовский» профиль с лёгкой горбинкой, изумрудно-зелёного цвета глаза, густую темноту волос и какую-то милую, присущую только ей, встрёпанность он не забыл...
Мать как-то сама по себе почти перестала пить. Постарела. Всё время бегала по магазинам в поисках дешёвой еды, мыла и туалетной бумаги. Ничего нигде нельзя было купить на символическую зарплату сына и крошечную пенсию. Однажды Сергей, проходя мимо, увидел мать в очереди: пальто на ней висело, поредевшие волосы выбивались из-под заколки. В ней было что-то от встревоженной старой вороны. Она суетилась и быстро вертела головой, отвечая очередникам. Он прошёл, не окликнув её. Больно кольнуло сердце. Тогда он себе сказал: «Она никогда не будет ни в чём нуждаться!»
Свои дни мать проводила в этой беготне, в просмотре телевизора и в болтовне на кухне с жильцами коммуналки. Дядя Федя умер. Бабу Лизу увезли в дом престарелых. На кухне появились новые владельцы их комнат – ушлые ребята из Закавказья. Закидывали удочки: как им расселить жильцов квартиры на окраины, предлагали отступные, расписывали прелести спальных районов… Но русские чего-то «сдаваться» не спешили. Коля, тот что вышибал когда-то дверь, особенно не жаловал «хачиков», как он любил выражаться. Они быстро шмыгали по своим комнатам, когда недовольный пенсионер-десантник, выходил на кухню.
– Понаехали, чебуреки! Скоро всю Москву скупят! Нам только на кладбище место останется.
– Ну ты, Коля, скажешь! Они же тоже люди! – пыталась возразить мать.
– Люди на блюде! Слыхала, что в ЖКХ к Галине клинья подбивают, насчёт квартир? Во! – Он для пущей убедительности поднял указательный палец. – Ты тут, Людмила, всё со своими интеллигентскими штучками! Вот вы, интеллигенты, страну-то и просрали, а я за неё кровь проливал, – распалялся Николай.
Мила не любила Колю. Ей больше нравились вкрадчивые и обходительные «горцы». К ней они относились, как к матери следака, с уважением и осторожностью. Мало ли что! Когда их с Колей разговор принимал военный оборот, Мила брала с конфорки чайник и шла в комнату, ждать с работы сына. Если Сергея долго не было, она звонила в УВД. Волновалась. Он же с бандитами. Как бы не убили. Вон что по телевизору показывают! Боялась, что останется одна. Он ей стал нужен.
Сергей приходил домой и садился за стол. С удовольствием уплетал жареную картошку с малосольными огурцами из банки на подоконнике. Ему всю жизнь этого не хватало. То, что другие в «благополучной семье» получили от матери в детстве и воспринимали как должное, он переживал сейчас и наслаждался. Добирал.
Однажды, вернувшись с работы, он нашёл мать в комнате с ворохом старых фотографий на столе.
– Серёжа! Ты помнишь тётю Иру?
– Конечно, а что с ней? – Сергей подошёл к столу. С фотографии смотрели счастливые лица: всклокоченный мальчик и две женщины в купальниках. Все улыбались. – У тебя была хорошая фигура.
Мать перехватила его взгляд.
– Это Вадик фотографировал. Он звонил.
Мать помолчала.
– Ира умерла. И я скоро умру, – она всхлипнула, проведя сухонькой ручкой по лицу.
– Ма, перестань! – Сергей часто видел смерть. Не любил разговоров о ней. Сколько отпущено, столько и проживём. Чего туда торопиться!
– А Вадик был влюблён в меня тогда. – Мать покачала головой, чему-то тихо улыбаясь. – Там была такая красота! Если бы ещё разок увидеть! – мечтательно вздохнула она.
– Я там бросил монетку в море, – вспомнил Сергей.
– Иди, мой руки, – сказала мать, как бы очнувшись от грёз и сгребая фотографии в кучу. – Сейчас ужин разогрею.
Она улыбнулась чему-то:
– Монетку...
На работе всё шло своим чередом. Кражи. Грабежи. Бандиты. Стрелки. Разборки. Сегодня обмывали капитанские погоны. Проставился. Отделение находилось недалеко от дома.
Шёл напрямик, благостно расстегнувшись после выпитого. Решил срезать через парк. Вдруг, в темени высоченных голых деревьев – крик. Мелькнул силуэт женщины. Две тени метнулись ей вслед. Сергей вынырнул на тротуар. Внедорожник. Двери и багажник открыты. Мужик около машины скулил и матерился, тёр руками глаза. «Шофёр», – догадался Сергей и тоже матюкнулся. Скользя по наледи и выписывая ногами восьмерки, выхватил на ходу пистолет. В ушах от быстрого бега звенело. Многовато сегодня выпили. Слышал своё тяжелое дыхание. Один из нападавших душил женщину, придавив её для верности коленкой. Другой пытался обыскивать у несчастной карманы, повесив на себя её сумку как санитар. С разбегу Сергей профессионально сбил «санитара» с ног, перевернул, закрутил руки назад. На другого наставил пистолет.
– Начальник, начальник, не надо! Не стреляй! Всё! Всё! Сдаюсь!
Ба! Мать честная! Гарик и Руслан! Друзья-разбойники из его собственной коммунальной кухни. Он крикнул женщине, которая надрывно откашливалась на снегу:
– Звони в полицию!
Спасённая им бизнес-вумен была уже не первой жертвой «дуэта». Вконец обнаглев, они начали бомбить «сверх нормы» и в неурочное время, как только стемнеет. Шофёру в лицо газовым баллончиком – когда вышел, чтобы вынуть сумки с продуктами из багажника…
Прощаясь, она смело посмотрела в глаза Сергею и пожала его руку, немного задержав в своей.
– Спасибо Вам! – протянула визитку. – Я Кира!
Как будто сказала: «Я – королева Англии!» Сергей любил независимых женщин. Успешных. Доминантных. К тому же, они оказались соседями. Всё случилось в соседнем дворе. А ещё, этот поворот головы напомнил ему ту девочку из сталинской высотки. Хм… Почему бы и не выпить с ней на брудершафт на досуге?..
Кира была прирождённой бизнес-леди. Обходила конкурентов она с таким изяществом – не грубо, но так находчиво и жёстко, что просто хотелось снять шляпу! Она не посвящала Сергея в свои дела, но он бывал у неё в офисе. Нечасто. И всегда предупреждал. Первый раз по глупости зашёл спонтанно. Секретарши в «предбаннике» не было. Из полуоткрытой двери он услышал:
– Танька! Ну ты и дура! Ну что ты веришь всем этим бомжам! Ага: они тебе расскажут... Операция ей нужна. Да ещё в Израиле. Что ты покупаешься на всю эту туфту! Разговариваешь с ними в переходах. Да они богаче нас! Лапшу тебе на уши вешают, а нужны им только твои деньги! В министерство она названивает… Вот там, небось, смеются над дурочкой, которая звонит и за бомжей хлопочет! Я вот никогда бомжам ничего не дала бы!
Другой голосок, в котором сквозили нотки отчаяния, возразил:
– …Но, Кира Борисовна! Она сказала, что если не прооперировать, ребёнок умрёт, а такие операции делают только в израильской клинике на Мёртвом море!
– Ах, ещё и Мёртвое море! Слушай сюда, хроническая идиотка! Все деньги в конце дня они отдают смотрящему, бандиту. Тот делится с ментами, а те откатывают наверх...
«Откуда такая осведомлённость?» – подумал тогда Сергей. Резануло: «менты» и «наверх».
– Ты в своей Германии милостыню давала?! Тебе давали! Обратно прибежала. Скажи спасибо, что я тебя к себе взяла! Ты с ребёнком сухари бы грызла. Дура! Иди уже!..
– Дело не в них, – безнадёжно сказал голос, – а в нас.
В дверь просунулась бледная девушка с дрожащими губами. Увидела Сергея, ойкнула. «Мы с тобой одной крови!» – хотелось сказать ей.
– Я к Кире Борисовне. Бочаров.
Выбежала Кира:
– Что же ты не предупредил?
– Да был тут поблизости...
Как будто другой человек! Его Кира, которая млела и таяла в его руках! А сейчас он ужаснулся – перед ним настоящая «акула»! Вроде Додсона из рассказа О’Генри, где жили по законам Дикого Запада – тут уж, простите, только бизнес, ничего личного… Он даже вспотел! Пройдя в кабинет, услышал сзади растерянный Кирин шёпот:
– Таня! Чаю! Чаю! Да, ещё всё, ну, там... сама знаешь, коньячку...
Сергей усмехнулся: вишь, как ментов-то принимают! – почему-то, подумал о себе во множественном числе.
Кабинет представлял собой мешанину из каких-то обрывков хай-тека и райкомовского «красного уголка», где его принимали в комсомол. Разогревшись коньячком и закусив лимончиком, угостившись «дежурной» канапешкой с икрой, уходя, поймал взглядом пластиковую доску, стоящую позади, и рисунок на ней: схему сделки, наскоро начерченные маркерами кружочки откатов, дельты, стрелочки увода денег.
«Ого!» – подумал он. Вот, именно: «ого!» С тех пор он предупреждал о приходе. А то ещё найдёшь на свою голову приключений!
Всё-таки надо окунуться. Зашёл в воду. Море чересчур тёплое. Вода мутная. Солнце жаркое. Но он был счастлив. Рядом дети брызгались водой на родителей.
– Баста! Баста! – смеялась мать, цветущая испанка, заслоняясь от брызг. Она поймала отрешённо-благостный взгляд Сергея и вопросительно улыбнулась в ответ...
Сначала Кира ревновала, не понимала его безусловной любви к матери, считая Сергея типичным «маменькиным сынком». Как-то даже вспылила: «Я к ней не пойду больше. И тебе не советую».
Он молча собрал чемодан и ушёл. Такого с ней ещё не бывало. Кира не смогла выдержать и недели. Помирились. Теперь она точно знала его приоритеты. Она оперативно расселила их коммуналку, сделала ремонт. Мать осталась одна в четырёх комнатах. Кира ей подарила кота: «лысого» и морщинистого – но дорогого. Та испугалась: «Мать честная! Такое ночью увидишь – заикой останешься!» Кота продали. Вместо него Кира купила собаку, смешного мопса. Сергей гулял с Мурзиком сам (имя осталось от кота) – заодно бывал у матери. Она всё хватала его за рукав, чтобы не уходил, ещё посидел.
– Твоя Кира мне всё время шофёра с пакетом присылает. Ну зачем мне столько еды? Вот сегодня клубнику прислала, а что мне с ней делать?
– Варенье свари, – буркнул Сергей, поднимаясь из-за стола.
Сергею не спалось. Повернулся на бок и взглянул на электронное табло часов. Три с копейками. Он тихонько вылез из-под одеяла. Прошёл на кухню. Пошарил в стойке коньяк. Взял стакан. Выпил. Сел на холодный табурет. Поёжился. Повернулся к окну, посмотрел на город со своего четвёртого этажа. Город, в котором он родился и вырос, спал. Он давно привык смотреть на него глазами защитника. Жить его жизнью, по мере своих сил воевать за его покой. Людям нужна справедливость. А страна прозябала в столбняке, преступность срасталась с милицией, бандюки отжимали и отбирали мелкий бизнес. И он мог противостоять этому беспределу.
Но сегодня случилось то, что поколебало его собственную веру в справедливость. Несколько часов назад чуть не убили его лучшего друга. Всё ради чего? Бабло не поделили. Попалили друг в друга. А потом перетёрли, разрулили и – отбой. Боссы отвалили за границу. Бандиты на геликах дали по газам. А Славка в Склифе... Нет. Он на это не подписывался. Неужели это была всего лишь иллюзия, Серёжина мальчишеская мечта – стать похожим на своего героя, следователя, из детства? На самом деле, мир не так устроен, как он себе его вообразил..?
Он усмехнулся, залпом выпил коньяк. Поморщился. Услышал тихие шаги Киры, но не обернулся.
– Серёжа?
Она сонно вошла в кухню. Не включая света, присела на другой табурет, запахивая халат.
– Зай, ты чего не спишь?
«Зая», не отвечая, глядел мимо неё в окно на тёмное небо.
– Что-то случилось? Проблемы на работе?
Налила себе коньяку в рюмку. Сделала глоток. Зажевала печеньем из вазочки. Он перевёл взгляд на неё.
– Вчера Славку ранили. Бандюганы. В реанимации сейчас.
Кира ахнула. Славка единственный друг, к кому Сергей прислушивался и кому доверял безоговорочно. Всю жизнь они вместе, со школы. Растерянно молчала. Представила, что у него сейчас на душе. Смотрела на него, ждала. Знала, что расскажет сам.
Сергей сидел, обхватив голову руками.
– Он давно предлагал вместе ЧОП открыть, а я, дурак, всё противился. Думал, это не моё – типов этих охранять.
Сергей помолчал. Налил себе ещё коньяку. Выпил.
– Кира… Я тебе хотел сказать. Если Славка выкарабкается…
Голос его дрогнул. Она увидела, как заиграли желваки на скулах.
– Если Славка выкарабкается – сделаю как он хотел. Откроем фирму.
– Давно пора. Ты у меня голова!
Кира одобрительно кивнула, понимающе коснулась его руки.
– И ещё…
Он тяжело вздохнул, собираясь с мыслями.
– Надо тебе заканчивать игры с государством. Прижмут – и я тогда не смогу ничего для тебя сделать.
– А что? – Кира непонимающе смотрела на него.
– Время сейчас такое. Займись чем-нибудь попроще.
Он помолчал.
– Магазин, что ли, открой.
Она приготовилась спорить.
– Ага! А «крыша»? Легально работать-то не дадут. Замурыжат.
– Обижаешь, дорогая, а я на что? Я от тебя кого хочешь отобью!
– Да?
– Не сомневайся! – он взял её руки в свои, поцеловал. – «Крыша» у тебя будет. Давай, прекращай эти схемы, – допил остатки коньяка. – Так что, думай, Кирюш! Ты у меня умная, за то и люблю.
Кира хотела что-то сказать, но Сергей встал, потянул за собой, не отпуская её руки.
– Всё! Пошли спать.
Славка выкарабкался. Открыли фирму. Подтянулись ещё несколько ребят, из бывших следаков. Создали базу клиентов за счёт прошлых наработок. Вениамин, адвокат и сокурсник по юрфаку, согласился быть с ними в деле. Дела потихоньку пошли. Кира продала свою фирму, открыла большой магазин электротоваров.
Он поплыл. Плыл минут пять-семь. Потом остановился и, медленно загребая, оглянулся, окидывая панораму взглядом. Гора была здесь, сияя снежной вершиной. Да... Она была здесь...
Сергей заехал в гараж. По дороге они купили свежий хлеб. Длинный, только что испечённый. Он почему-то здесь всегда очень вкусный. Во всех южных странах это целая гастрономическая традиция. Его едят на завтрак с молоком: мать раздаёт ещё тёплый хлеб детям, и дети кидают куски в пиалу. А Сергей, выйдя из булочной, тут же, на ходу, любил отломить горбушку и с хрустом жевать. Поэтому всегда покупал больше...
Он привычно взбежал по ступенькам. Они приобрели виллу два года назад, но вид, открывающийся из огромных, до пола, окон, до сих пор его потрясал. За террасами виноградников, блистая и маня, – казалось, что совсем близко, – поднимался вулкан с белой, словно облитой сахарной глазурью, вершиной. Они любили сидеть в столовой, смакуя блюда местной кухни, которые отменно готовила пухлая повариха Кончита, и попивая лимонад со льдом. Справа, до самого горизонта простиралась играющая искрами солнца сине-бирюзовая гладь моря. Когда вечером открывали окна-купе, лёгкий бриз долетал до них. Но, это – вечером... Хотя, строго говоря, вечера-то никакого не было. Сразу обрушивалась влажная жаркая ночь. Дома, в России, летние вечера длятся до бесконечности. Север.
Прохладный кондиционированный воздух так и манил! Сейчас Сергею хотелось только одного: рухнуть в кресло – сплетённое, кстати, из экологической пальмы (Кира любила такого рода дорогие снобистские прибамбасы), – и накинуться на приготовленное! Есть, подтирая соус свежим хлебом и проливая через край лимонад с льдинками, хрустящими на зубах. Что там у нас сегодня на обед? Сергей почувствовал приступ дикого голода.
Он услышал лёгкие шаги. Из глубины дома, со стороны кухни, появилась женщина и пошла к нему, всплёскивая руками:
– Ну где же вы, Серёжа? Ты же сказал, к трём вернётесь? Кончита волнуется!
Женщина была пожилой, очень ухоженной. Летний костюм цвета морской волны. Маникюр. Причёска. Ослепительная улыбка… Это была его мать.
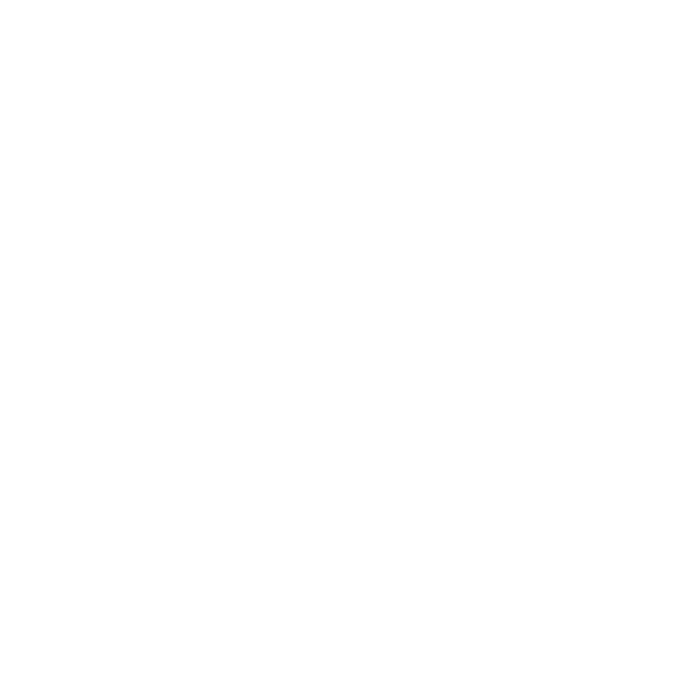
Ульяна МАКАРОВА
Родилась в 1984 году в г. Горьком (Нижний Новгород). В 2011 г. окончила Нижегородский Государственный университет имени Лобачевского, биологический факультет. Серьезно увлеклась писательством в 2015 году, спонтанно, хотя в детстве и юности были попытки написать повесть и рассказы.
Пишу в жанре реализма, разбавляя его капелькой фантазии. На мое творчество огромное влияние оказало мое необычное детство, когда по состоянию здоровья мне, совершенно городской девочке, пришлось переехать в деревню. Воспоминания той поры стали основой для многих произведений.
Большинство моих работ представлено на портале Проза.ру:
https://www.proza.ru/avtor/missjgb
Родилась в 1984 году в г. Горьком (Нижний Новгород). В 2011 г. окончила Нижегородский Государственный университет имени Лобачевского, биологический факультет. Серьезно увлеклась писательством в 2015 году, спонтанно, хотя в детстве и юности были попытки написать повесть и рассказы.
Пишу в жанре реализма, разбавляя его капелькой фантазии. На мое творчество огромное влияние оказало мое необычное детство, когда по состоянию здоровья мне, совершенно городской девочке, пришлось переехать в деревню. Воспоминания той поры стали основой для многих произведений.
Большинство моих работ представлено на портале Проза.ру:
https://www.proza.ru/avtor/missjgb
КОТЯТА
Посвящается человеку,
который сделал
моё детство именно таким.
От последнего удара тополь вздрогнул, весь, до самых тонких веточек и, устало потрескивая, повалился, глубоко охнув от холода мокрой земли. Голые ветви встретились с оброненной не так давно листвой, уже успевшей побуреть. Листвой, что так приветливо шелестела, встречая новых хозяев участка. Тополь ещё не знал, что окажется ненужным.
«Коряга старая, весь свет загораживает!» – жаловалась новая хозяйка мужу, а тот, почёсывая затылок, равнодушно прикидывал в какую сторону удобнее валить огромный, в два обхвата, ствол.
Деревья умирают медленно. А старые и большие умирают вечность. Без боли, без страданий тихо угасают. Замедляют движение сока в жилках, прекращают рост и деление клеток. Грубые и упругие волокна высыхают, рассыпаются в труху, а серебристо-зелёная, глянцевая кора тускнеет, трескается и обрастает жёлтым кружевом лишайника. Деревья словно укладываются на вечную зиму, но лелеют в сердцевине надежду на бойкий отросток от корня или пучок резвых прутиков прямиком из ствола, вгрызаются в землю тонкими веточками, будто новыми корнями.
Старый, замызганный грязью трактор, тяжело тарахтя по осенней слякоти, оттащил могучий ствол подальше от участка и бросил на некошеном лугу за дорогой. Выкорчёванный пень свалили рядом в канаву. Как есть, огромной глиняной глыбой с торчащими корнями. А трактор пыхнул на прощанье тёмным облачком и скрылся за околицей.
В мягкой постели пожухлой травы тополю снилось лето. Он вспоминал неугомонных трещоток-сорок, что по утрам устраивали перебранки, а его серебристую кору поливал мелкий холодный дождик. Он вспоминал ласковый ветер в ветвях и розовые закатные лучи, а дождь превращался в снег. Пушистыми одеялами укутывала тополь заботливая матушка. Тополю снились грозы и бури, когда он бесстрашно расправлял могучие ветви, храбро встречая порывы ветра, укрывая собой избушку у подножья от разыгравшегося не на шутку урагана, а солнечные лучи уже топили хрустальную корку снега, синело небо и поднималось выше. Далеко-далеко разносилось над полями трогательное курлыканье вернувшихся на родину птиц.
И стоило только сбежать по косогорам последним ручейкам, распуститься золотым пушистикам на ветках тальника и зажурчать из чистой глубины неба первым жаворонкам, как пришли они.
Два котёнка. Мальчик Буся, светленький, голубоглазый. И девочка Пуся, с длинным, шелковистым, тёмным хвостиком и серо-зелёными, немного грустными глазами.
Буся был постарше и побойчее. Он сразу запрыгнул на покрытое золотым лишайником, лежащее в траве дерево. Девочка была поскромнее, она смущенно потопталась рядом, разглядывая тонкие ветви, что упругими змейками расползлись в траве, протянулись к ней, и в стороны, и в небо, словно мачты диковинного корабля.
– Мяу! – громко сказал Буся и кивнул подружке. И это означало: «Добро пожаловать на борт!»
– Мяу, – тихо ответила она. И это означало: «Я согласна».
Пуся осторожно вскарабкалась следом, погладила толстую ветку, что выгнулась дугой, словно тополь хотел приподняться, но силёнок не хватило, и он так и застыл с оттопыренным назад «локтем».
Старый тополь заворочался, разминая затёкшее за зиму тело, глубоко вздохнул и сошёл с доков в изумрудные воды травяного океана.
У этого корабля была замечательная корма. Огромная, широкая и надёжная. С её высокого края было так весело нырять в зелёную воду, а потом кое-как карабкаться обратно, цепляясь за посеребренную дождями древесину. На ней можно было сидеть и смотреть, как совсем недалеко из волн поднимаются крутые спины китов и кашалотов. Маскируются, хитрюги, под кусты ивы и тальника.
Этот корабль имел самый замечательный на свете нос. И хоть он совсем не походил на нос, зато позволял кораблю прокладывать себе путь в густом супе Саргассова моря. На носу корабля была натянута сеть из тонких прутиков. Она ловила и отводила в стороны коварные водоросли, что погубили уже десятки кораблей и оставили их тут навсегда. Например, вот тот маленький, светло-голубой, с тремя окошками, красной крышей и чёрной трубой. Совсем старенький кораблик, на нём ещё дедушка Буси плавал. И даже совсем новый, бело-кирпичный океанский лайнер новых жильцов – и тот застрял в Саргассовом море.
А ещё у корабля была лодка. Толстая ветка, что прошлый год приветливо махала каждому встречному, нависая над дорогой, а теперь почему-то отрубленная валялась рядом. На лодке было здорового рыбачить. Сидеть, опустив хвосты в воду, и то и дело вытаскивать разноцветных крабов, маленьких, но уже зубастых акулок, и осьминогов, и улиток, и даже чудесную рыбу – голубой марлин. А потом, нарыбачившись, можно было удобно устроиться на корме и подкрепиться добычей, бросая в воду панцирные фантики карамельных крабов.
Где-то ближе к носу, в теле корабля Буся нашёл тайник. Давным-давно одна из веток тополя раскапризничалась и расти передумала. Загнила и осталась уродливой культёй, а сердцевину выгрызли жуки-древоточцы.
Пока Пуся самозабвенно стряпала на обед гречневую кашу из прошлогоднего конёвника и жарила лопуховые котлеты, Буся присел перед тайником, прошептал главный свой секрет и сразу прикрыл лапкой маленькое дупло. Секрет поворочался, поворочался и удобно устроился в самой сердцевине дерева. Спрятался от злых взглядов на веки вечные, тополиные. И только через много лет и зим, когда ветра и снега обломали мачты, когда утонула в траве лодка, когда одряхлела и раскрошилась корма, когда мёртвые прошлогодние травы перехватили тело корабля узкими лентами и увлекли в зелёную пучину, треснула серебристая кора и секрет лёгким, невесомым вздохом вырвался на свободу. Но услышали его только травы, ветер да кусты тальника.
Но пока он был надёжно спрятан в сердце тополя.
А на верхней палубе, на той самой изогнутой коромыслом ветке, было весело сидеть, свесив лапки вниз. Рассматривать в подзорную трубу из борщевика туманно-дымный горизонт. А там клубилась и ворочалась зловещая, сиреневая мгла.
– Мяу, – тревожно сказала Пуся, глядя, как солнце застилает мутная пелена и темнеют малахитовые волны. А вдалеке ветер уже вздыбил белые барашки борщевика и таволги.
– Мяу!!! – крикнул Буся и бросился к румпелю, больше смахивающему на торчащую из ствола обломанную ветку.
– Мяу, мяу, мяу, – шептала Пуся. Свесившись с борта, она изо всех сил гребла, помогая Бусе сменить курс. Тёмные воды вздымались все выше, небо мрачнело, а буря, грозя издалека громовыми раскатами, стремительно приближалась. Ветер гудел в высоких мачтах, рвал в клочья паруса. Буся повис на руле, с усилием наклоняясь вправо: – Мяу! Мяу! – кричал он сквозь рёв ветра и стоны травяных волн, что уже захлёстывали через край. А справа из пучины тальниковых зарослей поднимался гигантский спрут. Его щупальца словно вывороченные из земли корни грозились потопить корабль. Его глиняное тело то скрывалось за зелёным валом тальника, то показывалось из волн.
– Мяу, мяу! – крикнул Буся подружке. А она мигом все поняла, подбежала, перехватила непослушный, тяжелый руль и ободряюще улыбнулась Бусе. А он с геройским криком прыгнул в бушующее море, в два взмаха добрался до опасного монстра и со всей силы метнул подвернувшуюся под руку рыбу-меч. Меткий бросок лишил чудовище глаза. Осьминог спрятался в тальниковых волнах.
– Мяу! – крикнула Пуся, едва удерживая срывающийся румпель.
Но Буся отважно бросился следом за чудовищем, рубя и кромсая щупальца. С тихим шипением монстр пошел ко дну, но напоследок крепко ухватил отважного котенка за лапу.
Пуся бросила руль и без раздумий прыгнула в воду, на помощь тонущему герою. Успела схватить протянутую лапку. Но монстр был слишком силён, он тащил обоих котят вниз, в сумрачную глубину Марианской канавы.
– Мяу! – в отчаянии попросила Пуся несущуюся мимо рыбу-пилу. Та вильнула хвостом, развернулась и скользнула своим острым носом по уродливому щупальцу. Котята разом вынырнули и увидели вдалеке уплывающий прочь корабль. Рядом, на зелёных волнах покачивался отпиленный сучок осьминожьего щупальца.
А грозовая туча унеслась прочь, лишь краем задев тот участок океана, где барахтались из последних сил два отважных котёнка. Они обречённо смотрели на недосягаемый теперь корабль, что плавно качал мачтами далеко в изумрудных волнах.
А с противоположной стороны под лёгким парусом надежды на помощь котятам шла маленькая яхта.
– Дима! Света! – донёсся с яхты голос бабушки, – пора обедать!
– Ну как всегда! На самом интересном месте, – вздохнул Буся, поднимаясь с коленок и превращаясь в мальчика.
– Ну вот, опять обедать, – сердито фыркнула Пуся, стряхнула с юбки травинки. Протянула руку Диме.
Поднимаясь, Света небрежно откинула через плечо длинный хвост каштановых волос и улыбнулась:
– А давай после обеда опять сюда играть придем?
– А давай! – обрадовался Димка, – только будем тогда щенятами, они плавают лучше!
Посвящается человеку,
который сделал
моё детство именно таким.
От последнего удара тополь вздрогнул, весь, до самых тонких веточек и, устало потрескивая, повалился, глубоко охнув от холода мокрой земли. Голые ветви встретились с оброненной не так давно листвой, уже успевшей побуреть. Листвой, что так приветливо шелестела, встречая новых хозяев участка. Тополь ещё не знал, что окажется ненужным.
«Коряга старая, весь свет загораживает!» – жаловалась новая хозяйка мужу, а тот, почёсывая затылок, равнодушно прикидывал в какую сторону удобнее валить огромный, в два обхвата, ствол.
Деревья умирают медленно. А старые и большие умирают вечность. Без боли, без страданий тихо угасают. Замедляют движение сока в жилках, прекращают рост и деление клеток. Грубые и упругие волокна высыхают, рассыпаются в труху, а серебристо-зелёная, глянцевая кора тускнеет, трескается и обрастает жёлтым кружевом лишайника. Деревья словно укладываются на вечную зиму, но лелеют в сердцевине надежду на бойкий отросток от корня или пучок резвых прутиков прямиком из ствола, вгрызаются в землю тонкими веточками, будто новыми корнями.
Старый, замызганный грязью трактор, тяжело тарахтя по осенней слякоти, оттащил могучий ствол подальше от участка и бросил на некошеном лугу за дорогой. Выкорчёванный пень свалили рядом в канаву. Как есть, огромной глиняной глыбой с торчащими корнями. А трактор пыхнул на прощанье тёмным облачком и скрылся за околицей.
В мягкой постели пожухлой травы тополю снилось лето. Он вспоминал неугомонных трещоток-сорок, что по утрам устраивали перебранки, а его серебристую кору поливал мелкий холодный дождик. Он вспоминал ласковый ветер в ветвях и розовые закатные лучи, а дождь превращался в снег. Пушистыми одеялами укутывала тополь заботливая матушка. Тополю снились грозы и бури, когда он бесстрашно расправлял могучие ветви, храбро встречая порывы ветра, укрывая собой избушку у подножья от разыгравшегося не на шутку урагана, а солнечные лучи уже топили хрустальную корку снега, синело небо и поднималось выше. Далеко-далеко разносилось над полями трогательное курлыканье вернувшихся на родину птиц.
И стоило только сбежать по косогорам последним ручейкам, распуститься золотым пушистикам на ветках тальника и зажурчать из чистой глубины неба первым жаворонкам, как пришли они.
Два котёнка. Мальчик Буся, светленький, голубоглазый. И девочка Пуся, с длинным, шелковистым, тёмным хвостиком и серо-зелёными, немного грустными глазами.
Буся был постарше и побойчее. Он сразу запрыгнул на покрытое золотым лишайником, лежащее в траве дерево. Девочка была поскромнее, она смущенно потопталась рядом, разглядывая тонкие ветви, что упругими змейками расползлись в траве, протянулись к ней, и в стороны, и в небо, словно мачты диковинного корабля.
– Мяу! – громко сказал Буся и кивнул подружке. И это означало: «Добро пожаловать на борт!»
– Мяу, – тихо ответила она. И это означало: «Я согласна».
Пуся осторожно вскарабкалась следом, погладила толстую ветку, что выгнулась дугой, словно тополь хотел приподняться, но силёнок не хватило, и он так и застыл с оттопыренным назад «локтем».
Старый тополь заворочался, разминая затёкшее за зиму тело, глубоко вздохнул и сошёл с доков в изумрудные воды травяного океана.
У этого корабля была замечательная корма. Огромная, широкая и надёжная. С её высокого края было так весело нырять в зелёную воду, а потом кое-как карабкаться обратно, цепляясь за посеребренную дождями древесину. На ней можно было сидеть и смотреть, как совсем недалеко из волн поднимаются крутые спины китов и кашалотов. Маскируются, хитрюги, под кусты ивы и тальника.
Этот корабль имел самый замечательный на свете нос. И хоть он совсем не походил на нос, зато позволял кораблю прокладывать себе путь в густом супе Саргассова моря. На носу корабля была натянута сеть из тонких прутиков. Она ловила и отводила в стороны коварные водоросли, что погубили уже десятки кораблей и оставили их тут навсегда. Например, вот тот маленький, светло-голубой, с тремя окошками, красной крышей и чёрной трубой. Совсем старенький кораблик, на нём ещё дедушка Буси плавал. И даже совсем новый, бело-кирпичный океанский лайнер новых жильцов – и тот застрял в Саргассовом море.
А ещё у корабля была лодка. Толстая ветка, что прошлый год приветливо махала каждому встречному, нависая над дорогой, а теперь почему-то отрубленная валялась рядом. На лодке было здорового рыбачить. Сидеть, опустив хвосты в воду, и то и дело вытаскивать разноцветных крабов, маленьких, но уже зубастых акулок, и осьминогов, и улиток, и даже чудесную рыбу – голубой марлин. А потом, нарыбачившись, можно было удобно устроиться на корме и подкрепиться добычей, бросая в воду панцирные фантики карамельных крабов.
Где-то ближе к носу, в теле корабля Буся нашёл тайник. Давным-давно одна из веток тополя раскапризничалась и расти передумала. Загнила и осталась уродливой культёй, а сердцевину выгрызли жуки-древоточцы.
Пока Пуся самозабвенно стряпала на обед гречневую кашу из прошлогоднего конёвника и жарила лопуховые котлеты, Буся присел перед тайником, прошептал главный свой секрет и сразу прикрыл лапкой маленькое дупло. Секрет поворочался, поворочался и удобно устроился в самой сердцевине дерева. Спрятался от злых взглядов на веки вечные, тополиные. И только через много лет и зим, когда ветра и снега обломали мачты, когда утонула в траве лодка, когда одряхлела и раскрошилась корма, когда мёртвые прошлогодние травы перехватили тело корабля узкими лентами и увлекли в зелёную пучину, треснула серебристая кора и секрет лёгким, невесомым вздохом вырвался на свободу. Но услышали его только травы, ветер да кусты тальника.
Но пока он был надёжно спрятан в сердце тополя.
А на верхней палубе, на той самой изогнутой коромыслом ветке, было весело сидеть, свесив лапки вниз. Рассматривать в подзорную трубу из борщевика туманно-дымный горизонт. А там клубилась и ворочалась зловещая, сиреневая мгла.
– Мяу, – тревожно сказала Пуся, глядя, как солнце застилает мутная пелена и темнеют малахитовые волны. А вдалеке ветер уже вздыбил белые барашки борщевика и таволги.
– Мяу!!! – крикнул Буся и бросился к румпелю, больше смахивающему на торчащую из ствола обломанную ветку.
– Мяу, мяу, мяу, – шептала Пуся. Свесившись с борта, она изо всех сил гребла, помогая Бусе сменить курс. Тёмные воды вздымались все выше, небо мрачнело, а буря, грозя издалека громовыми раскатами, стремительно приближалась. Ветер гудел в высоких мачтах, рвал в клочья паруса. Буся повис на руле, с усилием наклоняясь вправо: – Мяу! Мяу! – кричал он сквозь рёв ветра и стоны травяных волн, что уже захлёстывали через край. А справа из пучины тальниковых зарослей поднимался гигантский спрут. Его щупальца словно вывороченные из земли корни грозились потопить корабль. Его глиняное тело то скрывалось за зелёным валом тальника, то показывалось из волн.
– Мяу, мяу! – крикнул Буся подружке. А она мигом все поняла, подбежала, перехватила непослушный, тяжелый руль и ободряюще улыбнулась Бусе. А он с геройским криком прыгнул в бушующее море, в два взмаха добрался до опасного монстра и со всей силы метнул подвернувшуюся под руку рыбу-меч. Меткий бросок лишил чудовище глаза. Осьминог спрятался в тальниковых волнах.
– Мяу! – крикнула Пуся, едва удерживая срывающийся румпель.
Но Буся отважно бросился следом за чудовищем, рубя и кромсая щупальца. С тихим шипением монстр пошел ко дну, но напоследок крепко ухватил отважного котенка за лапу.
Пуся бросила руль и без раздумий прыгнула в воду, на помощь тонущему герою. Успела схватить протянутую лапку. Но монстр был слишком силён, он тащил обоих котят вниз, в сумрачную глубину Марианской канавы.
– Мяу! – в отчаянии попросила Пуся несущуюся мимо рыбу-пилу. Та вильнула хвостом, развернулась и скользнула своим острым носом по уродливому щупальцу. Котята разом вынырнули и увидели вдалеке уплывающий прочь корабль. Рядом, на зелёных волнах покачивался отпиленный сучок осьминожьего щупальца.
А грозовая туча унеслась прочь, лишь краем задев тот участок океана, где барахтались из последних сил два отважных котёнка. Они обречённо смотрели на недосягаемый теперь корабль, что плавно качал мачтами далеко в изумрудных волнах.
А с противоположной стороны под лёгким парусом надежды на помощь котятам шла маленькая яхта.
– Дима! Света! – донёсся с яхты голос бабушки, – пора обедать!
– Ну как всегда! На самом интересном месте, – вздохнул Буся, поднимаясь с коленок и превращаясь в мальчика.
– Ну вот, опять обедать, – сердито фыркнула Пуся, стряхнула с юбки травинки. Протянула руку Диме.
Поднимаясь, Света небрежно откинула через плечо длинный хвост каштановых волос и улыбнулась:
– А давай после обеда опять сюда играть придем?
– А давай! – обрадовался Димка, – только будем тогда щенятами, они плавают лучше!
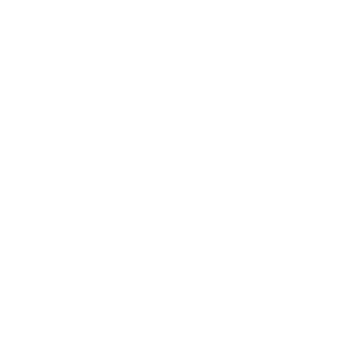
Тамара КОЛОМОЕЦ
Родилась в Томске. Детство и юность провела в Воронежском заповеднике. Закончила Воронежский Университет по специальности «зоолог». Многие годы работала в Донецком ботаническом саду Академии наук Украины. Защитила диссертацию – энтомология. Написала две монографии и много статей по специальности. Объездила большую часть бывшего Советского Союза. Писать начала под впечатлениями жизненных ситуаций. Поддерживаю тесные связи с друзьями и коллегами со всех концов света. С 2001 года живу в Израиле в Центре страны. Номинирована на премию «Писатель года-2014», «Писатель года 2016».
Родилась в Томске. Детство и юность провела в Воронежском заповеднике. Закончила Воронежский Университет по специальности «зоолог». Многие годы работала в Донецком ботаническом саду Академии наук Украины. Защитила диссертацию – энтомология. Написала две монографии и много статей по специальности. Объездила большую часть бывшего Советского Союза. Писать начала под впечатлениями жизненных ситуаций. Поддерживаю тесные связи с друзьями и коллегами со всех концов света. С 2001 года живу в Израиле в Центре страны. Номинирована на премию «Писатель года-2014», «Писатель года 2016».
ТАК И ПРОШЛА ЖИЗНЯ.....
Когда Маринка выбилась из сил, дежурить у её тяжело больной мамы, решили мы, её друзья, взяв на себя субботние и воскресные сутки.
В палате, куда обычно определяют безнадёжно больных, она лежала одна. Рядом с её постелью стояла ещё кровать, на которой можно было и нам немного отдохнуть, хотя бы, принять горизонтальное положение.
Я оказалась у неё дня за два до кончины. В больнице она находилась уже больше месяца. Маринка зорко следила за тем, что делают её маме, доставала мыслимые и немыслимые лекарства в надежде на выздоровление. Но в последние дни стало ясно, что этого не случится.
И если раньше сама Анна Ивановна не сомневалась, что скоро выйдет отсюда, то теперь, когда и вставать-то уже не могла, вдруг поняла, что вряд ли увидит вновь свой дом, свою далёкую и такую родную деревню где-то за Курском, где всё-то не так, как здесь, всё несравненно лучше, а всего больше волновало «и где её похоронют?»
– Ить сорок лет в колхозе проработала, и неужто в Донецке умирать? У нас ить там вода бегить по камешкам. А какой погост — земля чёрная! А у Вас глина — на пол-метра вода, – с тоской рассуждала она.
– У меня в Курске племянница одна, другая. В Косторном – отцова сестра и племянница тож. Ну, уся ж родня там.
Обложив её подушками, чтобы как-то удержать в сидячем положении и облегчить дыхание, устроилась я напротив неё, готовая в любую минуту помочь чем-то.
Воскресный день подходил к концу. В отделении стояла тоскливая, удручающая тишина. Не было суеты, как в будние дни. Сёстры к нам в палату заходили только сделать уколы, от которых знали, что проку уже всё равно не будет, а так и не заглядывали.
Ощущение безнадёжности ужасно, когда неминуемая смерть всё ближе и ближе. И тогда сам себе кажешься таким ничтожным, потому что ничем, ничем помочь не можешь.
Я со страхом ждала надвигающейся ночи. На всякий случай взяла газеты, чтобы почитать, если время будет. Но его не оказалось.
Анне Ивановне стало совсем худо. Я то и дело выбегала в коридор наполнить кислородную подушку. А, когда на очень короткое время ей становилось будто бы легче, она начинала говорить, вспоминая прожитую жизнь. И всё в той, уже прошедшей жизни, казалось ей обычным, человеческим и совсем даже не плохим, разве только кое с чем она не согласна.
Будто не было сиротства, голодной войны, всю жизнь изнурительного для женских плеч и рук труда, вечно пьющего и дерущегося мужа, которому в сердцах не раз говаривала:
– Ды пралик бы тебе расколотил! И когда ж глотать ты перестанешь? Уже у тебя юркаить, а ты усё пьёшь. Дурак ты, дурак – увесь дурак.
И тогда я подумала, что Маринка — вот оправдание всей её нелёгкой жизни. Для неё я и записала этот разговор.
– А учарась вода была горячая. Грелки клали, а нынче нетути. Ды шошь ета за больница! Выключають на выходной воду горячую! И шошь они икономють? – недоумевала она, когда приходилось за горячей водой для грелки бегать на кухню в цокольный этаж.
Мысли её перескакивали с одной на другую. Ответов от меня она не ждала. Ей было хорошо от того, что её заинтересованно слушали.
– Я вот не знаю, и чавож она Курск наш ненавидить, – о Маринке начала она.
– Сколь у нас людей в Курске в унститутах работають и учуться, а ей одно — Курск плохой. У вас ведь и воды такой-то нетути. У вас её за деньги покупають.
– А если бы попервости купили дом в Курске и жили бы. А то воздух-то у вас какой – шахты! Он незаметно так и в горло садится. Данькя, ну зять мой, може на мене и обижается, что мало помогала, машину опять же не купила, чтоб их встречать, дык у меня ишо ноги как лисапед.
– А у нас над домом пруд хороший, один лес, другой лес, туды немножечко подальше — третий лес. Это мы постарели, а молодым жить, да жить на воздухе таком.
– У нас в этом году корова уже сдадена рублей на 500, телёнок там остался , поросёнок, 20 курёнков. Да Господи! У меня там картох много у погреба, свёкла — вот такая кормовая, мясо консервированное, сало кусковое, а тут по 3 да по 4 рубля оно, – сокрушалась Анна Ивановна, что Маринка не в Курске, и как же нелегко ей здесь живётся.
– И без денег я никогда не жила, без хлеба не была.
Так что голодными не были. И дети обуты, одеты были. И одёжа у меня есть: платьице, отрез на костюм. Пальто у меня одна хорошая, а другая расхожая и холодная тоже-ть есть. Вот плаща у меня нету хорошего, – говорила и говорила она.
– Да, тут у Маринки всё есть и купит, что надо, да и сделает, – поддерживала я разговор.
– Да ну, на Маринку буду надеяться. Оздоровлею – куплю сама. А мне брат купил плащ на подкладке, дык я сыну определила его. У меня и волны есть на носки. Овечки ж были. У меня и полотенца есть, и простыни, и одеялочки стёганые, одеялки сатиновые, два покрывала. И рубашки есть у меня, и с кружавами и с гладью. Четыре рубашки ношу, а эти, когда в больницу и в церкву хожу.
– А церковь в вашей деревне? – уточняю я.
– Нет, в Щегры ездим. Я, когда заболела, обрякла шаль чёрную на церкву повесить, а пошла на пасху, да и забыла мешочек. Обрек у меня дома и остался. Обрек надо выполнять. Это скорбия. Тапереча, возьму у Маринки полотенечки и повешу на вашу церкву.
Некоторое время она молчала, а потом заговорила вновь.
– Я, ведь, как возрастала? C мачехой. С шести лет. Наша мачеха добрая была, нас работать приучала: одеялки стирать, носочки вязать учила. Это ишшо сердца у меня стальная. Сколько попережила. Матери неродной угодить надо! А ищас мне тах-то плохо. И умереть трудно – не умирается.
– Подлечитесь, а весной в Жданов на море поедете.
– На море на Ждановском я бы лечилась. Это можно. И на курорт бы съездить можно.
– Где-то простыли Вы очень, Анна Ивановна, – старалась объяснить я причину её тяжёлого состояния. – Подлечитесь и вернётесь домой.
– Нет... – Она безнадёжно, покачала головой.
– Да развя я простудилася? Ведь у меня и шерсть и валеночки есть. У вас здесь сколь больных! Тоже простудилися? Нет. Ета болезня такая-то, почечная.
– Ох! Если услышат наши женщины, что Анна Ивановна Карабанова померла, удивятся и скажут: и какая ж комедия!
– У меня, ведь, и малярия была, и тиф, и сердце на ренгене западало, но такой-то, вот, боли не было. Тут другие тоже болят почками, а отёков не было. А у меня вон што, ажноль, оказалося, – печально говорила она.
– А на такую беседу, имея ввиду поминки, найди в Донецке мяса, да навари холодца, а дома усё, усё есть в деревне.
– Я, вот, учера Маринке сказывала: отбей телеграмму хучь одному племяннику. Они приехали б и проведали бы.
– На меня никто не скажет, что не хозяйка была. Я, когда прошлый год болела, а заловка, какая в Косторном, как она по мне плакала. Усе меня любють. Сроду за меня плохого слова не скажуть. Мы ткали, пряли. Эти рученьки приучены по всем делам. А во время войны как жили ? Братья на войне все были. Дома оставалась я, отец и невестки. А когда они оттедова приехали, стали дома строить в деревне. Стали подрабатывать, отживать стали. Так и прошла жизня...
Анна Ивановна прикрыла глаза. Было видно, что силы её угасают. Она утихла, замолчала, но, видимо, продолжала и продолжала вспоминать всю свою жизнь, в которой было столько хорошего...
Когда Маринка выбилась из сил, дежурить у её тяжело больной мамы, решили мы, её друзья, взяв на себя субботние и воскресные сутки.
В палате, куда обычно определяют безнадёжно больных, она лежала одна. Рядом с её постелью стояла ещё кровать, на которой можно было и нам немного отдохнуть, хотя бы, принять горизонтальное положение.
Я оказалась у неё дня за два до кончины. В больнице она находилась уже больше месяца. Маринка зорко следила за тем, что делают её маме, доставала мыслимые и немыслимые лекарства в надежде на выздоровление. Но в последние дни стало ясно, что этого не случится.
И если раньше сама Анна Ивановна не сомневалась, что скоро выйдет отсюда, то теперь, когда и вставать-то уже не могла, вдруг поняла, что вряд ли увидит вновь свой дом, свою далёкую и такую родную деревню где-то за Курском, где всё-то не так, как здесь, всё несравненно лучше, а всего больше волновало «и где её похоронют?»
– Ить сорок лет в колхозе проработала, и неужто в Донецке умирать? У нас ить там вода бегить по камешкам. А какой погост — земля чёрная! А у Вас глина — на пол-метра вода, – с тоской рассуждала она.
– У меня в Курске племянница одна, другая. В Косторном – отцова сестра и племянница тож. Ну, уся ж родня там.
Обложив её подушками, чтобы как-то удержать в сидячем положении и облегчить дыхание, устроилась я напротив неё, готовая в любую минуту помочь чем-то.
Воскресный день подходил к концу. В отделении стояла тоскливая, удручающая тишина. Не было суеты, как в будние дни. Сёстры к нам в палату заходили только сделать уколы, от которых знали, что проку уже всё равно не будет, а так и не заглядывали.
Ощущение безнадёжности ужасно, когда неминуемая смерть всё ближе и ближе. И тогда сам себе кажешься таким ничтожным, потому что ничем, ничем помочь не можешь.
Я со страхом ждала надвигающейся ночи. На всякий случай взяла газеты, чтобы почитать, если время будет. Но его не оказалось.
Анне Ивановне стало совсем худо. Я то и дело выбегала в коридор наполнить кислородную подушку. А, когда на очень короткое время ей становилось будто бы легче, она начинала говорить, вспоминая прожитую жизнь. И всё в той, уже прошедшей жизни, казалось ей обычным, человеческим и совсем даже не плохим, разве только кое с чем она не согласна.
Будто не было сиротства, голодной войны, всю жизнь изнурительного для женских плеч и рук труда, вечно пьющего и дерущегося мужа, которому в сердцах не раз говаривала:
– Ды пралик бы тебе расколотил! И когда ж глотать ты перестанешь? Уже у тебя юркаить, а ты усё пьёшь. Дурак ты, дурак – увесь дурак.
И тогда я подумала, что Маринка — вот оправдание всей её нелёгкой жизни. Для неё я и записала этот разговор.
– А учарась вода была горячая. Грелки клали, а нынче нетути. Ды шошь ета за больница! Выключають на выходной воду горячую! И шошь они икономють? – недоумевала она, когда приходилось за горячей водой для грелки бегать на кухню в цокольный этаж.
Мысли её перескакивали с одной на другую. Ответов от меня она не ждала. Ей было хорошо от того, что её заинтересованно слушали.
– Я вот не знаю, и чавож она Курск наш ненавидить, – о Маринке начала она.
– Сколь у нас людей в Курске в унститутах работають и учуться, а ей одно — Курск плохой. У вас ведь и воды такой-то нетути. У вас её за деньги покупають.
– А если бы попервости купили дом в Курске и жили бы. А то воздух-то у вас какой – шахты! Он незаметно так и в горло садится. Данькя, ну зять мой, може на мене и обижается, что мало помогала, машину опять же не купила, чтоб их встречать, дык у меня ишо ноги как лисапед.
– А у нас над домом пруд хороший, один лес, другой лес, туды немножечко подальше — третий лес. Это мы постарели, а молодым жить, да жить на воздухе таком.
– У нас в этом году корова уже сдадена рублей на 500, телёнок там остался , поросёнок, 20 курёнков. Да Господи! У меня там картох много у погреба, свёкла — вот такая кормовая, мясо консервированное, сало кусковое, а тут по 3 да по 4 рубля оно, – сокрушалась Анна Ивановна, что Маринка не в Курске, и как же нелегко ей здесь живётся.
– И без денег я никогда не жила, без хлеба не была.
Так что голодными не были. И дети обуты, одеты были. И одёжа у меня есть: платьице, отрез на костюм. Пальто у меня одна хорошая, а другая расхожая и холодная тоже-ть есть. Вот плаща у меня нету хорошего, – говорила и говорила она.
– Да, тут у Маринки всё есть и купит, что надо, да и сделает, – поддерживала я разговор.
– Да ну, на Маринку буду надеяться. Оздоровлею – куплю сама. А мне брат купил плащ на подкладке, дык я сыну определила его. У меня и волны есть на носки. Овечки ж были. У меня и полотенца есть, и простыни, и одеялочки стёганые, одеялки сатиновые, два покрывала. И рубашки есть у меня, и с кружавами и с гладью. Четыре рубашки ношу, а эти, когда в больницу и в церкву хожу.
– А церковь в вашей деревне? – уточняю я.
– Нет, в Щегры ездим. Я, когда заболела, обрякла шаль чёрную на церкву повесить, а пошла на пасху, да и забыла мешочек. Обрек у меня дома и остался. Обрек надо выполнять. Это скорбия. Тапереча, возьму у Маринки полотенечки и повешу на вашу церкву.
Некоторое время она молчала, а потом заговорила вновь.
– Я, ведь, как возрастала? C мачехой. С шести лет. Наша мачеха добрая была, нас работать приучала: одеялки стирать, носочки вязать учила. Это ишшо сердца у меня стальная. Сколько попережила. Матери неродной угодить надо! А ищас мне тах-то плохо. И умереть трудно – не умирается.
– Подлечитесь, а весной в Жданов на море поедете.
– На море на Ждановском я бы лечилась. Это можно. И на курорт бы съездить можно.
– Где-то простыли Вы очень, Анна Ивановна, – старалась объяснить я причину её тяжёлого состояния. – Подлечитесь и вернётесь домой.
– Нет... – Она безнадёжно, покачала головой.
– Да развя я простудилася? Ведь у меня и шерсть и валеночки есть. У вас здесь сколь больных! Тоже простудилися? Нет. Ета болезня такая-то, почечная.
– Ох! Если услышат наши женщины, что Анна Ивановна Карабанова померла, удивятся и скажут: и какая ж комедия!
– У меня, ведь, и малярия была, и тиф, и сердце на ренгене западало, но такой-то, вот, боли не было. Тут другие тоже болят почками, а отёков не было. А у меня вон што, ажноль, оказалося, – печально говорила она.
– А на такую беседу, имея ввиду поминки, найди в Донецке мяса, да навари холодца, а дома усё, усё есть в деревне.
– Я, вот, учера Маринке сказывала: отбей телеграмму хучь одному племяннику. Они приехали б и проведали бы.
– На меня никто не скажет, что не хозяйка была. Я, когда прошлый год болела, а заловка, какая в Косторном, как она по мне плакала. Усе меня любють. Сроду за меня плохого слова не скажуть. Мы ткали, пряли. Эти рученьки приучены по всем делам. А во время войны как жили ? Братья на войне все были. Дома оставалась я, отец и невестки. А когда они оттедова приехали, стали дома строить в деревне. Стали подрабатывать, отживать стали. Так и прошла жизня...
Анна Ивановна прикрыла глаза. Было видно, что силы её угасают. Она утихла, замолчала, но, видимо, продолжала и продолжала вспоминать всю свою жизнь, в которой было столько хорошего...
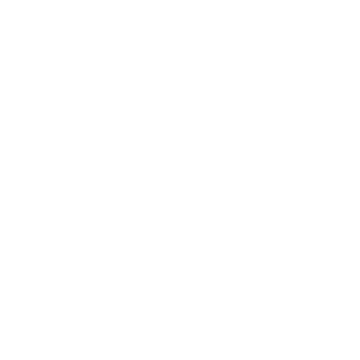
Юлия ПУРГИНА
Родилась и выросла на юге Сибири. Для меня нет ничего роднее этих мест с бескрайними таежными просторами, горами Саянами и полноводным Енисеем. Долгое время увлекалась спелеологией и горным туризмом. По образованию учитель начальных классов, кем и работаю в частной школе, используя элементы Вальдорфской педагогики. Мой творческий путь начался с поэзии, но пришло время раздвинуть горизонты и попробовать свои силы в прозаических произведениях. Надеюсь, что пробы окажутся удачными.
Родилась и выросла на юге Сибири. Для меня нет ничего роднее этих мест с бескрайними таежными просторами, горами Саянами и полноводным Енисеем. Долгое время увлекалась спелеологией и горным туризмом. По образованию учитель начальных классов, кем и работаю в частной школе, используя элементы Вальдорфской педагогики. Мой творческий путь начался с поэзии, но пришло время раздвинуть горизонты и попробовать свои силы в прозаических произведениях. Надеюсь, что пробы окажутся удачными.
ТОЧКА ОТСЧЕТА
Ранним утром роддом огласили женские крики, а следом раздался громкий плач появившегося на свет малыша. Напуганная стайка диких голубей, гордо восседавшая на карнизе окна родового зала, вспорхнула и перелетела к другому окну. Родившемуся красному сморщенному комочку перерезали пуповину и бережно положили на чистую пеленку.
– Поздравляем, Смирнова! Смотри, какой красавец. Богатырь! – с этими словами акушерка осторожно положила малыша ей на грудь.
Ирина Смирнова, обессилившая после длительных мучительных схваток, затрепетала от прикосновения к маленькому созданию. Она едва касалась редких темных волосиков на головке ребенка, а потом вдруг прижала его и, откинувшись, закрыла глаза.
– Какой маленький. Я даже держать их не умею – косточки бы не сломать.
Акушерка Ольга Анатольевна, за плечами которой не один год работы в роддоме, гремела инструментами. Для нее рождение малышей было привычным делом.
– Они крепкие. Не переживай, научишься.
– Сыночек мой, – нежно шептала мамочка и гладила по головке свое чудо.
– Катя, забери ребенка, – обратилась Ольга Анатольевна к медсестре, – А мы, Ирина, встаем, встаем. Женщина ты молодая, сил много, до палаты сама дойдешь.
Катя запеленала малыша и скрылась за дверью родового зала. Медленно, с небольшими передышками Ирина встала со стола, поправила длинную больничную сорочку и неуверенными шагами, прижимаясь к стене, пошла в отведенную им с сыном палату. Катя встретила Ирину и помогла лечь на кровать. Стены нежно-голубого цвета напоминали Ирине чистое небо, а белое белье на пружинной кровати пену облака, в которую она обессиленно погрузилась. Рядом с кроватью на металлических высоких ножках с колесиками крепилась пластиковая люлька – первый дом малыша. Он уже крепко спал, туго стянутый в кокон фланелевой пеленкой в зеленый горошек. Ирина с любовью посмотрела на свое чудо, но усталость взяла верх, и вскоре она уснула, придерживая рукой люльку.
– Где это я? Меня кто-нибудь слышит? Какого черта мне связали руки?
– Тише, тише. Все хорошо, – из глубины палаты лился ровный умиротворенный голос. – Скоро все закончится.
Полупрозрачное легкое существо подплыло к детской люльке. Оно склонилось к ребенку и провело ладонью по маленькой головке.
– Отойди от меня. Не трогай. Господи, развяжите же мне кто-нибудь руки.
– Не волнуйся. Я рядом и не оставлю тебя, – мягкая ткань длинных рукавов неведомого создания накрыла кроватку.
– Как это не волнуйся? Вы что, устроили на меня охоту? Зачем связали? Что я вам сделал?
– Сейчас так надо. Но это временная необходимость для твоего же спокойствия. Скоро все изменится, и ты почувствуешь в своем сердце радость.
– Ты еще и издеваешься! Кто ты такой, чтобы указывать мне, что нужно делать?
– Ангел Предопределения. Я сопровождающий для тех, кто вновь пришел в этот мир. Но разве ты не помнишь ничего? – Ангел поплыл от кроватки к окну и положил ладонь на стекло.
Он долго всматривался в пустоту сумеречного утра, как будто по одиноким светящимся окнам города читал ответы на вопросы. Ткань его длинных одежд касалась пола и в свете лампочки под потолком переливалась нежными цветами радуги. Он перекинул белые как снег волосы на левое плечо, открывая свое лицо и длинную шею, повернул голову к ребенку и улыбнулся.
– Что я должен помнить?
– Прости, Марко, но тогда ты умер. Прошло много дней с тех давних времен, а сегодня ты вновь родился.
– Что? Что за глупости ты говоришь? Уйди прочь! – и тишину палаты нарушил пронзительный крик ребенка.
Ирина вскочила с постели к люльке. От неожиданного пробуждения она больно ударилась ногой о металлическую ножку кроватки, и люлька покатилась к противоположной стене. Рывком Ирина остановила ее и осторожно взяла на руки кричащее дитя.
– Ой, люли, люли, люли, прилетели голуби, – в такт размеренным шагам вкрадчиво зазвучал ее голос.
Ребенок никак не успокаивался. Его крик прерывался лишь на мгновение. Мамочка все сильнее прижимала к груди маленький сверток и целовала личико. Неожиданно дверь палаты распахнулась, и вошла медсестра Катя.
– Грудь давала? Голодный наверняка. Ох, эти молодые мамочки. Возни с вами не меньше, чем с детьми. Всему-то учить надо. Давай его сюда.
Она приняла ребенка, быстро осмотрела и сказала:
– Так он у тебя мокрый совсем. Куда смотришь-то?
– Видела я, только пеленать не умею совсем, – расстроилась Ирина.
– Иди сюда, будем учиться.
Медсестра развернула фланелевый кокон. Прижимая ребеночка к себе, одной рукой ловко расстелила на столе чистую пеленку.
– А кто тут у нас кричит? А кто тут у нас славненький мальчик? – засюсюкала она, протирая складочки на теле ребенка и посыпая их тальком. – Смотри, как это делается. Кладешь ребенка на пеленочку… А и где наши рученьки? Ножки ему выпрямляешь, ручки вдоль тела и вот так, вот так… Теперь мы самые спокойные и тихие. Мамочке надо отдохнуть, и мы ей дадим поспать. Она же так потрудилась у нас… Вот и все. Бери свою ляльку, корми и спать.
Молодая женщина покормила сына. Сухое тепло и материнская грудь успокоили ребенка. В палате стало тихо, лишь слышно было, как он посапывает во сне. Ирина снова легла, но сон не шел – сказалось напряжение этой бурной для нее ночи. Пережитые минуты боли и счастье рождения сына переполняли ее душу новыми чувствами. В свои неполные двадцать лет она подарила жизнь маленькому человеку, стала матерью. Ирина рисовала себе картину новых дней, когда уже как жрица, прошедшая посвящение, стала хранительницей доверенной ей новой жизни. Она смотрела в белизну потолка, прокручивая вероятные эпизоды их жизни и не заметила, как уснула.
– Эй, как там тебя, Ангел Предопределения? Ты здесь? – ребенок смотрел в одну точку немигающим взглядом.
– Я всегда здесь, Марко, пока это необходимо.
Невидимые капли воздуха сгустились в большое радужное пятно и повисли над полом в середине комнаты. Раздался щелчок, словно кто-то хлопнул в ладоши, и из радужного пятна появился Ангел. Он подошел к кроватке и вновь положил теплую ладонь на головку ребенка.
– Ангел, я же помню, что не умер. Да, я долго лежал в лихорадке. Помню, как жена сжимала мою руку в своей ладони, как просила Бога о моем выздоровлении, как меняла белье, снимая с моего тела пропитанные потом рубашки. Я же помню. Я помню, что не умер. Только не лги мне, слышишь!
– Но ты все же умер, Марко. Болезнь унесла остатки твоих сил и оставила твоей семье только бездыханное тело, – ладонь Ангела переместилась к сердцу ребенка. – Я здесь, чтобы помочь тебе заново быть в этом мире. Сейчас пока трудно многое понять и принять, но ты справишься, а я помогу.
– Но этот мир мне чужд. Я не знаю его и не хочу знать. Мне неприятны прикосновения этой женщины. Она трясет меня, как мешок с эскудо, глупо называет сыночком. Ангел, умоляю, верни меня в прежнее место. Если вдруг я согрешил, то готов исправиться, только верни меня!
Ребенок вновь пронзительно закричал, разбудив мать. Не вставая с постели, полусонная Ирина попробовала катать люльку ногой. Ребенок не унимался, и тогда она вынула его, прижала к груди и стала укачивать, тихо напевая колыбельную. Он успокаивался, но как только Ирина присаживалась на кровать, начинал вновь плакать. Он изводил громкими криками, как себя, так и мать, отчего, отчаявшись, напуганная мамочка выбежала с малышом в коридор. Она не заметила, как день набрал силу. Казалось, время утратило свое значение для Ирины – все стало измеряться детским бодрствованием и сном. В соседней палате слышался веселый разговор рожениц.
– Смирнова, забери таблетки и измерь температуру, – подошла к ней Ольга Анатольевна. – Не спит? Катя, возьми ребенка, а то она так и не отдохнет после родов. Пусть поспит пару часиков спокойно.
Катя приняла у Ирины мальчика и унесла в детскую, сунув ему пузырек с глюкозой. Ирина вошла в палату и упала на постель. Тишина навалилась каменной плитой на ее уставшее тело, прижала к постели, не давая возможности пошевелиться.
– Ангел, скажи, когда же все это кончится?
– Скоро, Марко. Тебе должны дать новое имя, – говорил Ангел.
– Мне не нужно имя – оно уже у меня есть. И оно мне нравится. Я прожил с ним сорок три года и пять месяцев. Сколько можно? Ваши игры утомили меня.
– То имя тебе больше не понадобится, Марко. Пришло время нового имени, – прошептал Ангел, склонившись над ребенком так близко, что тот почувствовал запах ветра.
К обеду в палату вошла маленькая сухонькая женщина в темно-синем халате. Она надела резиновые перчатки и, окуная тряпку в ведерко с пенной водой, стала вытирать пыль с тумбочки и подоконника.
– Опять налетели, – сказала она и открыла окно, чтобы проветрить палату.
– Кто налетел? – забеспокоилась Ирина.
– Да голуби. Прилипчивые птицы. Толпятся вечно здесь – ничем их не прогнать. Спугнешь, а они потом вновь садятся и все в окна заглядывают, будто понимают что. Ох, кажется, новенький появился! А белый-то какой, словно снег. Кстати, как сына-то назвала? – спросила санитарка, выжимая тряпку.
– Пока никак. Мы договорились, что мальчику муж сам имя выберет.
– Я слышу, мальчишка-то голосистый родился.
– Да, постоянно плачет. Я и не знаю, что с ним такое. Может, болит что-то у него? Измоталась я, и он измотался. Врач говорит, что обычно первые дни новорожденных животик мучает, а я чувствую, как будто другое с ним, а что и понять не могу.
– Дай ему время. Он только жить начал. Привыкнуть должен. – Санитарка закрыла окно, взяла ведро и вышла из палаты.
После работы позвонил Саша. Он попросил ее показать сына, но в роддом никого не пускали. Тогда она поднесла ребенка к окну и подняла маленький сверток над головой. Ребенок заплакал, и мать тот час же дала ему грудь. Саша радостно жестикулировал, показывал, как любит их обоих. А потом пришла смс-ка лишь с одним словом: «Назар».
– Назар, – произнесла женщина вслух, целуя сына.
– Назар, – повторил шепотом Ангел.
– Назар? – удивился ребенок.
В это мгновение воздух вокруг стал плотным и колючим. Каждая клеточка маленького тела ощутила легкое прикосновение тысячи иголочек. Воспоминания слились в единую ленту и за доли секунды пронеслись в сознании, поднимая из глубин на поверхность пережитые однажды чувства стыда, боли, ликования, грусти и понимания, любви к кому-то невозможно близкому, невидимому, но ощутимому сердцем. Маленькое сердечко на мгновение сжалось в точку, потревоженное чувственным потоком. Казалось, оно не выдержит и взорвется, вонзаясь осколками в этот плотный воздух. Стены комнаты распахнулись, превращаясь в необъятное голубое небо, в котором пришло ощущение полета, бесконечного полета. И лучи восходящей звезды вдруг стерли последние оттиски былых воспоминаний. Пришла чистота.
Ирина положила спящего малыша на свою кровать, накрыла его теплым одеялом и отошла к окну. Она следила за тем, как голуби толкались на карнизе, как смело заглядывали в ее глаза, вытягивая свои шейки. Ирина повернулась и посмотрела на сына. Ей показалось, что малыш улыбнулся.
– Прощай, Назар. Вот теперь я больше тебе не нужен, – и Ангел поцеловал спящего малыша.
Он расправил крылья, заполняя ими пространство комнаты, подошел к окну и встал рядом с молодой женщиной. Откинув свои белоснежные волосы на левое плечо, Ангел Предопределения улыбнулся Ирине, а потом поднял руки вверх и белым голубем вылетел из палаты.
Ранним утром роддом огласили женские крики, а следом раздался громкий плач появившегося на свет малыша. Напуганная стайка диких голубей, гордо восседавшая на карнизе окна родового зала, вспорхнула и перелетела к другому окну. Родившемуся красному сморщенному комочку перерезали пуповину и бережно положили на чистую пеленку.
– Поздравляем, Смирнова! Смотри, какой красавец. Богатырь! – с этими словами акушерка осторожно положила малыша ей на грудь.
Ирина Смирнова, обессилившая после длительных мучительных схваток, затрепетала от прикосновения к маленькому созданию. Она едва касалась редких темных волосиков на головке ребенка, а потом вдруг прижала его и, откинувшись, закрыла глаза.
– Какой маленький. Я даже держать их не умею – косточки бы не сломать.
Акушерка Ольга Анатольевна, за плечами которой не один год работы в роддоме, гремела инструментами. Для нее рождение малышей было привычным делом.
– Они крепкие. Не переживай, научишься.
– Сыночек мой, – нежно шептала мамочка и гладила по головке свое чудо.
– Катя, забери ребенка, – обратилась Ольга Анатольевна к медсестре, – А мы, Ирина, встаем, встаем. Женщина ты молодая, сил много, до палаты сама дойдешь.
Катя запеленала малыша и скрылась за дверью родового зала. Медленно, с небольшими передышками Ирина встала со стола, поправила длинную больничную сорочку и неуверенными шагами, прижимаясь к стене, пошла в отведенную им с сыном палату. Катя встретила Ирину и помогла лечь на кровать. Стены нежно-голубого цвета напоминали Ирине чистое небо, а белое белье на пружинной кровати пену облака, в которую она обессиленно погрузилась. Рядом с кроватью на металлических высоких ножках с колесиками крепилась пластиковая люлька – первый дом малыша. Он уже крепко спал, туго стянутый в кокон фланелевой пеленкой в зеленый горошек. Ирина с любовью посмотрела на свое чудо, но усталость взяла верх, и вскоре она уснула, придерживая рукой люльку.
– Где это я? Меня кто-нибудь слышит? Какого черта мне связали руки?
– Тише, тише. Все хорошо, – из глубины палаты лился ровный умиротворенный голос. – Скоро все закончится.
Полупрозрачное легкое существо подплыло к детской люльке. Оно склонилось к ребенку и провело ладонью по маленькой головке.
– Отойди от меня. Не трогай. Господи, развяжите же мне кто-нибудь руки.
– Не волнуйся. Я рядом и не оставлю тебя, – мягкая ткань длинных рукавов неведомого создания накрыла кроватку.
– Как это не волнуйся? Вы что, устроили на меня охоту? Зачем связали? Что я вам сделал?
– Сейчас так надо. Но это временная необходимость для твоего же спокойствия. Скоро все изменится, и ты почувствуешь в своем сердце радость.
– Ты еще и издеваешься! Кто ты такой, чтобы указывать мне, что нужно делать?
– Ангел Предопределения. Я сопровождающий для тех, кто вновь пришел в этот мир. Но разве ты не помнишь ничего? – Ангел поплыл от кроватки к окну и положил ладонь на стекло.
Он долго всматривался в пустоту сумеречного утра, как будто по одиноким светящимся окнам города читал ответы на вопросы. Ткань его длинных одежд касалась пола и в свете лампочки под потолком переливалась нежными цветами радуги. Он перекинул белые как снег волосы на левое плечо, открывая свое лицо и длинную шею, повернул голову к ребенку и улыбнулся.
– Что я должен помнить?
– Прости, Марко, но тогда ты умер. Прошло много дней с тех давних времен, а сегодня ты вновь родился.
– Что? Что за глупости ты говоришь? Уйди прочь! – и тишину палаты нарушил пронзительный крик ребенка.
Ирина вскочила с постели к люльке. От неожиданного пробуждения она больно ударилась ногой о металлическую ножку кроватки, и люлька покатилась к противоположной стене. Рывком Ирина остановила ее и осторожно взяла на руки кричащее дитя.
– Ой, люли, люли, люли, прилетели голуби, – в такт размеренным шагам вкрадчиво зазвучал ее голос.
Ребенок никак не успокаивался. Его крик прерывался лишь на мгновение. Мамочка все сильнее прижимала к груди маленький сверток и целовала личико. Неожиданно дверь палаты распахнулась, и вошла медсестра Катя.
– Грудь давала? Голодный наверняка. Ох, эти молодые мамочки. Возни с вами не меньше, чем с детьми. Всему-то учить надо. Давай его сюда.
Она приняла ребенка, быстро осмотрела и сказала:
– Так он у тебя мокрый совсем. Куда смотришь-то?
– Видела я, только пеленать не умею совсем, – расстроилась Ирина.
– Иди сюда, будем учиться.
Медсестра развернула фланелевый кокон. Прижимая ребеночка к себе, одной рукой ловко расстелила на столе чистую пеленку.
– А кто тут у нас кричит? А кто тут у нас славненький мальчик? – засюсюкала она, протирая складочки на теле ребенка и посыпая их тальком. – Смотри, как это делается. Кладешь ребенка на пеленочку… А и где наши рученьки? Ножки ему выпрямляешь, ручки вдоль тела и вот так, вот так… Теперь мы самые спокойные и тихие. Мамочке надо отдохнуть, и мы ей дадим поспать. Она же так потрудилась у нас… Вот и все. Бери свою ляльку, корми и спать.
Молодая женщина покормила сына. Сухое тепло и материнская грудь успокоили ребенка. В палате стало тихо, лишь слышно было, как он посапывает во сне. Ирина снова легла, но сон не шел – сказалось напряжение этой бурной для нее ночи. Пережитые минуты боли и счастье рождения сына переполняли ее душу новыми чувствами. В свои неполные двадцать лет она подарила жизнь маленькому человеку, стала матерью. Ирина рисовала себе картину новых дней, когда уже как жрица, прошедшая посвящение, стала хранительницей доверенной ей новой жизни. Она смотрела в белизну потолка, прокручивая вероятные эпизоды их жизни и не заметила, как уснула.
– Эй, как там тебя, Ангел Предопределения? Ты здесь? – ребенок смотрел в одну точку немигающим взглядом.
– Я всегда здесь, Марко, пока это необходимо.
Невидимые капли воздуха сгустились в большое радужное пятно и повисли над полом в середине комнаты. Раздался щелчок, словно кто-то хлопнул в ладоши, и из радужного пятна появился Ангел. Он подошел к кроватке и вновь положил теплую ладонь на головку ребенка.
– Ангел, я же помню, что не умер. Да, я долго лежал в лихорадке. Помню, как жена сжимала мою руку в своей ладони, как просила Бога о моем выздоровлении, как меняла белье, снимая с моего тела пропитанные потом рубашки. Я же помню. Я помню, что не умер. Только не лги мне, слышишь!
– Но ты все же умер, Марко. Болезнь унесла остатки твоих сил и оставила твоей семье только бездыханное тело, – ладонь Ангела переместилась к сердцу ребенка. – Я здесь, чтобы помочь тебе заново быть в этом мире. Сейчас пока трудно многое понять и принять, но ты справишься, а я помогу.
– Но этот мир мне чужд. Я не знаю его и не хочу знать. Мне неприятны прикосновения этой женщины. Она трясет меня, как мешок с эскудо, глупо называет сыночком. Ангел, умоляю, верни меня в прежнее место. Если вдруг я согрешил, то готов исправиться, только верни меня!
Ребенок вновь пронзительно закричал, разбудив мать. Не вставая с постели, полусонная Ирина попробовала катать люльку ногой. Ребенок не унимался, и тогда она вынула его, прижала к груди и стала укачивать, тихо напевая колыбельную. Он успокаивался, но как только Ирина присаживалась на кровать, начинал вновь плакать. Он изводил громкими криками, как себя, так и мать, отчего, отчаявшись, напуганная мамочка выбежала с малышом в коридор. Она не заметила, как день набрал силу. Казалось, время утратило свое значение для Ирины – все стало измеряться детским бодрствованием и сном. В соседней палате слышался веселый разговор рожениц.
– Смирнова, забери таблетки и измерь температуру, – подошла к ней Ольга Анатольевна. – Не спит? Катя, возьми ребенка, а то она так и не отдохнет после родов. Пусть поспит пару часиков спокойно.
Катя приняла у Ирины мальчика и унесла в детскую, сунув ему пузырек с глюкозой. Ирина вошла в палату и упала на постель. Тишина навалилась каменной плитой на ее уставшее тело, прижала к постели, не давая возможности пошевелиться.
– Ангел, скажи, когда же все это кончится?
– Скоро, Марко. Тебе должны дать новое имя, – говорил Ангел.
– Мне не нужно имя – оно уже у меня есть. И оно мне нравится. Я прожил с ним сорок три года и пять месяцев. Сколько можно? Ваши игры утомили меня.
– То имя тебе больше не понадобится, Марко. Пришло время нового имени, – прошептал Ангел, склонившись над ребенком так близко, что тот почувствовал запах ветра.
К обеду в палату вошла маленькая сухонькая женщина в темно-синем халате. Она надела резиновые перчатки и, окуная тряпку в ведерко с пенной водой, стала вытирать пыль с тумбочки и подоконника.
– Опять налетели, – сказала она и открыла окно, чтобы проветрить палату.
– Кто налетел? – забеспокоилась Ирина.
– Да голуби. Прилипчивые птицы. Толпятся вечно здесь – ничем их не прогнать. Спугнешь, а они потом вновь садятся и все в окна заглядывают, будто понимают что. Ох, кажется, новенький появился! А белый-то какой, словно снег. Кстати, как сына-то назвала? – спросила санитарка, выжимая тряпку.
– Пока никак. Мы договорились, что мальчику муж сам имя выберет.
– Я слышу, мальчишка-то голосистый родился.
– Да, постоянно плачет. Я и не знаю, что с ним такое. Может, болит что-то у него? Измоталась я, и он измотался. Врач говорит, что обычно первые дни новорожденных животик мучает, а я чувствую, как будто другое с ним, а что и понять не могу.
– Дай ему время. Он только жить начал. Привыкнуть должен. – Санитарка закрыла окно, взяла ведро и вышла из палаты.
После работы позвонил Саша. Он попросил ее показать сына, но в роддом никого не пускали. Тогда она поднесла ребенка к окну и подняла маленький сверток над головой. Ребенок заплакал, и мать тот час же дала ему грудь. Саша радостно жестикулировал, показывал, как любит их обоих. А потом пришла смс-ка лишь с одним словом: «Назар».
– Назар, – произнесла женщина вслух, целуя сына.
– Назар, – повторил шепотом Ангел.
– Назар? – удивился ребенок.
В это мгновение воздух вокруг стал плотным и колючим. Каждая клеточка маленького тела ощутила легкое прикосновение тысячи иголочек. Воспоминания слились в единую ленту и за доли секунды пронеслись в сознании, поднимая из глубин на поверхность пережитые однажды чувства стыда, боли, ликования, грусти и понимания, любви к кому-то невозможно близкому, невидимому, но ощутимому сердцем. Маленькое сердечко на мгновение сжалось в точку, потревоженное чувственным потоком. Казалось, оно не выдержит и взорвется, вонзаясь осколками в этот плотный воздух. Стены комнаты распахнулись, превращаясь в необъятное голубое небо, в котором пришло ощущение полета, бесконечного полета. И лучи восходящей звезды вдруг стерли последние оттиски былых воспоминаний. Пришла чистота.
Ирина положила спящего малыша на свою кровать, накрыла его теплым одеялом и отошла к окну. Она следила за тем, как голуби толкались на карнизе, как смело заглядывали в ее глаза, вытягивая свои шейки. Ирина повернулась и посмотрела на сына. Ей показалось, что малыш улыбнулся.
– Прощай, Назар. Вот теперь я больше тебе не нужен, – и Ангел поцеловал спящего малыша.
Он расправил крылья, заполняя ими пространство комнаты, подошел к окну и встал рядом с молодой женщиной. Откинув свои белоснежные волосы на левое плечо, Ангел Предопределения улыбнулся Ирине, а потом поднял руки вверх и белым голубем вылетел из палаты.
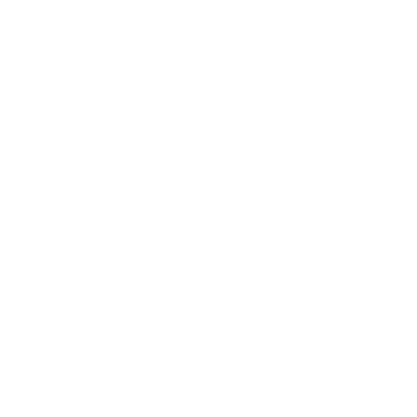
Наталия АРСКАЯ (1942-2021)
В 1968 году окончила факультет журналистики МГУ, работала в разных средствах массовой информации. Автор книг:
– «Родные лица» (изданы в 2007 и 2013 гг.) – воспоминания о писательском окружении, моей семье, поэте Павле Арском;
– трилогия об анархистах «И день сменился ночью».
Все мои произведения есть на сайте Проза.ру – www. proza.ru/avtor/tashen.
Для публикации в альманахе представлен отрывок из рассказа «Гроза».
Эл. адрес - natapetrova8@mail.ru
В 1968 году окончила факультет журналистики МГУ, работала в разных средствах массовой информации. Автор книг:
– «Родные лица» (изданы в 2007 и 2013 гг.) – воспоминания о писательском окружении, моей семье, поэте Павле Арском;
– трилогия об анархистах «И день сменился ночью».
Все мои произведения есть на сайте Проза.ру – www. proza.ru/avtor/tashen.
Для публикации в альманахе представлен отрывок из рассказа «Гроза».
Эл. адрес - natapetrova8@mail.ru
ГРОЗА
(4 и 5 главы)
4.
В пятницу у нас на работе – после окончания МГУ я второй год работала литературным редактором в издательстве «Наука», было собрание, и мы еще в прошлое воскресенье предупредили бабушку, что в следующий раз я приеду в субботу с 9-ти часовым поездом, а родители – этим же поездом в воскресенье.
Собрание было обычным, разбирали ошибки корректоров и работу редакторов. Корректорам всегда попадало потому, что у них была неправильно составлена норма, одинаковая для всех: и тех, кому доставался текст с одним только крупным шрифтом боргесом, и тех, у кого в тексте оказывались большие таблицы, иностранный текст, Библиография, примечания, мелкий текст нонпарелью или курсивом. На такие тексты приходилось затрачивать намного больше времени. Чтобы выполнить норму, корректоры под конец начинали спешить, пропускали ошибки, слова, а иногда и целые абзацы. Нормы явно устарели, и наши женщины, в основном молодежь – студенты вечерних отделений вузов и техникумов, давно уже требовали навести в этом деле порядок.
Так как меня это не касалось, я стала думать о даче, бабушке, Степаниде Матвеевне и соборовании, которое предлагает провести у кровати больной Стелла. Интересно, как наша дама из Серебряного века представляет беседу этих двух людей, зная, что Степанида не хочет общаться с отцом Георгием. Вот они встретились два бывших влюбленных, и Степанида рассказывает ему о своих грехах в молодости, в которых он сам, священник, больше всего и повинен... Я вижу его красивое лицо, умные, проницательные глаза, белесые ресницы. И… тут я услышала свое имя.
– Елена Сергеевна, вы меня слышите, – сердито обращалась ко мне заведующая нашей литературной редакцией тоже Елена, но Анатольевна по фамилии Шаховская – дальняя родственница кого-то из представителей этого знаменитого княжеского рода, при этом незамужняя, злобная тетка, всегда ходившая в одном и том же черном платье с глухим воротником.
– За последнее время на вас поступило три жалобы от наших постоянных авторов, солидных и уважаемых людей, – сверлила она меня сердитым взглядом через очки с толстыми стеклами, – вы их безжалостно редактируете, они не узнают свои тексты.
– Не могу же я оставить без правки безграмотный и бессвязный текст, – возмутилась я, встав и покраснев от обращенного на меня всеобщего внимания. – Такие рукописи нельзя принимать к работе, надо открыто говорить автору, что он написал чепуху. Есть редактор, который сделает из его беспомощных мыслей приличную книгу.
– Академик Куриленко сам способен изложить свои мысли и в чьей-либо помощи не нуждается. Он – дважды лауреат Государственной премии.
«И еще родственник министра культуры, и тесть нашего ученого секретаря», – подумала я про себя, но вслух, конечно, не осмелилась сказать, однако Шаховская сумела прочитать это на моем лице.
– Не наше дело решать, чьи книги издавать. На это есть редакционно-издательский отдел.
– Елена Анатольевна, – продолжала я отстаивать свою правоту, вспомнив слова Суворова из книги об этом полководце, которую недавно редактировала: «Невинность не требует оправдания. Всякий имеет свою систему, и я по службе имею свою. Мне не переродиться, да и поздно!». Последние слова мне особенно понравились, я взяла их на вооружение, – я вам в самом начале показывала его совершенно слабое предисловие, написанное в виде конспекта. Вы согласились, что рукопись надо вернуть на доработку. Главный редактор нас не поддержал, заявив, что мы не можем указывать академикам, как писать книги. Но ведь и издательство имеет свое лицо, его легко потерять из-за одного академика.
С моей стороны была неслыханная дерзость бросить обвинение в адрес Куриленко и главного редактора Извекова, умного, но совершенно безвольного человека, который всего и всех боялся и никогда не защищал своих сотрудников. Но меня вдруг прорвало, я терпеть не могу, когда люди врут и лицемерят, еще больше меня возмущает несправедливость.
Закончив речь, я посмотрела в зал. Все сидели, опустив головы. Боялись показать свои чувства, но в душе, наверняка, были на моей стороне. У окна две сотрудницы из отдела переводчиков – их тоже приглашали на наши собрания, быстро подняли вверх большие пальцы, что означало «Молодец!», и спрятались за спины впереди сидящих товарищей. Шаховская сверлила меня через очки ненавистным взглядом, соображая, как со мной поступить.
Не дожидаясь дальнейшего развития событий, я выскочила из зала и решила немедленно ехать на дачу. Только природа и моя милая, все понимающая бабушка могли меня успокоить.
Забежав домой – родителей еще не было, оставила на столе записку, переоделась и, набив сумки уже купленными для дачи продуктами, помчалась на вокзал.
В Тучково была обычная для пятницы картина – длинная очередь на наш автобус. Следующий придет только через час, и на него вряд ли попаду, так что иди, Елена Сергеевна, пешком. Так как я до сих пор была на взводе, то не замечала не только тяжести сумок, но и внезапно почерневшее впереди небо. В голове так и мелькало перекосившееся от злобы лицо представительницы знаменитого княжеского рода. Я продолжала с ней спорить и доказывать свою правоту. Вспомнила одну нашу законопослушную редакторшу, фотография которой постоянно висела на Доске Почета, но на нее то и дело приходили жалобы от читателей. Они указывали на непростительные для «уважаемых авторов и солидного издательства» грубые стилистические ошибки, путаницу в изложении мыслей, в датах, фамилиях и исторических фактах. Ведь Шаховская умная женщина, кстати, того же поколения, что и бабушка, а вот, однако же, идет на поводу у начальства. Нет, я буду крепко отстаивать свои позиции. «Мне не переродиться, да и поздно!», – говорим мы всем вместе с Александром Васильевичем Суворовым.
Только подойдя к подвесному мосту, я увидела, что начинается гроза: поднялся страшный ветер, тучи закрыли небо, стало темно. Мост раскачивался из стороны в сторону, как лодка на волнах. Переложив сумки в одну руку, другой держась за поручни – железный толстый трос, я с трудом продвигалась вперед, стараясь не смотреть на бурлящую внизу реку. По небу летали извилистые ленты молний и перекатывались громы, но, казалось, что все это далеко. Повернув с моста в нашу сторону, я была уверена, что успею дойти до деревни. Мне даже нравилось наблюдать за природой и вспышками молний, озарявшими ярким светом реку и окрестности.
Прошло каких-то минут пять – десять, игра молний изменилась: они уже не летали, исчезая во тьме, а неслись навстречу друг другу, чтобы слиться в одну большую стрелу и пронзить ею черное небо и такую же черную поверхность реки. Но это было только прелюдией к дальнейшей стихии. Очередная молния взвилась над самой моей головой, осветила Москву-реку и оба берега, затем раздался такой сильный удар, что, казалось, небо и земля раскололись пополам, и все живое и неживое провалилось в преисподнюю. Ветер превратился в ураган, все вокруг завыло, зарычало, небесный свод рухнул на землю в виде ливня и града.
В какой-то момент мне захотелось бросить свои сумки и побежать назад, в Молево, постучаться в крайний дом. Однако я уже достаточно отошла от моста, возвращаться назад не имело смысла. Вся моя одежда и обувь насквозь промокли. Сумки были закрыты на молнии, но все равно туда проникала вода, и они стали непомерно тяжелыми. Тут я вспомнила, что на конце поля с борщевиком находится заброшенный деревенский клуб. Окна и дверь в нем заколочены, но есть крыльцо с навесом, где можно укрыться от дождя и града.
5.
Кое-как добравшись до клуба, я, к своему удивлению, обнаружила на крыльце велосипед, прислоненный к перилам. Дверь была распахнута настежь и придерживалась увесистым камнем. Оторванные доски лежали внизу. Внутри находился кто-то из местных, застигнутых, как и я, грозой.
Поднявшись по скользким ступенькам, я смело переступила порог и остолбенела – на длинной лавке около стены горели свечи, освещая прислоненную к стене икону Богородицы и массивную коленопреклоненную фигуру в черном плаще или длинном платье. Внимательно приглядевшись, я узнала отца Георгия и, боясь себя выдать, вжалась в стену.
Священник усиленно молился, наклонив голову и сложив у груди руки. Несмотря на шум дождя и негромкий голос, можно было различить слова: он молился о здоровье женщины, и этой женщиной была Степанида Матвеевна. «Пресвятая Богородица, Матерь Божья, сына родившая для нас — Отца единого…».
Время от времени в комнату врывался ветер, свечи колебались, и икона оживала. Богородица одобрительно кивала человеку головой, губы ее шевелились, слегка улыбались. «Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, – просил он, – со слезами Тебе ныне приносимыя от нас …».
Отец Георгий все молился и молился и уже не читал текст, а, припав головой к лавке и иконе, только повторял: «Боже! Дай ей здоровье», «Боже! я во всем виноват, накажи меня, но спаси ее и раба божьего Василия».
Мне стало неловко, что я оказалась свидетельницей этой откровенной и не подлежащей чужому глазу сцены, но никакая сила не заставила бы меня покинуть помещение и вернуться на улицу, где царил сущий ад.
Так продолжалось еще с полчаса. Ураган стих, но дождь барабанил и барабанил по крыше и карнизам окон. Где-то в углу монотонно капала вода, проникая через дырявую крышу. Священник поднял голову, прислушался к тому, что происходило за стенами дома, поднялся с колен. Его тень метнулась по потолку, он показался мне еще больше ростом, чем при первой встрече в лесу. Рядом на лавке лежали белый клобук, знакомый мне холщовый мешок, поодаль стоял небольшой саквояж. Он осторожно положил в мешок икону, задул свечи, положил их огарки в железную коробку и отправил ее в саквояж. Оглядев хозяйским взглядом все помещение, провел рукой по лавке, нет ли там натеков от воска, и направился к двери. Заметил он меня или нет? Наверное, заметил, потому что оставил дверь открытой, а то обязательно закрыл бы, да еще по-хозяйски заколотил, как было до его прихода.
Со своего места я видела, как он осторожно спустил сверху велосипед, приладил на багажнике саквояж и свой клобук, предварительно положив его в полиэтиленовый пакет, мешок с иконой повесил на грудь и, усевшись всей своей тяжелой массой на хрупкое сиденье, поехал в сторону Молево.
* * *
Вся насквозь мокрая, с отяжелевшими от воды сумками, приплелась я домой, приготовившись услышать причитания бабушки, но ее не оказалось дома. Что-то в нашей деревне произошло и скорей всего это связано со Степанидой Матвеевной – не зря отец Георгий молился о ее здравии в клубе. Быстро переодевшись во все сухое и накинув на плечи теплую бабушкину кофту, я пошла по деревне и около дома Веры Николаевны увидела группу людей и бабушку.
Мое появление в такое позднее время, да еще после сумасшедшей грозы было настолько неожиданным, что все замолчали. Свалилась, как снег на голову. Потрогав мои мокрые волосы, бабушка засуетилась и немедленно повела домой. Лечить близких ее любимое занятие. Ни о чем меня не расспрашивая и сама не отвечая на вопросы, она уложила любимую внучку в постель, растерла ноги и грудь водкой и заставила выпить две чашки чая с коньяком и малиновым вареньем. После этого положила под ноги горячую грелку и, убедившись, что сделано все необходимое, чтобы я не заболела, рассказала о том, что здесь произошло.
А произошло то, что бывало уже не раз: днем Степаниде Матвеевне стало плохо на улице. Рядом оказался кто-то из мужчин-дачников, ее отнесли домой и послали за Василием. Тут инициативу проявила Стелла и отправилась к отцу Георгию, чтобы он провел соборование Степаниды или причастил ее. Впрочем, неизвестно, что было в голове у нашей эксцентричной дамы из Серебряного века.
Наслышанный о «капризах» Степаниды, отец Георгий вызвал по телефону «скорую помощь», сам приехал сюда на велосипеде и, не дожидаясь врачей, вошел в дом. Что уж он там говорил, никто из посторонних не знает. Вера Николаевна, сидевшая до этого с больной, деликатно удалилась в другую комнату. Однако, будучи наблюдательной, она заметила, что, когда на пороге возник священник, Степанида не возмутилась, как можно было от нее ожидать, а вся просветлела. На ее лице появилось подобие улыбки. Вот тебе и депрессия! Иногда нужны просто решительные действия и важные слова кого-то одного из конфликтующих сторон. Да и один вид батюшки чего стоил, когда он вошел: в белом клобуке, в черной рясе с наперсным крестом и роскошной бородой. Это был не тот Андрей, чей образ она хранила в своей памяти, возможно, продолжая его любить или ненавидеть – этого никто не знает, а – сам посланник Бога (именно такое впечатление он произвел на женщин, стоявших в это время на улице около дома Степаниды).
Когда приехала «скорая», Вера Николаевна вернулась в комнату и увидела на столе церковные предметы. Возможно, отец Георгий успел за это время с ней поговорить и соборовать.
Священник что-то объяснил врачам, видимо, они его знали, и вышел на крыльцо. Одновременно со «скорой» появились Василий и Светлана.
Степаниде сделали электрокардиограмму, поставили капельницу и под этой капельницей увезли в Можайск. Вера Николаевна опять удивилась, что больная не только не возражала, а сама попросила ее скорее вылечить. Василий и Светлана поехали с ней. Отец Георгий еще долго был в деревне, беседовал с людьми, заходил в дома, а при приближении грозы заспешил в Молево.
– Видно, что достойный человек, – сказала бабушка. – Такие батюшки были до революции. Ему вполне можно довериться, хотя, говорят, у него в прошлом были темные пятна. Да ты, наверное, встретила его по дороге.
– Видела издалека, – сказала я, боясь трогать эту тему, как что-то сокровенное и необходимое в тот момент для этого удивительного человека.
– Как ты думаешь, бабуля, что же все-таки заставило Степаниду Матвеевну изменить свое решение?
– Смирила свою гордыню.
– Гордыню?
– Вот именно гордыню. Люди от нее отвернулись, и она от всех отвернулась, сама из себя сделала жертву, мучилась, страдала и одновременно гордилась этим – мол, вот я какая, сильнее и лучше вас всех, в вашей дружбе и любви не нуждаюсь. Выстроила крепость и не знала, как из нее выбраться. Священник помог ей в этом. А вот скажи мне, Еленушка, почему ты сегодня приехала, да еще так поздно, ведь ты собиралась завтра к обеду. У тебя тоже что-то случилось?
– Да как тебе сказать, бабуля, – обрадовалась я, что бабушка сама предложила мне облегчить душу, и рассказала ей о собрании в издательстве и своем выступлении.
– Вот, видишь, девочка, и в тебе заговорила гордыня, решила, что ты умней и лучше других. Унизила свою начальницу, оскорбила уважаемого академика и главного редактора.
– Нет, это не так. Зачем браться за книгу, если не умеешь излагать свои мысли, тем более, когда речь идет о популярной литературе.
– А ты не думала о том, что Шаховская, возможно, права: тебе легче переписать текст, чем его отредактировать, поработать над ним, сохранив язык и стиль автора.
– Ну, бабушка…
– Представь, что кто-то поступил также с папиными работами. Ему бы это не понравилось.
– Папа сам всегда со мной советуется, и Степичев дает читать свои статьи.
– Все равно, Леночка, надо учиться жить в коллективе, видеть в людях хорошее и к себе относиться критично. Это непросто, но иначе нельзя, а то окажешься в одиночестве, как Степанида. Любовь и уважение можно завоевать только любовью, а где сильна гордыня, там не бывает ни того, ни другого, а только ожесточение.
Вот такой я получила неожиданный урок от бабушки, он мне впоследствии очень пригодился.
Степанида Матвеевна через месяц вернулась домой. Ее как будто подменили. Она ожила, стала выходить на улицу, сидеть около дома на лавочке, одна или с кем-нибудь из деревенских или дачников. Несколько раз даже присоединилась к нашим путешественницам за водой на Святой источник. Особенно она подружилась со Стеллой. Та постоянно ходила на службы в Молево, и Степаниду интересовало все, что было связано с отцом Георгием и ее сыном.
Василий и сам от матери ничего не скрывал. Дачникам рассказывал, что священник хотел его окрестить, но он отказался, потому что не может осилить Библию и ничего в этом деле не понимает. И Светка не понимает, хотя в церковь ходит. Так это ее личное дело. А вот во всех добрых делах он батюшке помогает... О них в основном и рассказывал, называя отца священником или отцом Георгием. Один раз при мне назвал его ласково «батя», восхищаясь, что тот не брезгует общаться с опустившимися и больными людьми.
– Где же вы таких людей нашли, неужели в Тучково? – интересовались наши женщины.
– Не, на Белорусском вокзале. Мы с отцом Георгием им еду и одежду по вечерам возим. Вчера трем женщинам вызвали «скорую» и отправили в больницу, видели бы, какие у них ноги, все в струпьях. Батя сказал, что без нас их «скорая» бы не взяла, больно хлопотно. Для бомжей надо специальные приюты и больницы строить, как раньше при царе было. Только наше общество не хочет этого, оно их не замечает, – повторил он слова отца, даже голос под него подделывал.
Всех, конечно, интересовали отношения между Степанидой и отцом Георгием, Степанидой и попадьей. И если со священником было более-менее ясно, то вопрос с попадьей оставался открытым. Анисия Григорьевна узнала от молевских баб, что на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа священник через Василия предлагал заехать за матерью на машине, отстоять службу в храме, потом всем вместе (Степанида и Василий с семьей) зайти к ним в гости на обед. Степанида отказалась, сославшись на то, что ей тяжело стоять на ногах.
– Опять свою гордыню показывает, – осудила ее хозяйка, точь-в-точь повторив слова бабушки.
Так никто и не знал, познакомились эти две женщины или нет. Мне было страшно, что опять найдутся завистливые люди, которые постараются разорвать наладившиеся отношения между Степанидой и священником. Я поделилась своими опасениями с бабушкой. Она меня успокоила, что все теперь зависит от отца Георгия, а тот никогда от своего не отступится, да и Василий твердо стоит на стороне отца.
* * *
На следующий год, по настоянию мамы и через ее знакомых, мы сняли дачу в Голицыно, по той же Белорусской дороге, что и Тучково, но намного ближе к Москве. В доме были идеальные условия: две большие комнаты с террасой, отопление, горячая вода, душ в доме (но туалет на улице), своя газовая плита, приличная хозяйская мебель, четыре спальных места. На нашей половине участка росли сосны, березы и две роскошные рябины – кусочек настоящего леса.
Бабушка много читала, готовила обед и гуляла одна или с соседкой-художницей по широким улицам поселка, где в разные годы проживало много знаменитостей и находился Дом творчества писателей. Кроме художницы, она общалась еще с двумя соседками – поэтессами, довольно деятельными дамами почтенного возраста. Иногда мы ходили с ними на творческие встречи в библиотеку Дома творчества и слушали писателей, предпочитавших рассказывать не о себе и своих произведениях, а о том, как они когда-то отдыхали здесь вместе с Ахматовой, Анастасией Цветаевой, братьями Стругацкими, Паустовским, Катаевым и другими столпами советской литературы.
Это был совсем другой мир, не тот, что в Ключах, и нам с бабушкой там нравилось намного больше. Мы с ней, да и папа тоже, часто вспоминали нашу деревеньку на берегу Москвы-реки, «Сиреневый бульвар», посиделки на лавочке и всех наших замечательных дачников и хозяев.
От моей подруги Марины мы знали, что там все живы и здоровы. Была и интересная новость. Отец Георгий договорился с местной администрацией и епархией устроить в старом клубе часовню, чтобы пожилые люди из Ключей могли туда приходить помолиться, приложиться к иконам, оставить поминальные записки. К этой мысли его подтолкнули воспоминания старожилов Молево о том, что до революции помещики из Ключей имели свою домовую церковь. Дотошный батюшка разыскал в архивах фотографии барской усадьбы с пристройками и верандой. Действительно, на восточном торце дома виднелся фигурный аттик домовой церкви с луковичной главкой.
Вместе с сыном и энтузиастами из молевских прихожан они провели в доме основательный ремонт, переложили заново крышу, оформили, как полагается, внутреннее убранство помещения. Затем над крышей появилась небольшая деревянная маковка с крестом, над входом – надвратная икона святителя Николая Чудотворца. Кто бы мог подумать, что старый клуб, сыгравший такую огромную роль в судьбе Степаниды Матвеевны и самого священника, приобретет новую жизнь?
Бабушка еще несколько лет перезванивалась с Верой Николаевной. Потом наш врач умер. И постепенно вся эта история отошла в прошлое.
(4 и 5 главы)
4.
В пятницу у нас на работе – после окончания МГУ я второй год работала литературным редактором в издательстве «Наука», было собрание, и мы еще в прошлое воскресенье предупредили бабушку, что в следующий раз я приеду в субботу с 9-ти часовым поездом, а родители – этим же поездом в воскресенье.
Собрание было обычным, разбирали ошибки корректоров и работу редакторов. Корректорам всегда попадало потому, что у них была неправильно составлена норма, одинаковая для всех: и тех, кому доставался текст с одним только крупным шрифтом боргесом, и тех, у кого в тексте оказывались большие таблицы, иностранный текст, Библиография, примечания, мелкий текст нонпарелью или курсивом. На такие тексты приходилось затрачивать намного больше времени. Чтобы выполнить норму, корректоры под конец начинали спешить, пропускали ошибки, слова, а иногда и целые абзацы. Нормы явно устарели, и наши женщины, в основном молодежь – студенты вечерних отделений вузов и техникумов, давно уже требовали навести в этом деле порядок.
Так как меня это не касалось, я стала думать о даче, бабушке, Степаниде Матвеевне и соборовании, которое предлагает провести у кровати больной Стелла. Интересно, как наша дама из Серебряного века представляет беседу этих двух людей, зная, что Степанида не хочет общаться с отцом Георгием. Вот они встретились два бывших влюбленных, и Степанида рассказывает ему о своих грехах в молодости, в которых он сам, священник, больше всего и повинен... Я вижу его красивое лицо, умные, проницательные глаза, белесые ресницы. И… тут я услышала свое имя.
– Елена Сергеевна, вы меня слышите, – сердито обращалась ко мне заведующая нашей литературной редакцией тоже Елена, но Анатольевна по фамилии Шаховская – дальняя родственница кого-то из представителей этого знаменитого княжеского рода, при этом незамужняя, злобная тетка, всегда ходившая в одном и том же черном платье с глухим воротником.
– За последнее время на вас поступило три жалобы от наших постоянных авторов, солидных и уважаемых людей, – сверлила она меня сердитым взглядом через очки с толстыми стеклами, – вы их безжалостно редактируете, они не узнают свои тексты.
– Не могу же я оставить без правки безграмотный и бессвязный текст, – возмутилась я, встав и покраснев от обращенного на меня всеобщего внимания. – Такие рукописи нельзя принимать к работе, надо открыто говорить автору, что он написал чепуху. Есть редактор, который сделает из его беспомощных мыслей приличную книгу.
– Академик Куриленко сам способен изложить свои мысли и в чьей-либо помощи не нуждается. Он – дважды лауреат Государственной премии.
«И еще родственник министра культуры, и тесть нашего ученого секретаря», – подумала я про себя, но вслух, конечно, не осмелилась сказать, однако Шаховская сумела прочитать это на моем лице.
– Не наше дело решать, чьи книги издавать. На это есть редакционно-издательский отдел.
– Елена Анатольевна, – продолжала я отстаивать свою правоту, вспомнив слова Суворова из книги об этом полководце, которую недавно редактировала: «Невинность не требует оправдания. Всякий имеет свою систему, и я по службе имею свою. Мне не переродиться, да и поздно!». Последние слова мне особенно понравились, я взяла их на вооружение, – я вам в самом начале показывала его совершенно слабое предисловие, написанное в виде конспекта. Вы согласились, что рукопись надо вернуть на доработку. Главный редактор нас не поддержал, заявив, что мы не можем указывать академикам, как писать книги. Но ведь и издательство имеет свое лицо, его легко потерять из-за одного академика.
С моей стороны была неслыханная дерзость бросить обвинение в адрес Куриленко и главного редактора Извекова, умного, но совершенно безвольного человека, который всего и всех боялся и никогда не защищал своих сотрудников. Но меня вдруг прорвало, я терпеть не могу, когда люди врут и лицемерят, еще больше меня возмущает несправедливость.
Закончив речь, я посмотрела в зал. Все сидели, опустив головы. Боялись показать свои чувства, но в душе, наверняка, были на моей стороне. У окна две сотрудницы из отдела переводчиков – их тоже приглашали на наши собрания, быстро подняли вверх большие пальцы, что означало «Молодец!», и спрятались за спины впереди сидящих товарищей. Шаховская сверлила меня через очки ненавистным взглядом, соображая, как со мной поступить.
Не дожидаясь дальнейшего развития событий, я выскочила из зала и решила немедленно ехать на дачу. Только природа и моя милая, все понимающая бабушка могли меня успокоить.
Забежав домой – родителей еще не было, оставила на столе записку, переоделась и, набив сумки уже купленными для дачи продуктами, помчалась на вокзал.
В Тучково была обычная для пятницы картина – длинная очередь на наш автобус. Следующий придет только через час, и на него вряд ли попаду, так что иди, Елена Сергеевна, пешком. Так как я до сих пор была на взводе, то не замечала не только тяжести сумок, но и внезапно почерневшее впереди небо. В голове так и мелькало перекосившееся от злобы лицо представительницы знаменитого княжеского рода. Я продолжала с ней спорить и доказывать свою правоту. Вспомнила одну нашу законопослушную редакторшу, фотография которой постоянно висела на Доске Почета, но на нее то и дело приходили жалобы от читателей. Они указывали на непростительные для «уважаемых авторов и солидного издательства» грубые стилистические ошибки, путаницу в изложении мыслей, в датах, фамилиях и исторических фактах. Ведь Шаховская умная женщина, кстати, того же поколения, что и бабушка, а вот, однако же, идет на поводу у начальства. Нет, я буду крепко отстаивать свои позиции. «Мне не переродиться, да и поздно!», – говорим мы всем вместе с Александром Васильевичем Суворовым.
Только подойдя к подвесному мосту, я увидела, что начинается гроза: поднялся страшный ветер, тучи закрыли небо, стало темно. Мост раскачивался из стороны в сторону, как лодка на волнах. Переложив сумки в одну руку, другой держась за поручни – железный толстый трос, я с трудом продвигалась вперед, стараясь не смотреть на бурлящую внизу реку. По небу летали извилистые ленты молний и перекатывались громы, но, казалось, что все это далеко. Повернув с моста в нашу сторону, я была уверена, что успею дойти до деревни. Мне даже нравилось наблюдать за природой и вспышками молний, озарявшими ярким светом реку и окрестности.
Прошло каких-то минут пять – десять, игра молний изменилась: они уже не летали, исчезая во тьме, а неслись навстречу друг другу, чтобы слиться в одну большую стрелу и пронзить ею черное небо и такую же черную поверхность реки. Но это было только прелюдией к дальнейшей стихии. Очередная молния взвилась над самой моей головой, осветила Москву-реку и оба берега, затем раздался такой сильный удар, что, казалось, небо и земля раскололись пополам, и все живое и неживое провалилось в преисподнюю. Ветер превратился в ураган, все вокруг завыло, зарычало, небесный свод рухнул на землю в виде ливня и града.
В какой-то момент мне захотелось бросить свои сумки и побежать назад, в Молево, постучаться в крайний дом. Однако я уже достаточно отошла от моста, возвращаться назад не имело смысла. Вся моя одежда и обувь насквозь промокли. Сумки были закрыты на молнии, но все равно туда проникала вода, и они стали непомерно тяжелыми. Тут я вспомнила, что на конце поля с борщевиком находится заброшенный деревенский клуб. Окна и дверь в нем заколочены, но есть крыльцо с навесом, где можно укрыться от дождя и града.
5.
Кое-как добравшись до клуба, я, к своему удивлению, обнаружила на крыльце велосипед, прислоненный к перилам. Дверь была распахнута настежь и придерживалась увесистым камнем. Оторванные доски лежали внизу. Внутри находился кто-то из местных, застигнутых, как и я, грозой.
Поднявшись по скользким ступенькам, я смело переступила порог и остолбенела – на длинной лавке около стены горели свечи, освещая прислоненную к стене икону Богородицы и массивную коленопреклоненную фигуру в черном плаще или длинном платье. Внимательно приглядевшись, я узнала отца Георгия и, боясь себя выдать, вжалась в стену.
Священник усиленно молился, наклонив голову и сложив у груди руки. Несмотря на шум дождя и негромкий голос, можно было различить слова: он молился о здоровье женщины, и этой женщиной была Степанида Матвеевна. «Пресвятая Богородица, Матерь Божья, сына родившая для нас — Отца единого…».
Время от времени в комнату врывался ветер, свечи колебались, и икона оживала. Богородица одобрительно кивала человеку головой, губы ее шевелились, слегка улыбались. «Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, – просил он, – со слезами Тебе ныне приносимыя от нас …».
Отец Георгий все молился и молился и уже не читал текст, а, припав головой к лавке и иконе, только повторял: «Боже! Дай ей здоровье», «Боже! я во всем виноват, накажи меня, но спаси ее и раба божьего Василия».
Мне стало неловко, что я оказалась свидетельницей этой откровенной и не подлежащей чужому глазу сцены, но никакая сила не заставила бы меня покинуть помещение и вернуться на улицу, где царил сущий ад.
Так продолжалось еще с полчаса. Ураган стих, но дождь барабанил и барабанил по крыше и карнизам окон. Где-то в углу монотонно капала вода, проникая через дырявую крышу. Священник поднял голову, прислушался к тому, что происходило за стенами дома, поднялся с колен. Его тень метнулась по потолку, он показался мне еще больше ростом, чем при первой встрече в лесу. Рядом на лавке лежали белый клобук, знакомый мне холщовый мешок, поодаль стоял небольшой саквояж. Он осторожно положил в мешок икону, задул свечи, положил их огарки в железную коробку и отправил ее в саквояж. Оглядев хозяйским взглядом все помещение, провел рукой по лавке, нет ли там натеков от воска, и направился к двери. Заметил он меня или нет? Наверное, заметил, потому что оставил дверь открытой, а то обязательно закрыл бы, да еще по-хозяйски заколотил, как было до его прихода.
Со своего места я видела, как он осторожно спустил сверху велосипед, приладил на багажнике саквояж и свой клобук, предварительно положив его в полиэтиленовый пакет, мешок с иконой повесил на грудь и, усевшись всей своей тяжелой массой на хрупкое сиденье, поехал в сторону Молево.
* * *
Вся насквозь мокрая, с отяжелевшими от воды сумками, приплелась я домой, приготовившись услышать причитания бабушки, но ее не оказалось дома. Что-то в нашей деревне произошло и скорей всего это связано со Степанидой Матвеевной – не зря отец Георгий молился о ее здравии в клубе. Быстро переодевшись во все сухое и накинув на плечи теплую бабушкину кофту, я пошла по деревне и около дома Веры Николаевны увидела группу людей и бабушку.
Мое появление в такое позднее время, да еще после сумасшедшей грозы было настолько неожиданным, что все замолчали. Свалилась, как снег на голову. Потрогав мои мокрые волосы, бабушка засуетилась и немедленно повела домой. Лечить близких ее любимое занятие. Ни о чем меня не расспрашивая и сама не отвечая на вопросы, она уложила любимую внучку в постель, растерла ноги и грудь водкой и заставила выпить две чашки чая с коньяком и малиновым вареньем. После этого положила под ноги горячую грелку и, убедившись, что сделано все необходимое, чтобы я не заболела, рассказала о том, что здесь произошло.
А произошло то, что бывало уже не раз: днем Степаниде Матвеевне стало плохо на улице. Рядом оказался кто-то из мужчин-дачников, ее отнесли домой и послали за Василием. Тут инициативу проявила Стелла и отправилась к отцу Георгию, чтобы он провел соборование Степаниды или причастил ее. Впрочем, неизвестно, что было в голове у нашей эксцентричной дамы из Серебряного века.
Наслышанный о «капризах» Степаниды, отец Георгий вызвал по телефону «скорую помощь», сам приехал сюда на велосипеде и, не дожидаясь врачей, вошел в дом. Что уж он там говорил, никто из посторонних не знает. Вера Николаевна, сидевшая до этого с больной, деликатно удалилась в другую комнату. Однако, будучи наблюдательной, она заметила, что, когда на пороге возник священник, Степанида не возмутилась, как можно было от нее ожидать, а вся просветлела. На ее лице появилось подобие улыбки. Вот тебе и депрессия! Иногда нужны просто решительные действия и важные слова кого-то одного из конфликтующих сторон. Да и один вид батюшки чего стоил, когда он вошел: в белом клобуке, в черной рясе с наперсным крестом и роскошной бородой. Это был не тот Андрей, чей образ она хранила в своей памяти, возможно, продолжая его любить или ненавидеть – этого никто не знает, а – сам посланник Бога (именно такое впечатление он произвел на женщин, стоявших в это время на улице около дома Степаниды).
Когда приехала «скорая», Вера Николаевна вернулась в комнату и увидела на столе церковные предметы. Возможно, отец Георгий успел за это время с ней поговорить и соборовать.
Священник что-то объяснил врачам, видимо, они его знали, и вышел на крыльцо. Одновременно со «скорой» появились Василий и Светлана.
Степаниде сделали электрокардиограмму, поставили капельницу и под этой капельницей увезли в Можайск. Вера Николаевна опять удивилась, что больная не только не возражала, а сама попросила ее скорее вылечить. Василий и Светлана поехали с ней. Отец Георгий еще долго был в деревне, беседовал с людьми, заходил в дома, а при приближении грозы заспешил в Молево.
– Видно, что достойный человек, – сказала бабушка. – Такие батюшки были до революции. Ему вполне можно довериться, хотя, говорят, у него в прошлом были темные пятна. Да ты, наверное, встретила его по дороге.
– Видела издалека, – сказала я, боясь трогать эту тему, как что-то сокровенное и необходимое в тот момент для этого удивительного человека.
– Как ты думаешь, бабуля, что же все-таки заставило Степаниду Матвеевну изменить свое решение?
– Смирила свою гордыню.
– Гордыню?
– Вот именно гордыню. Люди от нее отвернулись, и она от всех отвернулась, сама из себя сделала жертву, мучилась, страдала и одновременно гордилась этим – мол, вот я какая, сильнее и лучше вас всех, в вашей дружбе и любви не нуждаюсь. Выстроила крепость и не знала, как из нее выбраться. Священник помог ей в этом. А вот скажи мне, Еленушка, почему ты сегодня приехала, да еще так поздно, ведь ты собиралась завтра к обеду. У тебя тоже что-то случилось?
– Да как тебе сказать, бабуля, – обрадовалась я, что бабушка сама предложила мне облегчить душу, и рассказала ей о собрании в издательстве и своем выступлении.
– Вот, видишь, девочка, и в тебе заговорила гордыня, решила, что ты умней и лучше других. Унизила свою начальницу, оскорбила уважаемого академика и главного редактора.
– Нет, это не так. Зачем браться за книгу, если не умеешь излагать свои мысли, тем более, когда речь идет о популярной литературе.
– А ты не думала о том, что Шаховская, возможно, права: тебе легче переписать текст, чем его отредактировать, поработать над ним, сохранив язык и стиль автора.
– Ну, бабушка…
– Представь, что кто-то поступил также с папиными работами. Ему бы это не понравилось.
– Папа сам всегда со мной советуется, и Степичев дает читать свои статьи.
– Все равно, Леночка, надо учиться жить в коллективе, видеть в людях хорошее и к себе относиться критично. Это непросто, но иначе нельзя, а то окажешься в одиночестве, как Степанида. Любовь и уважение можно завоевать только любовью, а где сильна гордыня, там не бывает ни того, ни другого, а только ожесточение.
Вот такой я получила неожиданный урок от бабушки, он мне впоследствии очень пригодился.
Степанида Матвеевна через месяц вернулась домой. Ее как будто подменили. Она ожила, стала выходить на улицу, сидеть около дома на лавочке, одна или с кем-нибудь из деревенских или дачников. Несколько раз даже присоединилась к нашим путешественницам за водой на Святой источник. Особенно она подружилась со Стеллой. Та постоянно ходила на службы в Молево, и Степаниду интересовало все, что было связано с отцом Георгием и ее сыном.
Василий и сам от матери ничего не скрывал. Дачникам рассказывал, что священник хотел его окрестить, но он отказался, потому что не может осилить Библию и ничего в этом деле не понимает. И Светка не понимает, хотя в церковь ходит. Так это ее личное дело. А вот во всех добрых делах он батюшке помогает... О них в основном и рассказывал, называя отца священником или отцом Георгием. Один раз при мне назвал его ласково «батя», восхищаясь, что тот не брезгует общаться с опустившимися и больными людьми.
– Где же вы таких людей нашли, неужели в Тучково? – интересовались наши женщины.
– Не, на Белорусском вокзале. Мы с отцом Георгием им еду и одежду по вечерам возим. Вчера трем женщинам вызвали «скорую» и отправили в больницу, видели бы, какие у них ноги, все в струпьях. Батя сказал, что без нас их «скорая» бы не взяла, больно хлопотно. Для бомжей надо специальные приюты и больницы строить, как раньше при царе было. Только наше общество не хочет этого, оно их не замечает, – повторил он слова отца, даже голос под него подделывал.
Всех, конечно, интересовали отношения между Степанидой и отцом Георгием, Степанидой и попадьей. И если со священником было более-менее ясно, то вопрос с попадьей оставался открытым. Анисия Григорьевна узнала от молевских баб, что на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа священник через Василия предлагал заехать за матерью на машине, отстоять службу в храме, потом всем вместе (Степанида и Василий с семьей) зайти к ним в гости на обед. Степанида отказалась, сославшись на то, что ей тяжело стоять на ногах.
– Опять свою гордыню показывает, – осудила ее хозяйка, точь-в-точь повторив слова бабушки.
Так никто и не знал, познакомились эти две женщины или нет. Мне было страшно, что опять найдутся завистливые люди, которые постараются разорвать наладившиеся отношения между Степанидой и священником. Я поделилась своими опасениями с бабушкой. Она меня успокоила, что все теперь зависит от отца Георгия, а тот никогда от своего не отступится, да и Василий твердо стоит на стороне отца.
* * *
На следующий год, по настоянию мамы и через ее знакомых, мы сняли дачу в Голицыно, по той же Белорусской дороге, что и Тучково, но намного ближе к Москве. В доме были идеальные условия: две большие комнаты с террасой, отопление, горячая вода, душ в доме (но туалет на улице), своя газовая плита, приличная хозяйская мебель, четыре спальных места. На нашей половине участка росли сосны, березы и две роскошные рябины – кусочек настоящего леса.
Бабушка много читала, готовила обед и гуляла одна или с соседкой-художницей по широким улицам поселка, где в разные годы проживало много знаменитостей и находился Дом творчества писателей. Кроме художницы, она общалась еще с двумя соседками – поэтессами, довольно деятельными дамами почтенного возраста. Иногда мы ходили с ними на творческие встречи в библиотеку Дома творчества и слушали писателей, предпочитавших рассказывать не о себе и своих произведениях, а о том, как они когда-то отдыхали здесь вместе с Ахматовой, Анастасией Цветаевой, братьями Стругацкими, Паустовским, Катаевым и другими столпами советской литературы.
Это был совсем другой мир, не тот, что в Ключах, и нам с бабушкой там нравилось намного больше. Мы с ней, да и папа тоже, часто вспоминали нашу деревеньку на берегу Москвы-реки, «Сиреневый бульвар», посиделки на лавочке и всех наших замечательных дачников и хозяев.
От моей подруги Марины мы знали, что там все живы и здоровы. Была и интересная новость. Отец Георгий договорился с местной администрацией и епархией устроить в старом клубе часовню, чтобы пожилые люди из Ключей могли туда приходить помолиться, приложиться к иконам, оставить поминальные записки. К этой мысли его подтолкнули воспоминания старожилов Молево о том, что до революции помещики из Ключей имели свою домовую церковь. Дотошный батюшка разыскал в архивах фотографии барской усадьбы с пристройками и верандой. Действительно, на восточном торце дома виднелся фигурный аттик домовой церкви с луковичной главкой.
Вместе с сыном и энтузиастами из молевских прихожан они провели в доме основательный ремонт, переложили заново крышу, оформили, как полагается, внутреннее убранство помещения. Затем над крышей появилась небольшая деревянная маковка с крестом, над входом – надвратная икона святителя Николая Чудотворца. Кто бы мог подумать, что старый клуб, сыгравший такую огромную роль в судьбе Степаниды Матвеевны и самого священника, приобретет новую жизнь?
Бабушка еще несколько лет перезванивалась с Верой Николаевной. Потом наш врач умер. И постепенно вся эта история отошла в прошлое.

