Текст альманаха «Новое слово» №6 2020 год
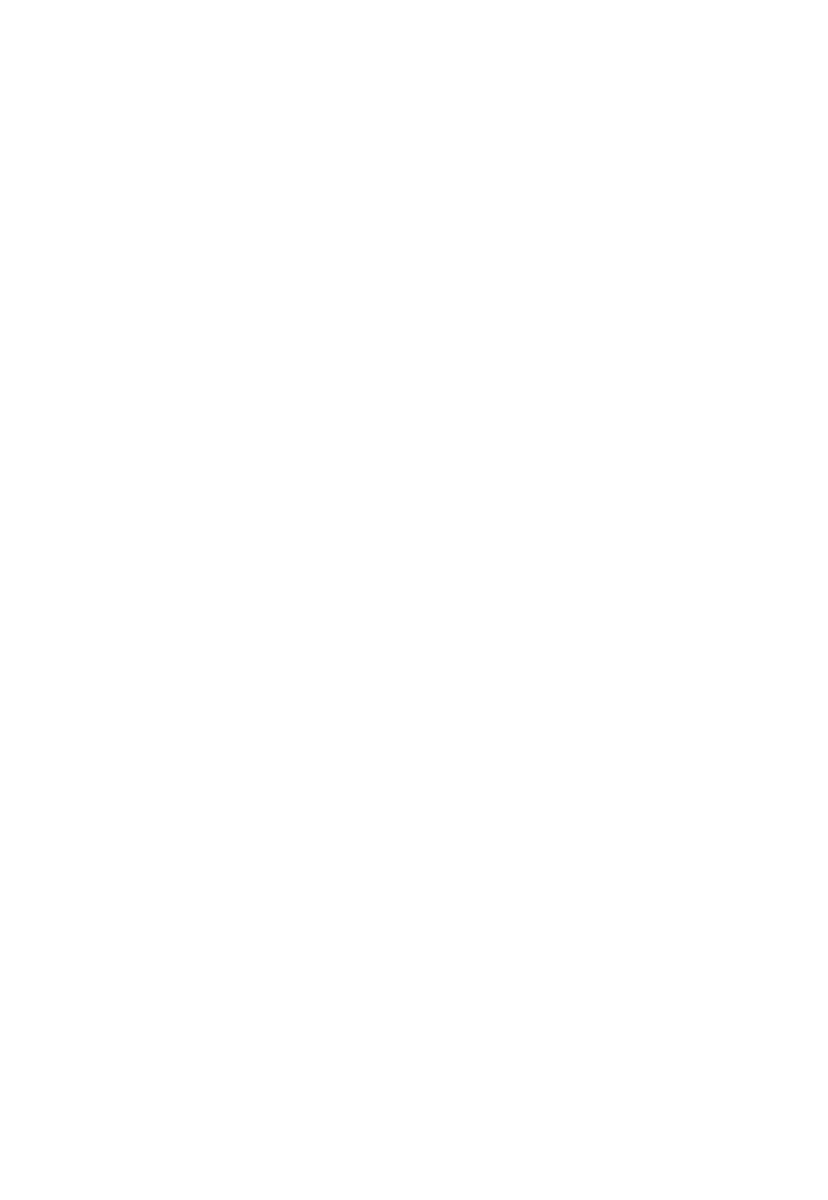
150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича БУНИНА посвящается
Содержание:
Владимир ИЛЬИЦКИЙ – «К 150-летию И.А.Бунина»
Дарья ЩЕДРИНА – «Снегурочка и медведь»
Ольга КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ – «Через две зимы»
Роман БРЮХАНОВ – «Тренд»
Светлана ГРИНЬКО – «Встреча»
Анна ДЕМИДОВА – «Когда идут в кадеты», «Четыре четверти любви»
Ирина КОСТИНА – «Голос»
Дарья СИЛКАЧЕВА – «Пашка»
Александр КОРОЛЕВ – «Рука Енисея», «Журавли»
Сергей МАЛУХИН – «Осенняя прогулка»
Михаил МОНАСТЫРСКИЙ – «Там времени нет»
Нина ШАМАРИНА – «Чайная рапсодия», «Рассказ о Даме, окровавленном человеке и плетеном стуле», «Влюбленный Кащей»
Евгений ШИЛОВ – «Папино наследство»
Валерий ФЕДОСОВ – «Rio Madeira»
Виктор ЗУБАРЕВ – «Вот это космос!»
Николай ШОЛАСТЕР – «Встреча», «Живые картинки»
Лариса КЕФФЕЛЬ – «Римские каникулы»
Содержание:
Владимир ИЛЬИЦКИЙ – «К 150-летию И.А.Бунина»
Дарья ЩЕДРИНА – «Снегурочка и медведь»
Ольга КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ – «Через две зимы»
Роман БРЮХАНОВ – «Тренд»
Светлана ГРИНЬКО – «Встреча»
Анна ДЕМИДОВА – «Когда идут в кадеты», «Четыре четверти любви»
Ирина КОСТИНА – «Голос»
Дарья СИЛКАЧЕВА – «Пашка»
Александр КОРОЛЕВ – «Рука Енисея», «Журавли»
Сергей МАЛУХИН – «Осенняя прогулка»
Михаил МОНАСТЫРСКИЙ – «Там времени нет»
Нина ШАМАРИНА – «Чайная рапсодия», «Рассказ о Даме, окровавленном человеке и плетеном стуле», «Влюбленный Кащей»
Евгений ШИЛОВ – «Папино наследство»
Валерий ФЕДОСОВ – «Rio Madeira»
Виктор ЗУБАРЕВ – «Вот это космос!»
Николай ШОЛАСТЕР – «Встреча», «Живые картинки»
Лариса КЕФФЕЛЬ – «Римские каникулы»
Шестой номер литературно-художественого альманаха «Новое Слово» посвящен 150-летию русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина, одного из авторов (в 1907 г.) «литературного товарищеского сборника «Новое Слово», основанного в России в 1895 году. Продолжая традиции русской литературы, авторы настоящего альманаха в своих рассказах продолжают искать ответы на извечные русские вопросы, рассказывают о перипетиях отношений наших соотечественников с Родиной и теми странами, куда забрасывала их судьба, анализируют нравственные потери, технические достижения и спорят о судьбах России в наступившем новом XXI веке.
«КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ...»
Ровно 100 лет отделяет нас от ноября 1920 года, от событий «великого исхода», когда последние офицеры Российской империи вместе с членами семей покинули полуостров Крым и направились в полную неизвестность, в новую жизнь и в новые страны, в которых, собственно, их никто и не ждал. Из портов Крымского полуострова (Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта) вышло 126 судов, почти 150 тысяч человек спешно покинули Родину. Но даже уходя – они уходили «парадом» (последний парад состоялся в Севастополе 3-го ноября 1920 года под командованием генерала Врангеля).
А двумя годами ранее, в 1918 году, великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин (чье 150-летие мы отмечали в октябре 2020 года) ехал в санитарном вагоне вместе с пленными немцами в сторону Одессы, покидая любимую Москву, но еще намереваясь вернуться, когда «все это закончится». И даже в Одессе, в которой каждый день звучала стрельба, и нечем было отапливать жилье, Иван Алексеевич еще раздумывал об эмиграции, – ему не хотелось покидать Родину. Но в том же роковом 1920-м, он под влиянием родных и друзей принимает тяжелое решение — уезжать.
28 марта 1920 года Бунины прибыли в Париж. В первые годы эмиграции Бунин долго ничего не писал — душа не лежала. Лишь приводил в порядок дневниковые записи, сделанные в Одессе в 1918-1919 годах. Творческое молчание окончилось в 1921 году, Бунин написал рассказы «Третий класс», «Ночь отречения», «Преображение», во многом автобиографичный «Конец» и другие. Жизнь в эмиграции была полна тоски, безысходности, постоянной нехватки средств на поддержку семьи... и надежд.
И когда мальчик-посыльный принес домой, где проживали Бунины, телеграмму из Стокгольма о присуждении Ивану Алексеевичу Нобелевской премии, его жена, Вера Николаевна не могла отыскать в доме несколько монет чаевых.
В 1940 году Францию захватывают немцы, родные и друзья Ивана Алексеевича предлагают ему переехать на постоянное местожительство в США, но Бунин еще и тогда... надеется на возвращение в далекую, но родную Россию. Надеется, что «все ЭТО закончится». Но надеждам уже не суждено сбыться, и эта незаживающая рана тоски по настоящей Родине все больше и больше пронзительными красками «звучит» в произведениях Бунина – рассказы «Роза Иерихона», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Божье древо» все сильнее и сильнее отличаются от его первых прозаических работ.
Какой-то особенно напряженный литературный «нерв», который соединяет нас с творчеством Бунина, и который «звенит» и жжёт, словно электричеством, – мы остро чувствуем именно сегодня, в год, когда на мир обрушивается эпидемия, к масштабам которой мы были не готовы ни физически, ни морально, ни духовно. И сейчас, как и полгода назад, многие из нас пребывают в карантине, продолжают работать на «удаленке» («отделенке» или «обделенке»?) и по вечерам пытаются «забыться» под screenlife-сериал «Окаянные дни»*. Мы проживаем сложные годы истории страны, сложные финансово, технически, геополитически и, конечно, духовно напряженные. Потому что любые перемены – они, конечно (возможно?), к лучшему, но они – бьют больно, поражают в самое сердце, и многие считают, что это не лучшие годы... Но «времена не выбирают...» Самые страшные времена – когда люди забывают о «по-настоящему страшных временах» и радуются и веселятся, в тот момент, когда нужно собраться, внутренне и духовно, не паниковать, заниматься любимым делом, учиться и быть полезным родной семье и своей стране.
«Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». (И.А.Бунин)
Во многих рассказах, собранных в этом номере нашего альманаха, который выходит к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина, словно миниатюрными колокольчиками, тоже звенит извечный русский вопрос: «Что будет, когда все это закончится. Какими мы будем?». И каждое произведение наших талантливых авторов по-своему ищет ответы на эти вопросы. Наши авторы не только с нескрываемым уважением и сыновней почтительностью относятся к русской литературе, но и в каждом номере стараются вспомнить классиков, не просто отдавая дань, а – учатся читать, учатся писать, учатся говорить у русской литературы, потому что именно в русской литературе скрыты великие смыслы, которые ищут все думающие люди.
Ищут и находят.
А когда находят – спешат поделиться с другими.
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
«КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ...»
Ровно 100 лет отделяет нас от ноября 1920 года, от событий «великого исхода», когда последние офицеры Российской империи вместе с членами семей покинули полуостров Крым и направились в полную неизвестность, в новую жизнь и в новые страны, в которых, собственно, их никто и не ждал. Из портов Крымского полуострова (Севастополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта) вышло 126 судов, почти 150 тысяч человек спешно покинули Родину. Но даже уходя – они уходили «парадом» (последний парад состоялся в Севастополе 3-го ноября 1920 года под командованием генерала Врангеля).
А двумя годами ранее, в 1918 году, великий русский писатель Иван Алексеевич Бунин (чье 150-летие мы отмечали в октябре 2020 года) ехал в санитарном вагоне вместе с пленными немцами в сторону Одессы, покидая любимую Москву, но еще намереваясь вернуться, когда «все это закончится». И даже в Одессе, в которой каждый день звучала стрельба, и нечем было отапливать жилье, Иван Алексеевич еще раздумывал об эмиграции, – ему не хотелось покидать Родину. Но в том же роковом 1920-м, он под влиянием родных и друзей принимает тяжелое решение — уезжать.
28 марта 1920 года Бунины прибыли в Париж. В первые годы эмиграции Бунин долго ничего не писал — душа не лежала. Лишь приводил в порядок дневниковые записи, сделанные в Одессе в 1918-1919 годах. Творческое молчание окончилось в 1921 году, Бунин написал рассказы «Третий класс», «Ночь отречения», «Преображение», во многом автобиографичный «Конец» и другие. Жизнь в эмиграции была полна тоски, безысходности, постоянной нехватки средств на поддержку семьи... и надежд.
И когда мальчик-посыльный принес домой, где проживали Бунины, телеграмму из Стокгольма о присуждении Ивану Алексеевичу Нобелевской премии, его жена, Вера Николаевна не могла отыскать в доме несколько монет чаевых.
В 1940 году Францию захватывают немцы, родные и друзья Ивана Алексеевича предлагают ему переехать на постоянное местожительство в США, но Бунин еще и тогда... надеется на возвращение в далекую, но родную Россию. Надеется, что «все ЭТО закончится». Но надеждам уже не суждено сбыться, и эта незаживающая рана тоски по настоящей Родине все больше и больше пронзительными красками «звучит» в произведениях Бунина – рассказы «Роза Иерихона», «Митина любовь», «Солнечный удар», «Божье древо» все сильнее и сильнее отличаются от его первых прозаических работ.
Какой-то особенно напряженный литературный «нерв», который соединяет нас с творчеством Бунина, и который «звенит» и жжёт, словно электричеством, – мы остро чувствуем именно сегодня, в год, когда на мир обрушивается эпидемия, к масштабам которой мы были не готовы ни физически, ни морально, ни духовно. И сейчас, как и полгода назад, многие из нас пребывают в карантине, продолжают работать на «удаленке» («отделенке» или «обделенке»?) и по вечерам пытаются «забыться» под screenlife-сериал «Окаянные дни»*. Мы проживаем сложные годы истории страны, сложные финансово, технически, геополитически и, конечно, духовно напряженные. Потому что любые перемены – они, конечно (возможно?), к лучшему, но они – бьют больно, поражают в самое сердце, и многие считают, что это не лучшие годы... Но «времена не выбирают...» Самые страшные времена – когда люди забывают о «по-настоящему страшных временах» и радуются и веселятся, в тот момент, когда нужно собраться, внутренне и духовно, не паниковать, заниматься любимым делом, учиться и быть полезным родной семье и своей стране.
«Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна». (И.А.Бунин)
Во многих рассказах, собранных в этом номере нашего альманаха, который выходит к 150-летию Ивана Алексеевича Бунина, словно миниатюрными колокольчиками, тоже звенит извечный русский вопрос: «Что будет, когда все это закончится. Какими мы будем?». И каждое произведение наших талантливых авторов по-своему ищет ответы на эти вопросы. Наши авторы не только с нескрываемым уважением и сыновней почтительностью относятся к русской литературе, но и в каждом номере стараются вспомнить классиков, не просто отдавая дань, а – учатся читать, учатся писать, учатся говорить у русской литературы, потому что именно в русской литературе скрыты великие смыслы, которые ищут все думающие люди.
Ищут и находят.
А когда находят – спешат поделиться с другими.
Максим Федосов,
издатель, составитель альманаха «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 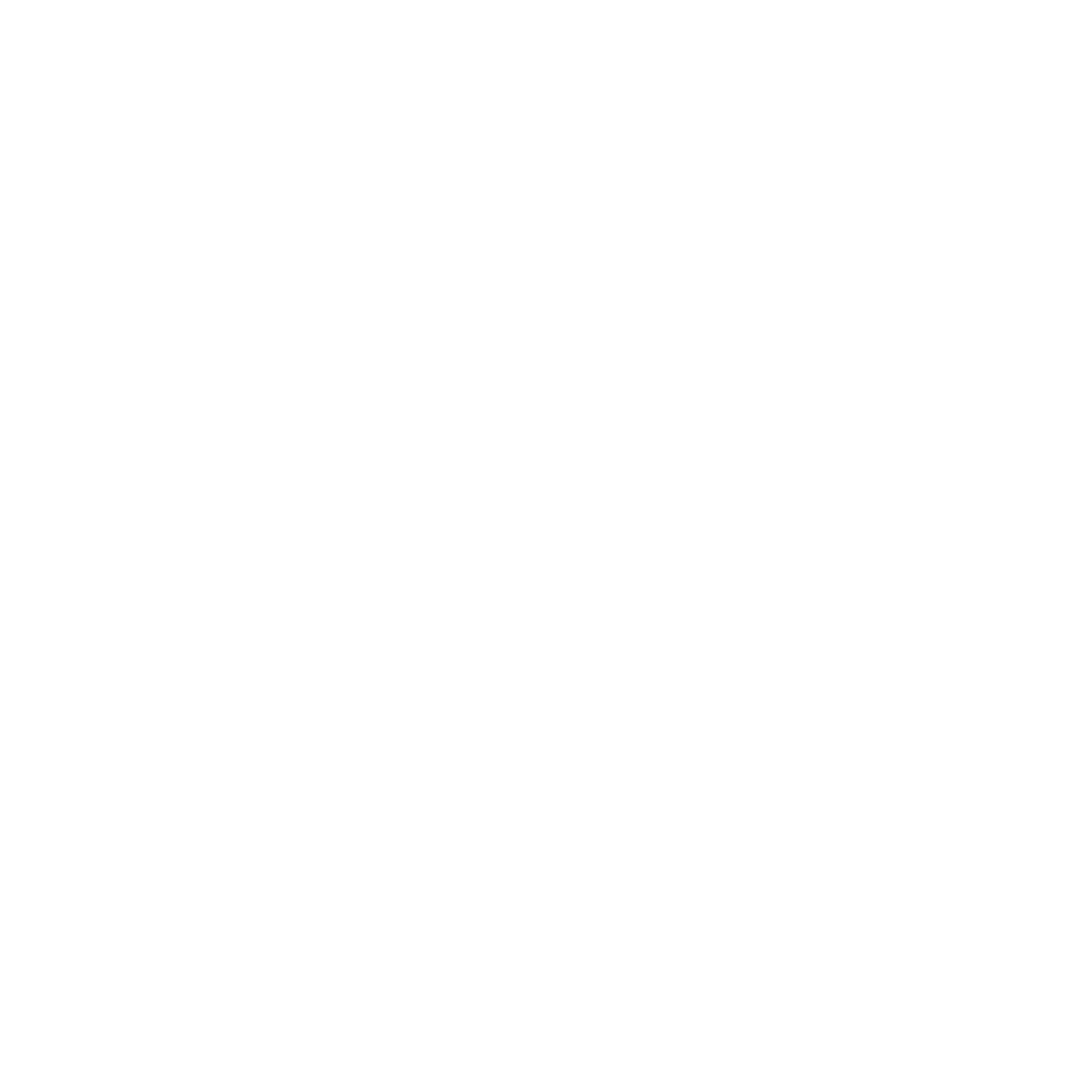
Владимир ИЛЬИЦКИЙ
Поэт, журналист, автор книг стихов «Курсанты, мальчики, танкисты…», «Последний из аргонавтов», «От Перловки до Берлина», «Освободителям Европы. Штурмовые стихи», и книги прозы — «В атаке танковый спецназ».
Лауреат литературных премий им. Н. Островского и им. Дм. Кедрина. Заслуженный работник печати Московской области (2011 г.)
Поэт, журналист, автор книг стихов «Курсанты, мальчики, танкисты…», «Последний из аргонавтов», «От Перловки до Берлина», «Освободителям Европы. Штурмовые стихи», и книги прозы — «В атаке танковый спецназ».
Лауреат литературных премий им. Н. Островского и им. Дм. Кедрина. Заслуженный работник печати Московской области (2011 г.)
К 150-ЛЕТИЮ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА
Произведения Ивана Алексеевича Бунина, по словам Льва Выгодского, этого «Моцарта психологии», созданы «с беспощадной безжалостностью истинного поэта».
В «Психологии творчества» Выгодского одна из глав названа, как и рассказ Бунина, «Лёгкое дыхание». Препарируя его, учёный объясняет, как автор превращает воду простых слов в вино нового смысла. И доказывает: главным технологическим приёмом, хотя и не единственным, является композиция.
Выгодский рисует схему диспозиции (эпизодов) и композиции рассказа, и в результате оказывается, что небольшое произведение имеет сложное композиционное построение, за счёт которого оно и достигает художественного и психологического эффекта.
Где этому выучился гимназист-недоучка? Природный дар, который, конечно, подстёгивал молодого человека самообразовываться. А книгочей он был усердный. Не менее усердный – путешественник, которого «влекли все некрополи мира», что также для творческой личности немаловажно.
В литературе он был человек «крайних взглядов», негативно относился к Достоевскому и Фету. Ну, это уж куда ни шло, но почему столь же негативно к Гоголю? Всю жизнь Бунин читал и перечитывал обожаемых Пушкина и Лермонтова и, в конце концов, пришёл к выводу: Лермонтов – выше!..
По утверждению «буниноведов» из иностранных авторов он более всего благоволил к Гёте. Две эти «великие тени» сопутствовали мне в путешествии по Сицилии, где…
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!
И.А.Бунин «В Сицилии»
Нельзя, конечно, не заметить некое идеалистическое отношение Бунина-гражданина к российской истории. Величие государства у нашей страны, даже если бы она погибла вслед за Первым и Вторым Римом, никто бы уже не отнял.
Но писатель воспринимал современную ему Россию, как «великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой…»
К 1917-му, а если точнее, к самому началу XX века, почти всё вышесказанное было уже мифологией. Только ведь никакая самая изощрённая мифология не спасает нацию от поражения, если её властные структуры полностью исчерпали интеллектуальный ресурс.
В 1920-м Бунин покинул родину и, как оказалось, навсегда. О своих встречах с ним в Одессе – перед самой эмиграцией – интересно рассказывает в повести «Трава забвения» Валентин Катаев. К этой вещи я, вопреки завету Пушкина никогда ничего не перечитывать, возвращаюсь периодически. Она наполнена яркими приметами времени и другими блестящими персонажами, кроме Бунина в основном – Маяковским, избавленным, как и Бунин, от школьного глянца.
Но именно встреча с Буниным, хотя бы единственная, стала мечтой всей жизни Катаева. Увы, не срослось. Полагаю при этом, что такая встреча оказалась бы «вне литературы», другое дело – «свидание» в парижском некрополе, которое Катаев тоже описывает.
Русского писателя, неподражаемого стилиста, нобелевского лауреата по литературе за 1933 год, в СССР не публиковали до 1955 года. Через год вышел в свет целый пятитомник, в середине 60-х – девятитомник.
Малоформатных книжек с его стихами издали в СССР множество. Как-то я заметил странную вещь. Знаменитое стихотворение «Я к ней вошёл в полночный час…» не включили в книгу для взрослых, а в детскую – включили. Впрочем, если о вкусах всё-таки спорят, то о вкусах редакторов – нет.
В Новой России прозу и стихи Бунина издают часто. Юбилейный год не стал исключением. Но вот какой абракадаброй рекламируют его сборник, вышедший в издательстве «Пальмира». «Его лирика обладает волнующим и искренним голосом русской поэзии, в котором пульсируют элегичные нотки любви к Родине, музыкой горячего ветра в его восточных стихотворениях и философско-лирическими мотивами о месте человека в мире…» Не читали ребята Льва Выгодского.
Бунин, как чётко определил и Выгодский, считал себя поэтом «по преимуществу». К прозаическим сборникам часто подвёрстывал стихи и досадовал, что их ценят гораздо меньше прозы.
Там, в полях, на погосте,
В роще старых берёз,
Не могила, не кости -
Царство радостных грёз.
Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей -
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятье -
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной?
В нашем прошлом, далёком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!
Не лишено смысла, отправляясь «по стопам» Бунина к какому-нибудь знаменитому некрополю, прочитать, что он там нарифмовал, сравнить впечатления…
Его переводы Байроновских драм «Манфред» и «Каин» считаются образцовыми. Насчёт первой вещи не скажу, но «Каина» прочитать советую. Меня в нём больше всего поразило описание призрачных левиафанов, резвящихся в призрачном океане. Люцифер «инсталлирует» будущему братоубийце свои возможности.
Бунин, как и Байрон, тоже был «гонимый миром странник», не имевший своего дома либо даже квартиры. «Когда всю жизнь ведёшь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции!»
В Воронеже, городе, где родился Иван Алексеевич, узловая станция соединяет сразу три железнодорожные линии разных направлений.
Называется она «Отрожка».
К ЮБИЛЕЮ И.А. Бунина
Исторический крен пополняет словарный запас.
Стихотворной обёрткой неделя пакуется в час.
Ты не запросто к морю выходишь, а хитрым путём.
Без подсказанных слов мы и смысла пути не прочтём.
Продолжайте, ребята, глухой о метафорах спор.
Вам Квятковский нашепчет,
Выгодский – представит чертёж.
Ну а мы, хлопнув дверью, подальше от ваших контор.
Ибо истина в поле, где Бунин лишь тем и хорош.
В.С.Ильицкий
Произведения Ивана Алексеевича Бунина, по словам Льва Выгодского, этого «Моцарта психологии», созданы «с беспощадной безжалостностью истинного поэта».
В «Психологии творчества» Выгодского одна из глав названа, как и рассказ Бунина, «Лёгкое дыхание». Препарируя его, учёный объясняет, как автор превращает воду простых слов в вино нового смысла. И доказывает: главным технологическим приёмом, хотя и не единственным, является композиция.
Выгодский рисует схему диспозиции (эпизодов) и композиции рассказа, и в результате оказывается, что небольшое произведение имеет сложное композиционное построение, за счёт которого оно и достигает художественного и психологического эффекта.
Где этому выучился гимназист-недоучка? Природный дар, который, конечно, подстёгивал молодого человека самообразовываться. А книгочей он был усердный. Не менее усердный – путешественник, которого «влекли все некрополи мира», что также для творческой личности немаловажно.
В литературе он был человек «крайних взглядов», негативно относился к Достоевскому и Фету. Ну, это уж куда ни шло, но почему столь же негативно к Гоголю? Всю жизнь Бунин читал и перечитывал обожаемых Пушкина и Лермонтова и, в конце концов, пришёл к выводу: Лермонтов – выше!..
По утверждению «буниноведов» из иностранных авторов он более всего благоволил к Гёте. Две эти «великие тени» сопутствовали мне в путешествии по Сицилии, где…
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!
И.А.Бунин «В Сицилии»
Нельзя, конечно, не заметить некое идеалистическое отношение Бунина-гражданина к российской истории. Величие государства у нашей страны, даже если бы она погибла вслед за Первым и Вторым Римом, никто бы уже не отнял.
Но писатель воспринимал современную ему Россию, как «великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой…»
К 1917-му, а если точнее, к самому началу XX века, почти всё вышесказанное было уже мифологией. Только ведь никакая самая изощрённая мифология не спасает нацию от поражения, если её властные структуры полностью исчерпали интеллектуальный ресурс.
В 1920-м Бунин покинул родину и, как оказалось, навсегда. О своих встречах с ним в Одессе – перед самой эмиграцией – интересно рассказывает в повести «Трава забвения» Валентин Катаев. К этой вещи я, вопреки завету Пушкина никогда ничего не перечитывать, возвращаюсь периодически. Она наполнена яркими приметами времени и другими блестящими персонажами, кроме Бунина в основном – Маяковским, избавленным, как и Бунин, от школьного глянца.
Но именно встреча с Буниным, хотя бы единственная, стала мечтой всей жизни Катаева. Увы, не срослось. Полагаю при этом, что такая встреча оказалась бы «вне литературы», другое дело – «свидание» в парижском некрополе, которое Катаев тоже описывает.
Русского писателя, неподражаемого стилиста, нобелевского лауреата по литературе за 1933 год, в СССР не публиковали до 1955 года. Через год вышел в свет целый пятитомник, в середине 60-х – девятитомник.
Малоформатных книжек с его стихами издали в СССР множество. Как-то я заметил странную вещь. Знаменитое стихотворение «Я к ней вошёл в полночный час…» не включили в книгу для взрослых, а в детскую – включили. Впрочем, если о вкусах всё-таки спорят, то о вкусах редакторов – нет.
В Новой России прозу и стихи Бунина издают часто. Юбилейный год не стал исключением. Но вот какой абракадаброй рекламируют его сборник, вышедший в издательстве «Пальмира». «Его лирика обладает волнующим и искренним голосом русской поэзии, в котором пульсируют элегичные нотки любви к Родине, музыкой горячего ветра в его восточных стихотворениях и философско-лирическими мотивами о месте человека в мире…» Не читали ребята Льва Выгодского.
Бунин, как чётко определил и Выгодский, считал себя поэтом «по преимуществу». К прозаическим сборникам часто подвёрстывал стихи и досадовал, что их ценят гораздо меньше прозы.
Там, в полях, на погосте,
В роще старых берёз,
Не могила, не кости -
Царство радостных грёз.
Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей -
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятье -
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной?
В нашем прошлом, далёком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, былого
Нет давно и меня!
Не лишено смысла, отправляясь «по стопам» Бунина к какому-нибудь знаменитому некрополю, прочитать, что он там нарифмовал, сравнить впечатления…
Его переводы Байроновских драм «Манфред» и «Каин» считаются образцовыми. Насчёт первой вещи не скажу, но «Каина» прочитать советую. Меня в нём больше всего поразило описание призрачных левиафанов, резвящихся в призрачном океане. Люцифер «инсталлирует» будущему братоубийце свои возможности.
Бунин, как и Байрон, тоже был «гонимый миром странник», не имевший своего дома либо даже квартиры. «Когда всю жизнь ведёшь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции!»
В Воронеже, городе, где родился Иван Алексеевич, узловая станция соединяет сразу три железнодорожные линии разных направлений.
Называется она «Отрожка».
К ЮБИЛЕЮ И.А. Бунина
Исторический крен пополняет словарный запас.
Стихотворной обёрткой неделя пакуется в час.
Ты не запросто к морю выходишь, а хитрым путём.
Без подсказанных слов мы и смысла пути не прочтём.
Продолжайте, ребята, глухой о метафорах спор.
Вам Квятковский нашепчет,
Выгодский – представит чертёж.
Ну а мы, хлопнув дверью, подальше от ваших контор.
Ибо истина в поле, где Бунин лишь тем и хорош.
В.С.Ильицкий
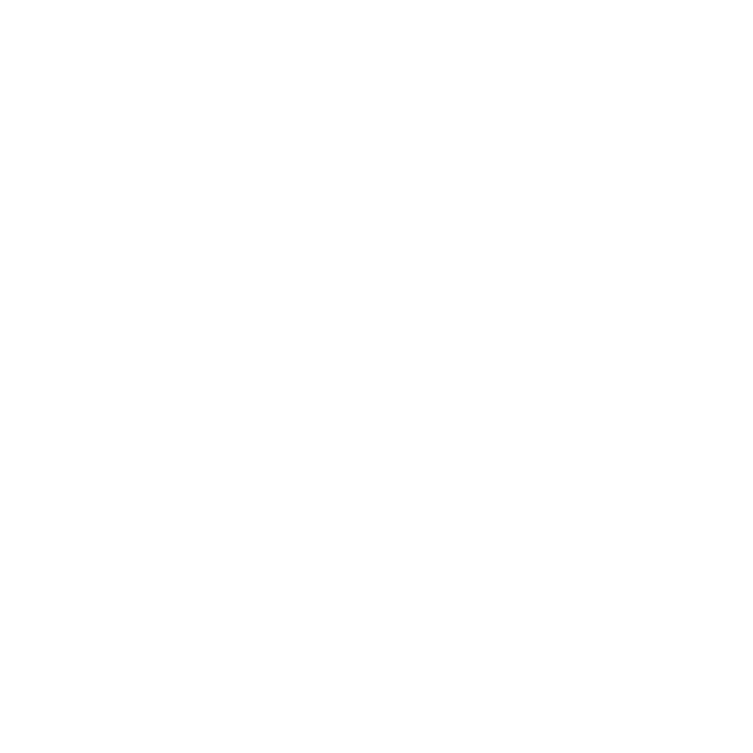
Дарья ЩЕДРИНА
Родилась в Ленинграде. Закончила в 1991 г. 1-ый ЛМИ им. И.П.Павлова, затем Санкт-Петербургский институт гештальта. По специальности врач и психолог. Работает врачом, живет в Санкт-Петербурге. Долгие годы писала «в стол», не решалась показать кому-нибудь свое творчество. В 2015 г. судьба свела Дарью с писателем, членом РСП Родченковой Е.А. Именно ей она и показала свои рассказы, которые неожиданно понравились. С тех пор – активно публикуется.
С 2017 г. является членом Союза Писателей России. За это время вышли в свет несколько книг автора: повести о любви «Звездное озеро» и «Недоразумение», роман в стиле фэнтези «Сокровище волхвов», психологические триллеры «Убить Еву» и «Черный квадрат Казимира» и два сборника рассказов.
Страница автора на сайте издательства: https://almanah.novslovo.ru/shedrina
Родилась в Ленинграде. Закончила в 1991 г. 1-ый ЛМИ им. И.П.Павлова, затем Санкт-Петербургский институт гештальта. По специальности врач и психолог. Работает врачом, живет в Санкт-Петербурге. Долгие годы писала «в стол», не решалась показать кому-нибудь свое творчество. В 2015 г. судьба свела Дарью с писателем, членом РСП Родченковой Е.А. Именно ей она и показала свои рассказы, которые неожиданно понравились. С тех пор – активно публикуется.
С 2017 г. является членом Союза Писателей России. За это время вышли в свет несколько книг автора: повести о любви «Звездное озеро» и «Недоразумение», роман в стиле фэнтези «Сокровище волхвов», психологические триллеры «Убить Еву» и «Черный квадрат Казимира» и два сборника рассказов.
Страница автора на сайте издательства: https://almanah.novslovo.ru/shedrina
СНЕГУРОЧКА И МЕДВЕДЬ
– Девочка моя… – грустно вздохнул Роман вслед эвакуатору, увозившему его вольвочку. Свою машину он любил почти как женщину. Да что там, гораздо больше! Женщин он любил обычно как-то, а вольвочку – трепетно, как родную. В ней, как в женщине, была и красота, и нежность, и сексуальность. Но, помимо этого, еще и какая-то душевность, уютная, доверчивая теплота. – Ничего, милая, мы тебя починим, приведем в порядок. Только дай время…
Он так и не понял, как можно было ночью на совершенно свободном шоссе так его обгонять, чтобы безобразно покалечить весь левый задник его машины. Козел винторогий! Обреченно ругнулся он про себя на виновника ДТП. Но пока разбирались с ГИБДД, пока ждали эвакуаторы, все эмоции кончились, уступив место мрачной усталости. Теперь надо было как-то добираться до Питера.
Застегнув молнию куртки до конца, так, что над высоким воротом были видны только глаза, накинув на голову капюшон, Роман побрел по улице, еще погруженной в хмурый предрассветный сумрак. Оплата эвакуатора выбрала почти всю наличность из его кошелька. И он размышлял, как лучше – на электричке или на автобусе – поехать домой? От Великого Новгорода до Питера не так уж далеко.
С вечера резко похолодало. Задул пронзительный северный ветер. На стылую ноябрьскую улицу решительно заглянула зима. Поглубже засунув руки в карманы своей парки, Роман быстрым шагом пошел вперед, всматриваясь вдаль. В конце улицы виднелась автобусная остановка. Может удастся что-то узнать про транспорт, курсирующий между двумя городами?
Едва подойдя к остановке, он увидел подъезжающую маршрутку с трехзначным номером на лобовом стекле и надписью «В.Новгород – Санкт-Петербург». Роман выставил вперед правую руку, и машина послушно остановилась возле него.
– Командир, – отодвинув тяжелую дверь в сторону спросил Роман у водителя, – довезешь по Питера?
– Садись, как раз одно свободное место осталось! – согласно кивнул коротко стриженной головой солидный дядька за рулем.
Облегченно вздохнув, Роман стал неловко пробираться по узкому проходу в конец салона. В половине шестого утра желающих ехать в Питер было много, почти полная маршрутка. Он сел в самом углу и прикрыл глаза, пригревшись и намереваясь проспать до самого конца путешествия.
Ася с усилием открыла тяжелую железную дверь подъезда. Ветер дунул в лицо таким холодом, что она вздрогнула и поспешила стащить с шеи тонкую шелковую косынку и накинуть ее на голову. В пятницу вечером, когда она выезжала из Питера в Новгород к тёте Маше, была еще обычная хмурая осень, а вчера вдруг разом началась зима. И в тонком осеннем пальто, да еще без шапки, было холодно. «Ладно, до остановки маршрутки не далеко, замерзнуть не успею! – подумала Ася, поднимая воротник повыше, – а в Питере сразу нырну в метро».
Ей не удалось купить билеты на маршрутку на вечер воскресенья, пришлось брать на первый утренний рейс понедельника. Но она не пожалела, хотя вставать в пять утра – то еще удовольствие. Но тётя Маша, узнав о том, что племянница загостится у нее еще чуть-чуть, улыбнулась так радостно, так благодарно, что в сердце у Аси что-то дрогнуло. Не было у нее никого, кроме тётушки. После смерти родителей тётя Маша осталась единственным родным человеком. Хоть и была уже старенькой, здоровье подводило все чаще и чаще, но на предложение племянницы перебраться к ней в Питер категорически отказывалась. Трудно в таком возрасте менять привычное место жительства. Вот и моталась Ася чуть не каждые выходные в соседний город навестить старушку, а то и помочь чем-нибудь, да лекарства привезти. С учительской пенсии-то не разбежишься.
Она обрадовалась, увидев свою маршрутку на остановке, и быстро юркнула в теплое нутро салона. А на улице крепчал ветер, все ниже и ниже нависали плотные серые тучи. Когда выехали из города, еще пустого в этот утренний час, первые редкие снежинки закружились, заметались в воздухе, подхваченные резкими порывами ветра.
Роман спал, прислонившись виском к прохладному стеклу. Во сне он ремонтировал совместно со старым знакомым автослесарем Степанычем свою вольвочку. И так у них все быстро и хорошо получалось, что машинка на глазах приобретала свой прежний вид, а на душе ее хозяина становилось тепло и покойно. Он даже улыбнулся во сне, так и не заметив, что уже выехали из города. И маршрутка шустро крутила колесами по пустому шоссе, преодолевая сопротивление мощных порывов ветра. В лобовое стекло уже вовсю неслись стаи белых мух.
В уютном сне Степаныч ковырял гаечным ключом какую-то гайку и вдруг вскинул лысую, похожую на бильярдный шар, голову и с тревогой посмотрел на Романа. «Горим, Рома, пожар!» – произнес он отчетливо. И тут же возник отвратительный запах паленого пластика.
Роман мгновенно вынырнул из глубин сна и принюхался. И правда, в салоне пахло паленым. Он взглянул на спящих пассажиров, на невозмутимо крутящего баранку водителя и поднялся со своего места. Пробравшись на непослушных со сна ногах к водительскому месту, он спросил тревожным шепотом:
– Командир, ты запах чувствуешь? Кажется, что-то горит.
Водитель встрепенулся и закрутил головой в поисках источника неприятного запаха. А когда снизу из-под ног дремавшего на переднем сиденье пассажира потянулась тонкая струйка едкого дыма, резко нажал на тормоз. Роман еле удержался на ногах, вцепившись двумя руками в поручень. Машина встала, словно ткнувшись носом в невидимую стену. Пассажиры стали просыпаться и недовольно ворчать.
– Граждане пассажиры! – громко произнес водитель, пытаясь скрыть тревогу в голосе, – просьба покинуть салон автомобиля!
– А чего случилось то? – стали доносится сонные голоса из разных концов салона.
– Ой, чем это пахнет?! – испуганно воскликнул кто-то и в воздухе вперемешку с дымом запахло паникой – Горим что ли?
Салон маршрутки медленно заполнялся дымом.
– Пожар?! – кто-то уже потянулся, вытаскивая из-под сиденья багаж.
– Прошу покинуть салон машины! – повторил водитель, поднимаясь со своего места и рыская в поисках огнетушителя.
– Это проводка, командир? – все так же шепотом поинтересовался Роман.
– Похоже на то… Слушай, друг, выведи всех из машины, и чтоб без паники, ладно? – в глазах водителя была просьба. Роман кивнул и распахнул боковую дверь, впустив в салон холодный, но чистый воздух.
Народ выползал из маршрутки кто медленно, нехотя, недовольно ворча, ища виноватых, а кто побыстрее, без лишней деликатности отталкивая попутчиков локтями. А вокруг лютовала пурга. В серой рассветной хмари на расстоянии десяти шагов ничего не было видно кроме снежного мельтешения.
Люди сгрудились на обочине, поднимая воротники, надевая шапки и капюшоны. Роман обратил внимание на девушку в хлипком осеннем пальтишке, в шелковой желтой косынке на голове вместо шапки, в невысоких сапожках, оставлявших открытыми почти все ноги до самого подола на уровне колен. Вот сумасшедшая девица, подумал Роман, это ж надо так вырядиться в такую-то погоду!
Он подошел к водителю посмотреть, что тот обнаружил под капотом. Из моторных лабиринтов шел дым, тут же смешиваясь со снежными вихрями и пропадая в сумерках.
– Что, плохо дело? – сочувственно спросил он у водителя. Тот только расстроенно покачал головой.
– По технике безопасности я не имею права дальше ехать, – ответил тот, бросив на Романа виноватый взгляд.
– А мы как же?
– А для вас я вызову резервный автобус.
Молодой парнишка, по виду студент, отделился от кучки тревожно ворчащих пассажиров и подошел.
– Долго нам еще мерзнуть на улице?
– Пока резервный автобус не приедет, – ответил водитель, тыкая грязным пальцем в экран телефона. – Сейчас сообщу начальству о поломке. Оно вышлет машину.
– Так может мы в салоне подождем? – зябко ежась поинтересовался студент.
– Нельзя. Это опасно. Проводка где-то горит. Может так полыхнуть, что мало никому не покажется. И двигатель я больше включать не имею право. А без двигателя печка не работает.
– Ну, ты поторопи их там, командир, – попросил Роман. – а то мы на таком холоде долго не продержимся.
Он окинул взглядом пустынное шоссе, серой лентой уходящее в снежную круговерть. Вокруг не было видно ни дома, ни заправки, ничего. Ровное поле, продуваемое всеми ветрами, и асфальтовое полотно шоссе. Люди сгрудились в нескольких шагах от маршрутки, опасаясь подходить совсем близко. Роман вытащил из кармана пачку сигарет и долго пытался прикурить, уворачиваясь от порывов ветра, сердито швырявшего ему в лицо колкие снеговые иглы. Скверная ситуация. Хорошо еще от города далеко отъехать не успели.
И тут его взгляд упал на девушку в желтой косынке. Ее тонкая фигурка как березка гнулась под порывами ветра. Судорожно сжимая воротник пальто, пытаясь закрыть им шею и подбородок рукой в тонкой перчатке, она переступала с ноги на ногу, притопывала, подпрыгивала, пытаясь хоть как-то согреться. «Вот дурочка отмороженная!» – подумал Роман и, отшвырнув в снег недокуренную сигарету, направился к кучке пассажиров.
Красный огонек непотушенной сигареты тут же растаял в снежном сумраке. Роман встал рядом с девушкой в косынке так, чтобы хоть немного закрыть ее от ветра.
– Вы случайно не в коммунальной службе работаете? – спросил он, чувствуя, как яростно ветер толкает его в спину.
Девушка вскинула на него серые глаза. Из-под желтого шелка косынки выбивались темные пряди, от растаявшего снега под глазами расплывались пятна туши для ресниц. По виду ей было не больше 30-ти.
– Почему именно в коммунальной? – спросила она тоненьким, дрожащим от холода голоском.
– Потому что только для наших коммунальных служб зима всегда наступает неожиданно.
Девушка попыталась улыбнуться побелевшими губами.
– Нет. Просто в пятницу вечером в Питере еще была осень.
– Значит вы из Питера.
Незнакомка утвердительно кивнула. Кончик ее носа покраснел, губы уже приобретали синеватый оттенок и мелко дрожали. Волны зябкой дрожи сотрясали ее тело и она, не в силах справиться с дрожью, как-то жалобно и виновато посмотрела на него, будто извинялась за свой внешний вид, совершенно не радующий мужской взгляд.
Подошел водитель и сообщил:
– Скоро приедет резервный автобус и отвезет всех к месту назначения.
– Какое счастье! – выдохнул женский голос.
– И сколько нам ждать этот ваш резервный автобус? – сердито спросил мужской.
– Примерно полчаса.
– Да мы тут околеем за полчаса! – возмутился кто-то, чье лицо Роман не разглядел в снежном мареве.
Ну, околеть не околеем, подумал он, но воспаление легких некоторые заработать успеют.
– Слушайте, барышня, – произнес он, решительно дергая молнию на куртке, – за полчаса вы в своем пальтишке точно околеете. Идите сюда!
Ася непонимающе уставилась на мужчину так удачно заслонившего ее от ветра. Высокий, широкоплечий, немного смахивающий на шкаф в своей черной парке, он расстегнул молнию и раздвинул полы куртки. Под курткой виднелся серый шерстяной свитер с высоким воротом.
– Идите сюда! – повторил он, – вдвоем будет теплее.
Она испуганно попятилась от него и затрясла головой.
– Что вы… нет…
– Да бросьте вы! Выбор то у вас небольшой: воспаление легких или объятия незнакомого мужчины. Советую выбирать меньшее из зол. А мужу рассказывать не обязательно.
– К-к-какому мужу?.. – растерянно пробормотала Ася, трясясь от холода так, что зуб на зуб уже не попадал.
– Так. Мужа значит нет. Хорошо, – незнакомец, не особенно церемонясь, сгреб ее ручищей, развернул спиной и прижал к своей груди, укрыв полами вместительной куртки.
Ася ойкнула и замерла, даже дышать перестала, чувствуя, как ее со всех сторон обволакивает тепло незнакомца. В кольце его рук было тесно. Сквозь все слои одежды она чувствовала, как мощно, сильно бьется его сердце, распространяя упругие пульсации прямо в ее левую лопатку. А макушке, укрытой тонкой шелковой тканью, стало вдруг тепло от его дыхания.
– Если бы я был джентльменом, я бы отдал вам свою куртку, – проговорил он тихо, так, что услышала только она, – но вам, барышня, не повезло. Я вовсе не джентльмен. И ни за какие коврижки не отдам свою куртку никому, даже вам. Но своим теплом могу поделиться. Так что пользуйтесь, пока я добрый.
Роман стягивал руками полы куртки, одновременно обнимая барышню. Вот ведь, дурочка, подумал он и улыбнулся. Никогда в жизни еще не приходилось вот так вот обнимать женщину при таких обстоятельствах. Ее хрупкая фигурка казалась совсем маленькой в его медвежьих объятиях. Хрупкая, дрожащая, всхлипывающая.
– Эй, снегурочка, – встрепенулся он и забеспокоился, – вы чего носом там шмыгаете? Плачете что ли?
– Нет, – пискнула она жалобно, – просто мне дышать трудно… Если вы не ослабите руки, вскоре будете крепко обнимать труп.
Роман разжал объятия. «Ну и медведь же я!» – с досадой подумал он и вздохнул.
Они стояли посредине бескрайнего поля, на обочине уходящего в бесконечность шоссе, в самом центре погодного катаклизма, стояли тесно прижавшись друг к другу, укрытые одной курткой на двоих. Вокруг бушевал ветер, колючий снег пытался забиться под капюшон. А между ними, между двух тел, укрытых одной курткой, скапливалось тепло, сгущалось, обволакивало обоих, притягивало к друг другу еще теснее, еще крепче. Роман почувствовал, что незнакомку отпускает первоначальная скованность и робость. Спина ее расслабилась, плечи обмякли, затылок прижался к его плечу. Ему показалось, что девушка, пригревшись, засыпает в его объятиях.
То ли ветер яростными порывами раскачивал обоих, то ли Роман укачивал в кольце своих рук мирно дремавшую девушку, как маленького ребенка. Но внутри него зародилась и стала разрастаться теплая волна, наполняя каждую клеточку тела светлой нежностью. Это не было банальное физическое влечение. Он ее не хотел. Она УЖЕ была его, была внутри него. И осознал он это всем своим существом, как человек осознает собственное сердце у себя в груди. Она была его частью, его сутью. И память о ней всколыхнулась из самых глубин его естества и затопила ошеломленное сознание. Он ее знал!..
Знал запах ее кожи, знал каждый изгиб и закоулочек ее тела, знал, как сладко засыпать под мерный стук ее сердца под самым ухом, знал, как просто и легко попасть в резонанс с ее дыханием. Знал, потому что это была ЕГО женщина… И всегда была его! И сто лет назад, и триста, и, даже, тысячу. Она всегда была его женщиной. Просто он почему-то забыл это, а сейчас вдруг вспомнил.
Укрытая от непогоды объятьями незнакомца, Ася блаженно притихла. Это было так странно, как во сне… В давнем волшебном сне эти руки уже обнимали ее когда-то, к этой груди она уже прижималась доверчиво, ритмичные гулкие удары его сердца успокаивали, убаюкивали, доносясь из туманных глубин памяти. Это был сон. И просыпаться ей совсем не хотелось.
Сквозь снежные вихри на шоссе замелькали желтые пятна света. Замерзающие пассажиры обрадованно зашумели, увидев подъезжающий к ним микроавтобус. Ася, пригревшаяся в объятиях незнакомца, вдруг с сожалением поняла, что даже самые прекрасные сны заканчиваются. Вот сейчас они сядут в автобус каждый на свое место и даже словом больше не обмолвятся. И стало остро жаль терять что-то странное, молчаливое, не имеющее названия, возникшее между ними за эти полчаса.
Автобус остановился, и маленькая кучка людей, радостно гомоня, бросилась в его теплое гостеприимное нутро. Все послушно расселись согласно купленным билетам. Незнакомка в желтой косынке оказалась спиной к водительскому месту, а Роман уселся в самом конце салона. Он снова прислонился виском к холодному стеклу, но спать уже совсем не хотелось. Он пытался понять, что же с ним произошло, пока он согревал в своих объятиях закоченевшую барышню.
Она совершенно была не в его вкусе. Он любил крупных, мягкотелых блондинок, ярких, шумных, веселых. От которых исходило ощущение праздника. Праздника, насладившись которым в полной мере, можно было легко забыть и идти по жизни дальше, не отягощая себя ненужными проблемами. А на бледном личике незнакомки читалось, что жизнь ее состоит из сплошных проблем. И красный с мороза нос, сопливый к тому же, который она то и дело вытирала носовым платком, был лишь самой малой из них. «А я для чего? Вдвоем то с проблемами легче справиться!» – неожиданно для самого себя подумал Роман и разозлился. Ну, какое ему дело до чужих проблем?! А в душе ворочалось непривычное сомнение: разве эта отмороженная дурочка была чужой?
Он прижал руку к груди, чтобы снова почувствовать то тепло, что скопилось между ними за полчаса и стало общим, единым, нераздельным. Долго ли оно еще там сохранится? До того момента, как он снимет куртку? И захотелось больше никогда не снимать парку, срастись с ней, точно с новой кожей, лишь бы не потерять то важное, что дышало под ней. «Бред какой-то!» – заключил Роман и усилием воли заставил себя не думать о незнакомке. В конце концов у него пострадала в аварии любимая машина! А он думает о всякой ерунде.
Ася старалась не смотреть в ту сторону, где сидел незнакомец. Но за окном кроме мельтешения снежных полчищ ничего невозможно было рассмотреть. И взгляд сам собой тянулся в конец салона. Здоровый мужик, лет 35, крупный, сильный, уверенный в себе. Она побаивалась таких всегда, может, потому что ей самой не хватало уверенности в себе? Этакий хозяин жизни. Пусть маленькой, своей собственной жизни, но хозяин. Инстинкт подсказывал, что от таких лучше держаться подальше. Почему? Ведь он щедро поделился с ней своим теплом, уберег от простуды. И в кольце его рук было так хорошо, так спокойно и надежно. Кажется, именно теперь она поняла смысл выражения «как за каменной стеной». Но такие мужчины выстраивают каменные стены, чтобы защитить от жизненных проблем, вокруг совершенно других женщин, не таких, как Ася. Это она знала точно. Незнакомец был из породы журавлей в небе. Она же не дотягивала ни до журавля, ни до лебедя, так, серенький воробышек. Но она была из тех, кто предпочитает гордое одиночество синице в руках.
Не сдержав разочарованного вздоха, Ася уставилась в окно. Надо было просто сказать спасибо незнакомцу, хотя бы за то, что он разрушил стереотип в ее голове. До сегодняшнего дня она была уверена, что настоящие мужчины повывелись, исчезли, как редкий краснокнижный вид, уступив место инфантильным, слабым, самолюбивым эгоистам. Но вот ведь, один еще остался, и ему не безразлично, заболеет она воспалением легких или нет, и собственного тепла не жалко, чтобы отогреть совершенно незнакомую женщину. Но сны имеют свойство заканчиваться и наяву никогда не повторяются. Она усилием воли оставила несбыточные мечты снам и сосредоточилась на мыслях о работе и тёте Маше.
Вскоре за окнами замелькали окраины Питера, скопления автотранспорта предрекали грядущие пробки. Подъехав к метро, народ высыпал из маршрутки и поспешил к подземному переходу. Роман старался не смотреть на мелькающую впереди желтую, нелепую при такой погоде, косынку. Мысленно пожелав незнакомке все-таки избежать воспаления легких, он остановился у кассы в метро, покупая жетон. А девушка, достав из кармана пальто проездной билет, быстро проскользнула через турникет. И пути их разошлись навсегда…
Стоя на эскалаторе, Роман терзался непонятным сомнением. Словно терял что-то невероятно важное, значимое, без чего его жизнь станет пустой и бессмысленной. Все, поздно, думал он, все еще пытаясь загнать себя на привычную колею беззаботной, отлаженной жизни. А под курткой все еще грело, все еще дышало ощущение ее хрупкого, доверчивого тела. Он вытянул шею и посмотрел вниз по ходу эскалатора. Метрах в двадцати от него маячила нелепая желтая косынка. А эскалатор медленно, но неумолимо нес их в гулкие лабиринты метро, заполненные толпами спешащих на работу людей. Найти друг друга в этих толпах будет уже не реально.
«И что я торможу?» – рассердившись на свою нерешительность, подумал он и сорвался со своего места, и побежал по ступеням вниз, доставая из кармана айфон. Когда до конца эскалатора оставалось уже совсем немного, он остановился возле девушки и скомандовал:
– Быстро диктуйте мне свой телефон!
Ася вздрогнула от неожиданности и испуганно уставилась на него большими серыми глазами.
– Зачем?..
– Должен же я узнать, заболеете вы воспалением легких или нет?! Ну же, диктуйте! Эскалатор заканчивается.
И Ася, как во сне, не успев как следует поразмыслить, продиктовала свой номер телефона. И вот уже эскалатор вынес их на платформу станции метро, густо заполненную пассажирами. Уже теряясь в толпе, незнакомец махнул ей рукой и крикнул:
– Я записал вас под именем «снегурочка»! – и исчез.
Он не позвонил ни завтра, ни на следующий день…
Через неделю Ася перестала ждать звонка, найдя кучу оправданий своему странному попутчику и мысленно с сожалением помахав рукой улетающему журавлю. У него должно быть, куча дел! Ну, с чего он будет ей звонить? Наверняка он забыл о ней сразу, как сел в поезд метро. А еще через неделю на выходных собралась снова навестить тётю Машу в Новгороде.
Она влезла в маршрутку и, сунув сумку с продуктами и лекарствами под ноги, села на свое место. Зима в этом году баловала петербуржцев снегопадами и метелями. Из-за сугробов по обочинам дорог уже трудно было проехать, а уборочная техника все чаще перегораживала проезжую часть. Мороз разрисовал окно микроавтобуса диковинными узорами. Ася подышала на стекло и потерла пальцем образовавшуюся круглую проталинку. Машина тронулась и медленно влилась в транспортный поток широкого проспекта.
Вдруг в сумке, что прижалась боком к Асиной ноге, в кармашке завибрировал телефон. Нежную лирическую мелодию из-за уличного шума было не слышно. Но волны вибрации отчетливо ощущались даже сквозь голенище зимнего сапога. Ася достала телефон.
– Привет, снегурочка! – бодро произнес знакомый голос. – Как поживает твое воспаление легких?
– Никак, – сердце ёкнуло и забилось часто-часто, – даже насморком толком не удалось заболеть!
– Ну, значит в качестве обогревательного прибора я заслуживаю знак качества! – усмехнулся незнакомец. – А ты сейчас где?
Пропустив мимо ушей это «ты», она выглянула в прозрачный круглый пятачок в морозном рисунке окна.
– Я в маршрутке, еду в Новгород.
– Где именно?
– А только что отъехали от «Московской».
– Понял. Ну, пока, снегурочка! – и отключил телефон.
Ася с удивлением уставилась на экран своего мобильника. Как странно он оборвал разговор. Да и вообще он странный, очень странный, не такой, как все. Детская мечта, взмахнув радужным крылом и обдав ароматом чуда, пролетела мимо. Она положила телефон в карман пуховика и сосредоточилась на проплывающих мимо огнях большого города. Мысль о том, что он все-таки позвонил, почему-то грела душу.
Водитель маршрутки ругнулся про себя, когда большая черная машина из левого ряда неожиданно вклинилась перед ним и, включив правый поворотник, стала притормаживать и оттеснять к обочине.
– Ты что творишь?! – возмущенно произнес вслух водитель, но нажал на тормоз.
Из машины выскочил молодой мужик в черной куртке и подбежал к водительской двери, просительно застучав в стекло согнутым указательным пальцем. Водитель, настраиваясь на скандал, недовольно опустил стекло.
– Слышь, командир, – на лице незнакомца сияла дружелюбная улыбка, а в голосе слышались извиняющиеся нотки, – прости пожалуйста, мне надо только забрать у тебя одного пассажира, вернее, пассажирку. Это очень важно!
– Какую еще пассажирку?! – удивился водитель.
– Снегурочку!
Странный мужик обежал капот и потянул на себя боковую дверь маршрутки. Всунув припорошенную снегом лохматую голову в салон, он громко произнес:
– Снегурочка, ты где? Пойдем скорее!
Глаза Аси удивленно округлились при виде того самого незнакомца, и она стала медленно подниматься со своего места, прижимая к груди сумку и чувствуя себя школьницей, которую внезапно вызвал к себе директор школы.
– Давай вещи и пошли! – скомандовал незнакомец, протягивая руку к Асе.
– Куда?.. – прошептала Ася, но послушно протянула ему сумку и стала выбираться из маршрутки под ошарашенными взглядами других пассажиров.
– Сейчас увидишь.
Он закинул ее сумку в багажник большой черной машины, и открыл правую переднюю дверь.
– Садись!
Маршрутка, осторожно объехав вольво, вырулила на трассу, на прощание мигнув красными габаритными огнями. Ася, как под гипнозом, безропотно села на переднее сиденье.
– Куда мы едем? – спросила она, борясь с робостью и любопытством, то растирая, то сжимая в кулачки озябшие руки.
– В Новгород. Не хочешь в Новгород, поедем в любое другое место! – незнакомец тронул с места автомобиль и плавно влился в общий поток транспорта.
– Разве мы уже на «ты»?
– Конечно. Давно.
– Правда? А я не заметила.
Незнакомец бросил на нее взгляд полный нежности и восторга и накрыл ладонью ее левую руку, уже привычно озябшую. И ее маленький кулачок утонул в том самом тепле, которым так щедро делился с ней незнакомец под завывание метели на трассе Новгород – Петербург. Как-то сразу стало не только тепло, но и спокойно, уютно, хорошо. Эта широкая, крепкая мужская ладонь была мягкой, ласковой и…удивительно родной.
Ася тихо засмеялась, глядя на мелькающие мимо окна автомобиля заснеженные леса и поля.
– Ты чего смеешься? – спросил незнакомец и улыбнулся.
– Смешно… Ты даже не спросил, как меня зовут.
– Не спросил. И ты не спросила, как меня зовут. Потому что это не важно.
Он чуть сильнее сжал ее руку, и она сразу поняла, что действительно все не важно. Все, кроме этой руки и этого тепла.
– Совсем не важно, – ответила она и пальцы их переплелись.
Ну, вот, подумал Роман удовлетворенно, теперь все правильно! Душевные метания двух недель кончились. Последний кусочек пазла встал на свое место, и картинка сложилась полностью. Теперь он точно знал, какой будет его жизнь дальше… Их жизнь.
– Тебя зовут милая, родная, любимая. У тебя тысяча имен в зависимости от случая и настроения. Хочешь, буду называть тебя лапушкой, или малышкой? – Он посмотрел на нее, и она заметила ласковые искорки в его глазах.
– Не обидишься, если я буду называть тебя медведь, мой медведь?
– Да хоть леший, главное, что твой!
А между ладонями, между переплетенными пальцами происходил таинственный алхимический процесс: молекулы сплетались между собой, соединялись атомы, суетились протоны и электроны, объединяя, сливая двух разных людей в нечто цельное, неразделимое, единое. Для чего обычные человеческие имена уже никак не подходили, были малы и мелки. Чему было уже совсем другое название, но услышать его, узнать, уловить в хрустальном перезвоне небесных сфер посторонние уже не могли.
– Девочка моя… – грустно вздохнул Роман вслед эвакуатору, увозившему его вольвочку. Свою машину он любил почти как женщину. Да что там, гораздо больше! Женщин он любил обычно как-то, а вольвочку – трепетно, как родную. В ней, как в женщине, была и красота, и нежность, и сексуальность. Но, помимо этого, еще и какая-то душевность, уютная, доверчивая теплота. – Ничего, милая, мы тебя починим, приведем в порядок. Только дай время…
Он так и не понял, как можно было ночью на совершенно свободном шоссе так его обгонять, чтобы безобразно покалечить весь левый задник его машины. Козел винторогий! Обреченно ругнулся он про себя на виновника ДТП. Но пока разбирались с ГИБДД, пока ждали эвакуаторы, все эмоции кончились, уступив место мрачной усталости. Теперь надо было как-то добираться до Питера.
Застегнув молнию куртки до конца, так, что над высоким воротом были видны только глаза, накинув на голову капюшон, Роман побрел по улице, еще погруженной в хмурый предрассветный сумрак. Оплата эвакуатора выбрала почти всю наличность из его кошелька. И он размышлял, как лучше – на электричке или на автобусе – поехать домой? От Великого Новгорода до Питера не так уж далеко.
С вечера резко похолодало. Задул пронзительный северный ветер. На стылую ноябрьскую улицу решительно заглянула зима. Поглубже засунув руки в карманы своей парки, Роман быстрым шагом пошел вперед, всматриваясь вдаль. В конце улицы виднелась автобусная остановка. Может удастся что-то узнать про транспорт, курсирующий между двумя городами?
Едва подойдя к остановке, он увидел подъезжающую маршрутку с трехзначным номером на лобовом стекле и надписью «В.Новгород – Санкт-Петербург». Роман выставил вперед правую руку, и машина послушно остановилась возле него.
– Командир, – отодвинув тяжелую дверь в сторону спросил Роман у водителя, – довезешь по Питера?
– Садись, как раз одно свободное место осталось! – согласно кивнул коротко стриженной головой солидный дядька за рулем.
Облегченно вздохнув, Роман стал неловко пробираться по узкому проходу в конец салона. В половине шестого утра желающих ехать в Питер было много, почти полная маршрутка. Он сел в самом углу и прикрыл глаза, пригревшись и намереваясь проспать до самого конца путешествия.
Ася с усилием открыла тяжелую железную дверь подъезда. Ветер дунул в лицо таким холодом, что она вздрогнула и поспешила стащить с шеи тонкую шелковую косынку и накинуть ее на голову. В пятницу вечером, когда она выезжала из Питера в Новгород к тёте Маше, была еще обычная хмурая осень, а вчера вдруг разом началась зима. И в тонком осеннем пальто, да еще без шапки, было холодно. «Ладно, до остановки маршрутки не далеко, замерзнуть не успею! – подумала Ася, поднимая воротник повыше, – а в Питере сразу нырну в метро».
Ей не удалось купить билеты на маршрутку на вечер воскресенья, пришлось брать на первый утренний рейс понедельника. Но она не пожалела, хотя вставать в пять утра – то еще удовольствие. Но тётя Маша, узнав о том, что племянница загостится у нее еще чуть-чуть, улыбнулась так радостно, так благодарно, что в сердце у Аси что-то дрогнуло. Не было у нее никого, кроме тётушки. После смерти родителей тётя Маша осталась единственным родным человеком. Хоть и была уже старенькой, здоровье подводило все чаще и чаще, но на предложение племянницы перебраться к ней в Питер категорически отказывалась. Трудно в таком возрасте менять привычное место жительства. Вот и моталась Ася чуть не каждые выходные в соседний город навестить старушку, а то и помочь чем-нибудь, да лекарства привезти. С учительской пенсии-то не разбежишься.
Она обрадовалась, увидев свою маршрутку на остановке, и быстро юркнула в теплое нутро салона. А на улице крепчал ветер, все ниже и ниже нависали плотные серые тучи. Когда выехали из города, еще пустого в этот утренний час, первые редкие снежинки закружились, заметались в воздухе, подхваченные резкими порывами ветра.
Роман спал, прислонившись виском к прохладному стеклу. Во сне он ремонтировал совместно со старым знакомым автослесарем Степанычем свою вольвочку. И так у них все быстро и хорошо получалось, что машинка на глазах приобретала свой прежний вид, а на душе ее хозяина становилось тепло и покойно. Он даже улыбнулся во сне, так и не заметив, что уже выехали из города. И маршрутка шустро крутила колесами по пустому шоссе, преодолевая сопротивление мощных порывов ветра. В лобовое стекло уже вовсю неслись стаи белых мух.
В уютном сне Степаныч ковырял гаечным ключом какую-то гайку и вдруг вскинул лысую, похожую на бильярдный шар, голову и с тревогой посмотрел на Романа. «Горим, Рома, пожар!» – произнес он отчетливо. И тут же возник отвратительный запах паленого пластика.
Роман мгновенно вынырнул из глубин сна и принюхался. И правда, в салоне пахло паленым. Он взглянул на спящих пассажиров, на невозмутимо крутящего баранку водителя и поднялся со своего места. Пробравшись на непослушных со сна ногах к водительскому месту, он спросил тревожным шепотом:
– Командир, ты запах чувствуешь? Кажется, что-то горит.
Водитель встрепенулся и закрутил головой в поисках источника неприятного запаха. А когда снизу из-под ног дремавшего на переднем сиденье пассажира потянулась тонкая струйка едкого дыма, резко нажал на тормоз. Роман еле удержался на ногах, вцепившись двумя руками в поручень. Машина встала, словно ткнувшись носом в невидимую стену. Пассажиры стали просыпаться и недовольно ворчать.
– Граждане пассажиры! – громко произнес водитель, пытаясь скрыть тревогу в голосе, – просьба покинуть салон автомобиля!
– А чего случилось то? – стали доносится сонные голоса из разных концов салона.
– Ой, чем это пахнет?! – испуганно воскликнул кто-то и в воздухе вперемешку с дымом запахло паникой – Горим что ли?
Салон маршрутки медленно заполнялся дымом.
– Пожар?! – кто-то уже потянулся, вытаскивая из-под сиденья багаж.
– Прошу покинуть салон машины! – повторил водитель, поднимаясь со своего места и рыская в поисках огнетушителя.
– Это проводка, командир? – все так же шепотом поинтересовался Роман.
– Похоже на то… Слушай, друг, выведи всех из машины, и чтоб без паники, ладно? – в глазах водителя была просьба. Роман кивнул и распахнул боковую дверь, впустив в салон холодный, но чистый воздух.
Народ выползал из маршрутки кто медленно, нехотя, недовольно ворча, ища виноватых, а кто побыстрее, без лишней деликатности отталкивая попутчиков локтями. А вокруг лютовала пурга. В серой рассветной хмари на расстоянии десяти шагов ничего не было видно кроме снежного мельтешения.
Люди сгрудились на обочине, поднимая воротники, надевая шапки и капюшоны. Роман обратил внимание на девушку в хлипком осеннем пальтишке, в шелковой желтой косынке на голове вместо шапки, в невысоких сапожках, оставлявших открытыми почти все ноги до самого подола на уровне колен. Вот сумасшедшая девица, подумал Роман, это ж надо так вырядиться в такую-то погоду!
Он подошел к водителю посмотреть, что тот обнаружил под капотом. Из моторных лабиринтов шел дым, тут же смешиваясь со снежными вихрями и пропадая в сумерках.
– Что, плохо дело? – сочувственно спросил он у водителя. Тот только расстроенно покачал головой.
– По технике безопасности я не имею права дальше ехать, – ответил тот, бросив на Романа виноватый взгляд.
– А мы как же?
– А для вас я вызову резервный автобус.
Молодой парнишка, по виду студент, отделился от кучки тревожно ворчащих пассажиров и подошел.
– Долго нам еще мерзнуть на улице?
– Пока резервный автобус не приедет, – ответил водитель, тыкая грязным пальцем в экран телефона. – Сейчас сообщу начальству о поломке. Оно вышлет машину.
– Так может мы в салоне подождем? – зябко ежась поинтересовался студент.
– Нельзя. Это опасно. Проводка где-то горит. Может так полыхнуть, что мало никому не покажется. И двигатель я больше включать не имею право. А без двигателя печка не работает.
– Ну, ты поторопи их там, командир, – попросил Роман. – а то мы на таком холоде долго не продержимся.
Он окинул взглядом пустынное шоссе, серой лентой уходящее в снежную круговерть. Вокруг не было видно ни дома, ни заправки, ничего. Ровное поле, продуваемое всеми ветрами, и асфальтовое полотно шоссе. Люди сгрудились в нескольких шагах от маршрутки, опасаясь подходить совсем близко. Роман вытащил из кармана пачку сигарет и долго пытался прикурить, уворачиваясь от порывов ветра, сердито швырявшего ему в лицо колкие снеговые иглы. Скверная ситуация. Хорошо еще от города далеко отъехать не успели.
И тут его взгляд упал на девушку в желтой косынке. Ее тонкая фигурка как березка гнулась под порывами ветра. Судорожно сжимая воротник пальто, пытаясь закрыть им шею и подбородок рукой в тонкой перчатке, она переступала с ноги на ногу, притопывала, подпрыгивала, пытаясь хоть как-то согреться. «Вот дурочка отмороженная!» – подумал Роман и, отшвырнув в снег недокуренную сигарету, направился к кучке пассажиров.
Красный огонек непотушенной сигареты тут же растаял в снежном сумраке. Роман встал рядом с девушкой в косынке так, чтобы хоть немного закрыть ее от ветра.
– Вы случайно не в коммунальной службе работаете? – спросил он, чувствуя, как яростно ветер толкает его в спину.
Девушка вскинула на него серые глаза. Из-под желтого шелка косынки выбивались темные пряди, от растаявшего снега под глазами расплывались пятна туши для ресниц. По виду ей было не больше 30-ти.
– Почему именно в коммунальной? – спросила она тоненьким, дрожащим от холода голоском.
– Потому что только для наших коммунальных служб зима всегда наступает неожиданно.
Девушка попыталась улыбнуться побелевшими губами.
– Нет. Просто в пятницу вечером в Питере еще была осень.
– Значит вы из Питера.
Незнакомка утвердительно кивнула. Кончик ее носа покраснел, губы уже приобретали синеватый оттенок и мелко дрожали. Волны зябкой дрожи сотрясали ее тело и она, не в силах справиться с дрожью, как-то жалобно и виновато посмотрела на него, будто извинялась за свой внешний вид, совершенно не радующий мужской взгляд.
Подошел водитель и сообщил:
– Скоро приедет резервный автобус и отвезет всех к месту назначения.
– Какое счастье! – выдохнул женский голос.
– И сколько нам ждать этот ваш резервный автобус? – сердито спросил мужской.
– Примерно полчаса.
– Да мы тут околеем за полчаса! – возмутился кто-то, чье лицо Роман не разглядел в снежном мареве.
Ну, околеть не околеем, подумал он, но воспаление легких некоторые заработать успеют.
– Слушайте, барышня, – произнес он, решительно дергая молнию на куртке, – за полчаса вы в своем пальтишке точно околеете. Идите сюда!
Ася непонимающе уставилась на мужчину так удачно заслонившего ее от ветра. Высокий, широкоплечий, немного смахивающий на шкаф в своей черной парке, он расстегнул молнию и раздвинул полы куртки. Под курткой виднелся серый шерстяной свитер с высоким воротом.
– Идите сюда! – повторил он, – вдвоем будет теплее.
Она испуганно попятилась от него и затрясла головой.
– Что вы… нет…
– Да бросьте вы! Выбор то у вас небольшой: воспаление легких или объятия незнакомого мужчины. Советую выбирать меньшее из зол. А мужу рассказывать не обязательно.
– К-к-какому мужу?.. – растерянно пробормотала Ася, трясясь от холода так, что зуб на зуб уже не попадал.
– Так. Мужа значит нет. Хорошо, – незнакомец, не особенно церемонясь, сгреб ее ручищей, развернул спиной и прижал к своей груди, укрыв полами вместительной куртки.
Ася ойкнула и замерла, даже дышать перестала, чувствуя, как ее со всех сторон обволакивает тепло незнакомца. В кольце его рук было тесно. Сквозь все слои одежды она чувствовала, как мощно, сильно бьется его сердце, распространяя упругие пульсации прямо в ее левую лопатку. А макушке, укрытой тонкой шелковой тканью, стало вдруг тепло от его дыхания.
– Если бы я был джентльменом, я бы отдал вам свою куртку, – проговорил он тихо, так, что услышала только она, – но вам, барышня, не повезло. Я вовсе не джентльмен. И ни за какие коврижки не отдам свою куртку никому, даже вам. Но своим теплом могу поделиться. Так что пользуйтесь, пока я добрый.
Роман стягивал руками полы куртки, одновременно обнимая барышню. Вот ведь, дурочка, подумал он и улыбнулся. Никогда в жизни еще не приходилось вот так вот обнимать женщину при таких обстоятельствах. Ее хрупкая фигурка казалась совсем маленькой в его медвежьих объятиях. Хрупкая, дрожащая, всхлипывающая.
– Эй, снегурочка, – встрепенулся он и забеспокоился, – вы чего носом там шмыгаете? Плачете что ли?
– Нет, – пискнула она жалобно, – просто мне дышать трудно… Если вы не ослабите руки, вскоре будете крепко обнимать труп.
Роман разжал объятия. «Ну и медведь же я!» – с досадой подумал он и вздохнул.
Они стояли посредине бескрайнего поля, на обочине уходящего в бесконечность шоссе, в самом центре погодного катаклизма, стояли тесно прижавшись друг к другу, укрытые одной курткой на двоих. Вокруг бушевал ветер, колючий снег пытался забиться под капюшон. А между ними, между двух тел, укрытых одной курткой, скапливалось тепло, сгущалось, обволакивало обоих, притягивало к друг другу еще теснее, еще крепче. Роман почувствовал, что незнакомку отпускает первоначальная скованность и робость. Спина ее расслабилась, плечи обмякли, затылок прижался к его плечу. Ему показалось, что девушка, пригревшись, засыпает в его объятиях.
То ли ветер яростными порывами раскачивал обоих, то ли Роман укачивал в кольце своих рук мирно дремавшую девушку, как маленького ребенка. Но внутри него зародилась и стала разрастаться теплая волна, наполняя каждую клеточку тела светлой нежностью. Это не было банальное физическое влечение. Он ее не хотел. Она УЖЕ была его, была внутри него. И осознал он это всем своим существом, как человек осознает собственное сердце у себя в груди. Она была его частью, его сутью. И память о ней всколыхнулась из самых глубин его естества и затопила ошеломленное сознание. Он ее знал!..
Знал запах ее кожи, знал каждый изгиб и закоулочек ее тела, знал, как сладко засыпать под мерный стук ее сердца под самым ухом, знал, как просто и легко попасть в резонанс с ее дыханием. Знал, потому что это была ЕГО женщина… И всегда была его! И сто лет назад, и триста, и, даже, тысячу. Она всегда была его женщиной. Просто он почему-то забыл это, а сейчас вдруг вспомнил.
Укрытая от непогоды объятьями незнакомца, Ася блаженно притихла. Это было так странно, как во сне… В давнем волшебном сне эти руки уже обнимали ее когда-то, к этой груди она уже прижималась доверчиво, ритмичные гулкие удары его сердца успокаивали, убаюкивали, доносясь из туманных глубин памяти. Это был сон. И просыпаться ей совсем не хотелось.
Сквозь снежные вихри на шоссе замелькали желтые пятна света. Замерзающие пассажиры обрадованно зашумели, увидев подъезжающий к ним микроавтобус. Ася, пригревшаяся в объятиях незнакомца, вдруг с сожалением поняла, что даже самые прекрасные сны заканчиваются. Вот сейчас они сядут в автобус каждый на свое место и даже словом больше не обмолвятся. И стало остро жаль терять что-то странное, молчаливое, не имеющее названия, возникшее между ними за эти полчаса.
Автобус остановился, и маленькая кучка людей, радостно гомоня, бросилась в его теплое гостеприимное нутро. Все послушно расселись согласно купленным билетам. Незнакомка в желтой косынке оказалась спиной к водительскому месту, а Роман уселся в самом конце салона. Он снова прислонился виском к холодному стеклу, но спать уже совсем не хотелось. Он пытался понять, что же с ним произошло, пока он согревал в своих объятиях закоченевшую барышню.
Она совершенно была не в его вкусе. Он любил крупных, мягкотелых блондинок, ярких, шумных, веселых. От которых исходило ощущение праздника. Праздника, насладившись которым в полной мере, можно было легко забыть и идти по жизни дальше, не отягощая себя ненужными проблемами. А на бледном личике незнакомки читалось, что жизнь ее состоит из сплошных проблем. И красный с мороза нос, сопливый к тому же, который она то и дело вытирала носовым платком, был лишь самой малой из них. «А я для чего? Вдвоем то с проблемами легче справиться!» – неожиданно для самого себя подумал Роман и разозлился. Ну, какое ему дело до чужих проблем?! А в душе ворочалось непривычное сомнение: разве эта отмороженная дурочка была чужой?
Он прижал руку к груди, чтобы снова почувствовать то тепло, что скопилось между ними за полчаса и стало общим, единым, нераздельным. Долго ли оно еще там сохранится? До того момента, как он снимет куртку? И захотелось больше никогда не снимать парку, срастись с ней, точно с новой кожей, лишь бы не потерять то важное, что дышало под ней. «Бред какой-то!» – заключил Роман и усилием воли заставил себя не думать о незнакомке. В конце концов у него пострадала в аварии любимая машина! А он думает о всякой ерунде.
Ася старалась не смотреть в ту сторону, где сидел незнакомец. Но за окном кроме мельтешения снежных полчищ ничего невозможно было рассмотреть. И взгляд сам собой тянулся в конец салона. Здоровый мужик, лет 35, крупный, сильный, уверенный в себе. Она побаивалась таких всегда, может, потому что ей самой не хватало уверенности в себе? Этакий хозяин жизни. Пусть маленькой, своей собственной жизни, но хозяин. Инстинкт подсказывал, что от таких лучше держаться подальше. Почему? Ведь он щедро поделился с ней своим теплом, уберег от простуды. И в кольце его рук было так хорошо, так спокойно и надежно. Кажется, именно теперь она поняла смысл выражения «как за каменной стеной». Но такие мужчины выстраивают каменные стены, чтобы защитить от жизненных проблем, вокруг совершенно других женщин, не таких, как Ася. Это она знала точно. Незнакомец был из породы журавлей в небе. Она же не дотягивала ни до журавля, ни до лебедя, так, серенький воробышек. Но она была из тех, кто предпочитает гордое одиночество синице в руках.
Не сдержав разочарованного вздоха, Ася уставилась в окно. Надо было просто сказать спасибо незнакомцу, хотя бы за то, что он разрушил стереотип в ее голове. До сегодняшнего дня она была уверена, что настоящие мужчины повывелись, исчезли, как редкий краснокнижный вид, уступив место инфантильным, слабым, самолюбивым эгоистам. Но вот ведь, один еще остался, и ему не безразлично, заболеет она воспалением легких или нет, и собственного тепла не жалко, чтобы отогреть совершенно незнакомую женщину. Но сны имеют свойство заканчиваться и наяву никогда не повторяются. Она усилием воли оставила несбыточные мечты снам и сосредоточилась на мыслях о работе и тёте Маше.
Вскоре за окнами замелькали окраины Питера, скопления автотранспорта предрекали грядущие пробки. Подъехав к метро, народ высыпал из маршрутки и поспешил к подземному переходу. Роман старался не смотреть на мелькающую впереди желтую, нелепую при такой погоде, косынку. Мысленно пожелав незнакомке все-таки избежать воспаления легких, он остановился у кассы в метро, покупая жетон. А девушка, достав из кармана пальто проездной билет, быстро проскользнула через турникет. И пути их разошлись навсегда…
Стоя на эскалаторе, Роман терзался непонятным сомнением. Словно терял что-то невероятно важное, значимое, без чего его жизнь станет пустой и бессмысленной. Все, поздно, думал он, все еще пытаясь загнать себя на привычную колею беззаботной, отлаженной жизни. А под курткой все еще грело, все еще дышало ощущение ее хрупкого, доверчивого тела. Он вытянул шею и посмотрел вниз по ходу эскалатора. Метрах в двадцати от него маячила нелепая желтая косынка. А эскалатор медленно, но неумолимо нес их в гулкие лабиринты метро, заполненные толпами спешащих на работу людей. Найти друг друга в этих толпах будет уже не реально.
«И что я торможу?» – рассердившись на свою нерешительность, подумал он и сорвался со своего места, и побежал по ступеням вниз, доставая из кармана айфон. Когда до конца эскалатора оставалось уже совсем немного, он остановился возле девушки и скомандовал:
– Быстро диктуйте мне свой телефон!
Ася вздрогнула от неожиданности и испуганно уставилась на него большими серыми глазами.
– Зачем?..
– Должен же я узнать, заболеете вы воспалением легких или нет?! Ну же, диктуйте! Эскалатор заканчивается.
И Ася, как во сне, не успев как следует поразмыслить, продиктовала свой номер телефона. И вот уже эскалатор вынес их на платформу станции метро, густо заполненную пассажирами. Уже теряясь в толпе, незнакомец махнул ей рукой и крикнул:
– Я записал вас под именем «снегурочка»! – и исчез.
Он не позвонил ни завтра, ни на следующий день…
Через неделю Ася перестала ждать звонка, найдя кучу оправданий своему странному попутчику и мысленно с сожалением помахав рукой улетающему журавлю. У него должно быть, куча дел! Ну, с чего он будет ей звонить? Наверняка он забыл о ней сразу, как сел в поезд метро. А еще через неделю на выходных собралась снова навестить тётю Машу в Новгороде.
Она влезла в маршрутку и, сунув сумку с продуктами и лекарствами под ноги, села на свое место. Зима в этом году баловала петербуржцев снегопадами и метелями. Из-за сугробов по обочинам дорог уже трудно было проехать, а уборочная техника все чаще перегораживала проезжую часть. Мороз разрисовал окно микроавтобуса диковинными узорами. Ася подышала на стекло и потерла пальцем образовавшуюся круглую проталинку. Машина тронулась и медленно влилась в транспортный поток широкого проспекта.
Вдруг в сумке, что прижалась боком к Асиной ноге, в кармашке завибрировал телефон. Нежную лирическую мелодию из-за уличного шума было не слышно. Но волны вибрации отчетливо ощущались даже сквозь голенище зимнего сапога. Ася достала телефон.
– Привет, снегурочка! – бодро произнес знакомый голос. – Как поживает твое воспаление легких?
– Никак, – сердце ёкнуло и забилось часто-часто, – даже насморком толком не удалось заболеть!
– Ну, значит в качестве обогревательного прибора я заслуживаю знак качества! – усмехнулся незнакомец. – А ты сейчас где?
Пропустив мимо ушей это «ты», она выглянула в прозрачный круглый пятачок в морозном рисунке окна.
– Я в маршрутке, еду в Новгород.
– Где именно?
– А только что отъехали от «Московской».
– Понял. Ну, пока, снегурочка! – и отключил телефон.
Ася с удивлением уставилась на экран своего мобильника. Как странно он оборвал разговор. Да и вообще он странный, очень странный, не такой, как все. Детская мечта, взмахнув радужным крылом и обдав ароматом чуда, пролетела мимо. Она положила телефон в карман пуховика и сосредоточилась на проплывающих мимо огнях большого города. Мысль о том, что он все-таки позвонил, почему-то грела душу.
Водитель маршрутки ругнулся про себя, когда большая черная машина из левого ряда неожиданно вклинилась перед ним и, включив правый поворотник, стала притормаживать и оттеснять к обочине.
– Ты что творишь?! – возмущенно произнес вслух водитель, но нажал на тормоз.
Из машины выскочил молодой мужик в черной куртке и подбежал к водительской двери, просительно застучав в стекло согнутым указательным пальцем. Водитель, настраиваясь на скандал, недовольно опустил стекло.
– Слышь, командир, – на лице незнакомца сияла дружелюбная улыбка, а в голосе слышались извиняющиеся нотки, – прости пожалуйста, мне надо только забрать у тебя одного пассажира, вернее, пассажирку. Это очень важно!
– Какую еще пассажирку?! – удивился водитель.
– Снегурочку!
Странный мужик обежал капот и потянул на себя боковую дверь маршрутки. Всунув припорошенную снегом лохматую голову в салон, он громко произнес:
– Снегурочка, ты где? Пойдем скорее!
Глаза Аси удивленно округлились при виде того самого незнакомца, и она стала медленно подниматься со своего места, прижимая к груди сумку и чувствуя себя школьницей, которую внезапно вызвал к себе директор школы.
– Давай вещи и пошли! – скомандовал незнакомец, протягивая руку к Асе.
– Куда?.. – прошептала Ася, но послушно протянула ему сумку и стала выбираться из маршрутки под ошарашенными взглядами других пассажиров.
– Сейчас увидишь.
Он закинул ее сумку в багажник большой черной машины, и открыл правую переднюю дверь.
– Садись!
Маршрутка, осторожно объехав вольво, вырулила на трассу, на прощание мигнув красными габаритными огнями. Ася, как под гипнозом, безропотно села на переднее сиденье.
– Куда мы едем? – спросила она, борясь с робостью и любопытством, то растирая, то сжимая в кулачки озябшие руки.
– В Новгород. Не хочешь в Новгород, поедем в любое другое место! – незнакомец тронул с места автомобиль и плавно влился в общий поток транспорта.
– Разве мы уже на «ты»?
– Конечно. Давно.
– Правда? А я не заметила.
Незнакомец бросил на нее взгляд полный нежности и восторга и накрыл ладонью ее левую руку, уже привычно озябшую. И ее маленький кулачок утонул в том самом тепле, которым так щедро делился с ней незнакомец под завывание метели на трассе Новгород – Петербург. Как-то сразу стало не только тепло, но и спокойно, уютно, хорошо. Эта широкая, крепкая мужская ладонь была мягкой, ласковой и…удивительно родной.
Ася тихо засмеялась, глядя на мелькающие мимо окна автомобиля заснеженные леса и поля.
– Ты чего смеешься? – спросил незнакомец и улыбнулся.
– Смешно… Ты даже не спросил, как меня зовут.
– Не спросил. И ты не спросила, как меня зовут. Потому что это не важно.
Он чуть сильнее сжал ее руку, и она сразу поняла, что действительно все не важно. Все, кроме этой руки и этого тепла.
– Совсем не важно, – ответила она и пальцы их переплелись.
Ну, вот, подумал Роман удовлетворенно, теперь все правильно! Душевные метания двух недель кончились. Последний кусочек пазла встал на свое место, и картинка сложилась полностью. Теперь он точно знал, какой будет его жизнь дальше… Их жизнь.
– Тебя зовут милая, родная, любимая. У тебя тысяча имен в зависимости от случая и настроения. Хочешь, буду называть тебя лапушкой, или малышкой? – Он посмотрел на нее, и она заметила ласковые искорки в его глазах.
– Не обидишься, если я буду называть тебя медведь, мой медведь?
– Да хоть леший, главное, что твой!
А между ладонями, между переплетенными пальцами происходил таинственный алхимический процесс: молекулы сплетались между собой, соединялись атомы, суетились протоны и электроны, объединяя, сливая двух разных людей в нечто цельное, неразделимое, единое. Для чего обычные человеческие имена уже никак не подходили, были малы и мелки. Чему было уже совсем другое название, но услышать его, узнать, уловить в хрустальном перезвоне небесных сфер посторонние уже не могли.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ
Поэт, прозаик, автор-исполнитель, член Союза российских писателей, Литературного фонда России, Союза писателей Республики Татарстан.
Родилась в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Набережночелнинское училище искусств, Педагогический институт, Высшие литературные курсы (семинар В. Сорокина) и редакторские курсы Литературного института им. А. М. Горького.
Лауреат Премии Республики Татарстан «Хрустальное перо – 2010», дважды призёр Международного песенного интернет-конкурса Грушинского фестиваля (2013, 2014), лауреат Всероссийского фестиваля «Песня Булата» (2016), лауреат Премии мэра города Набережные Челны в области литературы и искусства (2018), лауреат Республиканской литературной премии имени Сажиды Сулеймановой (2020) и др.
Живёт и работает в городе Набережные Челны. Руководит ЛиТО «Лебедь» при Дворце культуры «КАМАЗ».
Поэт, прозаик, автор-исполнитель, член Союза российских писателей, Литературного фонда России, Союза писателей Республики Татарстан.
Родилась в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Набережночелнинское училище искусств, Педагогический институт, Высшие литературные курсы (семинар В. Сорокина) и редакторские курсы Литературного института им. А. М. Горького.
Лауреат Премии Республики Татарстан «Хрустальное перо – 2010», дважды призёр Международного песенного интернет-конкурса Грушинского фестиваля (2013, 2014), лауреат Всероссийского фестиваля «Песня Булата» (2016), лауреат Премии мэра города Набережные Челны в области литературы и искусства (2018), лауреат Республиканской литературной премии имени Сажиды Сулеймановой (2020) и др.
Живёт и работает в городе Набережные Челны. Руководит ЛиТО «Лебедь» при Дворце культуры «КАМАЗ».
ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ
(отрывок из повести)
Слава порывисто обнял Олю и крепко поцеловал. Губы девушки ответили, отрываться от них Славе не хотелось, но пришлось – другого момента сказать, о чём он думал последние дни, уже не будет. Он волновался. С чего начать? Мысли летели, опережая одна другую, обрываясь, ухали в сердце, оно колотилось сильней и сильней, выстукивая короткое «хочу!»
– Давай сбежим.
– Куда? – Оля вскинула рассеянный взгляд.
Зрачки её необычно расширились, и синие глаза теперь казались бездонно чёрными, зовущими. Понимает ли она?.. Она не умеет притворяться, этот взгляд обещает…
– К Валерке, – голос не подвёл, хотя в горле першило, а тело била внутренняя дрожь.
– Так Валерка здесь… – Она не понимала. – Ты что, забыл? – Оля нежно прижалась к его плечу. – Почти вся группа к тебе пришла.
Слава запустил руку в её русые волосы, длинные, до плеч, и нежно затеребил их. Остро почуял знакомый мятный запах, в который вмешались запахи осенней прохлады, пожухлой листвы. Ароматы пьянили крепче вина, подпитывая дерзость.
– Валерка дал ключи… Его родичи уехали… – К вискам подступил жар. – Оля, мы будем одни… Никто не заметит, – он вновь склонился к её губам, но она выскользнула из объятий. Слава цепко, как за последнюю надежду, ухватился за маленькие сильные ладошки, потянул: – Бежим, – еле слышно, но с большим чувством выдохнул призывник: завтра ему в армию…
Второй год они дружат, с первого дня учёбы в машиностроительном техникуме. Слава ещё на вступительных экзаменах обратил внимание на девушку с ладной фигуркой, с горящими синими глазами. Отметил и широковатые скулы, переходящие в упрямый, но не тяжёлый подбородок. Наверное, лишь барышни с волевым характером идут на литейное производство чёрных металлов – не женская профессия, и редкая девушка хорошо разбирается в физике и химии, а эта решала задачки играючи.
– С вашими знаниями и аттестатом можно и в вуз. Умница. Мы рады таким студентам, – заметил преподаватель. Абитуриентка сдержанно сказала «спасибо» и промолчала о том, что стремилась к надёжности и совсем не хотела рисковать – вдруг в институт провалишься, тогда целый год коту под хвост. А цель поставлена – по окончании учёбы автоматически распределиться в город, в колхозах-то литейных заводов нет. Дома хорошо, но… в деревне жить скучно, тесно – зовёт романтика больших строек.
После торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, молодой человек подошёл к девушке и как бы нечаянно тронул за локоть:
– Меня зовут Слава, а вас?
– Авас, – она озорно улыбнулась.
Он оценил шутку и с деланым кавказским акцентом подхватил:
– Миня завут Вичислав Андрэивич, а вас?..
– Ольга Владимировна.
Оба рассмеялись. Олю будто бы пронзил горячий ветер. Прикосновение парня, его благодушный смех и внимательный взгляд враз обожгли и обрадовали, словно она встретила давнего знакомого, с которым, уж точно, не придётся тосковать в чужом городе.
Завязалась дружба. В тот же вечер они пошли на дискотеку в честь дня первокурсника, а на другой день Слава устроил экскурсию по родному Кургану. Тёплый сентябрьский вечер неожиданно для Оли завершился чаепитием в гостях у Славы – так, без долгих раздумий, он познакомил девушку с родителями, тем самым продемонстрировав, что парень он серьёзный.
Потом вместе готовились к сессиям: Оля помогала Славе по аналитической химии, он ей – преодолевать «сопротивление материалов». Само собой, пришла пора «местам для поцелуев» в кинотеатре. Славе казалось, вот-вот дружба и влюблённость перерастут во что-то большее, но зазноба, хоть и целовалась пылко, никогда не позволяла чрезмерных шалостей его рукам, даже по щеке однажды хлестанула так, что он боялся, не осталось бы синяка. Обошлось. И сердитость Оли прошла быстро: девушка просто дала понять, – она «не такая».
Слава ей очень нравился: чернявый, с круглыми ямочками на щеках и тонкими, честолюбивыми губами; умный, любит волейбол и танцы, как и она. Раньше у Оли особого влечения к парням не возникало. А Слава… Он не такой, как все. С ним интересно: начитанный, куражливый, трудно угадать, что ещё придумает, да и гадать некогда – летишь в потоке настроения и ни на минуту не хочется расставаться, говорить или молчать – не важно. И семья у него хорошая, и родители его к ней, вроде бы со всей душой. Мать Антонина Петровна всегда обращается «Олечка, деточка», не иначе. Правда, Оля улавливает в уменьшительно-ласкательных суффиксах некую снисходительность, но, скорей всего, это от случайного впечатления: хоть и говорят, что первое – самое верное, однако можно ли на нём строить своё отношение к человеку?
Когда состоялось знакомство, Антонина Петровна, усадив гостью за стол с вышитой скатертью и дорогим чайным сервизом, расспрашивала, откуда та приехала в Курган, кем работают родители. Услышав, что мама Оли зоотехник, а отец шофёр, слегка приподняла тонкую бровь, будто с сочувствием, спросила:
– А что же папа не учился после школы?
– Война помешала, – девушка распрямила плечи и с вызовом посмотрела в глаза хозяйки. Оля уже знала, что папа Славы – заместитель директора Электромеханического завода, а мама – преподаватель русского языка и литературы. Однако диплом о высшем образовании вовсе не подтверждает наличие высокого ума и мудрости.
– Да-а, война... – многозначительно вздохнула Антонина Петровна и зашелестела длинным, до пят, шёлковым домашним платьем, хлопоча над столом. – Хм, а я всю жизнь за партой… Угощайтесь, Олечка, деточка, такого варенья вы не пробовали. Абрикосовое, слаще мёда, в наших краях – диковинка. – Она переставила ближе к девушке хрустальную вазочку на высокой ножке, подала такую же, только маленькую, розетку и позолоченную чайную ложечку: – Кладите от души, не стесняйтесь. Мы нынешним летом отдыхали в Сочи, так я не удержалась, купила… – Антонина Петровна пригубила варенье, отхлебнула чай. – Неожиданно спросила: – Вы любите литературу?
– Люблю читать.
Оля вспомнила деревенскую библиотеку в Мокроусово, на Краснодворцовой, куда она ещё младшей школьницей бегала каждый день после уроков. Название улицы – будто из сказки, и двухэтажная деревянная библиотека – настоящий дворец, верней, целый городок, как в черепаховой табакерке Одоевского. Оля, прежде чем взять что-то почитать, прохаживалась по его улицам – волшебным лабиринтам. Книги на стеллажах представлялись разноцветными домиками с башенками. Откроешь какое-нибудь красивое окошко – и зазвенят колокольчики-слова.
Библиотекарь Вера Николаевна была похожа на добрую старушку-сказительницу: неужели она все книги прочла? – о каждой знала самое интересное и подсказывала, какую выбрать. Всегда с улыбкой встречала девочку, доставала ящичек с карточками – Олина была самая толстая, поэтому искать её среди других не приходилось. Вера Николаевна листала вкладыши – их шелест, как и шелест книжных страниц, завораживал до мурашек.
Многие девчонки в техникуме тихо завидовали, видя Олю и Славу везде вместе: и на лекциях, и в столовой, и на внеурочных занятиях в спортзале. После учёбы Слава провожал избранницу до общежития, до которого было несколько автобусных остановок, но они шли непременно самым длинным путём, через парк. Иногда заходили в кафе и ели из одной креманки мороженое – пломбирные шарики под шоколадной стружкой. В погожие тёплые дни катались на каруселях – на «цепных»: летишь по кругу высоко! Слава всегда садился в кресло позади, чтобы, догнав свою Синицу, раскрутить и подтолкнуть выше – ныряй в небо!..
– Почему Синица? – спросила она, когда он первый раз так её назвал.
– Потому что шустрая и летать любишь. Потому что глаза у тебя синие, а ещё сини-ца – это сокращённо «синяя птица», никто не догадается, только мы будем знать.
– Здорово… А мне на ум ничего, кроме Славика, не приходит.
– Славиком меня мама называет. Мне нравится, когда ты говоришь Слава…
Каждое утро он встречал её в фойе общежития. Подружки по комнате, а с Олей жили ещё три девушки, подбивали, мол, не теряйся, выходи за него. «Раз-два – и в дамки-мадамки, – убеждала землячка Таня. О себе она говорила: – Я девка бедовая, уж если чего захочу – добьюсь, я бы такого жениха не упустила».
Секретов друг от друга девчата не держали. Стоило Оле вернуться домой поздно, как Таня первой начинала: «Повезло тебе со Славкой. Парень городской, родители обеспеченные. Завидный жених». Но Оля отнекивалась: «Замуж выйти – не напасть…» А подружки, как сговорившись: «Да с таким не пропадёшь!» – «Нет. Сначала надо выучиться, а то пойдут пелёнки-распашонки».
Слава так далеко, до «пелёнок-распашонок», не заглядывал, он был влюблён, а после пощёчины словно чертяка в него вселился. Парень решил во что бы то ни стало добиться своего. Раньше он беззаботно встречался с девушками, пользовался успехом у ровесниц и у тех, кто постарше, и опыт приобрёл не платонический, но ни к одной так не тянуло. Оля – необыкновенная, и трудно объяснить, что его так влекло. Сердце ёкало, когда она смеялась. Нравились её прямота и трезвый ум, отсутствие девчачьего кокетства. Маленькие ступни просто сводили с ума, казались такими беззащитными, и если бы Оля только позволила, он бы целовал и целовал их…
А тут, то ли кстати, то ли нет, пришла повестка в армию: что ж, последний шанс – «она будет моей». Родители устроили щедрое застолье. Проводы в армию – «проводины», как говорили встарь – сравнимы по размаху со свадьбой. В самый разгар гулянья завтрашний солдат позвал Олю на улицу, к заветной скамейке под развесистой берёзой в глубине двора. Однако сегодня они не присели – Слава боялся задержаться:
– Синица, неужели мы вот так расстанемся на целых два года? – Он поднёс к губам ладошку девушки и нежно поцеловал впадинку внутри.
– Как «вот так»? – Оля потянула руку, поцелуй острой щекоткой отозвался где-то в солнечном сплетении. Слава не отпустил.
– Я хочу, чтобы ты… стала моей. Навсегда… Я… люблю тебя.
Сердце девушки встрепенулось, она давно ждала этих слов, но строгий ум не позволил выказать глубину чувства.
– Раньше ты этого не говорил.
– Давно думал… а сегодня уже не могу молчать…
– А что дальше? – Пальцы её похолодели.
Вопрос для Славы был неожиданным.
– А что дальше? Само собой – свадьба, когда вернусь. Всего через две зимы.
– Ну-у, вот, когда вернёшься… тогда и мы вернёмся к этому разговору, – она высвободила руки. Он снова обнял её.
– Оля, люблю тебя, слышишь? Люблю, – страстно прошептал прямо в ухо желанной и в исступлении стал чмокать в глаза, щёки, шею.
Это «люблю» гудом ворвалось в сознание девушки, пробежало жгучим ознобом по затылку, по всей коже, ноги ослабли. Слава отчаянно притянул Олю к себе так, что и грудь её, и живот, и колени будто вот-вот начнут врастать в него. Ей стало трудно дышать, глаза затуманились… Два предстоящих разлучных года – целая вечность, а она привыкла, что он всегда рядом… Ах, может… От искушения сделать прощальный вечер самым-самым памятным в жизни бросило в пот. Отзывчивость тела испугала… Другие девчонки вон не боятся, говорят, когда любишь, не страшно… А я люблю – так? – так, чтобы?..
– Оля… Оленька, люблю. Люблю!.. А ты?.. – Он как будто услышал её вопрос к самой себе.
– Люблю, – тихо сказала она, – но…
– Не надо «но», идём, – он, сделал шаг, потянул её за собой, достал из кармана ключи и звякнул ими: – Вот, сегодня у нас есть крыша…
Оля с силой выдернула руку и словно окаменела, с места не двинулась. Озноб усилился, ей отчего-то захотелось укутаться не в объятия Славы, а в тёплую кофту, которую связала мама – нарядную, на выход. Осенние холода уже наступили, а девушка выскочила на улицу в одном платье, кофта осталась в комнате Славы.
Вдруг вспомнились мамины слова: «Целоваться – целуйся, если парень очень нравится, если – очень-очень! Не раздавай поцелуи просто так, доченька, тогда, по одному поцелую почуешь, твой парень или нет. И всегда помни: до свадьбы ничего не позволяй большего. Ни-че-го! Самое страшное для девушки, да и для женщины, быть порченной. Это как червивое яблоко, которое никому не нужно, лишь надкусить да выплюнуть».
– Слава, пойдём ко всем, – поёжилась Оля и отступила. – Прохладно что-то.
Он скинул пиджак, набросил ей на плечи, сжал их в крепких руках.
– Я хочу, чтобы ты навсегда стала моей!
– Стану… Возвращайся, тогда…
– Ты же любишь, – он дрожащей рукой (пульс пробивал даже пальцы) приподнял подбородок и пытливо заглянул в глаза: – Оля, почему?..
Она смотрела прямо:
– Потому что любовь – не теорема, а аксиома, ни доказательства, ни жертвы ей не нужны.
– Я просто боюсь тебя потерять!
– А ты не бойся, когда любишь, ни-че-го не страшно.
Синий холодок её глаз совсем отрезвил его. Он растерялся от резкой перемены, не мог сообразить, что сказать, как себя вести.
Неожиданно на весь двор раздался голос Валерки:
– Э-эй, влюблённые, вы где-е?.. Славка, вы вернулись?
Слава хотел что-то ответить, Оля не дала, прижала ладонь к его губам и отрицательно покачала головой. Валерку – того ещё интригана с хитрой лисьей улыбочкой – она терпеть не могла. И зачем Слава доверился ему? Он же первый разболтает, что парочка уединялась, даже если этого не было… Жгучая волна стыда и гнева оттолкнула Олю от друга.
– Знаешь, – резко сказала она, – не хочу возвращаться в компанию. Я иду в общагу, – скинула пиджак и почти бросила Славе в руки.
– Я провожу тебя.
– Нет. Иди, тебя ждут. Завтра приду на вокзал, – она решительно направилась со двора: – Завтра, со всеми вместе…
– А кофта?.. – вспомнил Слава.
Она на миг задумалась. Вернуться сейчас вдвоём – значит, другим дать повод предположить, что они где-то были, а так – он просто выходил её провожать.
– Оставь. Сама заберу у твоих родителей – они ведь пустят без тебя?
– Оля, ну о чём ты?..
– Вот и прекрасно.
Она пошла быстрым твёрдым шагом, не оглядываясь. Из распахнутых окон трёхкомнатной кооперативной квартиры донёсся хор нестройных голосов, ревущих вместе с магнитофоном:
– Через две, через две зимы-ы, через две, через две весны-ы отслужу, отслужу, как надо, и вернусь. За-пом-ни!..
Слава поплёлся домой. Валерка у подъезда заискивающе завертелся:
– Ну как?..
– Отстань! – Слава отдал ключи.
Разлука. Её легче переживать тому, кто в пути, – дорога уводит от грусти расставания, быстро наполняя настоящее событиями. Они врываются в жизнь и сердце уезжающего сразу: лишь захлопнется дверь вагона – неугомонного приюта, который без спросу начнет волновать летящими в душу взглядами и разговорами; лишь замелькают за окном новые виды, а железнодорожные стрелки направят настырный ход поезда неведомой колеёй.
Тому же, кто остался, тяжелей: как только в сизой дымке растворится последний вагон, так сразу всё – и округу, и душу – поглощает гнетущая пустота. Потом, когда осядет марево прощания и чуть ровней забьётся сердце, непременно начнёт сбиваться привычный жизненный ритм, словно исчезнет самое главное – механизм, приводящий мгновения жизни в движение, и стрелки всех часов как будто забудут свой верный ход.
Тоска. У Оли изменилось ощущение времени. Дни и ночи превратились в одно тягучее серое ожидание. Осенние краски поблёкли. Тёмные тучи наползли на крыши домов, улицы не просыхают – от влажной холодной пелены они превратились в бесконечно нудные лабиринты: бредёшь, бредёшь, и ничего не радует. К тому же тяготила неизвестность, обиделся Слава или понял её? Сомнений в том, что она поступила правильно, не было, но когда пришла на перрон, Слава не проронил ни слова о любви, ни намёка на вчерашнюю горячность, лишь обыденно обнял и, как всех, чмокнул в щёку. Может, при родных и друзьях ему было неловко? Она успела шепнуть ему: «Буду ждать». А он то ли слышал, то ли нет, то ли ей, то ли Антонине Петровне, стоящей рядом, бодро сказал: «Как всё устроится, напишу».
Оля ждала письма. Ночами тяжело засыпала. Долго лежала в темноте с закрытыми глазами. Яркими видениями всплывали моменты последнего вечера, они кружились в воображении и, как на заезженной пластинке, сбивались и перескакивали к признанию, к жарким поцелуям, и снова, и снова сладко и горько терзали. Измучившись, душа и тело успокаивались, тогда Оля представляла, как распечатает почтовый конверт, развернёт заветный листок – он обязательно придёт завтра. И она торопила ночь, молчаливо заклиная: «Завтра, завтра…»
Утром открывала глаза, не понимая, спала или нет. Но мысль, что завтра уже наступило, а значит, сегодня вечером, возможно, принесут письмо, поднимала и вела в новый день. Он тянулся долго, и чем больше Оля торопила время, тем, казалось, медленнее оно шло. Завершив дела в техникуме, бежала в общежитие, проверяла подоконник у вахты, куда почтальон складывал письма, спрашивала для верности и на самой вахте – туда нередко передавалась важная корреспонденция.
– Не-ет, дорогуша. Пишет, – томно разводила руками толстая Мария Ефремовна и, видя, как тускнеют глаза девушки, успокаивала: – Армия – дело тако-ое… Жди, голуба.
Тоска возвращала девушку мыслями в детство. Дни тогда тоже казались долгими-долгими, но, в отличие от нынешних, они яркими осколками сливались в одной, но в то же время бесконечно изменчивой мозаике, как стёклышки калейдоскопа в призме – теперь она вертится в трубочке-памяти. Да, в детстве дни текли радужно долго, а ночи превращались в незаметную передышку: закрыла глаза, моргнула – калейдоскоп крутнулся, и новый, и в то же время вчерашний, и уже завтрашний разливается свет. Дома так было всегда, в любое время года, и Оля любила каждое.
Лето. Мокроусовские леса – сказка. Особенно большие берёзовые боры. Нетрудно представить берёзовую рощу – её лилейную нежность. А сотни таких рощ! Это и есть белый бор – могучий и добрый, в котором душа – ах! – и хочется петь. Да он и сам поёт звенящей белизной: светлый даже в самый тёмный вечер, ясный в самое раннее утро, лишь солнца луч – и стройные стволы проявятся, потянутся, зазвенят; если луч вечерний – алый, берёзы нежно-розовым звоном – ввысь; если утренний – золотой, и берёзы звенят золотисто.
А вы слыхали хоть раз, как на юной заре, когда разливается пронзительная тишина, пробуждаются деревья? Нет? Тогда непременно послушайте. Они не шуршат листвой, не шепчутся, они тихо-тихо поют под сурдинку рассвета: каждый листочек вздрагивает и звучит, словно на него упала невидимая капелька дождя – это сыплются толики света, играют упругими зелёными нотками. Лес просыпается и на самом деле – с листа – затевает мелодию дня.
В один из летних вечеров папа принёс домой белого щенка: «Вот вам, доченьки, братец меньшой… На дороге сидел, скулил один-одинёшенек. Только-только от мамки, небось, молоком ещё пахнет. Я и взял, пропадёт ведь, если не под колёсами, так с голоду. А вам – и друг, и забота». Назвали Бураном за окрас и быстроту. Через год вырос Буран в огромного пса – с Олю ростом. Ласковый. Понятливый, с первого слова выполнял команды «лежать», «сидеть», «дай лапу», «апорт». Слушался, когда строго говорили «нельзя». Сколотил ему папа тёплую конуру. Буран охранял дом благородным сочным лаем, кто услышит – не сунется. А на цепь его не сажали, – грозным он был только с виду.
Зима в детстве – самое беззаботное время! Конечно, пока в школе не учишься. Снежки, горки, санки… Всё в радость!
Одна из зим принесла беду. Не зима, конечно, виновата – сосед, что вернулся из тюрьмы. Воротился – и ну поддавать. А ведь молодой ещё. Мать его горевала, ждала: может, за ум возьмётся, хозяйство подымет. Куда там! Работать он не хотел. Шатался по улицам. Синий весь от наколок.
Соседки жалели мать непутёвого – ушла от мужа-пьяницы, одна сына рóстила. Да, видать, уж точно, «от осинки не родятся апельсинки». Дурной характер достался. Имени соседа в селе, кажется, никто не помнил, «киряльщик» – одно слово, землемер по винной части. Когда в разуме – тихий, а когда не в себе – добра не жди. Детвора его побаивалась, если он на улице появлялся, пацаны кричали: «Пьяница в тине валяется!» – и врассыпную.
В тот злополучный зимний вечер он был не в себе. И что его потянуло в чужой двор? Может, рядом шёл и пошатнулся? А калитку Оля и сёстры, получилось так, не закрыли. И ввалился киряльщик во двор. А тут Буран – с лаем грозным. Вдруг раздался выстрел. Буран взвизгнул и замолчал.
Оля ринулась к двери, но отец оттолкнул и всем приказал:
– Не суйтесь, – а сам выскочил раздетый, но с ружьём (почти в каждом доме охотничье было). Увидел упавшего Бурана, направил ствол на соседа: – Гад!..
Откуда у киряльщика самопал? Может, всегда с собой носил?
Оля с сестрёнками прилипли к оконному стеклу. Мама выскочила из дома, повисла на руках отца:
– Не-ет! Вова-а!..
Папа выстрелил в воздух. Прибежала киряльщика мать и к сыну:
– Что ж ты, ирод, творишь? В меня стреляй! – И в слёзы, и хлестать его по щекам.
Тот опомнился. Отшатнулся… Мать его вытолкала, оглянулась, лицо перекошено:
– Прости-ите-е, – стоном вырвалось.
А Буран – на снегу, под ним растекалось алое пятно. Мама его оглядела и заплакала, покачала головой. Потом обняла папу. Буран смотрел на хозяев, будто в чём виноватый, и тихо скулил между хриплыми вздохами. Папа опустил ружьё, зажмурил глаза и… выстрелил ещё раз.
Это была самая страшная ночь. Все рыдали. Даже папа. Он завернул Бурана в старое покрывало, увёз в лес, похоронил и никогда никому не показывал, где.
* * *
Оля навела порядок в комнате, в шкафу и чемодане – перестирала, перегладила вещи. Надо бы кофту забрать у родителей Славы – вот и повод наведаться. Только с вахты позвонить, договориться…
Дверь открыла Антонина Петровна.
– Олечка, деточка, проходи. Добрый человек – всегда к обеду, – она по-свойски приобняла девушку. – Ты извини, я в фартуке, пироги затеяла… Давай-давай, не стесняйся.
– Я ненадолго, – девушка остановилась на пороге. – И… – она хотела спросить о Славе, но не успела.
– Андрей! – крикнула хозяйка мужу, – встречай гостью! – И снова обратилась к Оле, не давая ей вставить слово: – Ты нас совсем забыла, нет-нет, я не упрекаю, понимаю, учёба. Кофточка твоя у Славика в комнате, на кресле ждёт не дождётся, ты знаешь, куда идти, располагайся. Я на кухню, – и, уже удаляясь по коридору, оглянулась: – Без обеда тебя не отпустим.
– Я помогу?
– Нет-нет, – Антонина Петровна задержалась и манерно добавила: – Олечка, деточка, кухня – это моя личная часовня, требующая часов служения, но я служу с любовью. – Хозяйка скрылась за дверью, и уже из кухни донеслось: – Ещё минут двадцать, не больше!..
«Нет, Антонина Петровна, – возразила про себя Оля, – это не часовня ваша, а капитанский мостик». Из гостиной вышел глава семейства. Он намного старше своей супруги и, похоже, любит её так, что никогда, наверное, не прекословит. Девушка смутилась, оставшись один на один с большим седым молчуном. Он хоть и улыбался приветливо, но глаза его оставались задумчиво серьёзными и внимательными, словно он пытался разглядеть в человеке больше, чем тот из себя представляет. Когда пальто оказалось на вешалке, Оля тихо сказала «спасибо» и поспешила спрятаться в комнате Славы.
Здесь всё было по-прежнему. Вдоль стены притулился трёхстворчатый светлый шифоньер. У противоположной стены с богатым туркменским ковром ручной работы, тоже светлых тонов, стояла деревянная кровать со строгим покрывалом в клетку «тартан». Изголовьем она тянулась к книжному стеллажу, который торцом упирался в стену и разделял пространство на две части – спальную и деловую. На стеллаже – книги, в большом горшке – свисающий аспарагус, рядом – красивые камни (Слава ещё в школьных походах собирал необычные). Стереомагнитофон «Нота» – современная модель. С другой стороны стеллажа – торшер, кресло с накидкой из такой же ткани, как на кровати. Кофта аккуратно висит на полированном подлокотнике. У окна – большой письменный стол и «королевский» – так называла Оля – мягкий массивный стул с высокой спинкой, над столом – книжные полки с плотными рядами позолоченных и посеребрённых томов русских и зарубежных классиков, такие книги и подписки на них доставались по большому блату.
Оля хоть и не часто приходила в гости, но с самого первого дня полюбила бывать в изысканном, как ей виделось, уюте. Слава тогда открыл ей музыку «Пинк Флойд». С тех пор возникло стойкое ощущение, что, сидя в кресле под светом торшера, глядя на камни и книги, можно бесконечно растворяться в космических мелодиях, тонуть во взглядах друг друга и говорить, говорить. Слава садился перед Олей на пол, на мягкий палас, и они разговаривали обо всём: об учёбе, музыкальных и книжных новинках, о спорте и кино. Мечтали о путешествиях по миру, рассматривая большой географический атлас.
«Париж… Увидим, но не умрём. Сначала будем долго гулять, – расписывал Слава, – знакомиться с настоящей его жизнью, а о прошлом можно прочитать в справочниках». Оле хотелось возразить – она мечтает не по репродукциям изучать памятники культуры, а реально трогать, ступать босиком, чтобы кожей чувствовать «голос» времён, но подумала, что и Слава в чём-то прав, ведь жизни не хватит объездить мир, даже если такая возможность когда-нибудь появится. А вдруг?.. Тогда, в тех разговорах происходило сближение душ, проявлялись точки общих интересов, потом зародились и начали прорастать слова, которые вылетели на свободу на вечере проводов Славы в армию.
Оля села в кресло, щёлкнула шнурком выключателя на торшере, в серый дневной свет влился приглушённый жёлтый. Заметила на столе небольшую стопку распечатанных конвертов, рядом развёрнутый тетрадный лист и ручку, словно кто-то, не дописав, на время оставил занятие. Она подошла к столу: пачка писем – от Славы. Возникло острое желание открыть хотя бы одно. Нет, они же адресованы не ей. Мельком глянула на раскрытый листок и, уже хотела вернуться в кресло, как замерла. Первое предложение заставило прочесть неоконченную страницу:
«Сыночек, выбрось эту девку из головы! Надеюсь, сердце твоё она не задела. Любить надо себе равных. Она же – деревенская девчонка от полуобразованных родителей. Нищета! Тебе – не пара. Тебе нужно после армии поступить в институт. Демобилизованным предусмотрены льготы. Получишь высшее образование, оно послужит базой для будущей карьеры. О женитьбе подумаем потом вместе…»
Что это?.. О ком?..
Нельзя читать чужие письма! Но… Оля спешно перевернула страницу и заметила своё имя – оно встречалось несколько раз. Она положила листок на место и лихорадочно открыла верхний конверт из пачки. Знакомый почерк читался легко. Слава писал матери, что Валерка ему сообщил о походах Оли «налево» – да, именно так и было написано: «… ходит налево с парнями, которые вернулись в техникум из армии, то с одним, то с другим – по киношкам и не только»…
Закружилась голова, к горлу подкатил ком. За что?.. Оля услышала приближающиеся шаги, торопливо вернула письмо на место, плюхнулась в кресло и схватила со стеллажа первую попавшуюся книгу. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула, упёрлась невидящим взглядом в страницы. Вошла Антонина Петровна – она уже переоделась в длинное домашнее платье, причесалась, даже подкрасила губы.
– Олечка, деточка, приглашаю к столу, надеюсь, ты не очень торопишься, поболтаем…
Оля встала. Она не могла смотреть в глаза матери Славы. Взяла кофту и растерялась, не помня, где стояла книга. Антонина Петровна взглянула на обложку:
– О, Марсель Пруст? Хороший выбор… Художественный камертон многих поэтов Серебряного века.
– Да, – рассеянно ответила девушка и отдала том хозяйке. Впопыхах, словно её бил озноб, стала надевать кофту. – Вы знаете… я вспомнила… надо на занятие по… Пост номер один… – застегнув последнюю пуговицу, наконец собралась с силами, твёрдо сказала: – Я пойду, – и решительно вышла в коридор.
– А как же пироги? – Антонина Петровна поставила книгу на место и поспешила за гостьей. – Олечка, деточка, ну, хоть две минуты обожди, я упакую гостинец.
– Не надо, я ведь не в общагу… – Оля вжикнула молниями на сапожках, быстро надела пуховую белую шапку, тоже связанную мамой, неловко втиснула руки в рукава пальто, забыв его застегнуть, выпрямилась и встретилась-таки со взглядом Антонины Петровны – безразлично пустым, Олю обдало холодом. Раньше она такого жгучего льда не замечала: – Большое спасибо за всё, – она выскочила за дверь.
Антонина Петровна щёлкнула замком и вернулась в комнату сына, слегка отодвинула тюль на окне. Спокойно посмотрела на спешно отдаляющуюся фигурку девушки. Оглянулась, бросила взгляд на неоконченное письмо. Ухмыльнулась:
– Вот и хорошо…
Оля бежала по белому снегу, не разбирая дороги. Улицы казались бесконечными туннелями: тянутся, перетекая один в другой, и выхода нет. Холодно. Ломота в теле. В голове гул: «Не пара».
Зажглись огни. Оля устала, но шла и шла, ей казалось, избавление от боли – в движении: главное идти. Она не сразу поняла, что насквозь продрогла. Оторвала взгляд от снега под ногами и не узнала местности. Остановилась, застегнула пальто. Достала из карманов варежки, надела. Руки красные, как лапки у гуся. Ноги – точно стеклянные. Который час? С трудом отвернула рукав, вгляделась: девять вечера. Сколько она уже бродит? Мозг отказывался воспринимать реальность. Надо отогреться и понять, где общага. Зашла в незнакомый двор, в первый попавшийся подъезд многоэтажки, поднялась на пол-этажа, прижалась к батарее.
Значит, Валерка… В конце ноября в гастрономе она пару раз видела Валерку любезничающего с Антониной Петровной. Оля тогда предпочла остаться незамеченной. Валерка и Антонина Петровна – соседи, вполне могут пересекаться на общей территории. Валерка – друг сына… Сейчас картина в магазине обрела другой глубинный смысл: Антонина Петровна и Валерка в сговоре, потому что капитанша-мать решила, что Оля её сыну – не пара.
А Слава?
Неужели поверил Валерке?..
Как ломит ноги!..
Где-то наверху хлопнула дверь, послышался лай большой собаки и женский голос. Вскоре рядом оказался пёс, почти такой же, как Буран, но с темными пятнами на спине и морде. Он обнюхал незнакомку, инстинктивно уткнулся в колени. Оля погладила его по голове.
По лестнице бежала хозяйка, молодая спортивная женщина в шерстяной шапочке, короткой меховой куртке и тёплых брюках, на ногах войлочные бурки. Оля обратила на них внимание, подумав, что в таких не замёрзнешь. Хозяйка собаки ещё на ходу громко бросила:
– Фу! Нельзя! – Спустилась, быстро прицепила к ошейнику поводок. – Извините, выскочил из-под рук.
– Ничего. Я не боюсь… Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Пугачёва, дом шестьдесят шесть?
– О, так это недалеко, по диагонали через квартал, дворами.
– Покажете, по какой диагонали?
– Не только покажем, но и с удовольствием проводим вас. Правда, Бим?
Пёс вильнул хвостом и потянул хозяйку за собой на улицу. Оля через силу улыбнулась. Ей почему-то вспомнилось, где-то она читала, что в минуту отчаяния душа человека полна падающих звёзд, а у неё падающие звёзды всегда были связаны с загадыванием желаний и мечтами. Но тут обожгло: речь – о смерти, неосуществлённых желаниях, несбывшихся надеждах.
Вышли.
Оля не могла отвести взгляда от собаки – та бегала, нюхала снег и фыркала от удовольствия. Иногда возвращалась к Оле, как бы приглашая порадоваться вместе, будто хотела сказать: «Выше голову, человек!» Тёплые слёзы щипнули глаза девушки…
(отрывок из повести)
Слава порывисто обнял Олю и крепко поцеловал. Губы девушки ответили, отрываться от них Славе не хотелось, но пришлось – другого момента сказать, о чём он думал последние дни, уже не будет. Он волновался. С чего начать? Мысли летели, опережая одна другую, обрываясь, ухали в сердце, оно колотилось сильней и сильней, выстукивая короткое «хочу!»
– Давай сбежим.
– Куда? – Оля вскинула рассеянный взгляд.
Зрачки её необычно расширились, и синие глаза теперь казались бездонно чёрными, зовущими. Понимает ли она?.. Она не умеет притворяться, этот взгляд обещает…
– К Валерке, – голос не подвёл, хотя в горле першило, а тело била внутренняя дрожь.
– Так Валерка здесь… – Она не понимала. – Ты что, забыл? – Оля нежно прижалась к его плечу. – Почти вся группа к тебе пришла.
Слава запустил руку в её русые волосы, длинные, до плеч, и нежно затеребил их. Остро почуял знакомый мятный запах, в который вмешались запахи осенней прохлады, пожухлой листвы. Ароматы пьянили крепче вина, подпитывая дерзость.
– Валерка дал ключи… Его родичи уехали… – К вискам подступил жар. – Оля, мы будем одни… Никто не заметит, – он вновь склонился к её губам, но она выскользнула из объятий. Слава цепко, как за последнюю надежду, ухватился за маленькие сильные ладошки, потянул: – Бежим, – еле слышно, но с большим чувством выдохнул призывник: завтра ему в армию…
Второй год они дружат, с первого дня учёбы в машиностроительном техникуме. Слава ещё на вступительных экзаменах обратил внимание на девушку с ладной фигуркой, с горящими синими глазами. Отметил и широковатые скулы, переходящие в упрямый, но не тяжёлый подбородок. Наверное, лишь барышни с волевым характером идут на литейное производство чёрных металлов – не женская профессия, и редкая девушка хорошо разбирается в физике и химии, а эта решала задачки играючи.
– С вашими знаниями и аттестатом можно и в вуз. Умница. Мы рады таким студентам, – заметил преподаватель. Абитуриентка сдержанно сказала «спасибо» и промолчала о том, что стремилась к надёжности и совсем не хотела рисковать – вдруг в институт провалишься, тогда целый год коту под хвост. А цель поставлена – по окончании учёбы автоматически распределиться в город, в колхозах-то литейных заводов нет. Дома хорошо, но… в деревне жить скучно, тесно – зовёт романтика больших строек.
После торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, молодой человек подошёл к девушке и как бы нечаянно тронул за локоть:
– Меня зовут Слава, а вас?
– Авас, – она озорно улыбнулась.
Он оценил шутку и с деланым кавказским акцентом подхватил:
– Миня завут Вичислав Андрэивич, а вас?..
– Ольга Владимировна.
Оба рассмеялись. Олю будто бы пронзил горячий ветер. Прикосновение парня, его благодушный смех и внимательный взгляд враз обожгли и обрадовали, словно она встретила давнего знакомого, с которым, уж точно, не придётся тосковать в чужом городе.
Завязалась дружба. В тот же вечер они пошли на дискотеку в честь дня первокурсника, а на другой день Слава устроил экскурсию по родному Кургану. Тёплый сентябрьский вечер неожиданно для Оли завершился чаепитием в гостях у Славы – так, без долгих раздумий, он познакомил девушку с родителями, тем самым продемонстрировав, что парень он серьёзный.
Потом вместе готовились к сессиям: Оля помогала Славе по аналитической химии, он ей – преодолевать «сопротивление материалов». Само собой, пришла пора «местам для поцелуев» в кинотеатре. Славе казалось, вот-вот дружба и влюблённость перерастут во что-то большее, но зазноба, хоть и целовалась пылко, никогда не позволяла чрезмерных шалостей его рукам, даже по щеке однажды хлестанула так, что он боялся, не осталось бы синяка. Обошлось. И сердитость Оли прошла быстро: девушка просто дала понять, – она «не такая».
Слава ей очень нравился: чернявый, с круглыми ямочками на щеках и тонкими, честолюбивыми губами; умный, любит волейбол и танцы, как и она. Раньше у Оли особого влечения к парням не возникало. А Слава… Он не такой, как все. С ним интересно: начитанный, куражливый, трудно угадать, что ещё придумает, да и гадать некогда – летишь в потоке настроения и ни на минуту не хочется расставаться, говорить или молчать – не важно. И семья у него хорошая, и родители его к ней, вроде бы со всей душой. Мать Антонина Петровна всегда обращается «Олечка, деточка», не иначе. Правда, Оля улавливает в уменьшительно-ласкательных суффиксах некую снисходительность, но, скорей всего, это от случайного впечатления: хоть и говорят, что первое – самое верное, однако можно ли на нём строить своё отношение к человеку?
Когда состоялось знакомство, Антонина Петровна, усадив гостью за стол с вышитой скатертью и дорогим чайным сервизом, расспрашивала, откуда та приехала в Курган, кем работают родители. Услышав, что мама Оли зоотехник, а отец шофёр, слегка приподняла тонкую бровь, будто с сочувствием, спросила:
– А что же папа не учился после школы?
– Война помешала, – девушка распрямила плечи и с вызовом посмотрела в глаза хозяйки. Оля уже знала, что папа Славы – заместитель директора Электромеханического завода, а мама – преподаватель русского языка и литературы. Однако диплом о высшем образовании вовсе не подтверждает наличие высокого ума и мудрости.
– Да-а, война... – многозначительно вздохнула Антонина Петровна и зашелестела длинным, до пят, шёлковым домашним платьем, хлопоча над столом. – Хм, а я всю жизнь за партой… Угощайтесь, Олечка, деточка, такого варенья вы не пробовали. Абрикосовое, слаще мёда, в наших краях – диковинка. – Она переставила ближе к девушке хрустальную вазочку на высокой ножке, подала такую же, только маленькую, розетку и позолоченную чайную ложечку: – Кладите от души, не стесняйтесь. Мы нынешним летом отдыхали в Сочи, так я не удержалась, купила… – Антонина Петровна пригубила варенье, отхлебнула чай. – Неожиданно спросила: – Вы любите литературу?
– Люблю читать.
Оля вспомнила деревенскую библиотеку в Мокроусово, на Краснодворцовой, куда она ещё младшей школьницей бегала каждый день после уроков. Название улицы – будто из сказки, и двухэтажная деревянная библиотека – настоящий дворец, верней, целый городок, как в черепаховой табакерке Одоевского. Оля, прежде чем взять что-то почитать, прохаживалась по его улицам – волшебным лабиринтам. Книги на стеллажах представлялись разноцветными домиками с башенками. Откроешь какое-нибудь красивое окошко – и зазвенят колокольчики-слова.
Библиотекарь Вера Николаевна была похожа на добрую старушку-сказительницу: неужели она все книги прочла? – о каждой знала самое интересное и подсказывала, какую выбрать. Всегда с улыбкой встречала девочку, доставала ящичек с карточками – Олина была самая толстая, поэтому искать её среди других не приходилось. Вера Николаевна листала вкладыши – их шелест, как и шелест книжных страниц, завораживал до мурашек.
Многие девчонки в техникуме тихо завидовали, видя Олю и Славу везде вместе: и на лекциях, и в столовой, и на внеурочных занятиях в спортзале. После учёбы Слава провожал избранницу до общежития, до которого было несколько автобусных остановок, но они шли непременно самым длинным путём, через парк. Иногда заходили в кафе и ели из одной креманки мороженое – пломбирные шарики под шоколадной стружкой. В погожие тёплые дни катались на каруселях – на «цепных»: летишь по кругу высоко! Слава всегда садился в кресло позади, чтобы, догнав свою Синицу, раскрутить и подтолкнуть выше – ныряй в небо!..
– Почему Синица? – спросила она, когда он первый раз так её назвал.
– Потому что шустрая и летать любишь. Потому что глаза у тебя синие, а ещё сини-ца – это сокращённо «синяя птица», никто не догадается, только мы будем знать.
– Здорово… А мне на ум ничего, кроме Славика, не приходит.
– Славиком меня мама называет. Мне нравится, когда ты говоришь Слава…
Каждое утро он встречал её в фойе общежития. Подружки по комнате, а с Олей жили ещё три девушки, подбивали, мол, не теряйся, выходи за него. «Раз-два – и в дамки-мадамки, – убеждала землячка Таня. О себе она говорила: – Я девка бедовая, уж если чего захочу – добьюсь, я бы такого жениха не упустила».
Секретов друг от друга девчата не держали. Стоило Оле вернуться домой поздно, как Таня первой начинала: «Повезло тебе со Славкой. Парень городской, родители обеспеченные. Завидный жених». Но Оля отнекивалась: «Замуж выйти – не напасть…» А подружки, как сговорившись: «Да с таким не пропадёшь!» – «Нет. Сначала надо выучиться, а то пойдут пелёнки-распашонки».
Слава так далеко, до «пелёнок-распашонок», не заглядывал, он был влюблён, а после пощёчины словно чертяка в него вселился. Парень решил во что бы то ни стало добиться своего. Раньше он беззаботно встречался с девушками, пользовался успехом у ровесниц и у тех, кто постарше, и опыт приобрёл не платонический, но ни к одной так не тянуло. Оля – необыкновенная, и трудно объяснить, что его так влекло. Сердце ёкало, когда она смеялась. Нравились её прямота и трезвый ум, отсутствие девчачьего кокетства. Маленькие ступни просто сводили с ума, казались такими беззащитными, и если бы Оля только позволила, он бы целовал и целовал их…
А тут, то ли кстати, то ли нет, пришла повестка в армию: что ж, последний шанс – «она будет моей». Родители устроили щедрое застолье. Проводы в армию – «проводины», как говорили встарь – сравнимы по размаху со свадьбой. В самый разгар гулянья завтрашний солдат позвал Олю на улицу, к заветной скамейке под развесистой берёзой в глубине двора. Однако сегодня они не присели – Слава боялся задержаться:
– Синица, неужели мы вот так расстанемся на целых два года? – Он поднёс к губам ладошку девушки и нежно поцеловал впадинку внутри.
– Как «вот так»? – Оля потянула руку, поцелуй острой щекоткой отозвался где-то в солнечном сплетении. Слава не отпустил.
– Я хочу, чтобы ты… стала моей. Навсегда… Я… люблю тебя.
Сердце девушки встрепенулось, она давно ждала этих слов, но строгий ум не позволил выказать глубину чувства.
– Раньше ты этого не говорил.
– Давно думал… а сегодня уже не могу молчать…
– А что дальше? – Пальцы её похолодели.
Вопрос для Славы был неожиданным.
– А что дальше? Само собой – свадьба, когда вернусь. Всего через две зимы.
– Ну-у, вот, когда вернёшься… тогда и мы вернёмся к этому разговору, – она высвободила руки. Он снова обнял её.
– Оля, люблю тебя, слышишь? Люблю, – страстно прошептал прямо в ухо желанной и в исступлении стал чмокать в глаза, щёки, шею.
Это «люблю» гудом ворвалось в сознание девушки, пробежало жгучим ознобом по затылку, по всей коже, ноги ослабли. Слава отчаянно притянул Олю к себе так, что и грудь её, и живот, и колени будто вот-вот начнут врастать в него. Ей стало трудно дышать, глаза затуманились… Два предстоящих разлучных года – целая вечность, а она привыкла, что он всегда рядом… Ах, может… От искушения сделать прощальный вечер самым-самым памятным в жизни бросило в пот. Отзывчивость тела испугала… Другие девчонки вон не боятся, говорят, когда любишь, не страшно… А я люблю – так? – так, чтобы?..
– Оля… Оленька, люблю. Люблю!.. А ты?.. – Он как будто услышал её вопрос к самой себе.
– Люблю, – тихо сказала она, – но…
– Не надо «но», идём, – он, сделал шаг, потянул её за собой, достал из кармана ключи и звякнул ими: – Вот, сегодня у нас есть крыша…
Оля с силой выдернула руку и словно окаменела, с места не двинулась. Озноб усилился, ей отчего-то захотелось укутаться не в объятия Славы, а в тёплую кофту, которую связала мама – нарядную, на выход. Осенние холода уже наступили, а девушка выскочила на улицу в одном платье, кофта осталась в комнате Славы.
Вдруг вспомнились мамины слова: «Целоваться – целуйся, если парень очень нравится, если – очень-очень! Не раздавай поцелуи просто так, доченька, тогда, по одному поцелую почуешь, твой парень или нет. И всегда помни: до свадьбы ничего не позволяй большего. Ни-че-го! Самое страшное для девушки, да и для женщины, быть порченной. Это как червивое яблоко, которое никому не нужно, лишь надкусить да выплюнуть».
– Слава, пойдём ко всем, – поёжилась Оля и отступила. – Прохладно что-то.
Он скинул пиджак, набросил ей на плечи, сжал их в крепких руках.
– Я хочу, чтобы ты навсегда стала моей!
– Стану… Возвращайся, тогда…
– Ты же любишь, – он дрожащей рукой (пульс пробивал даже пальцы) приподнял подбородок и пытливо заглянул в глаза: – Оля, почему?..
Она смотрела прямо:
– Потому что любовь – не теорема, а аксиома, ни доказательства, ни жертвы ей не нужны.
– Я просто боюсь тебя потерять!
– А ты не бойся, когда любишь, ни-че-го не страшно.
Синий холодок её глаз совсем отрезвил его. Он растерялся от резкой перемены, не мог сообразить, что сказать, как себя вести.
Неожиданно на весь двор раздался голос Валерки:
– Э-эй, влюблённые, вы где-е?.. Славка, вы вернулись?
Слава хотел что-то ответить, Оля не дала, прижала ладонь к его губам и отрицательно покачала головой. Валерку – того ещё интригана с хитрой лисьей улыбочкой – она терпеть не могла. И зачем Слава доверился ему? Он же первый разболтает, что парочка уединялась, даже если этого не было… Жгучая волна стыда и гнева оттолкнула Олю от друга.
– Знаешь, – резко сказала она, – не хочу возвращаться в компанию. Я иду в общагу, – скинула пиджак и почти бросила Славе в руки.
– Я провожу тебя.
– Нет. Иди, тебя ждут. Завтра приду на вокзал, – она решительно направилась со двора: – Завтра, со всеми вместе…
– А кофта?.. – вспомнил Слава.
Она на миг задумалась. Вернуться сейчас вдвоём – значит, другим дать повод предположить, что они где-то были, а так – он просто выходил её провожать.
– Оставь. Сама заберу у твоих родителей – они ведь пустят без тебя?
– Оля, ну о чём ты?..
– Вот и прекрасно.
Она пошла быстрым твёрдым шагом, не оглядываясь. Из распахнутых окон трёхкомнатной кооперативной квартиры донёсся хор нестройных голосов, ревущих вместе с магнитофоном:
– Через две, через две зимы-ы, через две, через две весны-ы отслужу, отслужу, как надо, и вернусь. За-пом-ни!..
Слава поплёлся домой. Валерка у подъезда заискивающе завертелся:
– Ну как?..
– Отстань! – Слава отдал ключи.
Разлука. Её легче переживать тому, кто в пути, – дорога уводит от грусти расставания, быстро наполняя настоящее событиями. Они врываются в жизнь и сердце уезжающего сразу: лишь захлопнется дверь вагона – неугомонного приюта, который без спросу начнет волновать летящими в душу взглядами и разговорами; лишь замелькают за окном новые виды, а железнодорожные стрелки направят настырный ход поезда неведомой колеёй.
Тому же, кто остался, тяжелей: как только в сизой дымке растворится последний вагон, так сразу всё – и округу, и душу – поглощает гнетущая пустота. Потом, когда осядет марево прощания и чуть ровней забьётся сердце, непременно начнёт сбиваться привычный жизненный ритм, словно исчезнет самое главное – механизм, приводящий мгновения жизни в движение, и стрелки всех часов как будто забудут свой верный ход.
Тоска. У Оли изменилось ощущение времени. Дни и ночи превратились в одно тягучее серое ожидание. Осенние краски поблёкли. Тёмные тучи наползли на крыши домов, улицы не просыхают – от влажной холодной пелены они превратились в бесконечно нудные лабиринты: бредёшь, бредёшь, и ничего не радует. К тому же тяготила неизвестность, обиделся Слава или понял её? Сомнений в том, что она поступила правильно, не было, но когда пришла на перрон, Слава не проронил ни слова о любви, ни намёка на вчерашнюю горячность, лишь обыденно обнял и, как всех, чмокнул в щёку. Может, при родных и друзьях ему было неловко? Она успела шепнуть ему: «Буду ждать». А он то ли слышал, то ли нет, то ли ей, то ли Антонине Петровне, стоящей рядом, бодро сказал: «Как всё устроится, напишу».
Оля ждала письма. Ночами тяжело засыпала. Долго лежала в темноте с закрытыми глазами. Яркими видениями всплывали моменты последнего вечера, они кружились в воображении и, как на заезженной пластинке, сбивались и перескакивали к признанию, к жарким поцелуям, и снова, и снова сладко и горько терзали. Измучившись, душа и тело успокаивались, тогда Оля представляла, как распечатает почтовый конверт, развернёт заветный листок – он обязательно придёт завтра. И она торопила ночь, молчаливо заклиная: «Завтра, завтра…»
Утром открывала глаза, не понимая, спала или нет. Но мысль, что завтра уже наступило, а значит, сегодня вечером, возможно, принесут письмо, поднимала и вела в новый день. Он тянулся долго, и чем больше Оля торопила время, тем, казалось, медленнее оно шло. Завершив дела в техникуме, бежала в общежитие, проверяла подоконник у вахты, куда почтальон складывал письма, спрашивала для верности и на самой вахте – туда нередко передавалась важная корреспонденция.
– Не-ет, дорогуша. Пишет, – томно разводила руками толстая Мария Ефремовна и, видя, как тускнеют глаза девушки, успокаивала: – Армия – дело тако-ое… Жди, голуба.
Тоска возвращала девушку мыслями в детство. Дни тогда тоже казались долгими-долгими, но, в отличие от нынешних, они яркими осколками сливались в одной, но в то же время бесконечно изменчивой мозаике, как стёклышки калейдоскопа в призме – теперь она вертится в трубочке-памяти. Да, в детстве дни текли радужно долго, а ночи превращались в незаметную передышку: закрыла глаза, моргнула – калейдоскоп крутнулся, и новый, и в то же время вчерашний, и уже завтрашний разливается свет. Дома так было всегда, в любое время года, и Оля любила каждое.
Лето. Мокроусовские леса – сказка. Особенно большие берёзовые боры. Нетрудно представить берёзовую рощу – её лилейную нежность. А сотни таких рощ! Это и есть белый бор – могучий и добрый, в котором душа – ах! – и хочется петь. Да он и сам поёт звенящей белизной: светлый даже в самый тёмный вечер, ясный в самое раннее утро, лишь солнца луч – и стройные стволы проявятся, потянутся, зазвенят; если луч вечерний – алый, берёзы нежно-розовым звоном – ввысь; если утренний – золотой, и берёзы звенят золотисто.
А вы слыхали хоть раз, как на юной заре, когда разливается пронзительная тишина, пробуждаются деревья? Нет? Тогда непременно послушайте. Они не шуршат листвой, не шепчутся, они тихо-тихо поют под сурдинку рассвета: каждый листочек вздрагивает и звучит, словно на него упала невидимая капелька дождя – это сыплются толики света, играют упругими зелёными нотками. Лес просыпается и на самом деле – с листа – затевает мелодию дня.
В один из летних вечеров папа принёс домой белого щенка: «Вот вам, доченьки, братец меньшой… На дороге сидел, скулил один-одинёшенек. Только-только от мамки, небось, молоком ещё пахнет. Я и взял, пропадёт ведь, если не под колёсами, так с голоду. А вам – и друг, и забота». Назвали Бураном за окрас и быстроту. Через год вырос Буран в огромного пса – с Олю ростом. Ласковый. Понятливый, с первого слова выполнял команды «лежать», «сидеть», «дай лапу», «апорт». Слушался, когда строго говорили «нельзя». Сколотил ему папа тёплую конуру. Буран охранял дом благородным сочным лаем, кто услышит – не сунется. А на цепь его не сажали, – грозным он был только с виду.
Зима в детстве – самое беззаботное время! Конечно, пока в школе не учишься. Снежки, горки, санки… Всё в радость!
Одна из зим принесла беду. Не зима, конечно, виновата – сосед, что вернулся из тюрьмы. Воротился – и ну поддавать. А ведь молодой ещё. Мать его горевала, ждала: может, за ум возьмётся, хозяйство подымет. Куда там! Работать он не хотел. Шатался по улицам. Синий весь от наколок.
Соседки жалели мать непутёвого – ушла от мужа-пьяницы, одна сына рóстила. Да, видать, уж точно, «от осинки не родятся апельсинки». Дурной характер достался. Имени соседа в селе, кажется, никто не помнил, «киряльщик» – одно слово, землемер по винной части. Когда в разуме – тихий, а когда не в себе – добра не жди. Детвора его побаивалась, если он на улице появлялся, пацаны кричали: «Пьяница в тине валяется!» – и врассыпную.
В тот злополучный зимний вечер он был не в себе. И что его потянуло в чужой двор? Может, рядом шёл и пошатнулся? А калитку Оля и сёстры, получилось так, не закрыли. И ввалился киряльщик во двор. А тут Буран – с лаем грозным. Вдруг раздался выстрел. Буран взвизгнул и замолчал.
Оля ринулась к двери, но отец оттолкнул и всем приказал:
– Не суйтесь, – а сам выскочил раздетый, но с ружьём (почти в каждом доме охотничье было). Увидел упавшего Бурана, направил ствол на соседа: – Гад!..
Откуда у киряльщика самопал? Может, всегда с собой носил?
Оля с сестрёнками прилипли к оконному стеклу. Мама выскочила из дома, повисла на руках отца:
– Не-ет! Вова-а!..
Папа выстрелил в воздух. Прибежала киряльщика мать и к сыну:
– Что ж ты, ирод, творишь? В меня стреляй! – И в слёзы, и хлестать его по щекам.
Тот опомнился. Отшатнулся… Мать его вытолкала, оглянулась, лицо перекошено:
– Прости-ите-е, – стоном вырвалось.
А Буран – на снегу, под ним растекалось алое пятно. Мама его оглядела и заплакала, покачала головой. Потом обняла папу. Буран смотрел на хозяев, будто в чём виноватый, и тихо скулил между хриплыми вздохами. Папа опустил ружьё, зажмурил глаза и… выстрелил ещё раз.
Это была самая страшная ночь. Все рыдали. Даже папа. Он завернул Бурана в старое покрывало, увёз в лес, похоронил и никогда никому не показывал, где.
* * *
Оля навела порядок в комнате, в шкафу и чемодане – перестирала, перегладила вещи. Надо бы кофту забрать у родителей Славы – вот и повод наведаться. Только с вахты позвонить, договориться…
Дверь открыла Антонина Петровна.
– Олечка, деточка, проходи. Добрый человек – всегда к обеду, – она по-свойски приобняла девушку. – Ты извини, я в фартуке, пироги затеяла… Давай-давай, не стесняйся.
– Я ненадолго, – девушка остановилась на пороге. – И… – она хотела спросить о Славе, но не успела.
– Андрей! – крикнула хозяйка мужу, – встречай гостью! – И снова обратилась к Оле, не давая ей вставить слово: – Ты нас совсем забыла, нет-нет, я не упрекаю, понимаю, учёба. Кофточка твоя у Славика в комнате, на кресле ждёт не дождётся, ты знаешь, куда идти, располагайся. Я на кухню, – и, уже удаляясь по коридору, оглянулась: – Без обеда тебя не отпустим.
– Я помогу?
– Нет-нет, – Антонина Петровна задержалась и манерно добавила: – Олечка, деточка, кухня – это моя личная часовня, требующая часов служения, но я служу с любовью. – Хозяйка скрылась за дверью, и уже из кухни донеслось: – Ещё минут двадцать, не больше!..
«Нет, Антонина Петровна, – возразила про себя Оля, – это не часовня ваша, а капитанский мостик». Из гостиной вышел глава семейства. Он намного старше своей супруги и, похоже, любит её так, что никогда, наверное, не прекословит. Девушка смутилась, оставшись один на один с большим седым молчуном. Он хоть и улыбался приветливо, но глаза его оставались задумчиво серьёзными и внимательными, словно он пытался разглядеть в человеке больше, чем тот из себя представляет. Когда пальто оказалось на вешалке, Оля тихо сказала «спасибо» и поспешила спрятаться в комнате Славы.
Здесь всё было по-прежнему. Вдоль стены притулился трёхстворчатый светлый шифоньер. У противоположной стены с богатым туркменским ковром ручной работы, тоже светлых тонов, стояла деревянная кровать со строгим покрывалом в клетку «тартан». Изголовьем она тянулась к книжному стеллажу, который торцом упирался в стену и разделял пространство на две части – спальную и деловую. На стеллаже – книги, в большом горшке – свисающий аспарагус, рядом – красивые камни (Слава ещё в школьных походах собирал необычные). Стереомагнитофон «Нота» – современная модель. С другой стороны стеллажа – торшер, кресло с накидкой из такой же ткани, как на кровати. Кофта аккуратно висит на полированном подлокотнике. У окна – большой письменный стол и «королевский» – так называла Оля – мягкий массивный стул с высокой спинкой, над столом – книжные полки с плотными рядами позолоченных и посеребрённых томов русских и зарубежных классиков, такие книги и подписки на них доставались по большому блату.
Оля хоть и не часто приходила в гости, но с самого первого дня полюбила бывать в изысканном, как ей виделось, уюте. Слава тогда открыл ей музыку «Пинк Флойд». С тех пор возникло стойкое ощущение, что, сидя в кресле под светом торшера, глядя на камни и книги, можно бесконечно растворяться в космических мелодиях, тонуть во взглядах друг друга и говорить, говорить. Слава садился перед Олей на пол, на мягкий палас, и они разговаривали обо всём: об учёбе, музыкальных и книжных новинках, о спорте и кино. Мечтали о путешествиях по миру, рассматривая большой географический атлас.
«Париж… Увидим, но не умрём. Сначала будем долго гулять, – расписывал Слава, – знакомиться с настоящей его жизнью, а о прошлом можно прочитать в справочниках». Оле хотелось возразить – она мечтает не по репродукциям изучать памятники культуры, а реально трогать, ступать босиком, чтобы кожей чувствовать «голос» времён, но подумала, что и Слава в чём-то прав, ведь жизни не хватит объездить мир, даже если такая возможность когда-нибудь появится. А вдруг?.. Тогда, в тех разговорах происходило сближение душ, проявлялись точки общих интересов, потом зародились и начали прорастать слова, которые вылетели на свободу на вечере проводов Славы в армию.
Оля села в кресло, щёлкнула шнурком выключателя на торшере, в серый дневной свет влился приглушённый жёлтый. Заметила на столе небольшую стопку распечатанных конвертов, рядом развёрнутый тетрадный лист и ручку, словно кто-то, не дописав, на время оставил занятие. Она подошла к столу: пачка писем – от Славы. Возникло острое желание открыть хотя бы одно. Нет, они же адресованы не ей. Мельком глянула на раскрытый листок и, уже хотела вернуться в кресло, как замерла. Первое предложение заставило прочесть неоконченную страницу:
«Сыночек, выбрось эту девку из головы! Надеюсь, сердце твоё она не задела. Любить надо себе равных. Она же – деревенская девчонка от полуобразованных родителей. Нищета! Тебе – не пара. Тебе нужно после армии поступить в институт. Демобилизованным предусмотрены льготы. Получишь высшее образование, оно послужит базой для будущей карьеры. О женитьбе подумаем потом вместе…»
Что это?.. О ком?..
Нельзя читать чужие письма! Но… Оля спешно перевернула страницу и заметила своё имя – оно встречалось несколько раз. Она положила листок на место и лихорадочно открыла верхний конверт из пачки. Знакомый почерк читался легко. Слава писал матери, что Валерка ему сообщил о походах Оли «налево» – да, именно так и было написано: «… ходит налево с парнями, которые вернулись в техникум из армии, то с одним, то с другим – по киношкам и не только»…
Закружилась голова, к горлу подкатил ком. За что?.. Оля услышала приближающиеся шаги, торопливо вернула письмо на место, плюхнулась в кресло и схватила со стеллажа первую попавшуюся книгу. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула, упёрлась невидящим взглядом в страницы. Вошла Антонина Петровна – она уже переоделась в длинное домашнее платье, причесалась, даже подкрасила губы.
– Олечка, деточка, приглашаю к столу, надеюсь, ты не очень торопишься, поболтаем…
Оля встала. Она не могла смотреть в глаза матери Славы. Взяла кофту и растерялась, не помня, где стояла книга. Антонина Петровна взглянула на обложку:
– О, Марсель Пруст? Хороший выбор… Художественный камертон многих поэтов Серебряного века.
– Да, – рассеянно ответила девушка и отдала том хозяйке. Впопыхах, словно её бил озноб, стала надевать кофту. – Вы знаете… я вспомнила… надо на занятие по… Пост номер один… – застегнув последнюю пуговицу, наконец собралась с силами, твёрдо сказала: – Я пойду, – и решительно вышла в коридор.
– А как же пироги? – Антонина Петровна поставила книгу на место и поспешила за гостьей. – Олечка, деточка, ну, хоть две минуты обожди, я упакую гостинец.
– Не надо, я ведь не в общагу… – Оля вжикнула молниями на сапожках, быстро надела пуховую белую шапку, тоже связанную мамой, неловко втиснула руки в рукава пальто, забыв его застегнуть, выпрямилась и встретилась-таки со взглядом Антонины Петровны – безразлично пустым, Олю обдало холодом. Раньше она такого жгучего льда не замечала: – Большое спасибо за всё, – она выскочила за дверь.
Антонина Петровна щёлкнула замком и вернулась в комнату сына, слегка отодвинула тюль на окне. Спокойно посмотрела на спешно отдаляющуюся фигурку девушки. Оглянулась, бросила взгляд на неоконченное письмо. Ухмыльнулась:
– Вот и хорошо…
Оля бежала по белому снегу, не разбирая дороги. Улицы казались бесконечными туннелями: тянутся, перетекая один в другой, и выхода нет. Холодно. Ломота в теле. В голове гул: «Не пара».
Зажглись огни. Оля устала, но шла и шла, ей казалось, избавление от боли – в движении: главное идти. Она не сразу поняла, что насквозь продрогла. Оторвала взгляд от снега под ногами и не узнала местности. Остановилась, застегнула пальто. Достала из карманов варежки, надела. Руки красные, как лапки у гуся. Ноги – точно стеклянные. Который час? С трудом отвернула рукав, вгляделась: девять вечера. Сколько она уже бродит? Мозг отказывался воспринимать реальность. Надо отогреться и понять, где общага. Зашла в незнакомый двор, в первый попавшийся подъезд многоэтажки, поднялась на пол-этажа, прижалась к батарее.
Значит, Валерка… В конце ноября в гастрономе она пару раз видела Валерку любезничающего с Антониной Петровной. Оля тогда предпочла остаться незамеченной. Валерка и Антонина Петровна – соседи, вполне могут пересекаться на общей территории. Валерка – друг сына… Сейчас картина в магазине обрела другой глубинный смысл: Антонина Петровна и Валерка в сговоре, потому что капитанша-мать решила, что Оля её сыну – не пара.
А Слава?
Неужели поверил Валерке?..
Как ломит ноги!..
Где-то наверху хлопнула дверь, послышался лай большой собаки и женский голос. Вскоре рядом оказался пёс, почти такой же, как Буран, но с темными пятнами на спине и морде. Он обнюхал незнакомку, инстинктивно уткнулся в колени. Оля погладила его по голове.
По лестнице бежала хозяйка, молодая спортивная женщина в шерстяной шапочке, короткой меховой куртке и тёплых брюках, на ногах войлочные бурки. Оля обратила на них внимание, подумав, что в таких не замёрзнешь. Хозяйка собаки ещё на ходу громко бросила:
– Фу! Нельзя! – Спустилась, быстро прицепила к ошейнику поводок. – Извините, выскочил из-под рук.
– Ничего. Я не боюсь… Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Пугачёва, дом шестьдесят шесть?
– О, так это недалеко, по диагонали через квартал, дворами.
– Покажете, по какой диагонали?
– Не только покажем, но и с удовольствием проводим вас. Правда, Бим?
Пёс вильнул хвостом и потянул хозяйку за собой на улицу. Оля через силу улыбнулась. Ей почему-то вспомнилось, где-то она читала, что в минуту отчаяния душа человека полна падающих звёзд, а у неё падающие звёзды всегда были связаны с загадыванием желаний и мечтами. Но тут обожгло: речь – о смерти, неосуществлённых желаниях, несбывшихся надеждах.
Вышли.
Оля не могла отвести взгляда от собаки – та бегала, нюхала снег и фыркала от удовольствия. Иногда возвращалась к Оле, как бы приглашая порадоваться вместе, будто хотела сказать: «Выше голову, человек!» Тёплые слёзы щипнули глаза девушки…
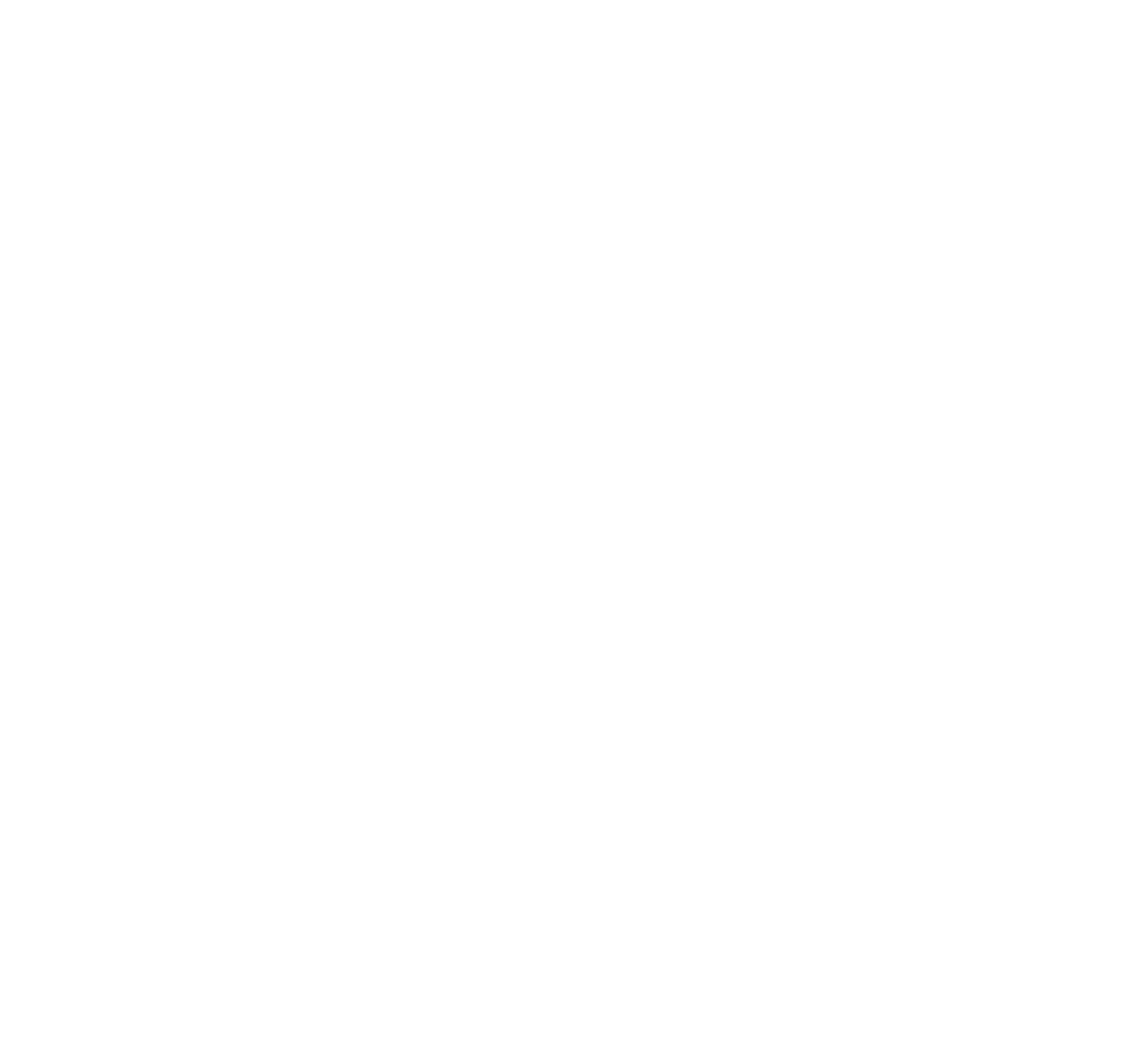
Роман БРЮХАНОВ
Родился в 1982 году в Амурске – небольшом городке на реке Амур. Высшее образование получил в Хабаровске, где в конце концов и остался. Свой первый рассказ написал в 15 лет, однако всерьез за перо взялся только в студенческие годы. Вдохновение черпаю из поездок, путешествий и исследований чего-то нового. Иногда для этого не обязательно даже выбраться из квартиры, ибо я верю, что человеческая фантазия способна совершать самые потрясающие и невероятные открытия…
Родился в 1982 году в Амурске – небольшом городке на реке Амур. Высшее образование получил в Хабаровске, где в конце концов и остался. Свой первый рассказ написал в 15 лет, однако всерьез за перо взялся только в студенческие годы. Вдохновение черпаю из поездок, путешествий и исследований чего-то нового. Иногда для этого не обязательно даже выбраться из квартиры, ибо я верю, что человеческая фантазия способна совершать самые потрясающие и невероятные открытия…
ТРЕНД
Дневной сон, и без того хрупкий, не выдержал монотонных ударов телефонного звонка, покрылся густой паутинкой трещин, задрожал и разлетелся на осколки. Луч света, пробившийся в щель между задернутыми шторами, как вероломный пособник подлого звонка, уперся в переносицу писателя Николая Щербинина, устроившегося на кушетке в своем кабинете. Кабинет был небольшим, квадратным и вмещал только массивный письменный стол со стулом, стеллажи с книгами, кушетку и чайный столик с кофеваркой и немытыми чашками.
Увернувшись от бившего в глаза света, Николай, щурясь, вгляделся в часы на стене. Стрелки показывали половину второго, а это значило, что ежедневный ритуал был сокращен как минимум на тридцать минут. Щербинин поморщился. Урезание дневного сна оборачивалось головными болями, отвратительным настроением, двумя дополнительными чашками кофе и, как следствие, изжогой.
Николай уже лет пять сознательно не относил себя к молодым писателям. Он гордился сединой на висках и в бороде, тщательно причесывал поредевшие на макушке волосы, взял за правило проходить каждый день не меньше трех километров и раз в год показывался онкологу, хотя подозрений на рак у него никогда не было. Шесть романов, пять сборников рассказов и новелл, три пьесы, весьма популярные, кстати, в городских театрах, девять литературных статей в журналах и даже один киносценарий – вот репертуар, который сделал Николая Щербинина узнаваемым среди поклонников мистики и старого доброго ужаса. На страницах нового – седьмого по счету – романа ещё не высохла типографская краска, а тираж был наполовину раскуплен.
Успех говорил в пользу того, что менять установленный распорядок ни в коем случае нельзя, в особенности сокращать дневной сон, ведь тогда вся вторая половина дня пойдет насмарку.
Николай протер глаза и взял со стола телефон. «Аг. Алекс. Рудов», – сообщал экран.
– Привет, Лёха, – сказал Щербинин, включив громкую связь. – Ты ведь мой агент, ты лучше всех знаешь, что…
– Да, Коль, я знаю, что у тебя дневной сон, извини, – прервал его Рудов. – Ситуация экстренная. Как только узнал, сразу позвонил.
– Боже мой, что там такое?
– Твой роман изымают из продажи.
Николай сел на кушетке и потер затекшую шею.
– Не понял. Как изымают?
– Очень просто. Снимают с полок в книжных магазинах и убирают на склады. Я сам не поверил, пока не зашел в магазин и не увидел.
– Бред какой-то. Зачем им это делать? – Щербинин снял с кофеварки колбу и наполнил чашку, наименее грязную из всех.
– Этого я пока не выяснил, – ответил Алексей. – Но мне подсказали, к кому обратиться, и прямо сейчас я собираюсь с ним встретиться.
Николай отдернул шторы и сощурился от яркого света. За окном открывался вид на городской парк, где под густой зеленью тополей не спеша прогуливались мамочки с колясками и пожилые парочки. У фонтана подростки выделывали кренделя на скейт-бордах.
– Слушай, его же нормально начали раскупать. В чем проблема-то?
– Не знаю, но скоро буду знать. Короче, Коля, встретимся через час в нашей кофейне. Думаю, уже будет информация.
– Добро.
Николай убрал телефон и покосился на корешки книг на полке. Ярко-синяя обложка нового романа выгодно выделялась из прочих. Что с ним могло быть не так? Завершающая часть трехтомной эпопеи, в которой раскрываются все тайны первых двух томов. Читатель ждал эту книгу.
– Бред, – повторил Щербинин и снял с крючка шляпу.
По пути в кофейню писатель заглянул в книжный магазин. Между стеллажей, упиваясь обилием бумажного наркотика, бродили впавшие в транс книголюбы. В углу у окна скучала прыщавая девушка-консультант.
Придав себе небрежный и слегка безразличный вид, он обратился к ней:
– Девушка, поможете?
Та просияла, резво покинула свой угол и подбежала к Николаю.
– Я вас слушаю.
– Не подскажете, где можно взять новый роман, эээ… Николая Щербинина?
Девушка вздрогнула, потупила взгляд и залилась краской.
– Его нет в продаже, – коротко ответила она.
«Не узнала, – подумал Щербинин. – Уже хорошо».
– Как это? – со слегка наигранным возмущением в голосе спросил он. – Роман ведь только вышел! Мы все его так ждали!
– Нет, он был, мы продавали его, – девушка покраснела так сильно, что прыщей не стало видно. – Но вчера мы книгу убрали. Больше не продаем.
– Почему? Неужели мне идти в другой книжный, чтобы купить? Я хотел купить у вас!
Девушка завертела головой, будто в поисках поддержки, но других консультантов не было видно.
– Боюсь, в другом магазине вы его тоже не купите, – она перешла на полушепот. – Роман везде сняли. Я… не знаю, почему. Нам не объяснили.
Последние слова она произнесла едва слышно, и Николай понял, что девушка врет. Им прекрасно все объяснили, но причина настолько деликатна, что сообщать её стыдно или страшно.
– Дааа? – протянул Щербинин. – Что ж, ладно.
Окинув рассеянным взглядом магазин, он развернулся на каблуках и вышел.
Спрятав глаза от назойливого солнца полями шляпы, писатель снял пиджак, оставшись в легкой бежевой рубашке с коротким рукавом, и присел на лавочку у входа в парк. Нахмурившись, он пытался припомнить самые провокационные места своего романа, которые цензура могла счесть недопустимыми. Эротических сцен было всего две, да и те его жена называла псевдоэротическими, так мало в них было секса и так много намеков на него. Кровь, жестокость и кошмарные существа были неотъемлемой частью всех его книг. Благодаря им, собственно, читатель полюбил короткие рассказы, а после – и романы Николая, в особенности серию про тварей, вторгавшихся из потустороннего мира через тела людей, завершенную тем самым злополучным романом. Писатель увидел парня в синей жилетке с надписью «ЛДПР», раздававшего листовки людям в парке. Политику Щербинин вообще в своих книгах не трогал. Не интересовало его то, как одни чиновники обманывают население и других чиновников, чтобы урвать побольше власти или денег. Всю жизнь его интересовала только литература.
Щербинин прищелкнул языком и хлопнул себя по коленке.
Ну, конечно.
Редактор ведь говорил ему об этом, но он не послушал. Не стоило убивать одну из главных героинь в самом конце книги. Читатель к ней привязался, а он, автор, лишил фанатов хэппи-энда. Что поделать, таково негласное правило книг ужасов: кто-то из основных персонажей должен умереть. А лучше сразу несколько, причем самой ужасной смертью. Вероятно, дело в этом.
Николай достал телефон и набрал номер редактора.
– Вячеслав Всеволодович, здравствуйте, это Щербинин.
– Приветствую вас, друг мой, – едва слышно картавя, ответил редактор, перешагнувший седьмой десяток лет, но сохранивший потрясающую работоспособность.
– Вы уже слышали?
– Слышал о чем, позвольте поинтересоваться?
– О романе моём. «Властители душ». Вы его правили, помните?
– Как же, прекрасно помню. Превосходная книжица. Ваше мастерство растет. Скоро мне нечем будет вам помочь.
– Спасибо, – смутился Щербинин. – Но как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Вы не припомните эпизодов, которые могли бы… как это сказать… насторожить цензуру и послужить причиной отказа от публикации?
– Что вы имеете в виду? Его ведь напечатали.
– В том-то и дело, что сейчас его снимают с продажи. Везде, во всех магазинах. Я пытаюсь понять, почему.
– Весьма странно, Николай, весьма странно. Мне он показался в высшей степени корректным и строго следующим в канве вашего стиля.
– А как же тот момент со смертью героини?
– Ну, это, знаете ли, сугубо субъективное мнение. Уверен, что многие приняли это как должное. А недовольные произведением всегда найдутся.
– Вот я и думаю… – пробормотал Щербинин и взглянул на часы. – Ох, Вячеслав Всеволодович, мне пора. Спасибо, что успокоили! Побегу выяснять, что к чему. Всего доброго!
Кофейня встретила Николая приятным коктейлем ароматов свежеиспеченных венских вафель и кофе. Прохлада помещения была как нельзя кстати после июльской духоты, переживаний и интенсивной ходьбы от парка. Привычная атмосфера и легкий полумрак успокоили нервы и вернули писателю самообладание. «Всё объяснимо и просто, – подумал он. – Сейчас всё встанет на свои места».
Алексей Рудов, грузный темноволосый мужчина за сорок, старый друг и по совместительству агент писателя, уже ждал Щербинина за дальним столиком, в самом углу кофейни, где они по давно сложившейся традиции обсуждали идеи будущих произведений и процесс работы над текущими. Рудов следил за стилем: носил модную хипстерскую бороду, зачесывал волосы назад, обильно смазывая их гелем, и сегодня был одет в ярко-красную футболку-поло и желтые штаны, которые, казалось, вот-вот разойдутся по швам на его необъятных бедрах.
Как только Николай присел, бариста поставил перед друзьями две чашки кофе и слегка поклонился писателю.
– Николай Иванович, вы отчаянный человек, – сказал он учтиво. – Я восхищен. Позвольте сегодня кофе за мой счет.
– Благодарю вас, Егор, – пробормотал Щербинин, неуклюже кланяясь в ответ, – но я не понимаю, о чем вы говорите.
– Вот! – сказал Егор. – Вы ещё и скромный. За это я вас ещё больше уважаю.
– Егор, – вмешался Рудов, – ты иди, я сейчас Николаю Иванычу всё объясню.
– Лёша, – зашипел Щербинин, как только бариста удалился, – что, чёрт возьми, происходит? Я задолбался думать, голову себе сломал! Где я прокололся? Одни, вон, восхищаются, другие книги с полок убирают. Даже старый волк Всеволодыч ничего не поймет. Чертовщина какая-то!
Рудов окинул взглядом кофейню, проверяя, не подслушивают ли, наклонился к Щербинину через стол и сказал:
– Вспомни, пожалуйста, Коля, что ты запостил позавчера в инстаграме.
Николай нахмурился и скрестил руки на груди. Он не любил Инстаграм. Жена и агент уверяли его, что ему нужно вести страничку, чтобы подогревать интерес фанатов, но создание каждого поста было для него мучением. Он бы скорее согласился наполовину урезать одну из своих пьес, чем писать эти бестолковые кусочки информации со взятыми из интернета картинками или своими сессионными фотографиями, сделать которые, кстати сказать, его тоже заставила жена. Щербинин в очередной раз подумал, как было бы здорово просто заниматься литературой и стяжать славу своим художественным мастерством, а не провокационными текстами в социальных сетях. Он готов был позволить отсечь себе левую руку, но не мог вспомнить, о чем был позавчерашний пост.
– И что же я там выложил? – наконец, сдался он.
– Видео. Ты выложил видеообращение к фанатам. Помнишь?
– Не очень, Лёх. Не томи.
– Ты сделал не так уж много видео, Коля. Вспоминай.
Щербинин развел руками. Он помнил каждую написанную за это время строчку, а о чем было видеообращение, вспомнить не мог.
– Ты сделал заявление, Коля, – вполголоса сказал Рудов, – о том, что ты не гей.
Щербинин хохотнул и закрыл рот ладонью.
– Точно! Так и что? Я ведь не гей.
– Это понятно. Но ты ведь помнишь, почему ты его сделал?
– Вот это точно помню, – Николай откинулся на спинку стула. – Я просто опроверг ту ересь, которую про меня стали писать в желтом интернете.
Алексей удовлетворенно кивнул и уставился на товарища полными экспрессии глазами.
– Погоди, – сказал Щербинин. – Ты хочешь сказать, что мои книги изымают из продажи из-за того, что я отказался от гейства?!
Рудов молчал.
– Гейства, – продолжал писатель, – отношения к которому не имею, но к которому меня приписали с легкой руки каких-то упырей из сми с сомнительной репутацией?
– Именно так, друг мой, – наконец, произнес Рудов. – Именно поэтому.
– Да это бред! – взревел Щербинин. Немногочисленные посетители кофейни обернулись в их сторону. Писатель влил в себя полчашки кофе. Внутри начинала закипать злоба на вездесущие соцсети и их приспешников.
– А ты думал, почему твой роман раскупали так, что издательство задумалось о дополнительном тираже? – спросил Рудов. – Ведь, став геем, ты попал в тренд, стал модным, настоящим человеком искусства, какими их видят… э… некоторые обыватели.
– Лёша, я никогда не становился геем!
– Конечно, нет. Но так написали в сети, а значит это правда. Не запостил – не было. Помнишь? А ты всех обломал. Только в тебя поверили, как ты развалил к хренам все их надежды на то, что ты нормальный.
Щербинин зажал виски руками и помассировал.
– Пойдем отсюда, мне надо на воздух.
Солнце слепило и резало глаза. Выйдя на улицу, писатель было рванул обратно в кофейню, но наткнулся на шедшего следом Рудова, дернулся наружу, заметался, махнул рукой и направился к тени автобусной остановки.
– Ты хоть понимаешь, – выпалил он, резко развернувшись к агенту, – что ситуация бредовая до безумия?
Рудов кивнул.
– Мои книги раскупали из-за того, что обо мне написали ложь и клевету, но перестали покупать вообще, когда я сказал правду. Где здесь логика и здравый смысл, Лёша?
– Их нет, Коль. Я тебе больше скажу: приказ по изъятию книги и порицанию тебя как литератора идет из краевого минкульта.
– Порицанию? Что я сделал как литератор, чтобы меня порицать? Даже Всеволодыч говорит, что я пишу лучше, чем раньше.
– Всеволодовичу мы все доверяем как редактору, – похлопал Щербинина по плечу Рудов. – Но здесь совсем другое. Конъюнктура, тренд, взгляды общества…
– Это литература должна формировать взгляды общества! – вспылил писатель и затряс перед лицом агента указательным пальцем. – Взгляды общества не могут формировать литературу!
– Прости, конечно, Коля, но ты безнадежно отстал от реальности. Ты живешь где-то в восьмидесятых или даже семидесятых. Сейчас всё иначе. Пойми, – Рудов заглянул в глаза другу, – я на твоей стороне. И мне очень неприятна эта ситуация. Но, Коля, я ничего не могу сделать. Ты выпал из того, что называется трендом и что в наше время определяет степень успешности любого деятеля искусства.
Щербинин понимающе кивнул и, сняв шляпу, платком отер пот со лба.
– Я понимаю, Лёш, – сказал он тихо. – Всё это весьма печально. Я пойду.
Он хлопнул Рудова по плечу и вскочил в подошедший троллейбус.
Первым порывом Щербинина было поехать в министерство культуры и устроить скандал. Министр Ольга Леонидовна Василенко давно вставляла ему палки в колеса и вообще недолюбливала. Это она была против постановки его последней пьесы, триллера «Страх здесь больше не живет». Николая заставили переписать добрую треть сцен, а идеальную во всех отношениях концовку и вовсе убрали, заменив бледным диалогом в исполнении минкультовского прихвостня Трясогузова, бездарного писаки и амбициозного критика.
Вместо этого писатель направился в редакцию издательства.
В редакции творились шум и беготня. Сотрудники сновали туда-сюда, передавая друг другу бумаги, наскоро сшитые рукописи, зазывая соседей по кабинетам на чай. Появление в коридоре Николая Щербинина вызвало неожиданную для них самих реакцию. Все как-то сразу притихли и разошлись по рабочим местам. Хмурясь и сжимая в руке уже изрядно смятый пиджак, писатель направился к кабинету главреда. Молодая сотрудница выскочила в коридор, наткнулась на Щербинина, визгливо ойкнула и скрылась за своей дверью. Шум прекратился, и только было слышно, как где-то скрипит матричный принтер.
Николай постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел.
Главный редактор Федор Степанович Еремеев, тощий лысый очкарик с глубокими морщинами вокруг глаз и впалыми щеками бросил на наглого посетителя гневный взгляд, но, увидав, кто перед ним, смягчился и растекся в улыбке.
– Николай Ива-анович, – заискивающе протянул он, разводя руками в знак приветствия, – что привело столь великого писателя в мой скромный офис?
– Вы прекрасно знаете, что привело, Федор Степа-анович, – подражая его тону, сказал Щербинин. – Хорош комедию ломать Федя! Ну-ка, объясни мне, что за фигня происходит?
Еремеев судорожно сглотнул и поник.
– Я ни при чем, Коль, чесслово. Вот те крест!
– Ты неверующий, Федя, – махнул на него рукой писатель, присаживаясь на стул перед столом главреда. – Просто объясни мне, как так получилось, что ты прогнулся под минкульт?
– Так ведь им меня закрыть – раз плюнуть! – начал оправдываться Еремеев. – Василенко мне сама позвонила, лично…
– Вот! – прервал его Щербинин. – Это-то мне и интересно! Что она сказала?
– Ну… – главред стал чертить в блокноте бессмысленные знаки, – она вообще говорила, в целом…
– В целом что?! – рявкнул писатель. – Хватит мне зубы заговаривать! Говори по сути! Вот помяни моё слово, Федя, следующую рукопись отдам в «Бизнес-пресс». Они давно меня просят, хотят серию триллеров запустить, да я по старой памяти тебе всё присылаю. Из уважения, так сказать.
– Да ладно, ладно, – замахал руками Еремеев, – чего ты горячишься? Василенко позвонила, сказала, что твое творчество более не отвечает современным реалиям и трендам в литературе, что твой стиль косный и всем уже надоел, а жестокость в романах вообще не поддается никакому пониманию…
– Это будто бы я единственный, кто пишет ужастики?
– Ну, нет, конечно, Коль, не единственный. Но ты же понимаешь, в чем всё дело.
– Да, объяснили уже… – Щербинин тяжело вздохнул. – Чего она ко мне-то прицепилась? Ей что, настоящих геев мало?
Главред снял очки и протер линзы носовым платком.
– Здесь-то как раз всё понятно, Коля. Она ведь сама из «этих»…
Щербинина будто окатили ледяной водой.
– Из каких из «этих»? – осторожно спросил он.
– Ну, девочек она любит… больше, чем мальчиков. Ходит такой слушок.
Писатель вскочил и сдернул с головы шляпу. Сделал круг по кабинету. Надел шляпу. Сел на стул.
– То есть, ты хочешь сказать, что министр культуры края – лесбиянка?
Еремеев молчал, разглядывая очки.
– Вот мразь! – воскликнул Щербинин и хохотнул. – Вот в чем всё дело! Значит, она решила, что я предал их братию… или сестрию, как там у них… и за это она меня… вроде как отлучила от литературы?! Да какое она право… Это же безумие, Федя! Как ты согласился в этом участвовать?
Еремеев потупил взгляд.
– Закроет она меня, Коль, ей богу закроет. А мы ведь только-только на федеральный уровень стали выходить. Благодаря тебе, кстати, тоже.
– Так, всё, – Щербинин вскочил. – Еду в министерство разбираться со всем этим делом. Ты ни при чем, Федя, тебя заставили. Но книгу на прилавки мы вернем!
– Тебя, – сказал главред, но Николай уже хлопнул дверью, – к ней не пустят.
Писатель выбежал из кабинета, пронесся по коридору, не обращая внимания на выглядывающих из-за своих дверей сотрудников, и, с трудом борясь с поднимающейся внутри злобой, выскочил на улицу.
– Эта старая лесбиянка, заполучив меня в свои ряды, возликовала и продвинула мою книгу на всех уровнях! – кричал Николай в трубку телефона. – А мой публичный отказ от этого, с позволения сказать, «почетного» звания, она восприняла как личное оскорбление, видите ли! Понимаешь, в чем суть, Лёха? Ты понимаешь, кто руководит русской литературой и решает, каким авторам в ней быть, а каким нет? Я не удивлюсь, если её любимчик Трясогузов тоже из их числа!
Рудов что-то отвечал, но Щербинин не слушал, продолжая кричать, не глядя на оборачивающихся прохожих:
– Она решила устроить публичную казнь из разряда «кто не с нами, тот против нас»! А тут я подвернулся, такой не в тренде весь! Конечно, с мужиками не шпилюсь, чего со мной разговаривать! А читать мою писанину так и вовсе противно! – Щербинин тяжело дышал, взмокшие волосы на голове растрепались. Он шумно выдохнул и продолжил уже спокойнее. – Да, Лёша, я был в министерстве. Нет, меня к ней не пустили. Сказали, занята, потом сказали, уехала к губернатору, наврали, короче. Не знаю, что буду делать, достали меня все. Давай, пока.
Писатель убрал телефон в карман и вернулся в реальность.
Две старушки, сидевшие на скамейке у входа в сквер, настороженно смотрели на Щербинина, прижимая к себе сумочки.
– Совсем обесстыдел народ, – проскрипела одна, не отрывая взгляда от Николая.
– Страха перед богом не ведают, – подтвердила вторая.
Писатель открыл рот, чтобы что-нибудь ответить, но, передумав, махнул рукой и зашагал прочь.
На глаза Николаю попалась вывеска спорт-бара, куда он в былые времена захаживал сделать ставку на матч и пропустить стаканчик-другой виски с тремя огромными кубиками льда. Тогда он считал это привычкой, достойной настоящего писателя, этакой фишкой, делающей его особенным, несмотря на толпу мужиков, занимавшихся в баре тем же самым.
«Сейчас самое время возобновить практику», – подумал Щербинин и, не впуская в голову более никаких мыслей, нырнул в полумрак спорт-бара.
Обстановка несколько изменилась, однако в целом интерьер сохранился. Почти от самого входа вдоль правой стены тянулась барная стойка с пока ещё пустовавшими высокими стульями, затянутыми черной кожей. Гладкая, тщательно отполированная стойка отражала своей поверхностью софиты, так что казалось, будто лампы вмонтированы в неё.
Бармен, парень лет двадцати, с высоким лбом и ярко-рыжими волосами, неспешно протиравший бокалы, с безразличием взглянул на раннего посетителя.
– Виски, – попросил писатель, присаживаясь на ближайший к бармену стул. – И три больших кубика льда, пожалуйста.
Бармен прекратил протирать бокал, вгляделся в лицо Щербинина, нахмурился и потянулся за бутылкой.
Напиток приятно обжег глотку, в животе стало тепло. Николай с легким сопротивлением признался самому себе, что скучал по этим ощущениям. Он залпом проглотил остаток виски и поставил стакан перед барменом. Тот молча кивнул и плеснул новую порцию напитка. В голове Николая появился легкий шум, напряжение стало понемногу отпускать.
Входная дверь отворилась, и в бар вошли несколько мужчин. Негромко переговариваясь, они расселись в зале. Один из них подошел к стойке и стал обсуждать с барменом заказ.
Когда мужчина отошел, бармен внимательно посмотрел в лицо писателя.
– А я вас знаю, – сказал он с вызовом.
Щербинин почуял неладное.
– Вы тот писатель, – продолжал парень. – Щербаков.
– Что вы говорите, – нахмурился Николай. – Прямо-таки Щербаков?
– Ну, или как-то так, – было видно, что ошибка нисколько не смутила его. – Как же вы так-то, а?
Писатель оторопел от изумления. Внутри опять проснулся гнев.
– Как же я так-то что?
– Ну… – замялся парень, – всё вот это, про что везде пишут. Ваша фотка во всех соцсетях.
– То есть, вы не знаете, в чём дело, увидели фотографию, уловили, что где-то имеется сенсация со знаком минус, и теперь решили меня пристыдить? – Щербинин сжал стакан до боли в суставах. – Думали, я тут в реверансах перед вами раскланяюсь и извинения начну просить?
Бармен стушевался, схватил бокал, начал тереть.
– А какие мои книги вы читали, позвольте узнать? – спросил писатель.
– Я… – парень попытался найти взглядом какую-нибудь работу для себя подальше от того места, где сидел писатель, но ничего не увидел и обреченно вздохнул. – Я книги не читал ваши. Я вообще читать не люблю. Я музыку люблю.
– Так вот, молодой человек, – сквозь зубы прорычал Николай, – слушайте на здоровье музыку, а свой длинный, заточенный под соцсети и всякие инстаграмы нос в мою чистую литературу не суйте! Чтобы я вас даже рядом с книжным магазином не видел! Книги не для такого быдла, как вы! Сдачи не надо!
Он бросил на стойку смятую купюру и, опрокинув стул, бросился к двери. Взявшись за ручку, остановился и повернувшись к бармену, погрозил пальцем.
– На пушечный выстрел! – крикнул он и вытолкнул себя наружу.
Щербинин шел по улицам, не отдавая себе отчета в том, куда направляется. Рой мучительных мыслей носился в голове, больно жаля и не давая покоя. Казалось, что все прохожие враждебно смотрят на него и каждый, дай ему волю, будет останавливать писателя и обвинять его в грехах, мыслимых и не мыслимых. Вот полицейский патруль на углу, парень и девушка, оба смотрят на него, держа руки на резиновых палках. А что, если Василенко подговорила губернатора, и тот дал команду полиции выслеживать писателя и задерживать за малейшую провинность? А он выпивший.
Николай свернул в переулок, не доходя до угла, где стоял патруль.
В конце переулка стояла карета скорой помощи. Когда писатель поравнялся с ней, боковая дверца уползла в сторону, из автомобиля вышел врач в голубом медицинском костюме и грозно глянул на Щербинина. Тот шарахнулся в сторону. Может быть, и медики с минкультом заодно? Может, они хотят упрятать его в психушку, чтобы не мешал двигать нужные тренды в литературе?
Писатель ускорил шаг. Он нырял из переулка в переулок, стараясь двигаться как можно беспорядочнее, чтобы сбить с толку возможных преследователей. Через пятнадцать минут ходьбы в боку закололо, а улица вывела его к берегу реки.
Тяжело дыша, Николай Щербинин опустился на лавочку, бросив рядом шляпу и мятый пиджак.
Перед ним лежала широкая полоса набережной, одетой в фигурную тротуарную плитку, за ней шел узкий песчаный пляж, и неспешно несла свои воды река. В едва тронутой волнами глади отражалось высокое голубое небо, жидкие облачка и пролетавшие над водой чайки. Солнце клонилось к горизонту, подкрашивая западный край неба в оттенки рыжего.
Мимо пронеслись велосипедисты, трезвоня зазевавшимся пешеходам. Пробежали дети, запуская в воздух разноцветные пенопластовые самолеты. Прошли две девушки, очень нескромно обнимавшие друг друга за талии.
«И тут они, – подумал Щербинин, провожая девушек взглядом. – Но ведь я их не трогаю. Не мешаю им гулять, лапать друг друга, целоваться на людях. Мне всё равно, где и как они занимаются сексом, куда они при этом лазят и что там трогают. Я спокоен, когда они проходят мимо. Почему же они считают, что могут запретить мне писать только из-за того, что я не разделяю их взглядов? Что это: искаженное понятие о нормальности или новый виток эволюции, при котором таким, как я, не выжить?»
До самого заката он сидел на своей лавочке, дыша остывающим вечерним воздухом, и размышлял. Отныне два пути открывались перед ним: кануть в Лету как писателю или соврать всем, что он всё-таки гей, и продолжать творить. Глядя на скрывающийся за горизонтом огненно-красный солнечный диск, писатель Николай Щербинин сильно сомневался в правильности сделанного выбора.
Очень сильно.
Дневной сон, и без того хрупкий, не выдержал монотонных ударов телефонного звонка, покрылся густой паутинкой трещин, задрожал и разлетелся на осколки. Луч света, пробившийся в щель между задернутыми шторами, как вероломный пособник подлого звонка, уперся в переносицу писателя Николая Щербинина, устроившегося на кушетке в своем кабинете. Кабинет был небольшим, квадратным и вмещал только массивный письменный стол со стулом, стеллажи с книгами, кушетку и чайный столик с кофеваркой и немытыми чашками.
Увернувшись от бившего в глаза света, Николай, щурясь, вгляделся в часы на стене. Стрелки показывали половину второго, а это значило, что ежедневный ритуал был сокращен как минимум на тридцать минут. Щербинин поморщился. Урезание дневного сна оборачивалось головными болями, отвратительным настроением, двумя дополнительными чашками кофе и, как следствие, изжогой.
Николай уже лет пять сознательно не относил себя к молодым писателям. Он гордился сединой на висках и в бороде, тщательно причесывал поредевшие на макушке волосы, взял за правило проходить каждый день не меньше трех километров и раз в год показывался онкологу, хотя подозрений на рак у него никогда не было. Шесть романов, пять сборников рассказов и новелл, три пьесы, весьма популярные, кстати, в городских театрах, девять литературных статей в журналах и даже один киносценарий – вот репертуар, который сделал Николая Щербинина узнаваемым среди поклонников мистики и старого доброго ужаса. На страницах нового – седьмого по счету – романа ещё не высохла типографская краска, а тираж был наполовину раскуплен.
Успех говорил в пользу того, что менять установленный распорядок ни в коем случае нельзя, в особенности сокращать дневной сон, ведь тогда вся вторая половина дня пойдет насмарку.
Николай протер глаза и взял со стола телефон. «Аг. Алекс. Рудов», – сообщал экран.
– Привет, Лёха, – сказал Щербинин, включив громкую связь. – Ты ведь мой агент, ты лучше всех знаешь, что…
– Да, Коль, я знаю, что у тебя дневной сон, извини, – прервал его Рудов. – Ситуация экстренная. Как только узнал, сразу позвонил.
– Боже мой, что там такое?
– Твой роман изымают из продажи.
Николай сел на кушетке и потер затекшую шею.
– Не понял. Как изымают?
– Очень просто. Снимают с полок в книжных магазинах и убирают на склады. Я сам не поверил, пока не зашел в магазин и не увидел.
– Бред какой-то. Зачем им это делать? – Щербинин снял с кофеварки колбу и наполнил чашку, наименее грязную из всех.
– Этого я пока не выяснил, – ответил Алексей. – Но мне подсказали, к кому обратиться, и прямо сейчас я собираюсь с ним встретиться.
Николай отдернул шторы и сощурился от яркого света. За окном открывался вид на городской парк, где под густой зеленью тополей не спеша прогуливались мамочки с колясками и пожилые парочки. У фонтана подростки выделывали кренделя на скейт-бордах.
– Слушай, его же нормально начали раскупать. В чем проблема-то?
– Не знаю, но скоро буду знать. Короче, Коля, встретимся через час в нашей кофейне. Думаю, уже будет информация.
– Добро.
Николай убрал телефон и покосился на корешки книг на полке. Ярко-синяя обложка нового романа выгодно выделялась из прочих. Что с ним могло быть не так? Завершающая часть трехтомной эпопеи, в которой раскрываются все тайны первых двух томов. Читатель ждал эту книгу.
– Бред, – повторил Щербинин и снял с крючка шляпу.
По пути в кофейню писатель заглянул в книжный магазин. Между стеллажей, упиваясь обилием бумажного наркотика, бродили впавшие в транс книголюбы. В углу у окна скучала прыщавая девушка-консультант.
Придав себе небрежный и слегка безразличный вид, он обратился к ней:
– Девушка, поможете?
Та просияла, резво покинула свой угол и подбежала к Николаю.
– Я вас слушаю.
– Не подскажете, где можно взять новый роман, эээ… Николая Щербинина?
Девушка вздрогнула, потупила взгляд и залилась краской.
– Его нет в продаже, – коротко ответила она.
«Не узнала, – подумал Щербинин. – Уже хорошо».
– Как это? – со слегка наигранным возмущением в голосе спросил он. – Роман ведь только вышел! Мы все его так ждали!
– Нет, он был, мы продавали его, – девушка покраснела так сильно, что прыщей не стало видно. – Но вчера мы книгу убрали. Больше не продаем.
– Почему? Неужели мне идти в другой книжный, чтобы купить? Я хотел купить у вас!
Девушка завертела головой, будто в поисках поддержки, но других консультантов не было видно.
– Боюсь, в другом магазине вы его тоже не купите, – она перешла на полушепот. – Роман везде сняли. Я… не знаю, почему. Нам не объяснили.
Последние слова она произнесла едва слышно, и Николай понял, что девушка врет. Им прекрасно все объяснили, но причина настолько деликатна, что сообщать её стыдно или страшно.
– Дааа? – протянул Щербинин. – Что ж, ладно.
Окинув рассеянным взглядом магазин, он развернулся на каблуках и вышел.
Спрятав глаза от назойливого солнца полями шляпы, писатель снял пиджак, оставшись в легкой бежевой рубашке с коротким рукавом, и присел на лавочку у входа в парк. Нахмурившись, он пытался припомнить самые провокационные места своего романа, которые цензура могла счесть недопустимыми. Эротических сцен было всего две, да и те его жена называла псевдоэротическими, так мало в них было секса и так много намеков на него. Кровь, жестокость и кошмарные существа были неотъемлемой частью всех его книг. Благодаря им, собственно, читатель полюбил короткие рассказы, а после – и романы Николая, в особенности серию про тварей, вторгавшихся из потустороннего мира через тела людей, завершенную тем самым злополучным романом. Писатель увидел парня в синей жилетке с надписью «ЛДПР», раздававшего листовки людям в парке. Политику Щербинин вообще в своих книгах не трогал. Не интересовало его то, как одни чиновники обманывают население и других чиновников, чтобы урвать побольше власти или денег. Всю жизнь его интересовала только литература.
Щербинин прищелкнул языком и хлопнул себя по коленке.
Ну, конечно.
Редактор ведь говорил ему об этом, но он не послушал. Не стоило убивать одну из главных героинь в самом конце книги. Читатель к ней привязался, а он, автор, лишил фанатов хэппи-энда. Что поделать, таково негласное правило книг ужасов: кто-то из основных персонажей должен умереть. А лучше сразу несколько, причем самой ужасной смертью. Вероятно, дело в этом.
Николай достал телефон и набрал номер редактора.
– Вячеслав Всеволодович, здравствуйте, это Щербинин.
– Приветствую вас, друг мой, – едва слышно картавя, ответил редактор, перешагнувший седьмой десяток лет, но сохранивший потрясающую работоспособность.
– Вы уже слышали?
– Слышал о чем, позвольте поинтересоваться?
– О романе моём. «Властители душ». Вы его правили, помните?
– Как же, прекрасно помню. Превосходная книжица. Ваше мастерство растет. Скоро мне нечем будет вам помочь.
– Спасибо, – смутился Щербинин. – Но как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Вы не припомните эпизодов, которые могли бы… как это сказать… насторожить цензуру и послужить причиной отказа от публикации?
– Что вы имеете в виду? Его ведь напечатали.
– В том-то и дело, что сейчас его снимают с продажи. Везде, во всех магазинах. Я пытаюсь понять, почему.
– Весьма странно, Николай, весьма странно. Мне он показался в высшей степени корректным и строго следующим в канве вашего стиля.
– А как же тот момент со смертью героини?
– Ну, это, знаете ли, сугубо субъективное мнение. Уверен, что многие приняли это как должное. А недовольные произведением всегда найдутся.
– Вот я и думаю… – пробормотал Щербинин и взглянул на часы. – Ох, Вячеслав Всеволодович, мне пора. Спасибо, что успокоили! Побегу выяснять, что к чему. Всего доброго!
Кофейня встретила Николая приятным коктейлем ароматов свежеиспеченных венских вафель и кофе. Прохлада помещения была как нельзя кстати после июльской духоты, переживаний и интенсивной ходьбы от парка. Привычная атмосфера и легкий полумрак успокоили нервы и вернули писателю самообладание. «Всё объяснимо и просто, – подумал он. – Сейчас всё встанет на свои места».
Алексей Рудов, грузный темноволосый мужчина за сорок, старый друг и по совместительству агент писателя, уже ждал Щербинина за дальним столиком, в самом углу кофейни, где они по давно сложившейся традиции обсуждали идеи будущих произведений и процесс работы над текущими. Рудов следил за стилем: носил модную хипстерскую бороду, зачесывал волосы назад, обильно смазывая их гелем, и сегодня был одет в ярко-красную футболку-поло и желтые штаны, которые, казалось, вот-вот разойдутся по швам на его необъятных бедрах.
Как только Николай присел, бариста поставил перед друзьями две чашки кофе и слегка поклонился писателю.
– Николай Иванович, вы отчаянный человек, – сказал он учтиво. – Я восхищен. Позвольте сегодня кофе за мой счет.
– Благодарю вас, Егор, – пробормотал Щербинин, неуклюже кланяясь в ответ, – но я не понимаю, о чем вы говорите.
– Вот! – сказал Егор. – Вы ещё и скромный. За это я вас ещё больше уважаю.
– Егор, – вмешался Рудов, – ты иди, я сейчас Николаю Иванычу всё объясню.
– Лёша, – зашипел Щербинин, как только бариста удалился, – что, чёрт возьми, происходит? Я задолбался думать, голову себе сломал! Где я прокололся? Одни, вон, восхищаются, другие книги с полок убирают. Даже старый волк Всеволодыч ничего не поймет. Чертовщина какая-то!
Рудов окинул взглядом кофейню, проверяя, не подслушивают ли, наклонился к Щербинину через стол и сказал:
– Вспомни, пожалуйста, Коля, что ты запостил позавчера в инстаграме.
Николай нахмурился и скрестил руки на груди. Он не любил Инстаграм. Жена и агент уверяли его, что ему нужно вести страничку, чтобы подогревать интерес фанатов, но создание каждого поста было для него мучением. Он бы скорее согласился наполовину урезать одну из своих пьес, чем писать эти бестолковые кусочки информации со взятыми из интернета картинками или своими сессионными фотографиями, сделать которые, кстати сказать, его тоже заставила жена. Щербинин в очередной раз подумал, как было бы здорово просто заниматься литературой и стяжать славу своим художественным мастерством, а не провокационными текстами в социальных сетях. Он готов был позволить отсечь себе левую руку, но не мог вспомнить, о чем был позавчерашний пост.
– И что же я там выложил? – наконец, сдался он.
– Видео. Ты выложил видеообращение к фанатам. Помнишь?
– Не очень, Лёх. Не томи.
– Ты сделал не так уж много видео, Коля. Вспоминай.
Щербинин развел руками. Он помнил каждую написанную за это время строчку, а о чем было видеообращение, вспомнить не мог.
– Ты сделал заявление, Коля, – вполголоса сказал Рудов, – о том, что ты не гей.
Щербинин хохотнул и закрыл рот ладонью.
– Точно! Так и что? Я ведь не гей.
– Это понятно. Но ты ведь помнишь, почему ты его сделал?
– Вот это точно помню, – Николай откинулся на спинку стула. – Я просто опроверг ту ересь, которую про меня стали писать в желтом интернете.
Алексей удовлетворенно кивнул и уставился на товарища полными экспрессии глазами.
– Погоди, – сказал Щербинин. – Ты хочешь сказать, что мои книги изымают из продажи из-за того, что я отказался от гейства?!
Рудов молчал.
– Гейства, – продолжал писатель, – отношения к которому не имею, но к которому меня приписали с легкой руки каких-то упырей из сми с сомнительной репутацией?
– Именно так, друг мой, – наконец, произнес Рудов. – Именно поэтому.
– Да это бред! – взревел Щербинин. Немногочисленные посетители кофейни обернулись в их сторону. Писатель влил в себя полчашки кофе. Внутри начинала закипать злоба на вездесущие соцсети и их приспешников.
– А ты думал, почему твой роман раскупали так, что издательство задумалось о дополнительном тираже? – спросил Рудов. – Ведь, став геем, ты попал в тренд, стал модным, настоящим человеком искусства, какими их видят… э… некоторые обыватели.
– Лёша, я никогда не становился геем!
– Конечно, нет. Но так написали в сети, а значит это правда. Не запостил – не было. Помнишь? А ты всех обломал. Только в тебя поверили, как ты развалил к хренам все их надежды на то, что ты нормальный.
Щербинин зажал виски руками и помассировал.
– Пойдем отсюда, мне надо на воздух.
Солнце слепило и резало глаза. Выйдя на улицу, писатель было рванул обратно в кофейню, но наткнулся на шедшего следом Рудова, дернулся наружу, заметался, махнул рукой и направился к тени автобусной остановки.
– Ты хоть понимаешь, – выпалил он, резко развернувшись к агенту, – что ситуация бредовая до безумия?
Рудов кивнул.
– Мои книги раскупали из-за того, что обо мне написали ложь и клевету, но перестали покупать вообще, когда я сказал правду. Где здесь логика и здравый смысл, Лёша?
– Их нет, Коль. Я тебе больше скажу: приказ по изъятию книги и порицанию тебя как литератора идет из краевого минкульта.
– Порицанию? Что я сделал как литератор, чтобы меня порицать? Даже Всеволодыч говорит, что я пишу лучше, чем раньше.
– Всеволодовичу мы все доверяем как редактору, – похлопал Щербинина по плечу Рудов. – Но здесь совсем другое. Конъюнктура, тренд, взгляды общества…
– Это литература должна формировать взгляды общества! – вспылил писатель и затряс перед лицом агента указательным пальцем. – Взгляды общества не могут формировать литературу!
– Прости, конечно, Коля, но ты безнадежно отстал от реальности. Ты живешь где-то в восьмидесятых или даже семидесятых. Сейчас всё иначе. Пойми, – Рудов заглянул в глаза другу, – я на твоей стороне. И мне очень неприятна эта ситуация. Но, Коля, я ничего не могу сделать. Ты выпал из того, что называется трендом и что в наше время определяет степень успешности любого деятеля искусства.
Щербинин понимающе кивнул и, сняв шляпу, платком отер пот со лба.
– Я понимаю, Лёш, – сказал он тихо. – Всё это весьма печально. Я пойду.
Он хлопнул Рудова по плечу и вскочил в подошедший троллейбус.
Первым порывом Щербинина было поехать в министерство культуры и устроить скандал. Министр Ольга Леонидовна Василенко давно вставляла ему палки в колеса и вообще недолюбливала. Это она была против постановки его последней пьесы, триллера «Страх здесь больше не живет». Николая заставили переписать добрую треть сцен, а идеальную во всех отношениях концовку и вовсе убрали, заменив бледным диалогом в исполнении минкультовского прихвостня Трясогузова, бездарного писаки и амбициозного критика.
Вместо этого писатель направился в редакцию издательства.
В редакции творились шум и беготня. Сотрудники сновали туда-сюда, передавая друг другу бумаги, наскоро сшитые рукописи, зазывая соседей по кабинетам на чай. Появление в коридоре Николая Щербинина вызвало неожиданную для них самих реакцию. Все как-то сразу притихли и разошлись по рабочим местам. Хмурясь и сжимая в руке уже изрядно смятый пиджак, писатель направился к кабинету главреда. Молодая сотрудница выскочила в коридор, наткнулась на Щербинина, визгливо ойкнула и скрылась за своей дверью. Шум прекратился, и только было слышно, как где-то скрипит матричный принтер.
Николай постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел.
Главный редактор Федор Степанович Еремеев, тощий лысый очкарик с глубокими морщинами вокруг глаз и впалыми щеками бросил на наглого посетителя гневный взгляд, но, увидав, кто перед ним, смягчился и растекся в улыбке.
– Николай Ива-анович, – заискивающе протянул он, разводя руками в знак приветствия, – что привело столь великого писателя в мой скромный офис?
– Вы прекрасно знаете, что привело, Федор Степа-анович, – подражая его тону, сказал Щербинин. – Хорош комедию ломать Федя! Ну-ка, объясни мне, что за фигня происходит?
Еремеев судорожно сглотнул и поник.
– Я ни при чем, Коль, чесслово. Вот те крест!
– Ты неверующий, Федя, – махнул на него рукой писатель, присаживаясь на стул перед столом главреда. – Просто объясни мне, как так получилось, что ты прогнулся под минкульт?
– Так ведь им меня закрыть – раз плюнуть! – начал оправдываться Еремеев. – Василенко мне сама позвонила, лично…
– Вот! – прервал его Щербинин. – Это-то мне и интересно! Что она сказала?
– Ну… – главред стал чертить в блокноте бессмысленные знаки, – она вообще говорила, в целом…
– В целом что?! – рявкнул писатель. – Хватит мне зубы заговаривать! Говори по сути! Вот помяни моё слово, Федя, следующую рукопись отдам в «Бизнес-пресс». Они давно меня просят, хотят серию триллеров запустить, да я по старой памяти тебе всё присылаю. Из уважения, так сказать.
– Да ладно, ладно, – замахал руками Еремеев, – чего ты горячишься? Василенко позвонила, сказала, что твое творчество более не отвечает современным реалиям и трендам в литературе, что твой стиль косный и всем уже надоел, а жестокость в романах вообще не поддается никакому пониманию…
– Это будто бы я единственный, кто пишет ужастики?
– Ну, нет, конечно, Коль, не единственный. Но ты же понимаешь, в чем всё дело.
– Да, объяснили уже… – Щербинин тяжело вздохнул. – Чего она ко мне-то прицепилась? Ей что, настоящих геев мало?
Главред снял очки и протер линзы носовым платком.
– Здесь-то как раз всё понятно, Коля. Она ведь сама из «этих»…
Щербинина будто окатили ледяной водой.
– Из каких из «этих»? – осторожно спросил он.
– Ну, девочек она любит… больше, чем мальчиков. Ходит такой слушок.
Писатель вскочил и сдернул с головы шляпу. Сделал круг по кабинету. Надел шляпу. Сел на стул.
– То есть, ты хочешь сказать, что министр культуры края – лесбиянка?
Еремеев молчал, разглядывая очки.
– Вот мразь! – воскликнул Щербинин и хохотнул. – Вот в чем всё дело! Значит, она решила, что я предал их братию… или сестрию, как там у них… и за это она меня… вроде как отлучила от литературы?! Да какое она право… Это же безумие, Федя! Как ты согласился в этом участвовать?
Еремеев потупил взгляд.
– Закроет она меня, Коль, ей богу закроет. А мы ведь только-только на федеральный уровень стали выходить. Благодаря тебе, кстати, тоже.
– Так, всё, – Щербинин вскочил. – Еду в министерство разбираться со всем этим делом. Ты ни при чем, Федя, тебя заставили. Но книгу на прилавки мы вернем!
– Тебя, – сказал главред, но Николай уже хлопнул дверью, – к ней не пустят.
Писатель выбежал из кабинета, пронесся по коридору, не обращая внимания на выглядывающих из-за своих дверей сотрудников, и, с трудом борясь с поднимающейся внутри злобой, выскочил на улицу.
– Эта старая лесбиянка, заполучив меня в свои ряды, возликовала и продвинула мою книгу на всех уровнях! – кричал Николай в трубку телефона. – А мой публичный отказ от этого, с позволения сказать, «почетного» звания, она восприняла как личное оскорбление, видите ли! Понимаешь, в чем суть, Лёха? Ты понимаешь, кто руководит русской литературой и решает, каким авторам в ней быть, а каким нет? Я не удивлюсь, если её любимчик Трясогузов тоже из их числа!
Рудов что-то отвечал, но Щербинин не слушал, продолжая кричать, не глядя на оборачивающихся прохожих:
– Она решила устроить публичную казнь из разряда «кто не с нами, тот против нас»! А тут я подвернулся, такой не в тренде весь! Конечно, с мужиками не шпилюсь, чего со мной разговаривать! А читать мою писанину так и вовсе противно! – Щербинин тяжело дышал, взмокшие волосы на голове растрепались. Он шумно выдохнул и продолжил уже спокойнее. – Да, Лёша, я был в министерстве. Нет, меня к ней не пустили. Сказали, занята, потом сказали, уехала к губернатору, наврали, короче. Не знаю, что буду делать, достали меня все. Давай, пока.
Писатель убрал телефон в карман и вернулся в реальность.
Две старушки, сидевшие на скамейке у входа в сквер, настороженно смотрели на Щербинина, прижимая к себе сумочки.
– Совсем обесстыдел народ, – проскрипела одна, не отрывая взгляда от Николая.
– Страха перед богом не ведают, – подтвердила вторая.
Писатель открыл рот, чтобы что-нибудь ответить, но, передумав, махнул рукой и зашагал прочь.
На глаза Николаю попалась вывеска спорт-бара, куда он в былые времена захаживал сделать ставку на матч и пропустить стаканчик-другой виски с тремя огромными кубиками льда. Тогда он считал это привычкой, достойной настоящего писателя, этакой фишкой, делающей его особенным, несмотря на толпу мужиков, занимавшихся в баре тем же самым.
«Сейчас самое время возобновить практику», – подумал Щербинин и, не впуская в голову более никаких мыслей, нырнул в полумрак спорт-бара.
Обстановка несколько изменилась, однако в целом интерьер сохранился. Почти от самого входа вдоль правой стены тянулась барная стойка с пока ещё пустовавшими высокими стульями, затянутыми черной кожей. Гладкая, тщательно отполированная стойка отражала своей поверхностью софиты, так что казалось, будто лампы вмонтированы в неё.
Бармен, парень лет двадцати, с высоким лбом и ярко-рыжими волосами, неспешно протиравший бокалы, с безразличием взглянул на раннего посетителя.
– Виски, – попросил писатель, присаживаясь на ближайший к бармену стул. – И три больших кубика льда, пожалуйста.
Бармен прекратил протирать бокал, вгляделся в лицо Щербинина, нахмурился и потянулся за бутылкой.
Напиток приятно обжег глотку, в животе стало тепло. Николай с легким сопротивлением признался самому себе, что скучал по этим ощущениям. Он залпом проглотил остаток виски и поставил стакан перед барменом. Тот молча кивнул и плеснул новую порцию напитка. В голове Николая появился легкий шум, напряжение стало понемногу отпускать.
Входная дверь отворилась, и в бар вошли несколько мужчин. Негромко переговариваясь, они расселись в зале. Один из них подошел к стойке и стал обсуждать с барменом заказ.
Когда мужчина отошел, бармен внимательно посмотрел в лицо писателя.
– А я вас знаю, – сказал он с вызовом.
Щербинин почуял неладное.
– Вы тот писатель, – продолжал парень. – Щербаков.
– Что вы говорите, – нахмурился Николай. – Прямо-таки Щербаков?
– Ну, или как-то так, – было видно, что ошибка нисколько не смутила его. – Как же вы так-то, а?
Писатель оторопел от изумления. Внутри опять проснулся гнев.
– Как же я так-то что?
– Ну… – замялся парень, – всё вот это, про что везде пишут. Ваша фотка во всех соцсетях.
– То есть, вы не знаете, в чём дело, увидели фотографию, уловили, что где-то имеется сенсация со знаком минус, и теперь решили меня пристыдить? – Щербинин сжал стакан до боли в суставах. – Думали, я тут в реверансах перед вами раскланяюсь и извинения начну просить?
Бармен стушевался, схватил бокал, начал тереть.
– А какие мои книги вы читали, позвольте узнать? – спросил писатель.
– Я… – парень попытался найти взглядом какую-нибудь работу для себя подальше от того места, где сидел писатель, но ничего не увидел и обреченно вздохнул. – Я книги не читал ваши. Я вообще читать не люблю. Я музыку люблю.
– Так вот, молодой человек, – сквозь зубы прорычал Николай, – слушайте на здоровье музыку, а свой длинный, заточенный под соцсети и всякие инстаграмы нос в мою чистую литературу не суйте! Чтобы я вас даже рядом с книжным магазином не видел! Книги не для такого быдла, как вы! Сдачи не надо!
Он бросил на стойку смятую купюру и, опрокинув стул, бросился к двери. Взявшись за ручку, остановился и повернувшись к бармену, погрозил пальцем.
– На пушечный выстрел! – крикнул он и вытолкнул себя наружу.
Щербинин шел по улицам, не отдавая себе отчета в том, куда направляется. Рой мучительных мыслей носился в голове, больно жаля и не давая покоя. Казалось, что все прохожие враждебно смотрят на него и каждый, дай ему волю, будет останавливать писателя и обвинять его в грехах, мыслимых и не мыслимых. Вот полицейский патруль на углу, парень и девушка, оба смотрят на него, держа руки на резиновых палках. А что, если Василенко подговорила губернатора, и тот дал команду полиции выслеживать писателя и задерживать за малейшую провинность? А он выпивший.
Николай свернул в переулок, не доходя до угла, где стоял патруль.
В конце переулка стояла карета скорой помощи. Когда писатель поравнялся с ней, боковая дверца уползла в сторону, из автомобиля вышел врач в голубом медицинском костюме и грозно глянул на Щербинина. Тот шарахнулся в сторону. Может быть, и медики с минкультом заодно? Может, они хотят упрятать его в психушку, чтобы не мешал двигать нужные тренды в литературе?
Писатель ускорил шаг. Он нырял из переулка в переулок, стараясь двигаться как можно беспорядочнее, чтобы сбить с толку возможных преследователей. Через пятнадцать минут ходьбы в боку закололо, а улица вывела его к берегу реки.
Тяжело дыша, Николай Щербинин опустился на лавочку, бросив рядом шляпу и мятый пиджак.
Перед ним лежала широкая полоса набережной, одетой в фигурную тротуарную плитку, за ней шел узкий песчаный пляж, и неспешно несла свои воды река. В едва тронутой волнами глади отражалось высокое голубое небо, жидкие облачка и пролетавшие над водой чайки. Солнце клонилось к горизонту, подкрашивая западный край неба в оттенки рыжего.
Мимо пронеслись велосипедисты, трезвоня зазевавшимся пешеходам. Пробежали дети, запуская в воздух разноцветные пенопластовые самолеты. Прошли две девушки, очень нескромно обнимавшие друг друга за талии.
«И тут они, – подумал Щербинин, провожая девушек взглядом. – Но ведь я их не трогаю. Не мешаю им гулять, лапать друг друга, целоваться на людях. Мне всё равно, где и как они занимаются сексом, куда они при этом лазят и что там трогают. Я спокоен, когда они проходят мимо. Почему же они считают, что могут запретить мне писать только из-за того, что я не разделяю их взглядов? Что это: искаженное понятие о нормальности или новый виток эволюции, при котором таким, как я, не выжить?»
До самого заката он сидел на своей лавочке, дыша остывающим вечерним воздухом, и размышлял. Отныне два пути открывались перед ним: кануть в Лету как писателю или соврать всем, что он всё-таки гей, и продолжать творить. Глядя на скрывающийся за горизонтом огненно-красный солнечный диск, писатель Николай Щербинин сильно сомневался в правильности сделанного выбора.
Очень сильно.
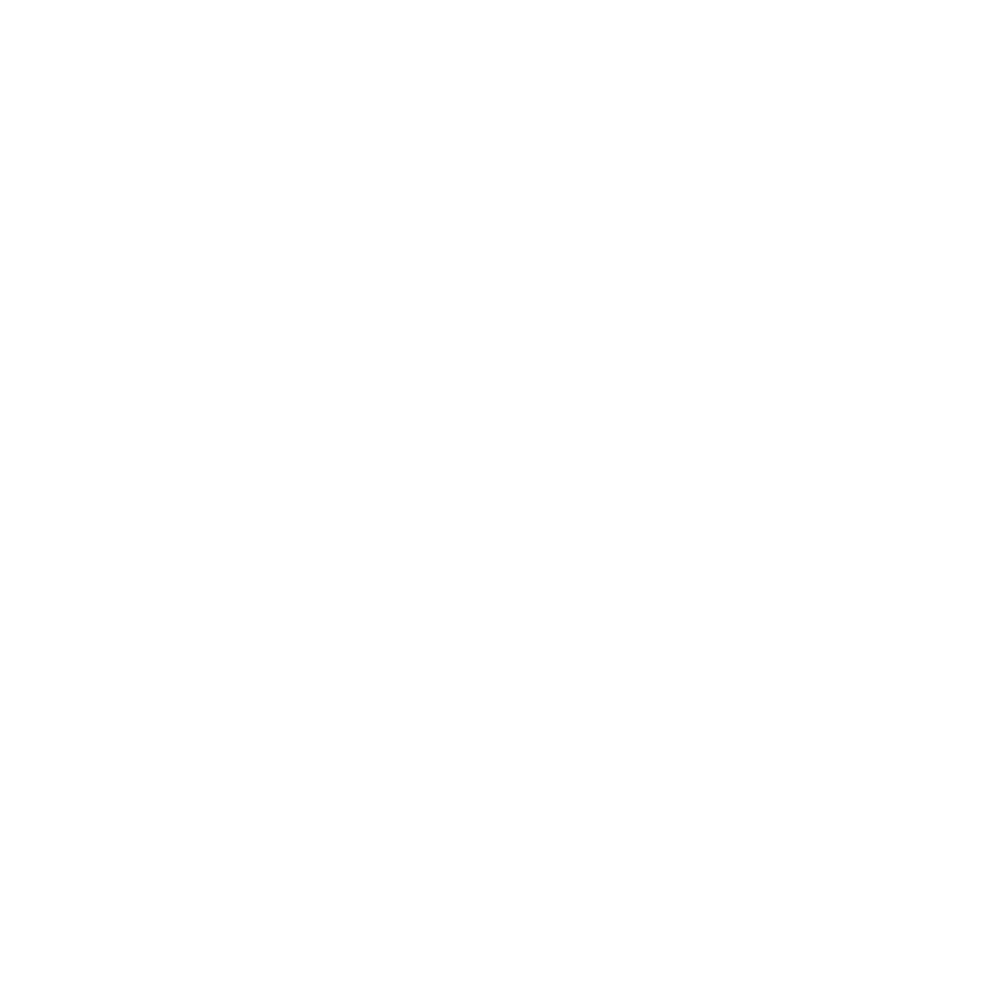
Светлана ГРИНЬКО
Родилась в Волгоградской области, в г. Ленинск. Обучалась в ДХШ г. Знаменск. С 1985-1989 гг. училась в Астраханском художественном училище им. П.А.Власова на
художественно-оформительском отделении. Защитила диплом по теме «Художественное оформление интерьера». Получив квалификацию художника-оформителя, работала в различных предприятиях и учреждениях.
В 2018-2019 гг. обучалась в Литературном институте им. А.М.Горького в Москве, на курсах литературного мастерства под руководством писателя А. Ю. Сегеня.
Страница автора на сайте издательства: https://almanah.novslovo.ru/grinko
Родилась в Волгоградской области, в г. Ленинск. Обучалась в ДХШ г. Знаменск. С 1985-1989 гг. училась в Астраханском художественном училище им. П.А.Власова на
художественно-оформительском отделении. Защитила диплом по теме «Художественное оформление интерьера». Получив квалификацию художника-оформителя, работала в различных предприятиях и учреждениях.
В 2018-2019 гг. обучалась в Литературном институте им. А.М.Горького в Москве, на курсах литературного мастерства под руководством писателя А. Ю. Сегеня.
Страница автора на сайте издательства: https://almanah.novslovo.ru/grinko
ВСТРЕЧА
Отрывок из повести «Имя дому – не забудь меня»
«Разве может человек отказаться от своей сущности. Для этого нужно вновь родиться. А это невозможно.»
Е. А Мещерская
– Слушай, ну кто мы с тобой такие, чтобы критиковать чью-то мысль? – Озадачивается пессимист.
– Как кто? Эка ты выдал. Мы читатели. Конечно, не претенденты на бичевание произведений. Но, всякую писанину-то мы можем подразобрать. – Утверждается оптмист.
– И с чего тогда начнём, и надо ли? – Сомневается пессимист.
– Давай с незаметных. – Усмехается оптимист. – С моей давней знакомой, Кати.
– Кто она такая, вообще, эта Катя? – Недоумевает пессимист. – Что за выбор?
– Она автор, так сказать, повесть пишет о Мещерских. – Информирует оптимист. – Может, читал где её рассказ про усадьбу Петровское – Алабино.
– Впервые слышу. Да и какое отношение это имеет к Бунину? Вроде, о нём же собираемся рассуждать. – Предполагает пессимист.
– Потом, сперва прочтём отрывок из её повести. – Настаивает оптимист.
– Ну, не знаю. – Теряется пессимист.
– Смотри, что она пишет, – продолжает оптимист.
Бунин Иван рос среди книг
В усадьбе своей дворянской, Орловской.
Китти Мещерская – тоже средь них,
В усадьбе Княжищево –
Той, что в Петровском...
Нет, я не сверяю детство их, нет.
Только судьбы их в чём-то похожи:
Империя, царство, вельможи.
Разруха, изгнание, свет.
Не уповаю на ямб и хорей
В моём сказанном слоге,
Лишь, слышу звучанье эпохи
Тех милых детей –
Интеллигентных, ранимых, далёких.
– Дорогая Екатерина Александровна, хочется узнать ваше мнение о творчестве писателя Бунина. Не представляю ваш ответ на мои бестактные, по тем временам, вопросы. Мне кажется, вы согласны ещё поведать что-то памятное, не затронутое в ваших воспоминаниях. Очень нравится ваша книга и чувствуется в её глубине невидимая преграда. Многое недосказано. Это, словно, приоткрыть старинный сундук с множеством дорогих украшений, ослепляющих богатым светом и не увидеть среди них самого ценного. Без чего невозможно вообразить ту жизнь, царское время – и в бунинских произведениях, и в ваших мемуарах.
– Мне нужно спросить вас о чём-то очень важном, но я не могу решить, что именно? Некая волна бесформенных отблесков разных идей, приближаясь, отдаляется от меня. Её едва заметное сияние невозможно уловить. Безвестность, пока ещё, окружает мой мир. Сейчас за окном ливень. Смывает пыль и грязь, заливая дома, деревья и всё вокруг мутной жижей.
– Екатерина Александровна, как точно вы описываете осенний дождь в Петровском. Проникновенно тревожите воображение вдумчивого читателя картиной вашей эпохи. Я почти знаю, что нужно спросить у вас. И не получается сосредоточиться на главном. Что-то мне мешает. Но, уж точно не погода. Кстати, у Бунина что там про дождик? Про «надежды золотые». Поэзия Ивана Алексеевича изумляет. Но, я о другом. Про дом.
Это надрывное: «Дом, как можно понять, глядя в закрытые ставни, стоит совершенно пустой...» Далее строки сливаются. Сквозь слёзы не прочесть уже: «Был такой русский писатель Бунин...» Ни на мгновенье не забывавший родину. Она во всём: в бунинском пении самовара, в яблоках, и в паутинке под образами... Переживания Бунина поражают искренностью и преддверием неотвратимо бесконечного пути. Вернее – дороги без направления.
– Думы о родине ничего не меняют. Когда предают забвению традиции, обнажается переломный момент, и дом начинает разрушаться. Ещё страшнее – гибнуть. Что же случилось? Зачем менять хозяина? – Скажите, Екатерина Александровна.
– Да что там! Простой человек вырос в родительском доме и покинул его. Создал семью и обрёл новую обитель. Что-то не ладится, и он меняет её на другой кров. Чего он ищет? Где же его пристанище?
– А семьи военных! Ни кола, ни двора! Они лишены семейного гнезда. Им нечего забывать. Они странники. Где их угол? И тот очаг с дорогими сердцу обычаями, со светлыми ликами стариков.
– О чём это я? У меня самой пятый дом, не считая двух – трёх казённых. Я не привязана к ним душой. Кроме первых двух, где были тепло и уют, поддержка, родные, те самые традиции поколений. Что же стряслось, почему они преданы? Их нет. Простите меня мои до́мушки. Военная стезя прочертила границу, разделив наше бытие безвозвратно.
Вдали от дома навсегда,
Во времени затерянных миров,
Мы вспоминаем иногда
О жизни на родной земле отцов:
О тех берёзках у пруда,
Что в жаркий день нас охлаждали,
О детстве, ярких впечатлениях, когда,
В лучах фантазий все мы пребывали...
– Уважаемая Екатерина Александровна, ведь, у вас так же. И у Бунина. И дом, и родина, и военная стезя. Только трагичнее. Я уже близко, очень – очень, скоро прояснится о чём спросить мне вас....
– Ну, хорошо, рассказал ты мне Катину историю. – Вздыхает пессимист. – Кстати, чего она грустит и ревёт? И о чём это всё пытается узнать у княжны?
– Какой-то тайный вопрос, нам не понять. – Задумывается оптимист.
– Пусть , а читать это кто станет? – Задаётся мыслью пессимист.
– Повесть-то? Найдутся нытики-читаки. – Устаёт оптимист. – А знаешь, я бы отказался от такого чтения.
– Вот те раз! С чего бы это? – Теряется пессимист.
– Потому как времена меняются, и новым поколениям не интересно старое. Хоть про дом, хоть про читателя. – Констатирует оптимист.
– Да ладно, вон историки твердят, в литературе материала, для их работы, непаханное поле. – Осведомляет пессимист.
– А сам-то, не пробовал сочинять, рассказ какой или стих, а может, роман? – Смеётся оптимист.
– Подумываю уже! – Фыркает пессимист.
– Вот избавляйся от клише – и тогда за перо. – Шутит оптимист.
– Да как же я стану другим? Если я таким родился. – Возмущается пессимист.
– Просто! Начни писать книгу и жизнь изменится. – Не останавливается оптимист.
– Ой, и правда, клише полно у нас в разговоре. – Спохватывается пессимист.
– Нормально. – Не сдаётся оптимист. – Мы же персонажи, нам можно. Это автору нельзя.
– Послушай, никак не спрошу, а где мы с тобой находимся? – Ошарашивает пессимист. – У тебя в кабинете?
– Нееееет.– Тянет с ответом оптимист.
– Ну чё, у меня что ли, – Колеблется пессимист.
– Да на улице мы. – Успокаивает оптимист.
– На ууууулице? А чё я, тогда, ничего не вижу? – Вскрикивает пессимист.
– Вот ты выдал! – Юморит оптимист. – Картонные мы, ведь.
– Кто сказал? Аааааа! – Прозревает пессимист. – Кажется догадываюсь, чего эта Катька ревёт так часто.
– А меня сейчас осенило. – Размышляет оптимист. – Про Катю мы читаем. А про нас кто пишет?..
Отрывок из повести «Имя дому – не забудь меня»
«Разве может человек отказаться от своей сущности. Для этого нужно вновь родиться. А это невозможно.»
Е. А Мещерская
– Слушай, ну кто мы с тобой такие, чтобы критиковать чью-то мысль? – Озадачивается пессимист.
– Как кто? Эка ты выдал. Мы читатели. Конечно, не претенденты на бичевание произведений. Но, всякую писанину-то мы можем подразобрать. – Утверждается оптмист.
– И с чего тогда начнём, и надо ли? – Сомневается пессимист.
– Давай с незаметных. – Усмехается оптимист. – С моей давней знакомой, Кати.
– Кто она такая, вообще, эта Катя? – Недоумевает пессимист. – Что за выбор?
– Она автор, так сказать, повесть пишет о Мещерских. – Информирует оптимист. – Может, читал где её рассказ про усадьбу Петровское – Алабино.
– Впервые слышу. Да и какое отношение это имеет к Бунину? Вроде, о нём же собираемся рассуждать. – Предполагает пессимист.
– Потом, сперва прочтём отрывок из её повести. – Настаивает оптимист.
– Ну, не знаю. – Теряется пессимист.
– Смотри, что она пишет, – продолжает оптимист.
Бунин Иван рос среди книг
В усадьбе своей дворянской, Орловской.
Китти Мещерская – тоже средь них,
В усадьбе Княжищево –
Той, что в Петровском...
Нет, я не сверяю детство их, нет.
Только судьбы их в чём-то похожи:
Империя, царство, вельможи.
Разруха, изгнание, свет.
Не уповаю на ямб и хорей
В моём сказанном слоге,
Лишь, слышу звучанье эпохи
Тех милых детей –
Интеллигентных, ранимых, далёких.
– Дорогая Екатерина Александровна, хочется узнать ваше мнение о творчестве писателя Бунина. Не представляю ваш ответ на мои бестактные, по тем временам, вопросы. Мне кажется, вы согласны ещё поведать что-то памятное, не затронутое в ваших воспоминаниях. Очень нравится ваша книга и чувствуется в её глубине невидимая преграда. Многое недосказано. Это, словно, приоткрыть старинный сундук с множеством дорогих украшений, ослепляющих богатым светом и не увидеть среди них самого ценного. Без чего невозможно вообразить ту жизнь, царское время – и в бунинских произведениях, и в ваших мемуарах.
– Мне нужно спросить вас о чём-то очень важном, но я не могу решить, что именно? Некая волна бесформенных отблесков разных идей, приближаясь, отдаляется от меня. Её едва заметное сияние невозможно уловить. Безвестность, пока ещё, окружает мой мир. Сейчас за окном ливень. Смывает пыль и грязь, заливая дома, деревья и всё вокруг мутной жижей.
– Екатерина Александровна, как точно вы описываете осенний дождь в Петровском. Проникновенно тревожите воображение вдумчивого читателя картиной вашей эпохи. Я почти знаю, что нужно спросить у вас. И не получается сосредоточиться на главном. Что-то мне мешает. Но, уж точно не погода. Кстати, у Бунина что там про дождик? Про «надежды золотые». Поэзия Ивана Алексеевича изумляет. Но, я о другом. Про дом.
Это надрывное: «Дом, как можно понять, глядя в закрытые ставни, стоит совершенно пустой...» Далее строки сливаются. Сквозь слёзы не прочесть уже: «Был такой русский писатель Бунин...» Ни на мгновенье не забывавший родину. Она во всём: в бунинском пении самовара, в яблоках, и в паутинке под образами... Переживания Бунина поражают искренностью и преддверием неотвратимо бесконечного пути. Вернее – дороги без направления.
– Думы о родине ничего не меняют. Когда предают забвению традиции, обнажается переломный момент, и дом начинает разрушаться. Ещё страшнее – гибнуть. Что же случилось? Зачем менять хозяина? – Скажите, Екатерина Александровна.
– Да что там! Простой человек вырос в родительском доме и покинул его. Создал семью и обрёл новую обитель. Что-то не ладится, и он меняет её на другой кров. Чего он ищет? Где же его пристанище?
– А семьи военных! Ни кола, ни двора! Они лишены семейного гнезда. Им нечего забывать. Они странники. Где их угол? И тот очаг с дорогими сердцу обычаями, со светлыми ликами стариков.
– О чём это я? У меня самой пятый дом, не считая двух – трёх казённых. Я не привязана к ним душой. Кроме первых двух, где были тепло и уют, поддержка, родные, те самые традиции поколений. Что же стряслось, почему они преданы? Их нет. Простите меня мои до́мушки. Военная стезя прочертила границу, разделив наше бытие безвозвратно.
Вдали от дома навсегда,
Во времени затерянных миров,
Мы вспоминаем иногда
О жизни на родной земле отцов:
О тех берёзках у пруда,
Что в жаркий день нас охлаждали,
О детстве, ярких впечатлениях, когда,
В лучах фантазий все мы пребывали...
– Уважаемая Екатерина Александровна, ведь, у вас так же. И у Бунина. И дом, и родина, и военная стезя. Только трагичнее. Я уже близко, очень – очень, скоро прояснится о чём спросить мне вас....
– Ну, хорошо, рассказал ты мне Катину историю. – Вздыхает пессимист. – Кстати, чего она грустит и ревёт? И о чём это всё пытается узнать у княжны?
– Какой-то тайный вопрос, нам не понять. – Задумывается оптимист.
– Пусть , а читать это кто станет? – Задаётся мыслью пессимист.
– Повесть-то? Найдутся нытики-читаки. – Устаёт оптимист. – А знаешь, я бы отказался от такого чтения.
– Вот те раз! С чего бы это? – Теряется пессимист.
– Потому как времена меняются, и новым поколениям не интересно старое. Хоть про дом, хоть про читателя. – Констатирует оптимист.
– Да ладно, вон историки твердят, в литературе материала, для их работы, непаханное поле. – Осведомляет пессимист.
– А сам-то, не пробовал сочинять, рассказ какой или стих, а может, роман? – Смеётся оптимист.
– Подумываю уже! – Фыркает пессимист.
– Вот избавляйся от клише – и тогда за перо. – Шутит оптимист.
– Да как же я стану другим? Если я таким родился. – Возмущается пессимист.
– Просто! Начни писать книгу и жизнь изменится. – Не останавливается оптимист.
– Ой, и правда, клише полно у нас в разговоре. – Спохватывается пессимист.
– Нормально. – Не сдаётся оптимист. – Мы же персонажи, нам можно. Это автору нельзя.
– Послушай, никак не спрошу, а где мы с тобой находимся? – Ошарашивает пессимист. – У тебя в кабинете?
– Нееееет.– Тянет с ответом оптимист.
– Ну чё, у меня что ли, – Колеблется пессимист.
– Да на улице мы. – Успокаивает оптимист.
– На ууууулице? А чё я, тогда, ничего не вижу? – Вскрикивает пессимист.
– Вот ты выдал! – Юморит оптимист. – Картонные мы, ведь.
– Кто сказал? Аааааа! – Прозревает пессимист. – Кажется догадываюсь, чего эта Катька ревёт так часто.
– А меня сейчас осенило. – Размышляет оптимист. – Про Катю мы читаем. А про нас кто пишет?..

Анна ДЕМИДОВА
Родилась и живет в Москве. Экономист-математик по образованию, в 1993 году с отличием закончила факультет Экономической кибернетики в Российской экономической академии имени Плеханова, несколько лет работала инженером-программистом. Затем судьба привела в журналистику – начала публиковаться в различных центральных СМИ – газетах и журналах. В 2010 году поступила на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, на семинар детской литературы, которым руководил А.П.Торопцев. Именно тогда начала писать художественную прозу – рассказы, адресованные подростково-юношеской и взрослой аудитории.
Родилась и живет в Москве. Экономист-математик по образованию, в 1993 году с отличием закончила факультет Экономической кибернетики в Российской экономической академии имени Плеханова, несколько лет работала инженером-программистом. Затем судьба привела в журналистику – начала публиковаться в различных центральных СМИ – газетах и журналах. В 2010 году поступила на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, на семинар детской литературы, которым руководил А.П.Торопцев. Именно тогда начала писать художественную прозу – рассказы, адресованные подростково-юношеской и взрослой аудитории.
КОГДА ИДУТ В КАДЕТЫ
«Сочинение на тему: «Кем я хочу стать?» ученика 4 «б» класса Мишки Кантина. Я много лет не знал, кем хочу стать. Мой дед был пионером и собирал марки. На его марках написаны буквы – СССР. Дед сказал, что теперь такой страны нет, но она стояла на нашем месте. Мне больше всего нравятся марки с бабочками. Поэтому я думал, что хочу быть энтомологом. Я почти стал энтомологом. Но в пятый класс я пойду в кадеты».
В день, когда я это решил, ты вкатился в дом, проскользив мокрыми ботинками по новенькому линолеуму, и выпалил с порога:
– Река белая!
Я отлупился от конфетной коробки с распростертыми в ней бабочками и уставился на тебя.
– Знаю, что они улетные, но река белая! – отметелил ты возможные возражения. – Погнали! Жду на крыльце.
Как всегда, ты был прав. Наша река стопорилась редко, и это событие пропускать нельзя. Я задвинул коробку на полку, недосягаемую со стула, и принялся одеваться. Через минуту входная дверь хлопнула, ты снова нарисовался в прихожей:
– Да сколько же копаться можно, мишка в берлоге? Так мы реку не увидим!
– Сейчас, Гора, Наташку одену. Эту стрекозу на булавку не пришьешь, надо с собой…
Ты закашлялся – хронический бронхит нередко запирал тебя дома.
– Может, не… не стоит, Гор, а? – заикнулся я, заранее предвидя вспышку твоей злости:
– Ты еще шарфик мне повяжи! Пакуй девчонку и айда!
Я, наконец, застегнул на неуловимой четырехлетней Наташке красный, далеко видимый, пуховик, завязал шапку с огромным красно-белым помпоном, и мы втроем вывалились на улицу. Едва отошли, как я, наступив на распоясанный шнурок, растянулся.
– Ну, точно медведь косопалый! Когда ж научишься?! – ты присел и моментально завязал мне шнурок своим фирменным узлом. Твои ботинки сами собой не развязывались никогда.
– Гора, а давай не пойдем на реку? Давай завтра, без Наташки, а?
Мелочь захныкала:
– Хочу на реку!
– Завтра река может уйти, – ты почему-то всегда потакал ей. – Мы только посмотрим. Не дрейфуй, Мишка Заячьи Уши!
Так ты назвал меня в новогоднюю ночь, когда вокруг взрывались петарды. Ты был снайперски спокоен, а я каждый раз вздрагивал.
– Заячьи Уши!..
– Ну, Гора, я ж не виноват, что у меня тело само…
Ты нередко подначивал меня, но я не обижался. Может быть, я чувствовал, что это не ты. Настоящим ты был, когда, щуплый и насупившийся, молча возник между мной и Васькой Абрасовым, дылдой двумя классами старше. Он все норовил отобрать у меня альбом с дедовскими марками. Или когда кропотливо объяснял упорхнувшую от моего разумения задачку – ты с первого класса учился только на пятерки. Теперь я думаю, что так, задирая и понукая, ты неосознанно тянул меня за собой.
Зима не белая и пушистая, как на картинках. У нас она пожелтевшая и скукожившаяся, как намокшая персидская кошка. Но все равно это – пусть короткая, сопливая, скользкая, но зима. Снег покрывал почти всю землю, из снега вырастали стебли и венчики прошлогодних трав, дома и редкие деревья. Река стояла, а над ней стояло белесое облако, почти без остатка съевшее противоположный берег. Мы шли по рыжей стоптанной дорожке молча, гуськом – Наташка, за ней я, ты сзади. Попрыгунья в красной куртке убежала вперед, потом слезла с тропинки в снег и стала делать следы: шагнет, обернется, шагнет, обернется. Потом и вовсе пятками вперед пошла.
– Слышь, Мишка, – позвал ты, – что скажу? Ты первый, кому говорю. Обещаешь никому не разболтаться?
– Да, Гора, клянусь! – я обернулся к тебе и вскинул руку наискось перед лицом – так научил меня дед, и это было нашим тайным знаком.
– Верю. Скоро от вас уеду, в кадеты. В Ставропольское президентское училище… Точно не скажешь?
– Не скажу, Гора! – мы остановились, а я все пытался дойти до услышанного. – Но почему? Ты ничего не боишься, я знаю. Но когда Наташка включает стрелялку, ты вырубаешь ей комп. И в террористов с нами не играешь...
– Я так должен!
– А… а как же мы гулять станем? – я совсем растерялся.
– На каникулы приезжать буду. – Ты положил руку мне на плечо. – Только, Мишка, вот что, заходи иногда к моим. Лады?
– Хорошо, Гора, я буду заходить, а как?.. – я хотел еще о чем-то спросить, наверное, столь же глупом, но ты оттолкнул меня...
Первого сентября мальчика впервые повели в детский садик. Дверь, однако, оказалась на замке, а на ней шелестела пришпиленная кнопкой записка, из которой выходило, что по техническим причинам детей не принимают.
– Мама, Лана, мама, Лана, полетели в школу! Там шарики! – запричитал мальчуган, прыгая на одной ножке и вздымая буравчики пыли. Семья лишь недавно переехала в тот город, и все вокруг было внове.
– Хорошо, хорошо, пошли! – Алана Гедоевна вскинула на руки пухленькую Светланку. Крохе не было еще двух лет, старший братишка называл ее, как и маму, Ланой, и часто гладил по мягким, как пух, волосам.
Школа находилась неподалеку, оттуда лилась радостная музыка, а на большом асфальтированном дворе толпились дети всех возрастов – совсем маленькие сидели на руках взрослых. Горик затянул маму с сестренкой в самую гущу, стараясь пробуравиться вперед, туда, где выстроились девочки и мальчики в белых рубашечках с цветами и шариками.
– Один. Два. Три. Пять. Четыре, – начал считать, сбился и перешел на цвета: – Синий. Зеленый. Красный. Еще красный. И еще красный…
За спинами что-то громко хлопнуло – раз, другой.
– Мама, это салют?! Вот здор-р-рово! – он задрал голову, но над плоскими макушками спиленных тополей ничего не увидел.
И тут школьная линейка сломалась, люди заволновались, куда-то потекли.
– Мама, мы в школу идем? Вот еще здорово! – мальчишка вертелся, пытаясь высвободиться из материнской ладони. – А что мы делать будем? Учиться?! Я буду учителем!
– Не знаю, родной. Только не потеряйся! Видишь, сколько людей.
Всполошенная, гудящая толпа вливалась в длинное пустое помещение. Окна были полосатыми от продольных решеток. Люди шумно растекались по стенам и опускались на голый полосатый от окон пол. Горик с мамой оказался зажатым в самом углу, из-за спин и голов ничего не видел и все порывался вскочить. В центре зала опять громыхнуло, кто-то закричал, и стало почти тихо.
– Меня зовут Али! – прозвучал железный голос.
Почувствовав, что мама ослабила захват, мальчик подпрыгнул и, прежде чем его снова повалили на пол, успел увидеть обросшее черными волосами и бородой лицо, зеленую куртку с закатанными по локоть рукавами и автомат. То, что это автомат, Горик уже знал – отец был военным.
– Мама, а зачем Али два автом… – он попытался укусить ладонь, зажавшую ему рот.
– Каждый, кто не будет слушаться, будет наказан! – проскрежетал Али и с лязгом передернул затвор... Ты оказался не прав – второй у него была винтовка.
Алана Гедоевна вздрогнула, прижимая детей к себе. Через минуту сын уже улыбался, потому что бородатый дядька предлагал поиграть:
– Дети, подняли руки к голове и показали мне заячьи ушки. Все! Чтобы я видел.
Сидевшие на полу дети и взрослые, задевая друг друга локтями, поднимали руки, сводили кулаки за затылком и выставляли вверх указательные пальцы. Пальцы шевелились, и… Горик смеялся.
Он вертелся и не хотел спать, сколько ни уговаривала мать. Зачем? Ведь еще светло! Но вскоре воздух стал тяжелым, голова тоже отяжелела, и глаза закрылись. Иногда мальчик просыпался и просил пить, но воды не давали. Сестренка уже не плакала, а тихо скулила и смотрела темными, без зрачков, глазами.
На второй день к ним подошли двое – черный Али и полуседой человек, почти так же одетый, но без оружия и с печальным взглядом. «Ау-ау-шефф», потом повторял мальчик имя человека.
– Сколько лет вашему мальчику? – спросил он.
– Мне четыре с половиной годика и зовут меня Георгий! – встрял малыш, четко отчеканивая каждое слово.
– Нет. Большой уже! –Али развернулся и двинулся прочь, на ходу добавив: – Женщина с ребенком может убираться, а он останется.
Алана Гедоевна охнула.
– Я большой уже, мама! Ты мне купишь автомат?
– Зачем?
– Я буду вас с Ланой охранять!
Горик смотрел, как с пола поднялись несколько женщин с маленькими – еще меньше сестренки – детьми и потянулись к выходу. Одного малыша уносил на руках печальный Аушев.
– Хочу домой! – заныл он.– Почему нас не пускают?!
– Они хотят, чтобы выполнили их требования.
– Они хочут подарков?
– Хотят, – машинально поправила мама. – Нет, родной. Давай, лучше, поспи, а потом мы обязательно пойдем домой.
Но мальчик стал тщательно проверять, хорошо ли застегнуты сандалики.
– Что ты делаешь, сынок?
– Если я их потеряю, как я обратно пойду?! – с той минуты Горик проверял обувь постоянно.
Но один сандалик ты все-таки потерял, когда уже на третий день – после взрыва, когда мать, закрывая тебе глаза, переносила через неподвижно лежащие человеческие тела, после беспорядочного бега под прикладами автоматов и новых взрывов, после дыма, надышавшись которого ты заболел, – через разбитое окно тебя передавали пятнистым людям. Вместо лиц под большими круглыми шлемами у них были только глаза.
– А где Лана, мама? Где Лана? Мы потеряли ее? – закричал мальчик, когда чужие руки несли его через разгромленный двор.
Мама, вытирая слезы, тихо сказала:
– Она ушла, сынок.
– Куда? Домой? Я тоже хочу с ней!
– Нет. Она ушла на небо, и теперь смотрит на нас оттуда. Будь хорошим, Горик, не плачь.
– Я буду хорошим, мама. Только ты тоже не плакай!
…Когда ты оттолкнул меня и бросился вперед, я от неожиданности осел в мокрый снег, а посмотрев в твою сторону, и вовсе впал в ступор. На белой реке рвалась черная дыра, а в ней махала крыльями красная бабочка. Это была Наташка. Она молча колошматила руками, а ты мчался к ней непомерными для твоего роста скачками и влетел в воду в тот момент, когда на поверхности оставался один сжавшийся в красную точку помпон. Схватив Наташку за воротник, ты приподнял ей голову и попытался вытолкнуть из воды. Но лед ломался, дыра разрасталась, а я все не мог двинуться.
– Мишка, помогай! – хрипло заорал ты и закашлялся.
Я взвыл, вскочил, наконец, на ноги и, продолжая вопить, рванулся к вам.
– Падай!
Не понимая, зачем надо падать, я распластался на снегу и пополз. Добравшись до полыньи, ухватился за Наташкины рукава – она уже не брыкалась.
– Держи, Мишка, держи! Не отпускай! – ты выговаривал слова с трудом, отплевываясь и кашляя. – Ботинки тяжелые…
– Ты хорошо их вяжешь, Гора.
– Да…ты не Заячьи Уши, годишься в кадеты… холодно… Лана, живи!
Последние слова ты произнес настолько тихо, что я еле расслышал. Я снова взвыл и вывернул голову назад. К нам уже кто-то бежал…
Тогда мне все было ясно, но уже став кадетом, я долго не мог понять, почему ты поступил так, как не смог бы поступить я, и даже не всякий взрослый. И лишь вчера, когда я – как всегда в этот день – был у твоей матери, Алана Гедоевна в нескончаемом черном платье, рассказала мне то, что случилось еще до вашего переезда в наш поселок и о чем ты никогда не говорил, но, как я теперь точно знаю, помнил всегда. Я что-то стал понимать. А черновик сочинения, без единого вычеркнутого слова, я храню уже шесть лет. В двух местах чернила расплылись. Наверное, я плакал.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ЛЮБВИ
Я глохла от взрыва. У меня спортивный разряд, я в легкую преодолеваю пешую «четверку», но я не успевала. Сорвалась, оставив в руках Дениса роскошные белые розы. Отсыревшая штукатурка крупными ошметками валилась с потолка. Запах гари заволакивал тесный подвал. Где-то в облаках дыма и пара должен быть он, Димка.
Я знала его года три – с тех пор, как сдала экзамен на инструктора по детскому туризму. И всегда в группе был он, хорошо экипированный, но неприкаянный и молчаливый. Долгими вечерами у костра я пыталась его разговорить. Огонь у Димки по своей воле не затухал никогда, он мог разжечь костер из камней, замешанных на воде. Чем он там колдовал, не знаю, но Серега, его одноклассник, рассказал мне, что Димон частенько задерживался после уроков в химической лаборатории, смешивая реактивы и вызывая джинов из пробирки.
– Дим, чем дома занимаешься? – пыталась дознаться я, присаживаясь рядом с ним на липкий от ароматной смолы сосновый чурбак.
– Ничем!
– Так не бывает. Можно читать. Можно в блогах «албанский» шлифовать. Можно телеэфир прочесывать со скоростью реактивного самолета. А ты что делаешь?
– Ничего! – Димка подбрасывает в костер колючую ветку, и небо освещает сноп пляшущих искр.
– А родители что делают?
– Ничего! – мой собеседник молчит, потом ломким голосом добавляет: – Он приходит, как захочет поздно, а она днем дома сидит, а вечерами по театрам ходит, рецензии вроде как пишет.
– Они что, ругаются? – я наливаю в кружку остывший чай, достаю из гермомешка пару ржаных сухарей, протягиваю Димке. Он сначала крутит головой, потом нехотя берет и начинает сосредоточенно грызть.
– Да нет, – наконец, отвечает он.– Но нас не трое, а три. Три по одному, – и вдруг срывается: – А я что?! Дарят мне всякие штучки. Вот, зажигалкой «зипповской» осчастливили, костер разжигать. А не оно мне надо, все это!.. Надо, чтобы родители друг друга любили!.. Все! Спокойной ночи!
Димка затушил костер и нырнул в свою палатку.
Потом я узнала, что его родители развелись, и Димка переехал к отцу. А в нашей группе вскоре появилась Саша. Ничего особенного в девчушке не было: неуклюжая курносая толстушка с негустым хвостиком на затылке, но смешливая и ласковая. Увидит ужика, взвизгнет, потом смеется. Брызнешь на нее водой, снова заливается. Но когда она готовила «сашинские» оладьи с сыроежками, вся наша немаленькая группа скучивалась вокруг костра, и, затаив дыхание, ждала первых жгучих лепешек, удивительно быстро исчезавших непонятно куда.
На эти ли оладьи купился Димка, или на Сашино «Доброе утро!», в любую погоду сопровождаемое солнечным теплом, но он как-то отогрелся и отмяк. Костер в его руках трещал веселее, Димка уже не скупился на березовые поленья и не заливал огонь, разгоняя всех по палаткам. Он всегда вызывался готовить вместе с Сашей, не давая ей таскать каны с водой и драить песком подгоревшую сковородку. Я ни разу не видела, чтобы он обнял ее, как это делали старшие подростки в нашей компании, но когда кто-то попытался навязать Саше свое руку, молча возникал рядом и уже не отходил.
Они общались и между походами – об этом мне рассказывала Саша. Гуляли вечерами напролет, обошли пешком пол-Москвы, Саша наставляла его в лабиринтах истории и литературы, а Димка объяснял спутнице тонкости химических реакций…
Я сорвалась по Сашину звонку. Звенящим голосом девушка прокричала:
– Светлана Анатольевна! Света!.. Он сказал, что меня любит, но не верит себе. Сказал, что лучше в огонь…
– Димка? Почему? Где он?
– Не знаю… Светочка, помогите!
Сразу вспомнилось, как запросто обращался Димка с огнем, как молчал и как твердо следовал принятым решениям. Сунув розы на крепких длинных стеблях обратно в руки Дениса и отрешившись от его обескураженного взгляда, я дрожащими пальцами набрала номер Сереги.
– Слушай, друг хороший! Быстро говори, где у Димки склад боеприпасов?
– Чего? Каких боеприпасов?
– Ну, этих… химических ваших реактивов? Где он опыты свои может устраивать? Знаешь?
– А зачем вам?
– Говори, а то поздно будет. Не пойдете больше в поход с Димоном своим. Давай, колись!
Наверное, я орала как ненормальная, потому что обычно ершистый Серега неожиданно легко сдался и назвал адрес.
– Это в подвале, в доме рядом с гаражами, где мы свое снаряжение храним. Старый такой дом, кирпичный, дверь в подвал зеленым выкрашена…
Где они складировали свое походное имущество, я знала – не раз приходилось забирать и привозить обратно. Не далеко! Буквально в двух остановках. Я судорожно огляделась. Субботним утром улица была пуста. Я глубоко вдохнула, поздравила себя, что не одела обувь на каблуках, отмахнулась от Дениса и побежала, как всегда бегала кроссы…
Я заранее оглохла от взрыва, но его не было. Не слышно было и запаха гари. Зеленая обшарпанная дверь оказалась незапертой. Я рванула ее, едва не потеряв равновесие, и ввалилась в подвал. Сочившийся из зарешеченного оконца свет едва освещал обмотанные взлохмаченным поролоном трубы и допотопные вентили. Свисавшие с низкого потолка гроздья паутины, пыли и штукатурки мешали быстро сориентироваться, но светящаяся точка в дальнем углу привлекла внимание. Димка сидел, держа зажигалку над наполненной чем-то банкой. Он вздрогнул, повернул голову в мою сторону и снова застыл над крохотным огоньком.
Остановившись у двери, я пыталась успокоить сбившееся дыхание и судорожно соображала, что сказать.
– Слушай, Дим! Ты знаешь, я тебя никогда не обманывала. Честное слово, не стану тебе мешать, уйду. Только ты послушай, пожалуйста. И погаси на минуту свою свечку. Я боюсь огня.
Он несколько бесконечных мгновений смотрел на меня. Огонек погас, и я почти потеряла парня из виду.
– Ты думаешь, нас куда-нибудь выпустят после этого? Сочтут ведь: это у нас в коллективе такой климат нездоровый, что подростки от него в бутылку лезут. А то еще и на меня всех собак навешают. Этого хочешь? – я, конечно, здорово преувеличивала, но это было первое, что пришло в голову.
Молчание. Потом из пахнущей плесенью темноты донеслось глухое:
– Нет.
Я ринулась дальше:
– Ты помнишь, что у нашей Саши через неделю день рождения? Решил ей такой вот подарок сделать?
– Нет, – уже с меньшим интервалом последовал ответ.
– Вы с ней поссорились, что ли?
Такое представить было трудно, но чего меж влюбленными не бывает? По себе знаю.
– Да нет, она хорошая. Это я…
– Что ты?
Молчание. Этого я боялась больше всего, а потому сунулась в самое горячее, как мне думалось, место:
– С родителями что-то не так? – тема была старой, поэтому я уверенно скомандовала: – Выкладывай!
Все оказалось до банальности просто и гадко.
Накануне Димка с Сашей поехали на Воробьевы горы, оттуда, взявшись за руки и болтая невесть о чем, пошли пешком к небоскребам Сити. Пока топали по железнодорожным путям, пока ехали до своего спального района, пока добирались до Сашиного дома – время летело незаметно, и Димка вернулся непривычно поздно. Открыв дверь квартиры, он услышал в гостиной голоса. Оттуда вышел отец в шелковом халате и с бокалом в руке.
– А, Дмитрий! – он был в хорошем настроении. – У меня гости. Присоединишься?
Димка заглянул в комнату. На столе – фрукты, шоколад, несколько бутылок, фужеры с розовыми следами. На диване сидели две полураздетые молодые женщины. Отец протиснулся между ними, сел и закинул ногу на ногу. На колено сразу легла женская рука. Димка развернулся и ушел на кухню – надо было что-нибудь поесть.
Что у отца бывают женщины, Димка знал, но еще никогда это не было явлено ему столь неприкрыто. Разбив на сковородку два яйца, он потянулся за тарелкой. Когда обернулся, на пороге кухни стоял отец, обнимая за талию одну из своих гостий.
– Ты у меня уже большой, Дмитрий паспорт скоро получишь! Вот, возьми, – отец подтолкнул к нему накрашенную девицу. – Уступаю!
Он рассмеялся и скрылся в гостиной.
Димка оторопело застыл с тарелкой в руках. Девица мягко подошла и провела ладонью по его щеке, потом рука с лакированными ногтями скользнула ниже. Димку передернуло. Он не глядя сунул тарелку в чужую грудь, оттолкнул и вылетел из квартиры…
– И ты решил, что ты такой же?! – больше сказать мне было нечего.
Пока Димка говорил, я подошла и села рядом на занозистый фанерный ящик, положила руку на чуть дрожащие тонкие пальцы, потихоньку вытянула из них зажигалку, обняла за плечи. Сколько мы так просидели, не знаю. Так и вышли с ним из подвала – обнявшись, потрепанные и запыленные. Щуплое октябрьское солнце пробивалось сквозь тучи. Люди удивленно смотрели на нас. Наверное, меня принимали за совратительницу малолеток. Но это было не важно. Важно, что на углу нас ждала Саша.
Оставив их вдвоем, я повернула назад и почти сразу наткнулась на свои обалденные белые розы. Денис был моим четвертым парнем. Я решила, что пора остановиться.
«Сочинение на тему: «Кем я хочу стать?» ученика 4 «б» класса Мишки Кантина. Я много лет не знал, кем хочу стать. Мой дед был пионером и собирал марки. На его марках написаны буквы – СССР. Дед сказал, что теперь такой страны нет, но она стояла на нашем месте. Мне больше всего нравятся марки с бабочками. Поэтому я думал, что хочу быть энтомологом. Я почти стал энтомологом. Но в пятый класс я пойду в кадеты».
В день, когда я это решил, ты вкатился в дом, проскользив мокрыми ботинками по новенькому линолеуму, и выпалил с порога:
– Река белая!
Я отлупился от конфетной коробки с распростертыми в ней бабочками и уставился на тебя.
– Знаю, что они улетные, но река белая! – отметелил ты возможные возражения. – Погнали! Жду на крыльце.
Как всегда, ты был прав. Наша река стопорилась редко, и это событие пропускать нельзя. Я задвинул коробку на полку, недосягаемую со стула, и принялся одеваться. Через минуту входная дверь хлопнула, ты снова нарисовался в прихожей:
– Да сколько же копаться можно, мишка в берлоге? Так мы реку не увидим!
– Сейчас, Гора, Наташку одену. Эту стрекозу на булавку не пришьешь, надо с собой…
Ты закашлялся – хронический бронхит нередко запирал тебя дома.
– Может, не… не стоит, Гор, а? – заикнулся я, заранее предвидя вспышку твоей злости:
– Ты еще шарфик мне повяжи! Пакуй девчонку и айда!
Я, наконец, застегнул на неуловимой четырехлетней Наташке красный, далеко видимый, пуховик, завязал шапку с огромным красно-белым помпоном, и мы втроем вывалились на улицу. Едва отошли, как я, наступив на распоясанный шнурок, растянулся.
– Ну, точно медведь косопалый! Когда ж научишься?! – ты присел и моментально завязал мне шнурок своим фирменным узлом. Твои ботинки сами собой не развязывались никогда.
– Гора, а давай не пойдем на реку? Давай завтра, без Наташки, а?
Мелочь захныкала:
– Хочу на реку!
– Завтра река может уйти, – ты почему-то всегда потакал ей. – Мы только посмотрим. Не дрейфуй, Мишка Заячьи Уши!
Так ты назвал меня в новогоднюю ночь, когда вокруг взрывались петарды. Ты был снайперски спокоен, а я каждый раз вздрагивал.
– Заячьи Уши!..
– Ну, Гора, я ж не виноват, что у меня тело само…
Ты нередко подначивал меня, но я не обижался. Может быть, я чувствовал, что это не ты. Настоящим ты был, когда, щуплый и насупившийся, молча возник между мной и Васькой Абрасовым, дылдой двумя классами старше. Он все норовил отобрать у меня альбом с дедовскими марками. Или когда кропотливо объяснял упорхнувшую от моего разумения задачку – ты с первого класса учился только на пятерки. Теперь я думаю, что так, задирая и понукая, ты неосознанно тянул меня за собой.
Зима не белая и пушистая, как на картинках. У нас она пожелтевшая и скукожившаяся, как намокшая персидская кошка. Но все равно это – пусть короткая, сопливая, скользкая, но зима. Снег покрывал почти всю землю, из снега вырастали стебли и венчики прошлогодних трав, дома и редкие деревья. Река стояла, а над ней стояло белесое облако, почти без остатка съевшее противоположный берег. Мы шли по рыжей стоптанной дорожке молча, гуськом – Наташка, за ней я, ты сзади. Попрыгунья в красной куртке убежала вперед, потом слезла с тропинки в снег и стала делать следы: шагнет, обернется, шагнет, обернется. Потом и вовсе пятками вперед пошла.
– Слышь, Мишка, – позвал ты, – что скажу? Ты первый, кому говорю. Обещаешь никому не разболтаться?
– Да, Гора, клянусь! – я обернулся к тебе и вскинул руку наискось перед лицом – так научил меня дед, и это было нашим тайным знаком.
– Верю. Скоро от вас уеду, в кадеты. В Ставропольское президентское училище… Точно не скажешь?
– Не скажу, Гора! – мы остановились, а я все пытался дойти до услышанного. – Но почему? Ты ничего не боишься, я знаю. Но когда Наташка включает стрелялку, ты вырубаешь ей комп. И в террористов с нами не играешь...
– Я так должен!
– А… а как же мы гулять станем? – я совсем растерялся.
– На каникулы приезжать буду. – Ты положил руку мне на плечо. – Только, Мишка, вот что, заходи иногда к моим. Лады?
– Хорошо, Гора, я буду заходить, а как?.. – я хотел еще о чем-то спросить, наверное, столь же глупом, но ты оттолкнул меня...
Первого сентября мальчика впервые повели в детский садик. Дверь, однако, оказалась на замке, а на ней шелестела пришпиленная кнопкой записка, из которой выходило, что по техническим причинам детей не принимают.
– Мама, Лана, мама, Лана, полетели в школу! Там шарики! – запричитал мальчуган, прыгая на одной ножке и вздымая буравчики пыли. Семья лишь недавно переехала в тот город, и все вокруг было внове.
– Хорошо, хорошо, пошли! – Алана Гедоевна вскинула на руки пухленькую Светланку. Крохе не было еще двух лет, старший братишка называл ее, как и маму, Ланой, и часто гладил по мягким, как пух, волосам.
Школа находилась неподалеку, оттуда лилась радостная музыка, а на большом асфальтированном дворе толпились дети всех возрастов – совсем маленькие сидели на руках взрослых. Горик затянул маму с сестренкой в самую гущу, стараясь пробуравиться вперед, туда, где выстроились девочки и мальчики в белых рубашечках с цветами и шариками.
– Один. Два. Три. Пять. Четыре, – начал считать, сбился и перешел на цвета: – Синий. Зеленый. Красный. Еще красный. И еще красный…
За спинами что-то громко хлопнуло – раз, другой.
– Мама, это салют?! Вот здор-р-рово! – он задрал голову, но над плоскими макушками спиленных тополей ничего не увидел.
И тут школьная линейка сломалась, люди заволновались, куда-то потекли.
– Мама, мы в школу идем? Вот еще здорово! – мальчишка вертелся, пытаясь высвободиться из материнской ладони. – А что мы делать будем? Учиться?! Я буду учителем!
– Не знаю, родной. Только не потеряйся! Видишь, сколько людей.
Всполошенная, гудящая толпа вливалась в длинное пустое помещение. Окна были полосатыми от продольных решеток. Люди шумно растекались по стенам и опускались на голый полосатый от окон пол. Горик с мамой оказался зажатым в самом углу, из-за спин и голов ничего не видел и все порывался вскочить. В центре зала опять громыхнуло, кто-то закричал, и стало почти тихо.
– Меня зовут Али! – прозвучал железный голос.
Почувствовав, что мама ослабила захват, мальчик подпрыгнул и, прежде чем его снова повалили на пол, успел увидеть обросшее черными волосами и бородой лицо, зеленую куртку с закатанными по локоть рукавами и автомат. То, что это автомат, Горик уже знал – отец был военным.
– Мама, а зачем Али два автом… – он попытался укусить ладонь, зажавшую ему рот.
– Каждый, кто не будет слушаться, будет наказан! – проскрежетал Али и с лязгом передернул затвор... Ты оказался не прав – второй у него была винтовка.
Алана Гедоевна вздрогнула, прижимая детей к себе. Через минуту сын уже улыбался, потому что бородатый дядька предлагал поиграть:
– Дети, подняли руки к голове и показали мне заячьи ушки. Все! Чтобы я видел.
Сидевшие на полу дети и взрослые, задевая друг друга локтями, поднимали руки, сводили кулаки за затылком и выставляли вверх указательные пальцы. Пальцы шевелились, и… Горик смеялся.
Он вертелся и не хотел спать, сколько ни уговаривала мать. Зачем? Ведь еще светло! Но вскоре воздух стал тяжелым, голова тоже отяжелела, и глаза закрылись. Иногда мальчик просыпался и просил пить, но воды не давали. Сестренка уже не плакала, а тихо скулила и смотрела темными, без зрачков, глазами.
На второй день к ним подошли двое – черный Али и полуседой человек, почти так же одетый, но без оружия и с печальным взглядом. «Ау-ау-шефф», потом повторял мальчик имя человека.
– Сколько лет вашему мальчику? – спросил он.
– Мне четыре с половиной годика и зовут меня Георгий! – встрял малыш, четко отчеканивая каждое слово.
– Нет. Большой уже! –Али развернулся и двинулся прочь, на ходу добавив: – Женщина с ребенком может убираться, а он останется.
Алана Гедоевна охнула.
– Я большой уже, мама! Ты мне купишь автомат?
– Зачем?
– Я буду вас с Ланой охранять!
Горик смотрел, как с пола поднялись несколько женщин с маленькими – еще меньше сестренки – детьми и потянулись к выходу. Одного малыша уносил на руках печальный Аушев.
– Хочу домой! – заныл он.– Почему нас не пускают?!
– Они хотят, чтобы выполнили их требования.
– Они хочут подарков?
– Хотят, – машинально поправила мама. – Нет, родной. Давай, лучше, поспи, а потом мы обязательно пойдем домой.
Но мальчик стал тщательно проверять, хорошо ли застегнуты сандалики.
– Что ты делаешь, сынок?
– Если я их потеряю, как я обратно пойду?! – с той минуты Горик проверял обувь постоянно.
Но один сандалик ты все-таки потерял, когда уже на третий день – после взрыва, когда мать, закрывая тебе глаза, переносила через неподвижно лежащие человеческие тела, после беспорядочного бега под прикладами автоматов и новых взрывов, после дыма, надышавшись которого ты заболел, – через разбитое окно тебя передавали пятнистым людям. Вместо лиц под большими круглыми шлемами у них были только глаза.
– А где Лана, мама? Где Лана? Мы потеряли ее? – закричал мальчик, когда чужие руки несли его через разгромленный двор.
Мама, вытирая слезы, тихо сказала:
– Она ушла, сынок.
– Куда? Домой? Я тоже хочу с ней!
– Нет. Она ушла на небо, и теперь смотрит на нас оттуда. Будь хорошим, Горик, не плачь.
– Я буду хорошим, мама. Только ты тоже не плакай!
…Когда ты оттолкнул меня и бросился вперед, я от неожиданности осел в мокрый снег, а посмотрев в твою сторону, и вовсе впал в ступор. На белой реке рвалась черная дыра, а в ней махала крыльями красная бабочка. Это была Наташка. Она молча колошматила руками, а ты мчался к ней непомерными для твоего роста скачками и влетел в воду в тот момент, когда на поверхности оставался один сжавшийся в красную точку помпон. Схватив Наташку за воротник, ты приподнял ей голову и попытался вытолкнуть из воды. Но лед ломался, дыра разрасталась, а я все не мог двинуться.
– Мишка, помогай! – хрипло заорал ты и закашлялся.
Я взвыл, вскочил, наконец, на ноги и, продолжая вопить, рванулся к вам.
– Падай!
Не понимая, зачем надо падать, я распластался на снегу и пополз. Добравшись до полыньи, ухватился за Наташкины рукава – она уже не брыкалась.
– Держи, Мишка, держи! Не отпускай! – ты выговаривал слова с трудом, отплевываясь и кашляя. – Ботинки тяжелые…
– Ты хорошо их вяжешь, Гора.
– Да…ты не Заячьи Уши, годишься в кадеты… холодно… Лана, живи!
Последние слова ты произнес настолько тихо, что я еле расслышал. Я снова взвыл и вывернул голову назад. К нам уже кто-то бежал…
Тогда мне все было ясно, но уже став кадетом, я долго не мог понять, почему ты поступил так, как не смог бы поступить я, и даже не всякий взрослый. И лишь вчера, когда я – как всегда в этот день – был у твоей матери, Алана Гедоевна в нескончаемом черном платье, рассказала мне то, что случилось еще до вашего переезда в наш поселок и о чем ты никогда не говорил, но, как я теперь точно знаю, помнил всегда. Я что-то стал понимать. А черновик сочинения, без единого вычеркнутого слова, я храню уже шесть лет. В двух местах чернила расплылись. Наверное, я плакал.
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ЛЮБВИ
Я глохла от взрыва. У меня спортивный разряд, я в легкую преодолеваю пешую «четверку», но я не успевала. Сорвалась, оставив в руках Дениса роскошные белые розы. Отсыревшая штукатурка крупными ошметками валилась с потолка. Запах гари заволакивал тесный подвал. Где-то в облаках дыма и пара должен быть он, Димка.
Я знала его года три – с тех пор, как сдала экзамен на инструктора по детскому туризму. И всегда в группе был он, хорошо экипированный, но неприкаянный и молчаливый. Долгими вечерами у костра я пыталась его разговорить. Огонь у Димки по своей воле не затухал никогда, он мог разжечь костер из камней, замешанных на воде. Чем он там колдовал, не знаю, но Серега, его одноклассник, рассказал мне, что Димон частенько задерживался после уроков в химической лаборатории, смешивая реактивы и вызывая джинов из пробирки.
– Дим, чем дома занимаешься? – пыталась дознаться я, присаживаясь рядом с ним на липкий от ароматной смолы сосновый чурбак.
– Ничем!
– Так не бывает. Можно читать. Можно в блогах «албанский» шлифовать. Можно телеэфир прочесывать со скоростью реактивного самолета. А ты что делаешь?
– Ничего! – Димка подбрасывает в костер колючую ветку, и небо освещает сноп пляшущих искр.
– А родители что делают?
– Ничего! – мой собеседник молчит, потом ломким голосом добавляет: – Он приходит, как захочет поздно, а она днем дома сидит, а вечерами по театрам ходит, рецензии вроде как пишет.
– Они что, ругаются? – я наливаю в кружку остывший чай, достаю из гермомешка пару ржаных сухарей, протягиваю Димке. Он сначала крутит головой, потом нехотя берет и начинает сосредоточенно грызть.
– Да нет, – наконец, отвечает он.– Но нас не трое, а три. Три по одному, – и вдруг срывается: – А я что?! Дарят мне всякие штучки. Вот, зажигалкой «зипповской» осчастливили, костер разжигать. А не оно мне надо, все это!.. Надо, чтобы родители друг друга любили!.. Все! Спокойной ночи!
Димка затушил костер и нырнул в свою палатку.
Потом я узнала, что его родители развелись, и Димка переехал к отцу. А в нашей группе вскоре появилась Саша. Ничего особенного в девчушке не было: неуклюжая курносая толстушка с негустым хвостиком на затылке, но смешливая и ласковая. Увидит ужика, взвизгнет, потом смеется. Брызнешь на нее водой, снова заливается. Но когда она готовила «сашинские» оладьи с сыроежками, вся наша немаленькая группа скучивалась вокруг костра, и, затаив дыхание, ждала первых жгучих лепешек, удивительно быстро исчезавших непонятно куда.
На эти ли оладьи купился Димка, или на Сашино «Доброе утро!», в любую погоду сопровождаемое солнечным теплом, но он как-то отогрелся и отмяк. Костер в его руках трещал веселее, Димка уже не скупился на березовые поленья и не заливал огонь, разгоняя всех по палаткам. Он всегда вызывался готовить вместе с Сашей, не давая ей таскать каны с водой и драить песком подгоревшую сковородку. Я ни разу не видела, чтобы он обнял ее, как это делали старшие подростки в нашей компании, но когда кто-то попытался навязать Саше свое руку, молча возникал рядом и уже не отходил.
Они общались и между походами – об этом мне рассказывала Саша. Гуляли вечерами напролет, обошли пешком пол-Москвы, Саша наставляла его в лабиринтах истории и литературы, а Димка объяснял спутнице тонкости химических реакций…
Я сорвалась по Сашину звонку. Звенящим голосом девушка прокричала:
– Светлана Анатольевна! Света!.. Он сказал, что меня любит, но не верит себе. Сказал, что лучше в огонь…
– Димка? Почему? Где он?
– Не знаю… Светочка, помогите!
Сразу вспомнилось, как запросто обращался Димка с огнем, как молчал и как твердо следовал принятым решениям. Сунув розы на крепких длинных стеблях обратно в руки Дениса и отрешившись от его обескураженного взгляда, я дрожащими пальцами набрала номер Сереги.
– Слушай, друг хороший! Быстро говори, где у Димки склад боеприпасов?
– Чего? Каких боеприпасов?
– Ну, этих… химических ваших реактивов? Где он опыты свои может устраивать? Знаешь?
– А зачем вам?
– Говори, а то поздно будет. Не пойдете больше в поход с Димоном своим. Давай, колись!
Наверное, я орала как ненормальная, потому что обычно ершистый Серега неожиданно легко сдался и назвал адрес.
– Это в подвале, в доме рядом с гаражами, где мы свое снаряжение храним. Старый такой дом, кирпичный, дверь в подвал зеленым выкрашена…
Где они складировали свое походное имущество, я знала – не раз приходилось забирать и привозить обратно. Не далеко! Буквально в двух остановках. Я судорожно огляделась. Субботним утром улица была пуста. Я глубоко вдохнула, поздравила себя, что не одела обувь на каблуках, отмахнулась от Дениса и побежала, как всегда бегала кроссы…
Я заранее оглохла от взрыва, но его не было. Не слышно было и запаха гари. Зеленая обшарпанная дверь оказалась незапертой. Я рванула ее, едва не потеряв равновесие, и ввалилась в подвал. Сочившийся из зарешеченного оконца свет едва освещал обмотанные взлохмаченным поролоном трубы и допотопные вентили. Свисавшие с низкого потолка гроздья паутины, пыли и штукатурки мешали быстро сориентироваться, но светящаяся точка в дальнем углу привлекла внимание. Димка сидел, держа зажигалку над наполненной чем-то банкой. Он вздрогнул, повернул голову в мою сторону и снова застыл над крохотным огоньком.
Остановившись у двери, я пыталась успокоить сбившееся дыхание и судорожно соображала, что сказать.
– Слушай, Дим! Ты знаешь, я тебя никогда не обманывала. Честное слово, не стану тебе мешать, уйду. Только ты послушай, пожалуйста. И погаси на минуту свою свечку. Я боюсь огня.
Он несколько бесконечных мгновений смотрел на меня. Огонек погас, и я почти потеряла парня из виду.
– Ты думаешь, нас куда-нибудь выпустят после этого? Сочтут ведь: это у нас в коллективе такой климат нездоровый, что подростки от него в бутылку лезут. А то еще и на меня всех собак навешают. Этого хочешь? – я, конечно, здорово преувеличивала, но это было первое, что пришло в голову.
Молчание. Потом из пахнущей плесенью темноты донеслось глухое:
– Нет.
Я ринулась дальше:
– Ты помнишь, что у нашей Саши через неделю день рождения? Решил ей такой вот подарок сделать?
– Нет, – уже с меньшим интервалом последовал ответ.
– Вы с ней поссорились, что ли?
Такое представить было трудно, но чего меж влюбленными не бывает? По себе знаю.
– Да нет, она хорошая. Это я…
– Что ты?
Молчание. Этого я боялась больше всего, а потому сунулась в самое горячее, как мне думалось, место:
– С родителями что-то не так? – тема была старой, поэтому я уверенно скомандовала: – Выкладывай!
Все оказалось до банальности просто и гадко.
Накануне Димка с Сашей поехали на Воробьевы горы, оттуда, взявшись за руки и болтая невесть о чем, пошли пешком к небоскребам Сити. Пока топали по железнодорожным путям, пока ехали до своего спального района, пока добирались до Сашиного дома – время летело незаметно, и Димка вернулся непривычно поздно. Открыв дверь квартиры, он услышал в гостиной голоса. Оттуда вышел отец в шелковом халате и с бокалом в руке.
– А, Дмитрий! – он был в хорошем настроении. – У меня гости. Присоединишься?
Димка заглянул в комнату. На столе – фрукты, шоколад, несколько бутылок, фужеры с розовыми следами. На диване сидели две полураздетые молодые женщины. Отец протиснулся между ними, сел и закинул ногу на ногу. На колено сразу легла женская рука. Димка развернулся и ушел на кухню – надо было что-нибудь поесть.
Что у отца бывают женщины, Димка знал, но еще никогда это не было явлено ему столь неприкрыто. Разбив на сковородку два яйца, он потянулся за тарелкой. Когда обернулся, на пороге кухни стоял отец, обнимая за талию одну из своих гостий.
– Ты у меня уже большой, Дмитрий паспорт скоро получишь! Вот, возьми, – отец подтолкнул к нему накрашенную девицу. – Уступаю!
Он рассмеялся и скрылся в гостиной.
Димка оторопело застыл с тарелкой в руках. Девица мягко подошла и провела ладонью по его щеке, потом рука с лакированными ногтями скользнула ниже. Димку передернуло. Он не глядя сунул тарелку в чужую грудь, оттолкнул и вылетел из квартиры…
– И ты решил, что ты такой же?! – больше сказать мне было нечего.
Пока Димка говорил, я подошла и села рядом на занозистый фанерный ящик, положила руку на чуть дрожащие тонкие пальцы, потихоньку вытянула из них зажигалку, обняла за плечи. Сколько мы так просидели, не знаю. Так и вышли с ним из подвала – обнявшись, потрепанные и запыленные. Щуплое октябрьское солнце пробивалось сквозь тучи. Люди удивленно смотрели на нас. Наверное, меня принимали за совратительницу малолеток. Но это было не важно. Важно, что на углу нас ждала Саша.
Оставив их вдвоем, я повернула назад и почти сразу наткнулась на свои обалденные белые розы. Денис был моим четвертым парнем. Я решила, что пора остановиться.
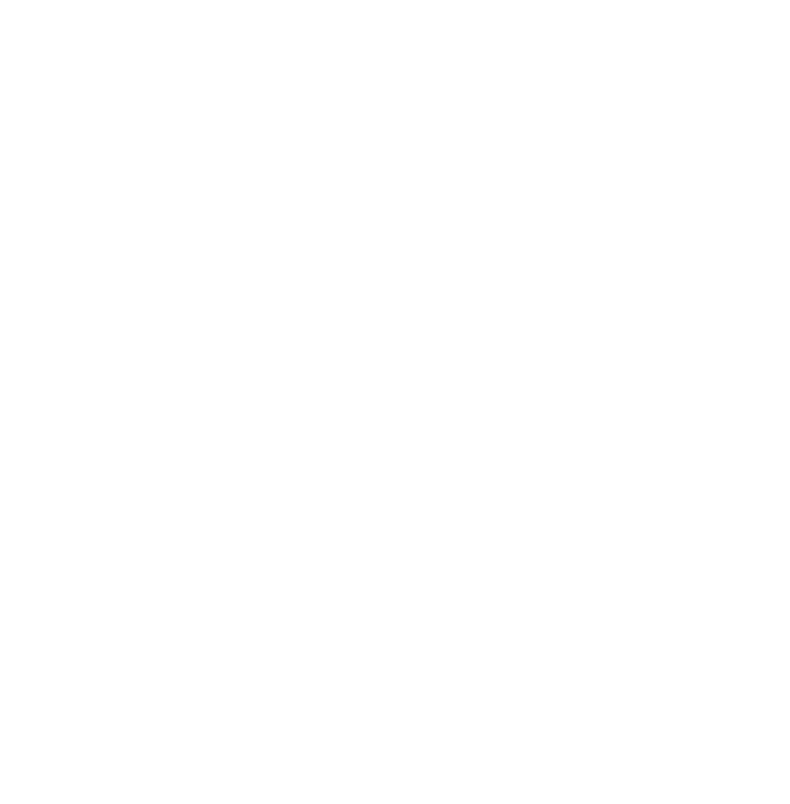
Ирина КОСТИНА
Родилась в Харькове. Живет в г. Лесной Свердловской области. Закончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1993 г. по специальности «Русский язык и литература». В 1999 г. окончила Уральский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» и магистратуру при нем. Тридцать лет проработала в школе, преподает психологию в ВУЗе. Литературным творчеством занимается одновременно с преподаванием. Печатные издания: книга «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», сборник рассказов (2016); повесть «Селфи с улыбкой» (2018). Есть публикации в журнале «Аргументы времени» и в литературном приложении к нему «Ритмы жизни». В 2018 г. вышла книга повестей и рассказов «Акимов. Любовь, какая она есть», а в 2020 г. - роман «По законам братства». Является членом Российского союза писателей с 2018 года.
Родилась в Харькове. Живет в г. Лесной Свердловской области. Закончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького в 1993 г. по специальности «Русский язык и литература». В 1999 г. окончила Уральский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» и магистратуру при нем. Тридцать лет проработала в школе, преподает психологию в ВУЗе. Литературным творчеством занимается одновременно с преподаванием. Печатные издания: книга «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», сборник рассказов (2016); повесть «Селфи с улыбкой» (2018). Есть публикации в журнале «Аргументы времени» и в литературном приложении к нему «Ритмы жизни». В 2018 г. вышла книга повестей и рассказов «Акимов. Любовь, какая она есть», а в 2020 г. - роман «По законам братства». Является членом Российского союза писателей с 2018 года.
ГОЛОС
Что остается нам в воспоминаниях от далекого детства, ведь многие лица забываются? Наверное, ощущения, приятные эпизоды или те, за которые потом нам неловко. Голос! Или это только сердце помнит, как оно колотилось или замирало от чьего – то голоса?
Первое замирание Маришкиного сердца она помнила хорошо: ей было лет 12. Это было в четвертом классе. А красивый мальчик Алеша – в восьмом. Первое детское увлечение было тихим, тайным и светлым. Уроки литературы проходили у них в одном кабинете, у одного учителя. И почти каждый день Маришкин класс заходил к учителю или сразу после Алешиного восьмого, или перед ним. Она слушала, о чем старшие говорят, о чем спорят. Восьмой ругался, что не может выучить отрывки из «Евгения Онегина». «Что там за отрывки? А мне – слабо?» Дома она достала из шкафа роман и начала читать. А там! Любовь, что называется, «вам и не снилось». Просто инструкция к применению, как кружить голову девушкам. Пушкин учится «на раз». Воздушнее, полётнее стиха не придумаешь. И письмо Татьяны, и Онегина, и все остальные отрывки она запомнила сразу. И очень собой гордилась. Хотелось рассказать этому Алешке, что все просто, надо только чувствовать, что проговариваешь. Просто – хоть что-то чувствовать!
Однажды, оставшись одна в кабинете литературы, она увидела на столе журнал восьмого класса. Открыла. Нашла фамилию – Алеша в классе был один. И списала номер домашнего телефона. Листочек с номером лежал в ее модной кожаной желтой сумке целую неделю, прежде чем она осмелилась позвонить. Телефон- автомат. Сколько песен посвящено ему. Скольких он сделал счастливей и несчастнее. Звонок всего по 2 копейке. Цена Счастья - 2 копейки! Язык прилип к небу, совсем не ворочался, как только она услышала его голос:
– Алло?
– Алеша? Здравствуй. Поговорим?
– Поговорим. А ты кто?
– Я все равно не скажу тебе, кто я. Можешь даже не спрашивать.
– Ну, что ж… Давай попробуем.
Алеша был хорошо воспитан. Каждый раз ей приходилось придумывать разные темы, чтобы не наскучить ему своей болтовней, чтобы не казаться глупой, чтобы иметь шанс позвонить еще.
Говорила больше она, рассказывала истории, которые произошли днем, в каникулы. Иногда говорил он. Тогда уже она слушала его необыкновенно теплый баритон и представляла его лицо в это мгновение. Она звонила из музыкальной школы, от своей бабушки, когда та занималась своими делами на кухне, иногда – из автомата на углу Белинского и Коммунистического проспекта. Зимой руки стыли от пластиковой рябой коричневой трубки. Пальцы и запястья становились красными и неповоротливыми. Но он не должен был даже догадываться, что она беззаботно болтает с ним, околевая в продуваемой ветрами будке, где стекла никогда больше не вставлялись после того момента, как были выбиты. А выбиты они были сразу после того, как будку установили.
Однажды она услышала чужие голоса и поняла, что разговаривает не с одним человеком.
– Ну, все! Послушали? Вас ведь там четверо? – Маришка удивила своей догадливостью.
– Дайте трубку Алеше.
– Не сердись, не знаю, как называть тебя. Просто мои друзья были у меня. Они тоже хотели послушать тебя. Твой голос. Можно дам поговорить с тобой одному из них?
– ?????? – У Мариши ответа не было.
– Привет. Меня зовут Сергей. А тебя как зовут? В какой школе ты учишься? Мы поняли, что в нашей, правильно? В каком классе? Не сердись. Мы просто слушали. У тебя очень красивый голос. Ты знаешь об этом?
– Знаю.
– Так, в каком ты классе учишься?
– Мы с Алешей сразу договаривались, что имени я не называю, и в каком классе учусь, не говорю. Мы просто разговариваем.
– Но ведь разговаривать можно и не по телефону. А на скамейке в сквере, на каруселях…еще где-нибудь.
Сережа явно приглашал ее на свидание. Мариша обиделась, что Алеша разболтал друзьям о ее звонках. Мальчишки болтливы и хвастливы, это она поняла уже тогда и запомнила на всю жизнь. Доверять нельзя ни в каком случае. Она представила, что было бы, если б она сказала, кто она, и, не дай Бог, встретилась бы с кем-то из них. Вот такая, как есть, некрасивая, смешная, маленькая не только по возрасту, но и по росту. Из достоинств – один красивый голос.
Настроение продолжать беседу пропало. Она быстро попрощалась, сказав, что звонит из музыкалки, и скоро у нее урок. Маришкины звонки продолжались год, полтора. Однажды, когда она разговаривала с ним из музыкальной школы, он тихо спросил:
– Ты позвонишь еще вечером?
Она стояла перед огромным, во всю стену, зеркалом и смотрела, как у нее непроизвольно расширяются глаза. Первый раз он захотел поговорить еще! Ему не хватило отпущенного времени. Сердце радостно ударило.
– С чего вдруг?
Спрашивать разрешения о следующем звонке должна была всегда она. Так повелось.
– Да, конечно. Я попробую.
Попробует! Да она будет лететь к автомату у булочной на Проспекте, как только стемнеет! Говорить в сумерках было легче. Казалось, что никто не видит ее смущения и ее влюбленности. И они говорили, говорили. С перерывами на короткие паузы – если вдруг подходил случайный прохожий и просил позвонить «на минуточку».
Однажды в школе на большой перемене Маришка спустилась на первый этаж, где стояли умывальники и вечно неисправные питьевые краны. Работал по обыкновению только один. Да и из того надо было чуть ли не высасывать воду. Маринке не надо было наклоняться над ним: маленький рост позволял осуществлять процедуру виз а ви. Она тщательно напивалась на несколько уроков вперед.
– Не выпей всю воду! – услышала она смех за спиной.
– Я ждала своей очереди, сейчас вы ждите, – четко ответила она, не оглядываясь.
За спиной сделалось так тихо, словно все действие происходило во время урока.
– Я… – Мариша повернулась и онемела. Их было четверо. Как четырехмачтовый корабль. Это была именно та четверка, которая слушала по телефону ее голос. Маришка не сомневалась. Они ошарашенно смотрели на нее. Она еще раз прикоснулась к крану, чуть не выбив передние зубы, повернулась и гордо потопала по коридору прочь.
– А я и не мог ошибиться. Я слушаю этот голос второй год, – услышала она голос Алексея.
С тех пор она перестала звонить. Маришка вдруг реально увидела себя рядом с четырьмя красавцами и поняла, что шансов никаких.
Но Алеша с друзьями смотрели на переменах, в столовой, пытались заговорить в гардеробе. Все четверо пробовали на мероприятиях что-то ей передать, спросить, чтоб она заговорила. В кабинете литературы слушали, как она сдает стихи, говорит с учителем, слушали тихо. Молча.
Весной в раздевалке она увидела Алешу с одноклассницей Светой. Он терпеливо ждал, когда она завяжет на шее пестрый шифоновый платок. Он ждал, чтобы проводить. Он влюблен. История закончилась.
Прошло много лет. С тем другом Сергеем, который убалтывал ее по телефону, она встретилась через несколько лет в университетской библиотеке. Он учился на истфаке. На этот раз он тихонько слушал, как она говорит с подругой, как просит книги у библиотекаря. Попытался заговорить, но Марина удивленно и холодно подняла глаза, и он отвернулся.
С Алешей они встречались в городе нечасто. Но был тайный ритуал. Каждый год 9 мая на стадионе весь город после эстафеты школьников ждал забега сильнейших. Марина с мужем всегда сидела на одном и том же месте на трибуне. В определенное время, именно к этому забегу подходил к перилам Алеша с женой – той самой Светой. Марина по его спине видела, что он уже чувствует ее взгляд. Постояв внизу минутку, он оглядывался, ища Маришу. Они встречались глазами. Без эмоций. Не здороваясь. Раз в год. Много лет подряд. Значит, все хорошо. Жизнь идет у обоих своим чередом. Как пишут в поздравительных открытках: будьте все здоровы и благополучны еще на год.
Примерно, через тридцать пять лет после этой истории Маришкина младшая дочь оканчивала школу. Репетиторы. Экзамены. Нервотрепка. Потом покупка платья, туфель к выпускному вечеру. Однажды они с дочкой мерили в магазине туфли для выпускного. Дочери не нравились ни одни, капризничала она «по полной»: то каблук мал, то носок не узкий. То вообще туфли «скучные».
Вякнул колокольчик на двери. Кто – то вошел. Попросил показать мужские кроссовки. Машинально Марина мысленно оценила себя: зеленое шелковое платье облегает фигурку, декольте сумасшедшее, «вырви глаз», серьги в ушах красивые, салатовые босоножки на шпильках. Изящные! Она в форме. Можно продолжать спокойно выбор туфель. Привычка всегда оценивать себя со стороны была практически профессиональной.
– Пожалуй, я с тобой соглашусь. Но, дочь, послушай моего совета. Давай возьмем тогда две пары. Эти – экстравагантные, на безумном каблуке, – для выхода за аттестатом, а эти, на низком, для вечеринки. Ты не сможешь ходить весь вечер на платформе и каблуке. В них же только постоять и провести фотосессию.
Марина оглянулась. На диване сидел Алеша. Делая вид, что меряет кроссовки, он ничего не примерял, он переставлял данные ему коробки, надевал и тут же снимал обувь без оценивания. Он просто слушал ее голос. Она растерялась, но продолжала говорить спокойно, не задыхаясь от волнения.
– Спасибо. Мы сейчас посмотрим в соседнем магазине и, скорее всего, вернемся.
Они с дочкой зашли в соседний магазин. Алеша вошел следом за ними в другой магазин почти сразу. Он снова слушал. Наверное, хотел узнать, изменился ли ее голос. Он не изменился. Он стал еще красивее. Это она знала точно. Ученики и студенты всегда говорили ей об этом.
Потом было еще несколько девятых мая. А на юбилей школы – в феврале – он не пришел. Мариша купила красивое платье. Выглядела замечательно. Ведь он знал, что она работает в их школе. Все приходили, заглядывали во все классы, здоровались. Она была счастлива, что он увидит ее в окружении настоящих и бывших учеников. Вечером в кафе, улучив момент, когда они были только вдвоем, подруга Светлана сказала, что Алеша умер от инсульта, не дожив до пятидесяти одного года, еще одиннадцатого января.
– Он не смог прийти, Мариш, – успокаивала Светлана.
Маришка плакала на ее груди… без голоса…
Что остается нам в память о человеке? Если не говорил с ним ни разу лицом к лицу, если и лицо помнишь с трудом? Остается нежность, его голос.
Светлый и теплый.
Что остается нам в воспоминаниях от далекого детства, ведь многие лица забываются? Наверное, ощущения, приятные эпизоды или те, за которые потом нам неловко. Голос! Или это только сердце помнит, как оно колотилось или замирало от чьего – то голоса?
Первое замирание Маришкиного сердца она помнила хорошо: ей было лет 12. Это было в четвертом классе. А красивый мальчик Алеша – в восьмом. Первое детское увлечение было тихим, тайным и светлым. Уроки литературы проходили у них в одном кабинете, у одного учителя. И почти каждый день Маришкин класс заходил к учителю или сразу после Алешиного восьмого, или перед ним. Она слушала, о чем старшие говорят, о чем спорят. Восьмой ругался, что не может выучить отрывки из «Евгения Онегина». «Что там за отрывки? А мне – слабо?» Дома она достала из шкафа роман и начала читать. А там! Любовь, что называется, «вам и не снилось». Просто инструкция к применению, как кружить голову девушкам. Пушкин учится «на раз». Воздушнее, полётнее стиха не придумаешь. И письмо Татьяны, и Онегина, и все остальные отрывки она запомнила сразу. И очень собой гордилась. Хотелось рассказать этому Алешке, что все просто, надо только чувствовать, что проговариваешь. Просто – хоть что-то чувствовать!
Однажды, оставшись одна в кабинете литературы, она увидела на столе журнал восьмого класса. Открыла. Нашла фамилию – Алеша в классе был один. И списала номер домашнего телефона. Листочек с номером лежал в ее модной кожаной желтой сумке целую неделю, прежде чем она осмелилась позвонить. Телефон- автомат. Сколько песен посвящено ему. Скольких он сделал счастливей и несчастнее. Звонок всего по 2 копейке. Цена Счастья - 2 копейки! Язык прилип к небу, совсем не ворочался, как только она услышала его голос:
– Алло?
– Алеша? Здравствуй. Поговорим?
– Поговорим. А ты кто?
– Я все равно не скажу тебе, кто я. Можешь даже не спрашивать.
– Ну, что ж… Давай попробуем.
Алеша был хорошо воспитан. Каждый раз ей приходилось придумывать разные темы, чтобы не наскучить ему своей болтовней, чтобы не казаться глупой, чтобы иметь шанс позвонить еще.
Говорила больше она, рассказывала истории, которые произошли днем, в каникулы. Иногда говорил он. Тогда уже она слушала его необыкновенно теплый баритон и представляла его лицо в это мгновение. Она звонила из музыкальной школы, от своей бабушки, когда та занималась своими делами на кухне, иногда – из автомата на углу Белинского и Коммунистического проспекта. Зимой руки стыли от пластиковой рябой коричневой трубки. Пальцы и запястья становились красными и неповоротливыми. Но он не должен был даже догадываться, что она беззаботно болтает с ним, околевая в продуваемой ветрами будке, где стекла никогда больше не вставлялись после того момента, как были выбиты. А выбиты они были сразу после того, как будку установили.
Однажды она услышала чужие голоса и поняла, что разговаривает не с одним человеком.
– Ну, все! Послушали? Вас ведь там четверо? – Маришка удивила своей догадливостью.
– Дайте трубку Алеше.
– Не сердись, не знаю, как называть тебя. Просто мои друзья были у меня. Они тоже хотели послушать тебя. Твой голос. Можно дам поговорить с тобой одному из них?
– ?????? – У Мариши ответа не было.
– Привет. Меня зовут Сергей. А тебя как зовут? В какой школе ты учишься? Мы поняли, что в нашей, правильно? В каком классе? Не сердись. Мы просто слушали. У тебя очень красивый голос. Ты знаешь об этом?
– Знаю.
– Так, в каком ты классе учишься?
– Мы с Алешей сразу договаривались, что имени я не называю, и в каком классе учусь, не говорю. Мы просто разговариваем.
– Но ведь разговаривать можно и не по телефону. А на скамейке в сквере, на каруселях…еще где-нибудь.
Сережа явно приглашал ее на свидание. Мариша обиделась, что Алеша разболтал друзьям о ее звонках. Мальчишки болтливы и хвастливы, это она поняла уже тогда и запомнила на всю жизнь. Доверять нельзя ни в каком случае. Она представила, что было бы, если б она сказала, кто она, и, не дай Бог, встретилась бы с кем-то из них. Вот такая, как есть, некрасивая, смешная, маленькая не только по возрасту, но и по росту. Из достоинств – один красивый голос.
Настроение продолжать беседу пропало. Она быстро попрощалась, сказав, что звонит из музыкалки, и скоро у нее урок. Маришкины звонки продолжались год, полтора. Однажды, когда она разговаривала с ним из музыкальной школы, он тихо спросил:
– Ты позвонишь еще вечером?
Она стояла перед огромным, во всю стену, зеркалом и смотрела, как у нее непроизвольно расширяются глаза. Первый раз он захотел поговорить еще! Ему не хватило отпущенного времени. Сердце радостно ударило.
– С чего вдруг?
Спрашивать разрешения о следующем звонке должна была всегда она. Так повелось.
– Да, конечно. Я попробую.
Попробует! Да она будет лететь к автомату у булочной на Проспекте, как только стемнеет! Говорить в сумерках было легче. Казалось, что никто не видит ее смущения и ее влюбленности. И они говорили, говорили. С перерывами на короткие паузы – если вдруг подходил случайный прохожий и просил позвонить «на минуточку».
Однажды в школе на большой перемене Маришка спустилась на первый этаж, где стояли умывальники и вечно неисправные питьевые краны. Работал по обыкновению только один. Да и из того надо было чуть ли не высасывать воду. Маринке не надо было наклоняться над ним: маленький рост позволял осуществлять процедуру виз а ви. Она тщательно напивалась на несколько уроков вперед.
– Не выпей всю воду! – услышала она смех за спиной.
– Я ждала своей очереди, сейчас вы ждите, – четко ответила она, не оглядываясь.
За спиной сделалось так тихо, словно все действие происходило во время урока.
– Я… – Мариша повернулась и онемела. Их было четверо. Как четырехмачтовый корабль. Это была именно та четверка, которая слушала по телефону ее голос. Маришка не сомневалась. Они ошарашенно смотрели на нее. Она еще раз прикоснулась к крану, чуть не выбив передние зубы, повернулась и гордо потопала по коридору прочь.
– А я и не мог ошибиться. Я слушаю этот голос второй год, – услышала она голос Алексея.
С тех пор она перестала звонить. Маришка вдруг реально увидела себя рядом с четырьмя красавцами и поняла, что шансов никаких.
Но Алеша с друзьями смотрели на переменах, в столовой, пытались заговорить в гардеробе. Все четверо пробовали на мероприятиях что-то ей передать, спросить, чтоб она заговорила. В кабинете литературы слушали, как она сдает стихи, говорит с учителем, слушали тихо. Молча.
Весной в раздевалке она увидела Алешу с одноклассницей Светой. Он терпеливо ждал, когда она завяжет на шее пестрый шифоновый платок. Он ждал, чтобы проводить. Он влюблен. История закончилась.
Прошло много лет. С тем другом Сергеем, который убалтывал ее по телефону, она встретилась через несколько лет в университетской библиотеке. Он учился на истфаке. На этот раз он тихонько слушал, как она говорит с подругой, как просит книги у библиотекаря. Попытался заговорить, но Марина удивленно и холодно подняла глаза, и он отвернулся.
С Алешей они встречались в городе нечасто. Но был тайный ритуал. Каждый год 9 мая на стадионе весь город после эстафеты школьников ждал забега сильнейших. Марина с мужем всегда сидела на одном и том же месте на трибуне. В определенное время, именно к этому забегу подходил к перилам Алеша с женой – той самой Светой. Марина по его спине видела, что он уже чувствует ее взгляд. Постояв внизу минутку, он оглядывался, ища Маришу. Они встречались глазами. Без эмоций. Не здороваясь. Раз в год. Много лет подряд. Значит, все хорошо. Жизнь идет у обоих своим чередом. Как пишут в поздравительных открытках: будьте все здоровы и благополучны еще на год.
Примерно, через тридцать пять лет после этой истории Маришкина младшая дочь оканчивала школу. Репетиторы. Экзамены. Нервотрепка. Потом покупка платья, туфель к выпускному вечеру. Однажды они с дочкой мерили в магазине туфли для выпускного. Дочери не нравились ни одни, капризничала она «по полной»: то каблук мал, то носок не узкий. То вообще туфли «скучные».
Вякнул колокольчик на двери. Кто – то вошел. Попросил показать мужские кроссовки. Машинально Марина мысленно оценила себя: зеленое шелковое платье облегает фигурку, декольте сумасшедшее, «вырви глаз», серьги в ушах красивые, салатовые босоножки на шпильках. Изящные! Она в форме. Можно продолжать спокойно выбор туфель. Привычка всегда оценивать себя со стороны была практически профессиональной.
– Пожалуй, я с тобой соглашусь. Но, дочь, послушай моего совета. Давай возьмем тогда две пары. Эти – экстравагантные, на безумном каблуке, – для выхода за аттестатом, а эти, на низком, для вечеринки. Ты не сможешь ходить весь вечер на платформе и каблуке. В них же только постоять и провести фотосессию.
Марина оглянулась. На диване сидел Алеша. Делая вид, что меряет кроссовки, он ничего не примерял, он переставлял данные ему коробки, надевал и тут же снимал обувь без оценивания. Он просто слушал ее голос. Она растерялась, но продолжала говорить спокойно, не задыхаясь от волнения.
– Спасибо. Мы сейчас посмотрим в соседнем магазине и, скорее всего, вернемся.
Они с дочкой зашли в соседний магазин. Алеша вошел следом за ними в другой магазин почти сразу. Он снова слушал. Наверное, хотел узнать, изменился ли ее голос. Он не изменился. Он стал еще красивее. Это она знала точно. Ученики и студенты всегда говорили ей об этом.
Потом было еще несколько девятых мая. А на юбилей школы – в феврале – он не пришел. Мариша купила красивое платье. Выглядела замечательно. Ведь он знал, что она работает в их школе. Все приходили, заглядывали во все классы, здоровались. Она была счастлива, что он увидит ее в окружении настоящих и бывших учеников. Вечером в кафе, улучив момент, когда они были только вдвоем, подруга Светлана сказала, что Алеша умер от инсульта, не дожив до пятидесяти одного года, еще одиннадцатого января.
– Он не смог прийти, Мариш, – успокаивала Светлана.
Маришка плакала на ее груди… без голоса…
Что остается нам в память о человеке? Если не говорил с ним ни разу лицом к лицу, если и лицо помнишь с трудом? Остается нежность, его голос.
Светлый и теплый.
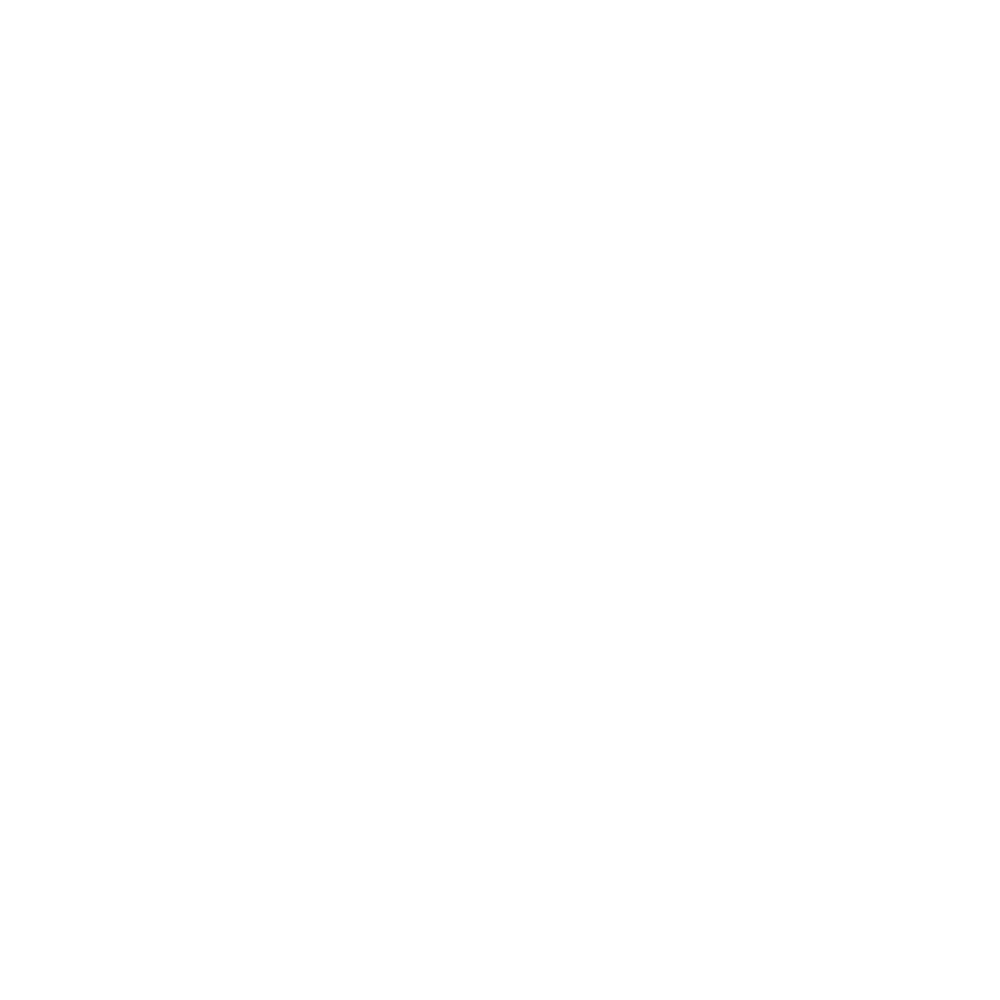
Дарья СИЛКАЧЕВА
Родилась в городе Красноярске в 2007 году. Увлекается литературой, живописью, пишет картины к литературным произведениям и сказкам. Ее работы были представлены в Италии, Чехии, Франции. С ранних лет начала писать рассказы, стихотворения. Лауреат всероссийского конкурса научно-исследовательских работ (г.Москва). Лауреат и финалист всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». В 2016 году удостоена диплома II степени от Министерства образования Красноярского края, как автор экологической сказки для детей «Зимнее происшествие». В 2020 году Дарья пишет литературную работу в редком, утерянном литературном жанре – былина. В этом же году былину «Воевода Андрей Ануфриевич» включают в сборник «Новые имена. ХХI век».
Родилась в городе Красноярске в 2007 году. Увлекается литературой, живописью, пишет картины к литературным произведениям и сказкам. Ее работы были представлены в Италии, Чехии, Франции. С ранних лет начала писать рассказы, стихотворения. Лауреат всероссийского конкурса научно-исследовательских работ (г.Москва). Лауреат и финалист всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». В 2016 году удостоена диплома II степени от Министерства образования Красноярского края, как автор экологической сказки для детей «Зимнее происшествие». В 2020 году Дарья пишет литературную работу в редком, утерянном литературном жанре – былина. В этом же году былину «Воевода Андрей Ануфриевич» включают в сборник «Новые имена. ХХI век».
ПАШКА
Солнце медленно спустилось на хутор, расположенный за рекой. В мелкой речушке яркими красками отражались его лучи. Тихо. Как все тихо. Даже нельзя представить себе, что за такой безмятежной тишиной скрывается она – жестокая, до боли пронизывающая душу – война.
В хутор тихо въехала повозка, груженная мешками зерна. На верху мешков сидел старый сторож Егор Кузьмич. Рядом, опершись о его спину, сидела почтальонка, возле нее лежал почтовый мешок, местами мокрый и грязный то ли от дорожной пыли, то ли от того, что его так долго везли к нам с фронта. Вот с этим мешком и привезли печальную весть в дом моего друга.
Друга? Тогда я вряд ли мог назвать его другом. Мы часто ссорились, а иногда и дрались с соседским пареньком Пашкой, хотя отцы наши дружили и выручали друг друга то плугом, то косой, а то и молоком с буханкой черного хлеба. Наши отцы ездили за реку на покос, вместе сгребали сушеную ароматную траву, и огромные кучи сена привозили к нам в большой сеновал. Иногда я забирался в это душистое сено, дразнил соседского Пашку и даже стрелял в него из рогатки. На этом, конечно, все не заканчивалось. Мой отец меня часто бранил за подобные проступки, просил быть вежливым и, наконец-то, подружиться с соседским пареньком.
Вместе наши отцы ходили на охоту. Вместе они уходили на фронт в сорок первом. Какими долгими и мучительными были дни без весточки от отца. Я часто убегал к лесному озеру, боясь показать свои слезы матери, и вспоминал, как мы еще совсем недавно рыбачили здесь с отцом.
В конце сорок третьего, мой отец вернулся. Он долго лежал с тяжелым ранением и уже не подавал надежды на выздоровление. Моя мать каждую ночь крадучись подходила к отцу, боясь, что он уже умер, но когда отец грузно и тяжело начинал дышать, мать успокаивалась и плакала от радости того, что отец жив. Она подолгу сидела у его кровати, а рано поутру, она шла за дровами и топила русскую печь.
Я просыпался от треска печи и ароматного запаха хлеба. Этот запах я помню и сегодня. Помню спустя долгие годы своей жизни – запах маминого хлеба.
Весной отцу стало лучше. Он стал выходить во двор. Однажды, он застал меня за непристойным занятием. Я вновь готовил рогатку, чтобы обстрелять Пашку. Когда все было готово, я выстрелил. Этот выстрел я запомнил на всю жизнь! Совершенно не ожидая увидеть своего отца, я ликовал от победы! Как вдруг, отец выхватил у меня из рук рогатку, с треском переломил ее, а потом тихо – тихо сказал мне, что это моя большая ошибка! Тогда, конечно, я не придал этим словам особого внимания, и уж тем более какой-либо значимости. Этим словам я придаю большое значение сейчас, я несу эти слова через всю свою жизнь.
Вечером за ужином я узнал от отца, что именно Пашкин отец вытащил его из горящего танка, узнал и то, что всю войну, до ранения отца, они шли бок о бок и были надежным тылом друг другу.
Мать собрала из котелка еще теплую картошку, завернула хлеб в свой платок и вышла в сени. Через минуту я увидел, как фигура матери мелькнула под окном и удалилась в переулке.
– Куда? – спросил я.
– К Пашке, – тихо ответил отец.
Я совсем не догадывался о том, что мать Пашки тяжело заболела и слегла. Именно с той повозкой приехала к Пашке тяжелая весть. Весть о том, что его отец уже никогда не вернется.
Утром я увидел Пашку. В этот день я взглянул на него совсем по-другому. Мне самому было стыдно за свои проступки, за глупую стрельбу из рогаток. Жесткий комок подступил к моему горлу. Я совсем не знал, как подойти к Пашке, не знал, что сказать. Как вдруг, наши взгляды пересеклись, и Пашка сам направился в мою сторону.
В этот день мы долго гуляли с ним по лесу, ходили на дальнюю поляну, где токовали глухари, собирали сладкую и сочную осеннюю бруснику. В лесном озере мы наловили карасей, и вот уже на огне стоял мой старый котелок, местами протертый от времени. Он, почти до самых краев был наполнен водой, и только хвостики карасей слегка были видны сквозь бурлящую воду и веточки пахучего тмина.
С этого дня я отчетливо понял, что Пашка мне стал больше чем друг. Домой мы вернулись глубоко за полночь. Еще вдали я разглядел окна своей избы, увидел, как свет от свечи мерцает в маленьком окне и понял, что за такую прогулку мне придется держать ответ перед отцом с матерью. Мы спешно простились с Пашкой и я отправился домой.
Ночь полностью окутала деревню, яркие звезды мерцали в небе и только легкий ветерок и стрекот сверчков нарушал тишину.
Отворив калитку, я увидел отца, сидящего на завалинке. В его руках была моя новая рогатка, которую я накануне приготовил для Пашки и уже был готов применить по прямому ее назначению. Я стал что-то говорить отцу в свое оправдание, но тот, совершенно не слушая меня, произнес: «Я вижу, тебе она не понадобилась».
В тот момент я увидел, как легкая улыбка скользнула по лицу моего отца. Отец протянул мне рогатку, хотя я отчетливо понимал, что она мне совсем не нужна. Вновь чувство стыда и досады овладело мной. Я хотел было зашвырнуть ее, как вдруг сильная рука отца перехватила мою руку.
– Не спеши! Пусть это будет тебе уроком, чтобы в своей жизни ты не наделал еще больших глупостей, сынок, – сказал отец.
– Хорошо, – едва слышно произнес я.
Я завернул рогатку в платок и спешно сунул ее в карман. В эту ночь мы долго сидели с отцом на завалинке. Я с интересом слушал рассказы о его жизни, о фронтовых товарищах, о Пашкином отце. Незаметно для нас наступил рассвет. Яркие лучи солнца накрыли золотыми лучами поля, луга, лес. Жизнь в деревне закипела своим чередом.
Спустя два дня мы вновь проводили отца на фронт.
Я тогда даже представить себе не мог, что этот ночной разговор по душам будет последним. Через месяц с фронта от отца мы получили одно письмо и посылку, в ней лежали две упаковки галет, концентрированная каша из пшена, тушенка и чай. В конце письма отец просил меня не выкидывать рогатку, помнить о своем проступке и не совершать больших глупостей в жизни! Это было последнее письмо от отца, последняя его просьба.
Прошли годы.
Вместе с Пашкой мы окончили деревенскую школу, вместе мы ушли с ним в армию, вместе отслужили, и как когда-то наши отцы, – мы идем с ним бок о бок.
А рогатка…
Она и сейчас лежит у меня в кармане, то ли как память о моем проступке, то ли как память об отце и исполнении его просьбы.
Солнце медленно спустилось на хутор, расположенный за рекой. В мелкой речушке яркими красками отражались его лучи. Тихо. Как все тихо. Даже нельзя представить себе, что за такой безмятежной тишиной скрывается она – жестокая, до боли пронизывающая душу – война.
В хутор тихо въехала повозка, груженная мешками зерна. На верху мешков сидел старый сторож Егор Кузьмич. Рядом, опершись о его спину, сидела почтальонка, возле нее лежал почтовый мешок, местами мокрый и грязный то ли от дорожной пыли, то ли от того, что его так долго везли к нам с фронта. Вот с этим мешком и привезли печальную весть в дом моего друга.
Друга? Тогда я вряд ли мог назвать его другом. Мы часто ссорились, а иногда и дрались с соседским пареньком Пашкой, хотя отцы наши дружили и выручали друг друга то плугом, то косой, а то и молоком с буханкой черного хлеба. Наши отцы ездили за реку на покос, вместе сгребали сушеную ароматную траву, и огромные кучи сена привозили к нам в большой сеновал. Иногда я забирался в это душистое сено, дразнил соседского Пашку и даже стрелял в него из рогатки. На этом, конечно, все не заканчивалось. Мой отец меня часто бранил за подобные проступки, просил быть вежливым и, наконец-то, подружиться с соседским пареньком.
Вместе наши отцы ходили на охоту. Вместе они уходили на фронт в сорок первом. Какими долгими и мучительными были дни без весточки от отца. Я часто убегал к лесному озеру, боясь показать свои слезы матери, и вспоминал, как мы еще совсем недавно рыбачили здесь с отцом.
В конце сорок третьего, мой отец вернулся. Он долго лежал с тяжелым ранением и уже не подавал надежды на выздоровление. Моя мать каждую ночь крадучись подходила к отцу, боясь, что он уже умер, но когда отец грузно и тяжело начинал дышать, мать успокаивалась и плакала от радости того, что отец жив. Она подолгу сидела у его кровати, а рано поутру, она шла за дровами и топила русскую печь.
Я просыпался от треска печи и ароматного запаха хлеба. Этот запах я помню и сегодня. Помню спустя долгие годы своей жизни – запах маминого хлеба.
Весной отцу стало лучше. Он стал выходить во двор. Однажды, он застал меня за непристойным занятием. Я вновь готовил рогатку, чтобы обстрелять Пашку. Когда все было готово, я выстрелил. Этот выстрел я запомнил на всю жизнь! Совершенно не ожидая увидеть своего отца, я ликовал от победы! Как вдруг, отец выхватил у меня из рук рогатку, с треском переломил ее, а потом тихо – тихо сказал мне, что это моя большая ошибка! Тогда, конечно, я не придал этим словам особого внимания, и уж тем более какой-либо значимости. Этим словам я придаю большое значение сейчас, я несу эти слова через всю свою жизнь.
Вечером за ужином я узнал от отца, что именно Пашкин отец вытащил его из горящего танка, узнал и то, что всю войну, до ранения отца, они шли бок о бок и были надежным тылом друг другу.
Мать собрала из котелка еще теплую картошку, завернула хлеб в свой платок и вышла в сени. Через минуту я увидел, как фигура матери мелькнула под окном и удалилась в переулке.
– Куда? – спросил я.
– К Пашке, – тихо ответил отец.
Я совсем не догадывался о том, что мать Пашки тяжело заболела и слегла. Именно с той повозкой приехала к Пашке тяжелая весть. Весть о том, что его отец уже никогда не вернется.
Утром я увидел Пашку. В этот день я взглянул на него совсем по-другому. Мне самому было стыдно за свои проступки, за глупую стрельбу из рогаток. Жесткий комок подступил к моему горлу. Я совсем не знал, как подойти к Пашке, не знал, что сказать. Как вдруг, наши взгляды пересеклись, и Пашка сам направился в мою сторону.
В этот день мы долго гуляли с ним по лесу, ходили на дальнюю поляну, где токовали глухари, собирали сладкую и сочную осеннюю бруснику. В лесном озере мы наловили карасей, и вот уже на огне стоял мой старый котелок, местами протертый от времени. Он, почти до самых краев был наполнен водой, и только хвостики карасей слегка были видны сквозь бурлящую воду и веточки пахучего тмина.
С этого дня я отчетливо понял, что Пашка мне стал больше чем друг. Домой мы вернулись глубоко за полночь. Еще вдали я разглядел окна своей избы, увидел, как свет от свечи мерцает в маленьком окне и понял, что за такую прогулку мне придется держать ответ перед отцом с матерью. Мы спешно простились с Пашкой и я отправился домой.
Ночь полностью окутала деревню, яркие звезды мерцали в небе и только легкий ветерок и стрекот сверчков нарушал тишину.
Отворив калитку, я увидел отца, сидящего на завалинке. В его руках была моя новая рогатка, которую я накануне приготовил для Пашки и уже был готов применить по прямому ее назначению. Я стал что-то говорить отцу в свое оправдание, но тот, совершенно не слушая меня, произнес: «Я вижу, тебе она не понадобилась».
В тот момент я увидел, как легкая улыбка скользнула по лицу моего отца. Отец протянул мне рогатку, хотя я отчетливо понимал, что она мне совсем не нужна. Вновь чувство стыда и досады овладело мной. Я хотел было зашвырнуть ее, как вдруг сильная рука отца перехватила мою руку.
– Не спеши! Пусть это будет тебе уроком, чтобы в своей жизни ты не наделал еще больших глупостей, сынок, – сказал отец.
– Хорошо, – едва слышно произнес я.
Я завернул рогатку в платок и спешно сунул ее в карман. В эту ночь мы долго сидели с отцом на завалинке. Я с интересом слушал рассказы о его жизни, о фронтовых товарищах, о Пашкином отце. Незаметно для нас наступил рассвет. Яркие лучи солнца накрыли золотыми лучами поля, луга, лес. Жизнь в деревне закипела своим чередом.
Спустя два дня мы вновь проводили отца на фронт.
Я тогда даже представить себе не мог, что этот ночной разговор по душам будет последним. Через месяц с фронта от отца мы получили одно письмо и посылку, в ней лежали две упаковки галет, концентрированная каша из пшена, тушенка и чай. В конце письма отец просил меня не выкидывать рогатку, помнить о своем проступке и не совершать больших глупостей в жизни! Это было последнее письмо от отца, последняя его просьба.
Прошли годы.
Вместе с Пашкой мы окончили деревенскую школу, вместе мы ушли с ним в армию, вместе отслужили, и как когда-то наши отцы, – мы идем с ним бок о бок.
А рогатка…
Она и сейчас лежит у меня в кармане, то ли как память о моем проступке, то ли как память об отце и исполнении его просьбы.
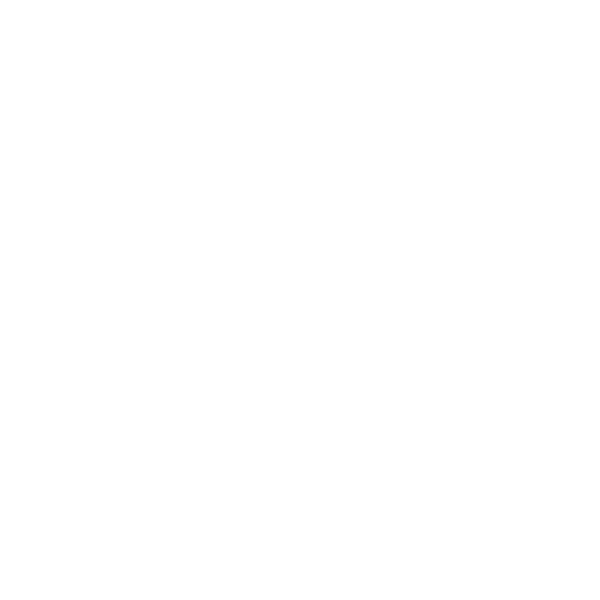
Александр КОРОЛЕВ
Родился в 1947 году в г. Николаевск-на-Амуре. Родители после войны переехали в Калужскую область, где отец работал лесником, а мама – домохозяйкой. В 1965 году поступил в Калужский педагогический институт, на исторический факультет.
После армии пришлось пойти на работу в связи с семейными обстоятельствами. Поступил на заочное отделение Московского института связи. Специальность – инженер связи. Работаю в Москве. Пишу стихи и прозу. В настоящее время занимаюсь в литературной лаборатории «Точки-2» при Совете по прозе Союза писателей России под руководством Елены Яблонской и Нины Кроминой.
Родился в 1947 году в г. Николаевск-на-Амуре. Родители после войны переехали в Калужскую область, где отец работал лесником, а мама – домохозяйкой. В 1965 году поступил в Калужский педагогический институт, на исторический факультет.
После армии пришлось пойти на работу в связи с семейными обстоятельствами. Поступил на заочное отделение Московского института связи. Специальность – инженер связи. Работаю в Москве. Пишу стихи и прозу. В настоящее время занимаюсь в литературной лаборатории «Точки-2» при Совете по прозе Союза писателей России под руководством Елены Яблонской и Нины Кроминой.
РУКА ЕНИСЕЯ
Он увидел лодку. Вернее, что-то похожее на её подобие. Из бересты. В ней стояла женщина и отчаянно гребла веслом к берегу, как будто за ней кто-то гнался. И точно. За кормой лодчонки взвивался к верху бурун воды и не успев накрыть лодчонку рассыпался с шумом и брызгами.
Он узнал ТО, что гналось за лодчонкой. Это была Рука Енисея.
Пармён осенил себя Крестным Знаменем:
– Помоги ей Господи! Помоги, как помог мне ранее!
Он вспомнил ту рыбалку, когда охотился за огромным тайменем. Эта рыбина обитала в плёсе, где было нагромождение камней и свисал ствол дерева, касаясь ветвями воды. Корни дерева мощными лапами уходили вглубь земли и удерживали ствол навесу. Ледоход обламывал только ветви, которые к лету отрастали вновь, делая прибежище для рыб. А уж сколько блёсен и других разных снастей оставалось в его ветвях, когда рыбаки старались забросить приманку поближе. Не счесть!
Таймень обитал тоже где-то там. Пармён видел его не раз, но никакая приманка его не прельщала; а на блёсны он вообще не обращал внимания. И только ближе к осени, когда у белок и бурундуков начинался гон и они переплывали с берега на берег, таймень выходил на охоту. Рыбаки тоже пробовали ловить на такую-же приманку, но таймень с лёгкостью обрывал любую леску.
Пармён «загорелся»:
– Я тебя все равно поймаю!
Он сплёл из нескольких шёлковых ниток бечёвку, которая могла бы даже удержать небольшую лошадь. Сделал из шкурок белок приманку, и встав пораньше, отправился на охоту. Именно, на охоту за тайменем.
Вот и то место. Пармён зацепил тройником приманку, раскрутил её и забросил подальше, чтобы течение отнесло к середине плёса.
«Хоп!» – Таймень схватил приманку с первого же заброса и потянул в глубину. Бечёвка резко закрутилась кольцами и каким-то образом захлестнула правую руку выше запястья.
Пармён сначала ничего не понял, но когда почувствовал, что рыбина утаскивает его в реку, испугался.Вот он уже по пояс в воде, течение тянет вглубь, ноги скользят по камням...Спасения нет.
И вдруг он увидел, как что-то поднялось из воды, блеснуло стальным лезвием и...бечёвка ослабла. Пармён цепляясь за камни выполз на берег. Он понял, что это была Рука Енисея.
Про такие случаи ему рассказывал дед Николай. Царство ему Небесное! Дед Николай был из казаков-староверов, которые обживали земли Сибири ещё со времён Ермака Тимофеевича. Обживали трудом. Земля для обильного хлеба не годилась, но зато было вволю рыбы, зверя лесного. Да и золотишко водилось. Дед Николай всегда говорил, что идя на Реку, брось в воду хлеб или зёрен. Благодари Руку Енисея, ибо она тебя кормит.
Женщина сделала последнее отчаянное усилие веслом и лодчонка уткнулась в берег. Пармён подбежал к челну, подхватил стоящую в нём женщину, которая испуганно оборачивалась и опустил на землю. Это была девушка лет двадцати, с синими, как небо, глазами.
Ничего не спрашивая он вытащил чёлн на берег и перевернул его вверх дном. Девушка сидела на камне и тяжело дышала; весло она крепко держала в руке и не отпускала даже тогда, когда Пармён хотел его у неё взять.
– Однако тебе повезло. Не забрал тебя Енисей.
Девушка испуганно посмотрела на спокойную, тихую гладь воды и вдруг улыбнулась:
– Он не хотел меня забирать. Он меня к тебе толкал...
Вот так встретились мои дедушка Пармён и бабушка Пелагея.
КАРТИНА СО СВЕЧОЙ
Картина...Она висела в старом доме на чердаке в углу, куда не попадал ни один лучик солнца. Я нашёл её там, когда приехал в отпуск.
Это была небольшая картина, размером где-то 50х70.На ней художник изобразил какие-то книги, свиток, медный сосуд, потухшую свечу...
Ничего интересного. Но...
Ещё не дотрагиваясь до картины, я ощутил что-то неуловимое, какой-то запах, будто кто-то только-только погасил свечу. Взял картину, и чтобы получше её рассмотреть, подошёл к окну. Отдёрнул занавеску и лучи солнца осветили картину. Удивительно. Свеча не картине была зажжена.
Я невольно протянул руку, чтобы убедиться и... обжёг руку. Свеча горела, и воск капал на подсвечник. Она освещала комнату, где вероятно живёт какой-то человек, оставивший её ненадолго. Интересно, чем он здесь занимается? И вообще, кто он? Если всё реально, то почему же не посмотреть, что написано в свитке.
Я взял свиток, развязал ленточку, развернул. Там было написано следующие: «Как медь, брошенная в небрежении, подвергается ржавчине, так и душа, в бездействии пребывающая, снедается злом и лишается Покрова Божия...»
Положил свиток на место. Взял в руки медный кувшин: это был какой-то старинный сосуд и мне вспомнились строки: «Душа подобна медному сосуду...» Не помню, откуда они, строки, уподобляющие душу медному сосуду...
Вспомнил легенду, тоже весьма символическую. Царь Соломон не хотел, чтобы люди занимались магией. Он заключил всех главных демонов в медный сосуд, запечатал своей личной печатью и бросил в озеро. Но жители Вавилона выловили сосуд, распечатали, думая, что там сокровища и выпустили демонов на свободу.
Свеча стояла на одной из книг. Я приподнял свечу и взял книгу. Расстегнул медную застёжку и раскрыл. Это была та самая книга, которую я увидел в первый приезд сюда, даже написал маленький рассказ и назвал его «Книга». И забыл его. А сейчас вдруг вспомнил.
«Эта книга попала ко мне не случайно. Мне всегда хотелось иметь такую: старинную, в кожаном тиснёном переплёте, с медными уголками и застёжкой. И вот она лежит передо мной. Теперь это моя Книга. А та, которая меня восхитила, осталась у Витьки; перешла к нему по наследству от бабушки.
Витькина бабушка была колдунья. Она умела «заговаривать» зубы, вправляла грыжу... Колдунья она или нет, до сих пор не знаю, но очень похоже на то. Мы все её боялись.
Так вот, ту книгу я увидел в первый раз, когда пришёл к бабке заговаривать зуб. Мать притащила меня за шкирку к бабке на третий день моего нытья. Не помогали ни прогревания, ни полоскания колодезной водой. Отец уже хотел выпросить лошадь в колхозе, хотя был самый разгар уборки урожая. А ехать надо было за 30 вёрст в район, ближе «зубного» не было. Слова «дантист» в деревне не знали.
Едва я увидел бабку, как зуб перестал болеть. Она взяла меня за руку и посадила на табурет за стол. Даже ничего не спросила, просто посмотрела мне в рот, который я открыл без приказа. Потом она позвала Витьку, налила нам чай из самовара, дала по кусочку колотого сахара и взяла книгу с божницы. Это была огромная Книга. С заглавными красными буквами, обвитыми завитушками и листьями. Бабушка что-то читала. Но что, не помню, потому что не мог оторвать глаз от книги».
Именно такая Книга у меня уже есть.
Она называется «Евангелие».
Я положил книгу на место и поставил на неё свечу. Свеча догорала. Да и хозяин мог вернуться и застать меня. На чердаке было уже темно, так как солнце ушло. Посмотрел на картину и не увидел никаких изменений. Свиток был перевязан ленточкой, свеча не убыла ни на миллиметр...Странно.
Но теперь я знал, что если на картину упадёт луч солнца, то она оживёт. И я смогу вновь побывать в этой комнате, посмотреть, что там есть ещё, узнать, что написал хозяин. Там, на столе за книгами, лежит стопка исписанной бумаги...
И ещё, на картине не видно двери за портьерой. Но мне хочется туда заглянуть...
ЖУРАВЛИ
В этом году грибы удались. После жаркого июня, июль пролил на земли Подмосковья и прилегающих областей такие дожди, что в некоторых местах подтопило множество садовых участков.
Но какая благодать наступила для грибников! Дожди обильно промочили леса, что вызвало пробуждение грибного царства. Взяв корзину, я тоже отправился за грибами. Зная свои места, решил отъехать подальше и уйти через поле в отдельно стоящую куртину. Так у нас называют лесок, выросший среди поля и особо не посещаемый грибниками. Кое-как добрался до леска через разнотравье, достигавшее мне до пояса. Такой травы не было давно. И никто не косит...
Белый гриб объявился здесь же, как только вошёл в лесок. Ещё белый. Затем россыпь лисичек. Если идти по краю куртины, то она одной стороной примыкает к небольшому болоту, через которое можно пройти к противотанковому рву. До рва я так и не дошёл, так как началась осока, которая стояла в воде.
Но меня поразило одно обстоятельство. Появился ворон. Он перелетал с одного дерева на другое и каркал: «Кар-кар-кар». Я даже посчитал, что каждый раз он каркал по три раза.
И вдруг я услышал незнакомый звук, будто кто-то играл на незнакомом мне инструменте. Прислушался. Да это же клик журавлей! «Гонг-гонг-гонг». Так они кличут, когда улетают на юг...
Я понял, что идти дальше не надо, там гнездовье журавлей и я могу их побеспокоить. Ворон меня предупредил. Я сложил ладони, каркнул три раза, подражая ворону и повернул обратно.
Он увидел лодку. Вернее, что-то похожее на её подобие. Из бересты. В ней стояла женщина и отчаянно гребла веслом к берегу, как будто за ней кто-то гнался. И точно. За кормой лодчонки взвивался к верху бурун воды и не успев накрыть лодчонку рассыпался с шумом и брызгами.
Он узнал ТО, что гналось за лодчонкой. Это была Рука Енисея.
Пармён осенил себя Крестным Знаменем:
– Помоги ей Господи! Помоги, как помог мне ранее!
Он вспомнил ту рыбалку, когда охотился за огромным тайменем. Эта рыбина обитала в плёсе, где было нагромождение камней и свисал ствол дерева, касаясь ветвями воды. Корни дерева мощными лапами уходили вглубь земли и удерживали ствол навесу. Ледоход обламывал только ветви, которые к лету отрастали вновь, делая прибежище для рыб. А уж сколько блёсен и других разных снастей оставалось в его ветвях, когда рыбаки старались забросить приманку поближе. Не счесть!
Таймень обитал тоже где-то там. Пармён видел его не раз, но никакая приманка его не прельщала; а на блёсны он вообще не обращал внимания. И только ближе к осени, когда у белок и бурундуков начинался гон и они переплывали с берега на берег, таймень выходил на охоту. Рыбаки тоже пробовали ловить на такую-же приманку, но таймень с лёгкостью обрывал любую леску.
Пармён «загорелся»:
– Я тебя все равно поймаю!
Он сплёл из нескольких шёлковых ниток бечёвку, которая могла бы даже удержать небольшую лошадь. Сделал из шкурок белок приманку, и встав пораньше, отправился на охоту. Именно, на охоту за тайменем.
Вот и то место. Пармён зацепил тройником приманку, раскрутил её и забросил подальше, чтобы течение отнесло к середине плёса.
«Хоп!» – Таймень схватил приманку с первого же заброса и потянул в глубину. Бечёвка резко закрутилась кольцами и каким-то образом захлестнула правую руку выше запястья.
Пармён сначала ничего не понял, но когда почувствовал, что рыбина утаскивает его в реку, испугался.Вот он уже по пояс в воде, течение тянет вглубь, ноги скользят по камням...Спасения нет.
И вдруг он увидел, как что-то поднялось из воды, блеснуло стальным лезвием и...бечёвка ослабла. Пармён цепляясь за камни выполз на берег. Он понял, что это была Рука Енисея.
Про такие случаи ему рассказывал дед Николай. Царство ему Небесное! Дед Николай был из казаков-староверов, которые обживали земли Сибири ещё со времён Ермака Тимофеевича. Обживали трудом. Земля для обильного хлеба не годилась, но зато было вволю рыбы, зверя лесного. Да и золотишко водилось. Дед Николай всегда говорил, что идя на Реку, брось в воду хлеб или зёрен. Благодари Руку Енисея, ибо она тебя кормит.
Женщина сделала последнее отчаянное усилие веслом и лодчонка уткнулась в берег. Пармён подбежал к челну, подхватил стоящую в нём женщину, которая испуганно оборачивалась и опустил на землю. Это была девушка лет двадцати, с синими, как небо, глазами.
Ничего не спрашивая он вытащил чёлн на берег и перевернул его вверх дном. Девушка сидела на камне и тяжело дышала; весло она крепко держала в руке и не отпускала даже тогда, когда Пармён хотел его у неё взять.
– Однако тебе повезло. Не забрал тебя Енисей.
Девушка испуганно посмотрела на спокойную, тихую гладь воды и вдруг улыбнулась:
– Он не хотел меня забирать. Он меня к тебе толкал...
Вот так встретились мои дедушка Пармён и бабушка Пелагея.
КАРТИНА СО СВЕЧОЙ
Картина...Она висела в старом доме на чердаке в углу, куда не попадал ни один лучик солнца. Я нашёл её там, когда приехал в отпуск.
Это была небольшая картина, размером где-то 50х70.На ней художник изобразил какие-то книги, свиток, медный сосуд, потухшую свечу...
Ничего интересного. Но...
Ещё не дотрагиваясь до картины, я ощутил что-то неуловимое, какой-то запах, будто кто-то только-только погасил свечу. Взял картину, и чтобы получше её рассмотреть, подошёл к окну. Отдёрнул занавеску и лучи солнца осветили картину. Удивительно. Свеча не картине была зажжена.
Я невольно протянул руку, чтобы убедиться и... обжёг руку. Свеча горела, и воск капал на подсвечник. Она освещала комнату, где вероятно живёт какой-то человек, оставивший её ненадолго. Интересно, чем он здесь занимается? И вообще, кто он? Если всё реально, то почему же не посмотреть, что написано в свитке.
Я взял свиток, развязал ленточку, развернул. Там было написано следующие: «Как медь, брошенная в небрежении, подвергается ржавчине, так и душа, в бездействии пребывающая, снедается злом и лишается Покрова Божия...»
Положил свиток на место. Взял в руки медный кувшин: это был какой-то старинный сосуд и мне вспомнились строки: «Душа подобна медному сосуду...» Не помню, откуда они, строки, уподобляющие душу медному сосуду...
Вспомнил легенду, тоже весьма символическую. Царь Соломон не хотел, чтобы люди занимались магией. Он заключил всех главных демонов в медный сосуд, запечатал своей личной печатью и бросил в озеро. Но жители Вавилона выловили сосуд, распечатали, думая, что там сокровища и выпустили демонов на свободу.
Свеча стояла на одной из книг. Я приподнял свечу и взял книгу. Расстегнул медную застёжку и раскрыл. Это была та самая книга, которую я увидел в первый приезд сюда, даже написал маленький рассказ и назвал его «Книга». И забыл его. А сейчас вдруг вспомнил.
«Эта книга попала ко мне не случайно. Мне всегда хотелось иметь такую: старинную, в кожаном тиснёном переплёте, с медными уголками и застёжкой. И вот она лежит передо мной. Теперь это моя Книга. А та, которая меня восхитила, осталась у Витьки; перешла к нему по наследству от бабушки.
Витькина бабушка была колдунья. Она умела «заговаривать» зубы, вправляла грыжу... Колдунья она или нет, до сих пор не знаю, но очень похоже на то. Мы все её боялись.
Так вот, ту книгу я увидел в первый раз, когда пришёл к бабке заговаривать зуб. Мать притащила меня за шкирку к бабке на третий день моего нытья. Не помогали ни прогревания, ни полоскания колодезной водой. Отец уже хотел выпросить лошадь в колхозе, хотя был самый разгар уборки урожая. А ехать надо было за 30 вёрст в район, ближе «зубного» не было. Слова «дантист» в деревне не знали.
Едва я увидел бабку, как зуб перестал болеть. Она взяла меня за руку и посадила на табурет за стол. Даже ничего не спросила, просто посмотрела мне в рот, который я открыл без приказа. Потом она позвала Витьку, налила нам чай из самовара, дала по кусочку колотого сахара и взяла книгу с божницы. Это была огромная Книга. С заглавными красными буквами, обвитыми завитушками и листьями. Бабушка что-то читала. Но что, не помню, потому что не мог оторвать глаз от книги».
Именно такая Книга у меня уже есть.
Она называется «Евангелие».
Я положил книгу на место и поставил на неё свечу. Свеча догорала. Да и хозяин мог вернуться и застать меня. На чердаке было уже темно, так как солнце ушло. Посмотрел на картину и не увидел никаких изменений. Свиток был перевязан ленточкой, свеча не убыла ни на миллиметр...Странно.
Но теперь я знал, что если на картину упадёт луч солнца, то она оживёт. И я смогу вновь побывать в этой комнате, посмотреть, что там есть ещё, узнать, что написал хозяин. Там, на столе за книгами, лежит стопка исписанной бумаги...
И ещё, на картине не видно двери за портьерой. Но мне хочется туда заглянуть...
ЖУРАВЛИ
В этом году грибы удались. После жаркого июня, июль пролил на земли Подмосковья и прилегающих областей такие дожди, что в некоторых местах подтопило множество садовых участков.
Но какая благодать наступила для грибников! Дожди обильно промочили леса, что вызвало пробуждение грибного царства. Взяв корзину, я тоже отправился за грибами. Зная свои места, решил отъехать подальше и уйти через поле в отдельно стоящую куртину. Так у нас называют лесок, выросший среди поля и особо не посещаемый грибниками. Кое-как добрался до леска через разнотравье, достигавшее мне до пояса. Такой травы не было давно. И никто не косит...
Белый гриб объявился здесь же, как только вошёл в лесок. Ещё белый. Затем россыпь лисичек. Если идти по краю куртины, то она одной стороной примыкает к небольшому болоту, через которое можно пройти к противотанковому рву. До рва я так и не дошёл, так как началась осока, которая стояла в воде.
Но меня поразило одно обстоятельство. Появился ворон. Он перелетал с одного дерева на другое и каркал: «Кар-кар-кар». Я даже посчитал, что каждый раз он каркал по три раза.
И вдруг я услышал незнакомый звук, будто кто-то играл на незнакомом мне инструменте. Прислушался. Да это же клик журавлей! «Гонг-гонг-гонг». Так они кличут, когда улетают на юг...
Я понял, что идти дальше не надо, там гнездовье журавлей и я могу их побеспокоить. Ворон меня предупредил. Я сложил ладони, каркнул три раза, подражая ворону и повернул обратно.
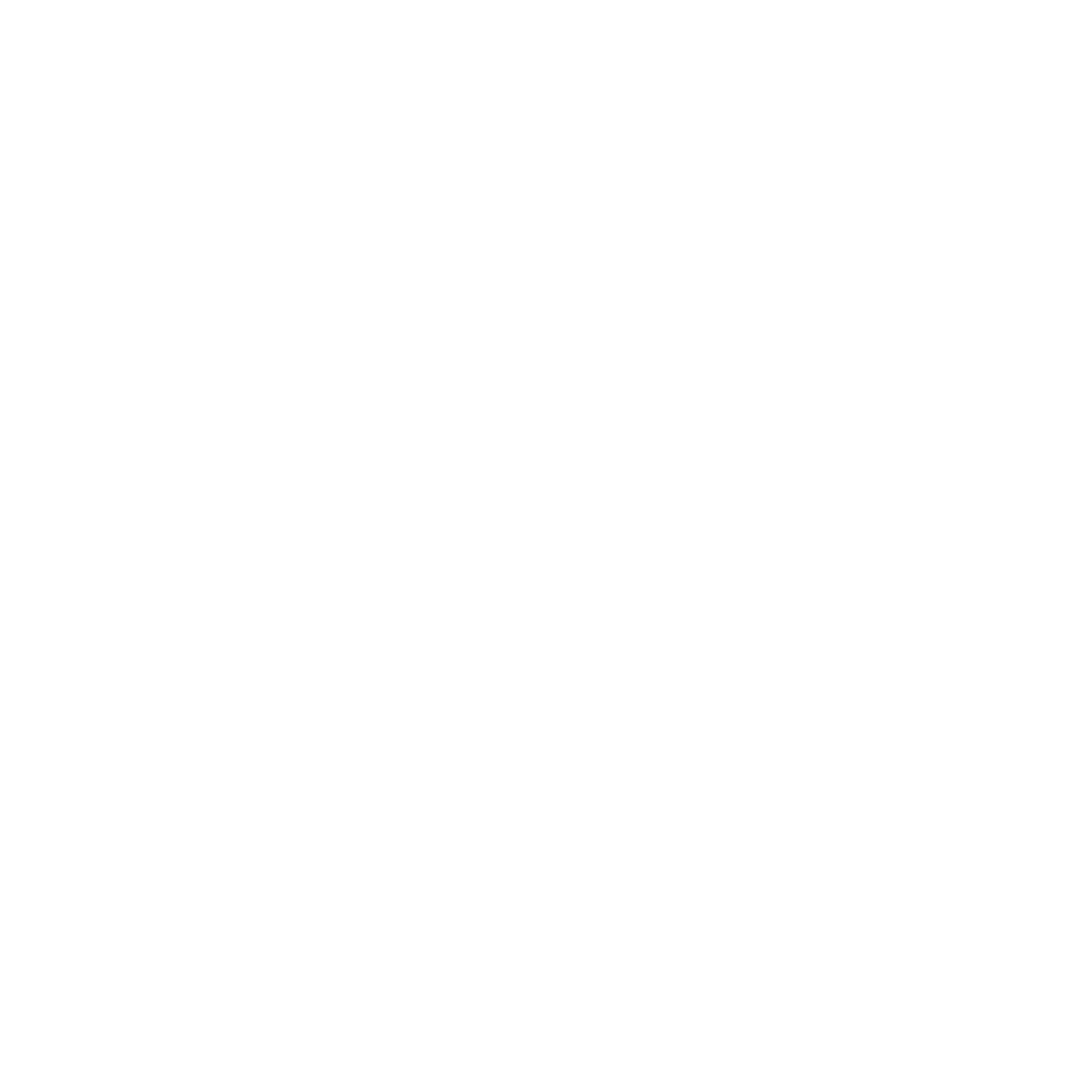
Сергей МАЛУХИН
Родился в 1961 году. По профессии инженер-строитель. Проживает в г. Красноярск. Автор книг: «Две фантазии», издательство «КУБИК» (Саратов), 2013 г.; роман в 3-х частях «Красноярск-2012», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2014 г.; «Пора жёлтых цветов», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2017 год. В 2015 г. в Твери, в содружестве с писателем Виктором Калинкиным, выпущена книга рассказов и публицистики о войне «То, что было не со мной, помню».
Лауреат Международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Интересный рассказ», г. Торонто, Канада, 2017 год.
Дипломант Всероссийских литературных конкурсов: «Георгиевская лента» 2017 г., короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор» 2017 г.,
«Герои Великой Победы» 2018 г., национальной литературной премии «Писатель года» за 2018 год. Кроме литературного творчества, увлекается спортивными бальными танцами.
Родился в 1961 году. По профессии инженер-строитель. Проживает в г. Красноярск. Автор книг: «Две фантазии», издательство «КУБИК» (Саратов), 2013 г.; роман в 3-х частях «Красноярск-2012», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2014 г.; «Пора жёлтых цветов», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2017 год. В 2015 г. в Твери, в содружестве с писателем Виктором Калинкиным, выпущена книга рассказов и публицистики о войне «То, что было не со мной, помню».
Лауреат Международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Интересный рассказ», г. Торонто, Канада, 2017 год.
Дипломант Всероссийских литературных конкурсов: «Георгиевская лента» 2017 г., короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор» 2017 г.,
«Герои Великой Победы» 2018 г., национальной литературной премии «Писатель года» за 2018 год. Кроме литературного творчества, увлекается спортивными бальными танцами.
ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА
На работу из отпуска Семён Семёнович Горбунков вышел во вторник. В обычный серенький вторник в конце сентября. Как обычно, он пришёл за полчаса до начала работы. Включил компьютер, переобулся в старые, удобные туфли и достал из ящика стола кружку. Выпить чая перед началом трудового дня давно стало для Семёна Семёновича обязательным ритуалом. Он положил в кружку два кусочка сахара, пакетик чая и вышел в коридор на ресепшн, где стоял кулер.
Секретарши Наташи ещё не было на месте и, когда с улицы позвонили, Семён Семёнович не глядя, ткнул пальцем в кнопку открытия двери, подставив кружку под струйку горячей воды. В кулере булькнуло, он подумал мимоходом, что воды осталось мало, и к обеду надо бы поменять бутыль. Тут входная дверь открылась, Семён Семёнович поднял глаза на вошедшего и… остолбенел! В их скромный офис вошла девушка такой красоты, какую он видел только по телевизору, да ещё в кино. Прелестное личико было свежо, как майское утро. Голубые глаза сияли чистотой апрельского неба. Светло-русые волосы так мило, так легко осеняли головку, что хотелось немедленно, не дожидаясь 8 марта осыпать их цветами!
Горячая вода обожгла его пальцы. Он отдёрнул руку, но не отвёл от девушки взгляда. Голова у Семёна Семёновича закружилась, и он сказал первое, что пришло на ум:
– Простите, вы ко мне?
Незнакомка неуверенно улыбнулась, обнажив ровные белые зубки. В её глазах промелькнула растерянность.
– Н-нет. Я здесь работаю со вчерашнего дня. В юридическом отделе. Мне электронный ключ ещё не дали.
Шок у Семёна Семёновича продолжался, и он глупел на глазах.
– Вы, наверное, Принцесса и попали сюда по ошибке. Но я рад этому счастливому случаю, рад, что увидел Вас, и что я… Короче – Ваш покорный слуга и подданный – Семён Семёнович Чайников!
Девушка засмеялась, легко и весело. От её непосредственной радости, от милого лица у Семёна Семёновича биться сердце перестало. А потом застучало с удвоенной силой.
– А я – Татьяна! Ой, у Вас чай на брюки пролился!
– А, пустяки! Кстати, не хотите ли: чай, кофе, по… то есть, печенье?
– Спасибо, не сейчас! Можно, я пройду на рабочее место?
– Да-да, конечно! – Семён Семёнович посторонился, и девушка прошла мимо, обдав его сладковатым и невероятно притягательным ароматом. Белая курточка прошуршала: «люб-лю, лав ю», стройные ноги в узких чёрных брючках пронесли прелестное создание в кабинет юристов, а сердце Семёна Семёновича забилось в унисон со стуком её лакированных ботильонов на десятисантиметровых каблучках.
В этот день у Семёна Семёновича получалось всё. Он переделал почти всю скопившуюся за время его отпуска текущую работу. С товарищами по «конторе» он был необычайно приветлив и радостно-общителен. С клиентами и с контрагентами – то дружелюбно напорист, то учтив, разговорчив и гибок. Но за всеми делами Семён Семёнович постоянно думал о красавице Танечке, сидевшей совсем рядом от него – всего-то за перегородкой! И он за день раз пять сумел забежать в юридический отдел с совершенно неотложными делами. И снова увидеть её очаровательное лицо, напряжённо смотрящее в монитор, или ладную фигурку в кремовой кофточке, когда Таня поворачивалась к начальнице отдела за консультацией. Обедали они в столовой тоже вместе, за одним столом. Семён Семёнович не замечал, что он ест, кто ещё сидит за этим столом, что делают прочие люди. Он видел только эту, покорившую его с первого взгляда девушку, как она ест, говорит, смеётся.
И вечером они вышли из офиса вместе.
– До свиданья, Семён Семёнович! До завтра! – Таня повесила сумочку на плечо, и вдруг нахмурилась:
– Ой, дождик! А мне до остановки идти!
– Ничего, Танечка! Не беда! У меня зонт есть, давайте, я Вас провожу!
– Ой, правда? Вот хорошо-то, пойдёмте скорее!
Семён Семёнович раскрыл зонт, и они зашагали плечом к плечу к ближайшей автобусной остановке.
На Красной площади была обычная вечерняя автомобильная пробка. В узкий проезд улицы Робеспьера вливались сразу три транспортных потока. Таня напряжённо вглядывалась то в быстро темнеющее слезливое небо, то в плотно стоящие автомобили и автобусы.
– Ах, какая досада! Я сегодня тороплюсь, и ехать-то недалеко – до областной библиотеки, а транспорт весь встал. Вот не везёт!
– До библиотеки? Да это же близко. Мы туда пешком дойдём быстрее любого автобуса.
– Семён Семёнович, Вы просто находка для меня! Я такая трусиха! Я бы не решилась идти вечером одна мимо завода, мимо парка! Пойдёмте скорее!
Таня шагнула с площадки автобусной остановки на тротуар, поскользнулась было на мокрой брусчатке, но её спутник был внимателен и вовремя подставил девушке свой локоть.
– Держитесь, Танечка, – сказал Семён Семёнович. Рука его была надёжно-твёрдой, а кожа куртки неожиданно сухой и тёплой. Девушка схватилась за неё всей ладонью. Мужчина локтем прижал её руку к своему боку, и они зашагали рядом. Дождь, как по волшебству, прекратился.
Перейдя улицу Робеспьера, они пошли по асфальтированной, когда-то, пешеходной дорожке среди зарослей тёмных кустов с уже почти безлистными ветками. Справа от них тянулся глухой бетонный забор, с видневшимся за ним цехом радиотехнического завода, с редкими огнями охранных фонарей. Дорожка оказалась довольно ровной и прямой, и спутники быстро пошли по ней, никого не встречая и невидимые ни для чьих глаз. Ветер, который на остановке бил холодом и дождём в лицо, теперь должен был дуть и толкать в спину, но они его совсем не чувствовали.
Вершины деревьев и те лишь слегка покачивались. Слева, по улице Маркса, за кустами, иногда проносились машины, вырвавшиеся из пробки, на мгновение освещая пространство фарами. Тучи на небе раздвинулись, и на тёмно-синем небе возникла россыпь ярких звёзд, которых в этом большом городе почти никогда и не видно.
Таня молчала, шла, сосредоточенно глядя под ноги, видимо, думала о чём-то своём. А Семёном Семёновичем овладело романтическое настроение. Ему хотелось поговорить с девушкой, сказать что-нибудь умное, интересное, неординарное.
– А хотите, я Вам почитаю стихи Роберта Бёрнса? – вдруг сказал он негромким и звонким голосом. Татьяна слегка вздрогнула и пожала плечами:
– Почитайте.
«Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи…»
Таня лишь смутно помнила фамилию этого старинного шотландского поэта и никогда не читала его стихов, но их музыка заворожила её. Ей было не страшно, тепло и хорошо идти рядом с Семёном Семёновичем и по тёмной аллее, возле завода, и дальше, когда, перейдя улицу Горького, они пошли вдоль старого парка.
Семён Семёнович сначала немного волновался – он не читал вслух Бёрнса лет 25, с тех пор, когда учился на филологическом факультете и увлекался британской литературой. Но его страх был напрасным – оказалось, он всё хорошо помнил, вплоть до запятой, до интонации. И читал он в этот чудесный вечер на удивление хорошо: красивым, звучным баритоном, с выразительными паузами. Только лишь с небольшими перерывами между стихов прочитал: «Умолк тяжёлый гром войны…» и «Растёт камыш среди реки…». Прочитал на английском языке «The song of girl». И, наконец, «Среди холмов река течет…».
Он, когда читал стихи, смотрел вперёд и немного вверх, будто читал по звёздам, а в перерывах в упор смотрел на девушку, как бы спрашивая: «Ты понимаешь? Ты понимаешь меня?!». Но Таня не понимала. Она, под ритм стихов, всё думала о своём и не смотрела на провожатого.
Так, незаметно и слишком быстро они прошли свой путь. Вот уже впереди завиднелся ярко освещённая площадь с кинотеатром «Луч» на одной стороне и серым зданием главной областной библиотеки на другой. Очарование вечерней прогулки кончилось. Таня отпустила локоть Семёна Семёновича.
– Теперь я дойду, мне через дорогу, – сказала она.
– Может, завтра опять прогуляемся?
– Зачем? – удивилась Таня. – Завтра дождя не будет, а после работы я сразу еду домой.
– Ну, может, вечер будет хороший…
– Я не гуляю по вечерам, – уверенно заявила Таня. – Прощайте! – и она, не оглядываясь, перешла дорогу и направилась к стоянке автомобилей, расположенную у памятника Ленину. Навстречу ей нетерпеливо замигала фарами светлая иномарка. Девушка пробежала трусцой несколько шагов навстречу открывшейся изнутри дверце и села в машину. Иномарка сразу сорвалась с места и, требовательно гуднув, влилась в плотный вечерний поток автомобилей, запрудивших улицу Маркса.
Семён Семёнович вздохнул, провёл рукой по заметно лысеющей шевелюре. Сегодня был замечательный день. В этот день он испытал радость встречи, пылкую влюблённость, вдохновение. Но день прошёл, подходит к концу и осенний вечер. Пора к себе…
Он развернулся и пошёл назад, к своему дому. На ходу нащупал в кармане полиэтиленовый пакет и вспомнил, что надо бы зайти в магазин, купить хлеба, сосисок, молока.
Снова его дорога была пустынна, темна. Свет фар проезжающих автомобилей только ослеплял и делал темноту ещё непрогляднее. Ночное небо закрылось тучами, стало низким и неприветливым. Заморосило.
Семён Семёнович шел, чуть согнувшись, держа перед собой зонт, и думал, что завтра он снова увидит Таню. В лицо ему дул холодный порывистый ветер, обильно сдобренный тяжёлыми холодными каплями дождя.
Осень.
На работу из отпуска Семён Семёнович Горбунков вышел во вторник. В обычный серенький вторник в конце сентября. Как обычно, он пришёл за полчаса до начала работы. Включил компьютер, переобулся в старые, удобные туфли и достал из ящика стола кружку. Выпить чая перед началом трудового дня давно стало для Семёна Семёновича обязательным ритуалом. Он положил в кружку два кусочка сахара, пакетик чая и вышел в коридор на ресепшн, где стоял кулер.
Секретарши Наташи ещё не было на месте и, когда с улицы позвонили, Семён Семёнович не глядя, ткнул пальцем в кнопку открытия двери, подставив кружку под струйку горячей воды. В кулере булькнуло, он подумал мимоходом, что воды осталось мало, и к обеду надо бы поменять бутыль. Тут входная дверь открылась, Семён Семёнович поднял глаза на вошедшего и… остолбенел! В их скромный офис вошла девушка такой красоты, какую он видел только по телевизору, да ещё в кино. Прелестное личико было свежо, как майское утро. Голубые глаза сияли чистотой апрельского неба. Светло-русые волосы так мило, так легко осеняли головку, что хотелось немедленно, не дожидаясь 8 марта осыпать их цветами!
Горячая вода обожгла его пальцы. Он отдёрнул руку, но не отвёл от девушки взгляда. Голова у Семёна Семёновича закружилась, и он сказал первое, что пришло на ум:
– Простите, вы ко мне?
Незнакомка неуверенно улыбнулась, обнажив ровные белые зубки. В её глазах промелькнула растерянность.
– Н-нет. Я здесь работаю со вчерашнего дня. В юридическом отделе. Мне электронный ключ ещё не дали.
Шок у Семёна Семёновича продолжался, и он глупел на глазах.
– Вы, наверное, Принцесса и попали сюда по ошибке. Но я рад этому счастливому случаю, рад, что увидел Вас, и что я… Короче – Ваш покорный слуга и подданный – Семён Семёнович Чайников!
Девушка засмеялась, легко и весело. От её непосредственной радости, от милого лица у Семёна Семёновича биться сердце перестало. А потом застучало с удвоенной силой.
– А я – Татьяна! Ой, у Вас чай на брюки пролился!
– А, пустяки! Кстати, не хотите ли: чай, кофе, по… то есть, печенье?
– Спасибо, не сейчас! Можно, я пройду на рабочее место?
– Да-да, конечно! – Семён Семёнович посторонился, и девушка прошла мимо, обдав его сладковатым и невероятно притягательным ароматом. Белая курточка прошуршала: «люб-лю, лав ю», стройные ноги в узких чёрных брючках пронесли прелестное создание в кабинет юристов, а сердце Семёна Семёновича забилось в унисон со стуком её лакированных ботильонов на десятисантиметровых каблучках.
В этот день у Семёна Семёновича получалось всё. Он переделал почти всю скопившуюся за время его отпуска текущую работу. С товарищами по «конторе» он был необычайно приветлив и радостно-общителен. С клиентами и с контрагентами – то дружелюбно напорист, то учтив, разговорчив и гибок. Но за всеми делами Семён Семёнович постоянно думал о красавице Танечке, сидевшей совсем рядом от него – всего-то за перегородкой! И он за день раз пять сумел забежать в юридический отдел с совершенно неотложными делами. И снова увидеть её очаровательное лицо, напряжённо смотрящее в монитор, или ладную фигурку в кремовой кофточке, когда Таня поворачивалась к начальнице отдела за консультацией. Обедали они в столовой тоже вместе, за одним столом. Семён Семёнович не замечал, что он ест, кто ещё сидит за этим столом, что делают прочие люди. Он видел только эту, покорившую его с первого взгляда девушку, как она ест, говорит, смеётся.
И вечером они вышли из офиса вместе.
– До свиданья, Семён Семёнович! До завтра! – Таня повесила сумочку на плечо, и вдруг нахмурилась:
– Ой, дождик! А мне до остановки идти!
– Ничего, Танечка! Не беда! У меня зонт есть, давайте, я Вас провожу!
– Ой, правда? Вот хорошо-то, пойдёмте скорее!
Семён Семёнович раскрыл зонт, и они зашагали плечом к плечу к ближайшей автобусной остановке.
На Красной площади была обычная вечерняя автомобильная пробка. В узкий проезд улицы Робеспьера вливались сразу три транспортных потока. Таня напряжённо вглядывалась то в быстро темнеющее слезливое небо, то в плотно стоящие автомобили и автобусы.
– Ах, какая досада! Я сегодня тороплюсь, и ехать-то недалеко – до областной библиотеки, а транспорт весь встал. Вот не везёт!
– До библиотеки? Да это же близко. Мы туда пешком дойдём быстрее любого автобуса.
– Семён Семёнович, Вы просто находка для меня! Я такая трусиха! Я бы не решилась идти вечером одна мимо завода, мимо парка! Пойдёмте скорее!
Таня шагнула с площадки автобусной остановки на тротуар, поскользнулась было на мокрой брусчатке, но её спутник был внимателен и вовремя подставил девушке свой локоть.
– Держитесь, Танечка, – сказал Семён Семёнович. Рука его была надёжно-твёрдой, а кожа куртки неожиданно сухой и тёплой. Девушка схватилась за неё всей ладонью. Мужчина локтем прижал её руку к своему боку, и они зашагали рядом. Дождь, как по волшебству, прекратился.
Перейдя улицу Робеспьера, они пошли по асфальтированной, когда-то, пешеходной дорожке среди зарослей тёмных кустов с уже почти безлистными ветками. Справа от них тянулся глухой бетонный забор, с видневшимся за ним цехом радиотехнического завода, с редкими огнями охранных фонарей. Дорожка оказалась довольно ровной и прямой, и спутники быстро пошли по ней, никого не встречая и невидимые ни для чьих глаз. Ветер, который на остановке бил холодом и дождём в лицо, теперь должен был дуть и толкать в спину, но они его совсем не чувствовали.
Вершины деревьев и те лишь слегка покачивались. Слева, по улице Маркса, за кустами, иногда проносились машины, вырвавшиеся из пробки, на мгновение освещая пространство фарами. Тучи на небе раздвинулись, и на тёмно-синем небе возникла россыпь ярких звёзд, которых в этом большом городе почти никогда и не видно.
Таня молчала, шла, сосредоточенно глядя под ноги, видимо, думала о чём-то своём. А Семёном Семёновичем овладело романтическое настроение. Ему хотелось поговорить с девушкой, сказать что-нибудь умное, интересное, неординарное.
– А хотите, я Вам почитаю стихи Роберта Бёрнса? – вдруг сказал он негромким и звонким голосом. Татьяна слегка вздрогнула и пожала плечами:
– Почитайте.
«Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи…»
Таня лишь смутно помнила фамилию этого старинного шотландского поэта и никогда не читала его стихов, но их музыка заворожила её. Ей было не страшно, тепло и хорошо идти рядом с Семёном Семёновичем и по тёмной аллее, возле завода, и дальше, когда, перейдя улицу Горького, они пошли вдоль старого парка.
Семён Семёнович сначала немного волновался – он не читал вслух Бёрнса лет 25, с тех пор, когда учился на филологическом факультете и увлекался британской литературой. Но его страх был напрасным – оказалось, он всё хорошо помнил, вплоть до запятой, до интонации. И читал он в этот чудесный вечер на удивление хорошо: красивым, звучным баритоном, с выразительными паузами. Только лишь с небольшими перерывами между стихов прочитал: «Умолк тяжёлый гром войны…» и «Растёт камыш среди реки…». Прочитал на английском языке «The song of girl». И, наконец, «Среди холмов река течет…».
Он, когда читал стихи, смотрел вперёд и немного вверх, будто читал по звёздам, а в перерывах в упор смотрел на девушку, как бы спрашивая: «Ты понимаешь? Ты понимаешь меня?!». Но Таня не понимала. Она, под ритм стихов, всё думала о своём и не смотрела на провожатого.
Так, незаметно и слишком быстро они прошли свой путь. Вот уже впереди завиднелся ярко освещённая площадь с кинотеатром «Луч» на одной стороне и серым зданием главной областной библиотеки на другой. Очарование вечерней прогулки кончилось. Таня отпустила локоть Семёна Семёновича.
– Теперь я дойду, мне через дорогу, – сказала она.
– Может, завтра опять прогуляемся?
– Зачем? – удивилась Таня. – Завтра дождя не будет, а после работы я сразу еду домой.
– Ну, может, вечер будет хороший…
– Я не гуляю по вечерам, – уверенно заявила Таня. – Прощайте! – и она, не оглядываясь, перешла дорогу и направилась к стоянке автомобилей, расположенную у памятника Ленину. Навстречу ей нетерпеливо замигала фарами светлая иномарка. Девушка пробежала трусцой несколько шагов навстречу открывшейся изнутри дверце и села в машину. Иномарка сразу сорвалась с места и, требовательно гуднув, влилась в плотный вечерний поток автомобилей, запрудивших улицу Маркса.
Семён Семёнович вздохнул, провёл рукой по заметно лысеющей шевелюре. Сегодня был замечательный день. В этот день он испытал радость встречи, пылкую влюблённость, вдохновение. Но день прошёл, подходит к концу и осенний вечер. Пора к себе…
Он развернулся и пошёл назад, к своему дому. На ходу нащупал в кармане полиэтиленовый пакет и вспомнил, что надо бы зайти в магазин, купить хлеба, сосисок, молока.
Снова его дорога была пустынна, темна. Свет фар проезжающих автомобилей только ослеплял и делал темноту ещё непрогляднее. Ночное небо закрылось тучами, стало низким и неприветливым. Заморосило.
Семён Семёнович шел, чуть согнувшись, держа перед собой зонт, и думал, что завтра он снова увидит Таню. В лицо ему дул холодный порывистый ветер, обильно сдобренный тяжёлыми холодными каплями дождя.
Осень.
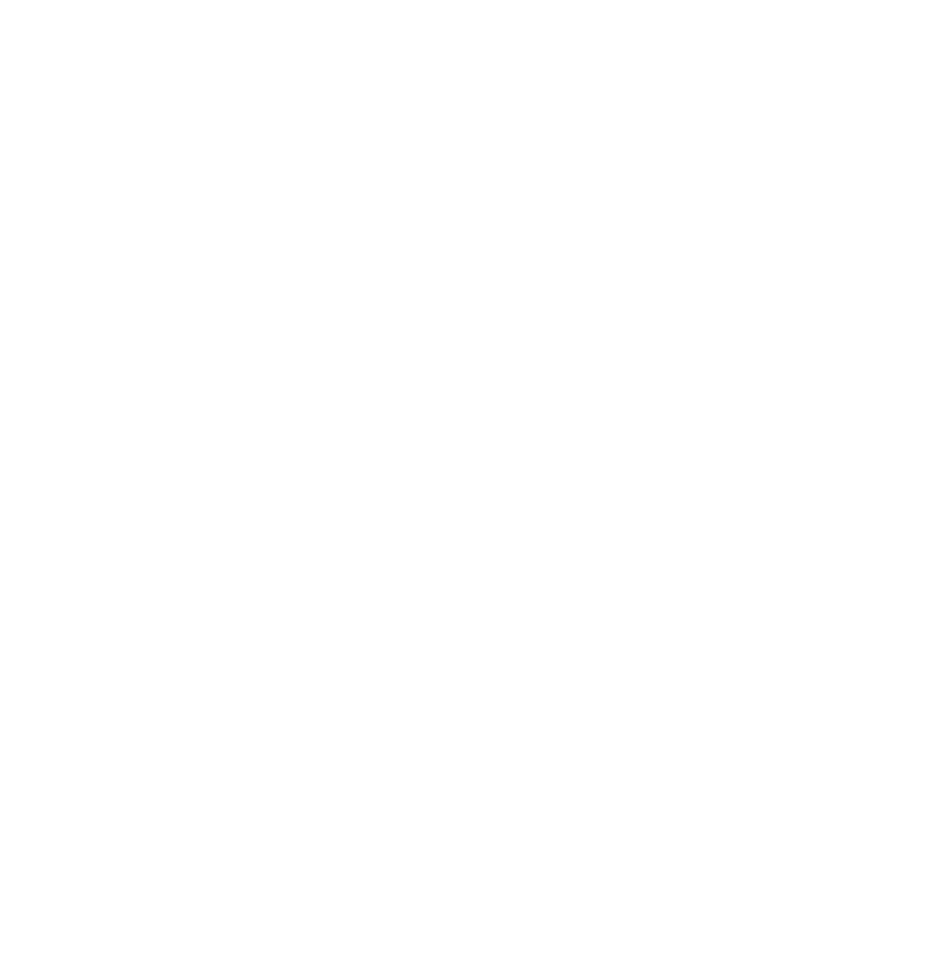
Михаил МОНАСТЫРСКИЙ
Родился в 1971 году в Таганроге. Окончил медицинскую академию, работал на скорой помощи и реанимационном отделении городской больницы. С 2007 года – врач высшей категории. Литературным творчеством увлекся в студенческие годы. Пишет стихи и прозу, чаще всего работает с малыми формами – рассказами, новеллами, миниатюрами.
Публиковался в альманахах Российского союза писателей. В 2012 году выпустил первую книгу. Увлекается поэзией, музыкой и кино. Член Российского Союза Писателей.
Родился в 1971 году в Таганроге. Окончил медицинскую академию, работал на скорой помощи и реанимационном отделении городской больницы. С 2007 года – врач высшей категории. Литературным творчеством увлекся в студенческие годы. Пишет стихи и прозу, чаще всего работает с малыми формами – рассказами, новеллами, миниатюрами.
Публиковался в альманахах Российского союза писателей. В 2012 году выпустил первую книгу. Увлекается поэзией, музыкой и кино. Член Российского Союза Писателей.
ТАМ ВРЕМЕНИ НЕТ
Кто-то лечит людей руками, а он исцелял их словом. Да, именно словом можно помочь человеку, но для этого нужно иметь особые способности. И они у него были. Простым словом он мог вернуть надежду, когда, казалось бы, уже нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Когда уже наплевать на самого себя и всё равно, что будет потом. Но, всё по порядку.
В девяностых годах прошлого века он похоронил своих родителей, и в последний раз покидая дом детства взял на память огромные старинные механические часы с боем, которые не работали. Им уже, наверное, было лет сто или двести. Никто этого не знал. На задней стенке было видно место крепления таблички, которой не было. На ней обычно пишут кто и когда их сделал. Спросить об их истории было не у кого. Помню, как по возвращению он пригласил местного часовщика, но тот за весь день так и не смог их отремонтировать, несмотря на перерывы с сытным угощением и крепким самогоном. Тогда я впервые услышал от хмельного мастера-часовщика историю про туземных мальчиков-слуг.
– Вы никогда не задавались вопросом, зачем у таких часов такой высокий корпус, он же с человеческий рост? – выпив очередную рюмку, и аккуратно поставив её на стол, спросил у нас мастер.
Мы все пожали плечами, никто и никогда даже не задумывался об этом. Часовщик, не скрывая радости от нашей неосведомлённости в истории часового дела, как бы нечаянно бросил взгляд на заканчивающуюся бутыль, давно переместившуюся с края стола в центр. Ему тут же налили. Он, никого не дожидаясь, выпалил словно тост:
– Мальчик сидел в этом шкафу! Его так и называли – «бой»!
Мы с любопытством следили за мастером, его точными, будто бы механическими движениями рук и пальцев, и ежесекундно меняющимся выражением лица, которое казалось, не поддавалось его сознанию. Мимика пьяного часовщика абсолютно не соответствовала ни происходящему, ни произносимому им. Это выглядело забавно и необычно. Мастерски выпив залпом, закусив слабомалосольным огурчиком, он вытер рот и покрасневшее лицо рукавом, сконцентрировавшись, восстановил глубоким вдохом дыхание, и начал рассказ.
– Это просто перевод английского выражения «a clock with a boy» – часы с мальчиком. Бой должен был звонить в гонг перед трапезой, призывая к столу иноземных хозяев-колонизаторов. Полуголый туземец с гонгом оскорблял тонкий вкус дам и джентльменов, поэтому вскоре придумали напольные часы. Да, это был настоящий мальчик, там бы не поместился взрослый человек. Он не мог видеть циферблата, поэтому особый механизм молоточком лупил его по голове, а он столько же раз вызванивал. Так он жил, лишенный солнечного света и сна, запертый в тесном ящике из дерева, сходя с ума, медленно цепенея и принимая форму своего вместилища...
Тут часовщик прервался, сам налил себе самогон до краёв стопки, разом выпил, и продолжил свой сказ:
– А через несколько лет его уже нельзя было оттуда вытащить, понимаете? Нужно только было разобрать часы! Иногда «бой» доживал до старости, а часы переходили от отца к сыну, сын увозил их в свой дом, но «бой» ничего об этом не знал – он всё вызванивал свои часы, повинуясь ударам сатанинского молоточка. Эта мода продержалась сотни лет, пока не изобрели автоматические часы с надёжным механизмом. Но во многих домах, как и у вас, сохранились часы с гробовыми, высокими ящиками.
Он ещё налил и выпил, не закусывая.
– Навсегда были заперты их дверцы, надёжно хранящие свою тайну. Все, помнившие эту жуткую историю, к тому времени давно умерли, и ничего не подозревающие потомки вскрывали запечатанные и заколоченные дверцы, надеясь найти клад предков, но они находили иссохший, изуродованный скелет. Отсюда и поговорка о «скелетах в шкафу». В ваших часах нет ни скелета, ни клада. Просто это часы, которые не хотят идти, как бы я их не заставлял! Такое тоже бывает, но очень-очень редко...
Сделав неожиданный для нас вывод, мастер опять налил себе, выпил и с трудом встал из-за стола. Плавно покачиваясь и медленно переставляя ноги, он направился к выходу. Дойдя до двери, он остановился, повернулся к нам лицом, и сказал на прощание:
– Вы поймите, друзья мои, что эти часы, как наша земная жизнь – клетка ограничений, условий и обязательств... А время? Ха-ха-ха! Колотит нас молоточек, всех без исключения! Понимаете? Тик-так! Бабах по башке! Страшно, что оттуда вытащить ни вас, ни меня невозможно! Так, что радуйтесь, что часы ваши я не починил... пойду я...
Выйдя, как в замедленном кино на улицу, мастер поплёлся восвояси, на ходу кланяясь во все четыре стороны. Мне показалось, что он идёт сквозь толпу невидимых людей, которых видит только он.
Словом, часы так и не пошли, но как антиквариат, имеющий значительную ценность для хозяина дома, в дальнейшем их установили в гостиной. Там они безмолвно простояли более трёх десятков лет пока вдруг ночью, как гром среди ясного неба, на весь дом не раздался напугавший всех до смерти оглушительный часовой бой, будто он прорвался из неизвестного нам потустороннего мира. Этому мистическому явлению не было никакого объяснения, ведь часы никто и никогда не заводил. К ним даже никогда не притрагивались. Разве, что только во время уборок в доме с них аккуратно снимали пыль, ложившуюся на покрытую лаком деревянную поверхность. Но мы ко всему привыкаем, и через пару месяцев все домочадцы уже не обращали внимания на ежечасный бой, который уже никого не пугал. Казалось, что эти часы всегда звучали в этом доме, шагая в такт с ритмом жизни семьи. Замечу, что никто и не думал открывать дверцу, чтобы подвести их. А они сами всё шли, шли и шли...
Только вот хозяин дома – наследник этих старинных часов однажды не выдержал и тихо, чтобы нас никто не услышал, сказал мне:
– Часы эти... по мне бьют...
– Да, ладно тебе, с чего это ты так решил? – настороженно спросил я.
– Вот увидишь, – ответил он, как обычно махнув рукой, безропотно принимая неизбежное. – Вот увидишь...
И больше мы с ним об этом не говорили.
Шло время. Скоро этот разговор забылся, затерялся в суете, заботах и делах. Мы не виделись, но созванивались по несколько раз в неделю, подолгу обсуждая разные вопросы. В любое время проявляя внимание он давал важные и необходимые мне советы, по-отцовски, рассказывая в шутливой форме истории из своей сложной жизни, стараясь максимально просто и доходчиво передать накопленный опыт. Стоило мне только спросить, как у него тут же появлялся свой удивительный, местами чудной рассказ. На любую тему – от различия принципов работы электрической лампочки и двигателя внутреннего сгорания до наблюдений за поведением котят, оставшихся без попечения родителей и вскормленных его овчаркой в будке, которую мы с ним вместе сколотили несколько лет назад. Он был простым русским человеком с весьма сильным характером и незаурядными способностями, с добрым сердцем, бескорыстной и вечно открытой настежь душой, как все окна и дверь, ведущая от широкого чистого крыльца в сад к деревьям, посаженным его лёгкой рукой.
Но вот в его голосе я стал слышать слабость и некую растерянность, которые он пытался скрыть, ссылаясь не некачественную мобильную связь, временную усталость или же недомогание.
А потом, ни с того ни с сего, мне очень ясно приснился суживающийся кверху гранёный каменный обелиск – монумент воину. На его вершине в ярком свете Солнца сверкала звезда. Памятник был изображён на открытке, которую он мне показал в моём сне. Проснувшись, я срочно выехал к нему. Я не узнал его. Оказалось, что болезнь в один миг съела здоровенного, широкоплечего богатыря. На склоне лет судьба беспощадно добивала его, издеваясь и мучая невыносимыми болями. Он всё понимал, терпел и молчал, глядя на всех. Медицина в очередной раз была бессильна, она будто стояла вместе с нами в стороне, наблюдая за садистскими нечеловеческими пытками. Несколько раз в жизни тяжёлые заболевания уже сбивали его с ног, но он раз за разом гордо вставал во весь рост, потому что был настоящим бойцом, сохраняющим крепкий дух и непоколебимую веру в своё выздоровление, людей и жизнь. Он всегда возвращался в строй. Глядя на него никто не мог даже предположить, что этот человек неоднократно и самостоятельно вытаскивал себя из тьмы, из которой никому не выбраться. Точнее сказать, я лично не видел больше таких людей. Это как нужно любить жизнь, чтобы насмерть стоять за неё, бороться каждую минуту без права опустить руки хотя бы на передышку? Его героические подвиги потрясали врачей.
Но не в этот раз...
Стоя у его постели мы разводили руками, еле сдерживая слёзы, стараясь не показывать ему вида, пытаясь поддержать его в последние часы жизни. Я сел рядом с ним, взял его огромную ладонь, и начал про себя читать молитвы. Он смотрел сквозь меня, сжимая мою руку. И вдруг он сказал:
– Там времени нет, а вы ещё пригодитесь.
Больше не произнеся ни слова, примерно через час, он тихо ушёл от нас.
Когда его тело увезли, мы находились в шоке, сидя в гостиной. Мы не верили, что это случилось по-настоящему, что этот поединок со смертью стал для него последним. Его сын неожиданно прервал долгое молчание:
– Часы перестали бить...
Мы подняли головы, и посмотрели на циферблат – стрелки остановились ровно в минуту смерти своего хозяина. Больше они не шли. И сейчас эти часы безмолвно стоят в его доме.
P.S. На его сорок дней я машинально остановил автомобиль у одного из ритуальных агентств, расположенных рядом с кладбищем, чтобы заказать памятник. Выключив двигатель я, не успев выйти из-за руля поднял глаза, и увидел на стене здания большую рекламную вывеску в виде открытки из моего сна с названием и логотипом фирмы – «Обелиск»...
Светлая память воину!
Кто-то лечит людей руками, а он исцелял их словом. Да, именно словом можно помочь человеку, но для этого нужно иметь особые способности. И они у него были. Простым словом он мог вернуть надежду, когда, казалось бы, уже нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Когда уже наплевать на самого себя и всё равно, что будет потом. Но, всё по порядку.
В девяностых годах прошлого века он похоронил своих родителей, и в последний раз покидая дом детства взял на память огромные старинные механические часы с боем, которые не работали. Им уже, наверное, было лет сто или двести. Никто этого не знал. На задней стенке было видно место крепления таблички, которой не было. На ней обычно пишут кто и когда их сделал. Спросить об их истории было не у кого. Помню, как по возвращению он пригласил местного часовщика, но тот за весь день так и не смог их отремонтировать, несмотря на перерывы с сытным угощением и крепким самогоном. Тогда я впервые услышал от хмельного мастера-часовщика историю про туземных мальчиков-слуг.
– Вы никогда не задавались вопросом, зачем у таких часов такой высокий корпус, он же с человеческий рост? – выпив очередную рюмку, и аккуратно поставив её на стол, спросил у нас мастер.
Мы все пожали плечами, никто и никогда даже не задумывался об этом. Часовщик, не скрывая радости от нашей неосведомлённости в истории часового дела, как бы нечаянно бросил взгляд на заканчивающуюся бутыль, давно переместившуюся с края стола в центр. Ему тут же налили. Он, никого не дожидаясь, выпалил словно тост:
– Мальчик сидел в этом шкафу! Его так и называли – «бой»!
Мы с любопытством следили за мастером, его точными, будто бы механическими движениями рук и пальцев, и ежесекундно меняющимся выражением лица, которое казалось, не поддавалось его сознанию. Мимика пьяного часовщика абсолютно не соответствовала ни происходящему, ни произносимому им. Это выглядело забавно и необычно. Мастерски выпив залпом, закусив слабомалосольным огурчиком, он вытер рот и покрасневшее лицо рукавом, сконцентрировавшись, восстановил глубоким вдохом дыхание, и начал рассказ.
– Это просто перевод английского выражения «a clock with a boy» – часы с мальчиком. Бой должен был звонить в гонг перед трапезой, призывая к столу иноземных хозяев-колонизаторов. Полуголый туземец с гонгом оскорблял тонкий вкус дам и джентльменов, поэтому вскоре придумали напольные часы. Да, это был настоящий мальчик, там бы не поместился взрослый человек. Он не мог видеть циферблата, поэтому особый механизм молоточком лупил его по голове, а он столько же раз вызванивал. Так он жил, лишенный солнечного света и сна, запертый в тесном ящике из дерева, сходя с ума, медленно цепенея и принимая форму своего вместилища...
Тут часовщик прервался, сам налил себе самогон до краёв стопки, разом выпил, и продолжил свой сказ:
– А через несколько лет его уже нельзя было оттуда вытащить, понимаете? Нужно только было разобрать часы! Иногда «бой» доживал до старости, а часы переходили от отца к сыну, сын увозил их в свой дом, но «бой» ничего об этом не знал – он всё вызванивал свои часы, повинуясь ударам сатанинского молоточка. Эта мода продержалась сотни лет, пока не изобрели автоматические часы с надёжным механизмом. Но во многих домах, как и у вас, сохранились часы с гробовыми, высокими ящиками.
Он ещё налил и выпил, не закусывая.
– Навсегда были заперты их дверцы, надёжно хранящие свою тайну. Все, помнившие эту жуткую историю, к тому времени давно умерли, и ничего не подозревающие потомки вскрывали запечатанные и заколоченные дверцы, надеясь найти клад предков, но они находили иссохший, изуродованный скелет. Отсюда и поговорка о «скелетах в шкафу». В ваших часах нет ни скелета, ни клада. Просто это часы, которые не хотят идти, как бы я их не заставлял! Такое тоже бывает, но очень-очень редко...
Сделав неожиданный для нас вывод, мастер опять налил себе, выпил и с трудом встал из-за стола. Плавно покачиваясь и медленно переставляя ноги, он направился к выходу. Дойдя до двери, он остановился, повернулся к нам лицом, и сказал на прощание:
– Вы поймите, друзья мои, что эти часы, как наша земная жизнь – клетка ограничений, условий и обязательств... А время? Ха-ха-ха! Колотит нас молоточек, всех без исключения! Понимаете? Тик-так! Бабах по башке! Страшно, что оттуда вытащить ни вас, ни меня невозможно! Так, что радуйтесь, что часы ваши я не починил... пойду я...
Выйдя, как в замедленном кино на улицу, мастер поплёлся восвояси, на ходу кланяясь во все четыре стороны. Мне показалось, что он идёт сквозь толпу невидимых людей, которых видит только он.
Словом, часы так и не пошли, но как антиквариат, имеющий значительную ценность для хозяина дома, в дальнейшем их установили в гостиной. Там они безмолвно простояли более трёх десятков лет пока вдруг ночью, как гром среди ясного неба, на весь дом не раздался напугавший всех до смерти оглушительный часовой бой, будто он прорвался из неизвестного нам потустороннего мира. Этому мистическому явлению не было никакого объяснения, ведь часы никто и никогда не заводил. К ним даже никогда не притрагивались. Разве, что только во время уборок в доме с них аккуратно снимали пыль, ложившуюся на покрытую лаком деревянную поверхность. Но мы ко всему привыкаем, и через пару месяцев все домочадцы уже не обращали внимания на ежечасный бой, который уже никого не пугал. Казалось, что эти часы всегда звучали в этом доме, шагая в такт с ритмом жизни семьи. Замечу, что никто и не думал открывать дверцу, чтобы подвести их. А они сами всё шли, шли и шли...
Только вот хозяин дома – наследник этих старинных часов однажды не выдержал и тихо, чтобы нас никто не услышал, сказал мне:
– Часы эти... по мне бьют...
– Да, ладно тебе, с чего это ты так решил? – настороженно спросил я.
– Вот увидишь, – ответил он, как обычно махнув рукой, безропотно принимая неизбежное. – Вот увидишь...
И больше мы с ним об этом не говорили.
Шло время. Скоро этот разговор забылся, затерялся в суете, заботах и делах. Мы не виделись, но созванивались по несколько раз в неделю, подолгу обсуждая разные вопросы. В любое время проявляя внимание он давал важные и необходимые мне советы, по-отцовски, рассказывая в шутливой форме истории из своей сложной жизни, стараясь максимально просто и доходчиво передать накопленный опыт. Стоило мне только спросить, как у него тут же появлялся свой удивительный, местами чудной рассказ. На любую тему – от различия принципов работы электрической лампочки и двигателя внутреннего сгорания до наблюдений за поведением котят, оставшихся без попечения родителей и вскормленных его овчаркой в будке, которую мы с ним вместе сколотили несколько лет назад. Он был простым русским человеком с весьма сильным характером и незаурядными способностями, с добрым сердцем, бескорыстной и вечно открытой настежь душой, как все окна и дверь, ведущая от широкого чистого крыльца в сад к деревьям, посаженным его лёгкой рукой.
Но вот в его голосе я стал слышать слабость и некую растерянность, которые он пытался скрыть, ссылаясь не некачественную мобильную связь, временную усталость или же недомогание.
А потом, ни с того ни с сего, мне очень ясно приснился суживающийся кверху гранёный каменный обелиск – монумент воину. На его вершине в ярком свете Солнца сверкала звезда. Памятник был изображён на открытке, которую он мне показал в моём сне. Проснувшись, я срочно выехал к нему. Я не узнал его. Оказалось, что болезнь в один миг съела здоровенного, широкоплечего богатыря. На склоне лет судьба беспощадно добивала его, издеваясь и мучая невыносимыми болями. Он всё понимал, терпел и молчал, глядя на всех. Медицина в очередной раз была бессильна, она будто стояла вместе с нами в стороне, наблюдая за садистскими нечеловеческими пытками. Несколько раз в жизни тяжёлые заболевания уже сбивали его с ног, но он раз за разом гордо вставал во весь рост, потому что был настоящим бойцом, сохраняющим крепкий дух и непоколебимую веру в своё выздоровление, людей и жизнь. Он всегда возвращался в строй. Глядя на него никто не мог даже предположить, что этот человек неоднократно и самостоятельно вытаскивал себя из тьмы, из которой никому не выбраться. Точнее сказать, я лично не видел больше таких людей. Это как нужно любить жизнь, чтобы насмерть стоять за неё, бороться каждую минуту без права опустить руки хотя бы на передышку? Его героические подвиги потрясали врачей.
Но не в этот раз...
Стоя у его постели мы разводили руками, еле сдерживая слёзы, стараясь не показывать ему вида, пытаясь поддержать его в последние часы жизни. Я сел рядом с ним, взял его огромную ладонь, и начал про себя читать молитвы. Он смотрел сквозь меня, сжимая мою руку. И вдруг он сказал:
– Там времени нет, а вы ещё пригодитесь.
Больше не произнеся ни слова, примерно через час, он тихо ушёл от нас.
Когда его тело увезли, мы находились в шоке, сидя в гостиной. Мы не верили, что это случилось по-настоящему, что этот поединок со смертью стал для него последним. Его сын неожиданно прервал долгое молчание:
– Часы перестали бить...
Мы подняли головы, и посмотрели на циферблат – стрелки остановились ровно в минуту смерти своего хозяина. Больше они не шли. И сейчас эти часы безмолвно стоят в его доме.
P.S. На его сорок дней я машинально остановил автомобиль у одного из ритуальных агентств, расположенных рядом с кладбищем, чтобы заказать памятник. Выключив двигатель я, не успев выйти из-за руля поднял глаза, и увидел на стене здания большую рекламную вывеску в виде открытки из моего сна с названием и логотипом фирмы – «Обелиск»...
Светлая память воину!
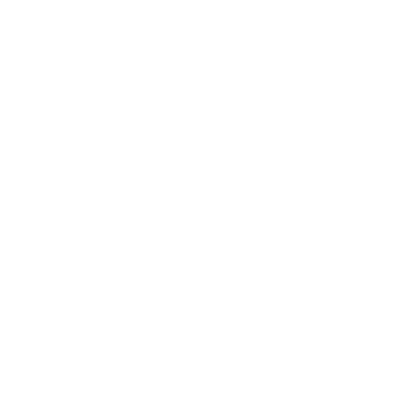
Нина ШАМАРИНА
Родилась в подмосковной деревне, уже более 40 лет живет в Москве. Детство в деревне почти всегда присутствует в рассказах Нины, в описаниях природы, деталях и героях, даже если рассказ не о деревне.
Начала писать небольшие рассказы давно, но публиковаться стала только с 2017 года в Альманахе культурного центра «Фелисион». Вышли два сборника детских рассказов на площадке Литреса, там же опубликована повесть «Остров». Рассказ «Птица цвета метели» вошел в шорт-лист конкурса рассказов о любви на сайте «Счастье слова».
В 2019 году в издательстве «Фелисион» вышла первая книга Нины Шамариной «Двадцать семнадцать».
Родилась в подмосковной деревне, уже более 40 лет живет в Москве. Детство в деревне почти всегда присутствует в рассказах Нины, в описаниях природы, деталях и героях, даже если рассказ не о деревне.
Начала писать небольшие рассказы давно, но публиковаться стала только с 2017 года в Альманахе культурного центра «Фелисион». Вышли два сборника детских рассказов на площадке Литреса, там же опубликована повесть «Остров». Рассказ «Птица цвета метели» вошел в шорт-лист конкурса рассказов о любви на сайте «Счастье слова».
В 2019 году в издательстве «Фелисион» вышла первая книга Нины Шамариной «Двадцать семнадцать».
ЧАЙНАЯ РАПСОДИЯ
Летом вечерний чай всегда накрывался на террасе, и Лиза принимала в подготовке самое деятельное участие.
В чайник – металлический, большой, зелёный, литров на пять – Лиза наливала воду, принесённую из колодца, прямо из оцинкованного ведра, через край, широкой ровной струёй, но с острым языком на конце, чтобы не пролить на пол, попасть точно в горлышко чайника. Двумя руками подняв, ставила чайник на электрическую плитку. Тоненькая плотно закрученная спираль, змейкой проложенная в керамических желобках, в одном месте чуть раскрутилась, и завитки, слегка вылезающие из своего ложа, перед включением плитки приходится заправлять на место. Спираль медленно краснеет, наливается алым цветом, как малина соком, становясь всё ярче, всё горячее. Конечно, когда чайник стоит на плитке, этого не увидеть, но что мешает Лизе приподнять чайник и наблюдать до тех пор, пока не обдаст лицо горячим жаром? По бокам чайника стекают мелкие капли и испаряются сначала с мягким шипением, потом с острым сухим треском; в его утробе зарождается глухое ворчание, перетекающее в тоненький свист. Из носика вырывается пар, и Лиза выдёргивает вилку из розетки. Чайник остаётся на выключенной плитке, постепенно успокаиваясь, долго держа тепло. Однажды Лиза отхлебнула из этого чайника, прямо из носика (нестерпимо захотелось попить) но не ожидала, что вода так горяча. Пришлось потом катать во рту округлое подсолнечное масло, почти не ощущая обожжённым языком его маслянистых боков.
Днём всё на террасе оплывает и плавится от зноя, настежь раскрытая на улицу дверь и тюль на окнах от пекла не спасают. В стекло, нет-нет, бьётся ленивая муха, и когда она прекращает жужжать, кажется, что её сморило от расслабляющего зноя.
А вечером воздух остывает, твердея; становятся более чёткими очертания предметов, глубокими и яркими цвета. Прямо у крыльца благоухают маттиолы – ночные цветы, они раскрываются к вечеру и источают одуряющий запах.
На светло-синем небе загорается первая звезда маленькой точкой, без лучей. Повисает тонюсенький месяц, всегда в одном и том же месте – на третьей снизу ветке яблони, и эта яблоня отделяется от остальных, выдвигается на первый план, солирует. Но вот высыпают звёзды ещё и ещё, и ещё, словно зёрна в посевную, рассыпанные по полю щедрой рукой. Кроны яблонь сливаются в общий шатёр, становясь неразличимыми в темноте, и луна поднимается всё выше. А вот и ковш сияет во все свои семь звёзд. Подружка Вера уверяет, что звёзд в Большой медведице – восемь, но, якобы, только самые глазастые различают четвёртую звезду в ручке ковша. Никто из девчонок не хочет казаться близорукой, и потому все согласно кивают: «Восемь, восемь, я вижу восемь! Воооон восьмая!» Стрекочут на разные голоса кузнечики, и одинокий пирамидальный тополь за калиткой изредка трепещет под мимолетным ветерком.
Чай из жёлтой пачки с нарисованным на боку слоном давно заварен в фиолетовом с золотыми вензелями чайничке из сервиза «Кобальт», который укрыт «Бабой на чайник». Только «Баба» совсем не баба, а изящная девушка с тонкой талией, пышной юбкой, в шляпке и с ажурным зонтиком. Лизе всегда кажется, что именно этот зонтик ловит аромат чая, как сачок бабочку, не давая ему улететь с чуть заметным сквозняком. Чашки из сервиза, чтобы не разбились, вынимаются из буфета только по праздникам, а заварной чайник несёт свою службу каждый день. На столе – пряники, сушки, карамель без обёрток, в блестящих крупинках сахарного песка, но Лиза очень любит пить чай с сахаром. Его – плотный, разновеликими кусками – не откусить даже крепкими Лизиными зубками, и Лиза макает его в чай, как впрочем, и все остальные: мама, папа, бабушка…Очень важно не прозевать момент, когда сахар чуть подтаял, но не начал растворяться, хотя так заманчиво наблюдать, как образуется сироп, и две жидкости разной плотности, толкаясь и волнуясь, проникают друг в друга. Горячий чай наливается из чашки в блюдце, и все присутствующие смачно прихлёбывают из этих блюдечек. Тихо спускается ночь, и мама зажигает свет. Взлетают и кружатся вокруг лампы ночные бабочки, тонко звенят комары. Взрослые изредка переговариваются, а Лизина голова, подпёртая кулачком на согнутом локте, уже клонится к столу и вот-вот упадёт. Сон смежит веки, но Лиза упрямо таращит глаза: «Нет, я не сплю», но, наконец, сдаётся, и, ныряя в прохладу своей постельки, чувствует, как медленно плывёт и вращается Земля, чтобы через несколько часов подставить Солнцу свой бок.
РАССКАЗ О ДАМЕ, ОКРОВАВЛЕННОМ ЧЕЛОВЕК И ЧУДЕСНОМ ПЛЕТЁНОМ СТУЛЕ
Приснился мне сон, до того отчётлив, связен и структурирован, что диву даёшься – как будто всё произошло наяву.
Коли прочтёте до конца, сможете в этом убедиться.
И снилась мне я сама, но намереваясь не создавать путаницы в повествовании, назову главное действующее лицо кратко – «жительница Москвы зрелых лет и малого достатка», ну, а ежели ещё короче – «Дама».
Так вот, заказала наша Дама в интернет-магазине (не буду упоминать его названия, дабы не уличили меня, автора, в навязчивой рекламе) диванчик для кухни. Маленький компактный диванчик, но чтобы непременно раскладывался, создавая таким образом, ещё одно спальное место в небольшой квартире Дамы для запозднившихся гостей. Необходимо заметить, что небольшая квартира – у меня, а что за жилплощадь у Дамы, мне неведомо, потому как мелькали в причудливых кулуарах сна какие-то галереи, арки, убегающие вдаль колоннады.
Стоил диванчик то ли 12600, то ли 126600 – это для нашей повести неважно, поэтому будем считать 126 денежных единиц. Не условных, а самых, что ни на есть, кровных. (С доставкой и сборкой).
И привезли диванчик в срок.
Немного отвлекусь, к слову сказать (хотя мысль не нова), что в снах понапихано многое из того, что происходило накануне: события разной значимости и продолжительности, посты в Фейсбуке, разговоры по телефону, прочитанные книги и просмотренные фильмы. Намедни я смотрела онлайн-экскурсию о незавершённых объектах архитектуры 30-х годов, и поэтому, вероятно, жила Дама в громадной прямоугольной коробке по типу не построенного, а лишь спроектированного дома Наркомата тяжёлой промышленности. Прекрасным утром во внутреннем, прямоугольном же, дворе этого самого дома три грузчика вытаскивают из Газели большую картонную коробку и тащат её к подъезду. Не знаю, происходит ли это до всемирного карантина или доставщики грубо нарушают масочный режим, но их лица открыты и в прямом, и в переносном смысле. Но когда Дама открывает дверь холла (о, этот пресловутый холл! Странное помещение за металлической дверью, неизвестно, зачем выделенное), пред её взором возникает такая сцена: два (это важно для полноты картины и развязки сюжета) улыбающихся грузчика держат коробку с заказанной мебелью, а третий человек – в ссадинах, пыли и с окровавленной головой – наседает на них, оттирает от двери и, активно жестикулируя, требует компенсации, пока для Дамы не понятно за что. Мелкими шажками, словно муравьи с соломинкой передвигаясь, волокут грузчики заказ в квартиру; вваливается за ними против воли хозяйки и окровавленный человек. В квартире во всех её залах, комнатах и комнатёнках носятся и визжат дети, лают и крутятся под ногами собаки, кружится пыль в лучах света из высоких стрельчатых окон, короче, царит суматоха, усиливающаяся с появлением посторонних мужчин. Перепалка меж прибывшими не утихает, и становится ясна суть конфликта. По словам окровавленного человека, те двое наехали (в самом буквальном смысле) на своей Газели на него, когда он стоял во дворе, обсаженном липами по периметру, и с умилением наблюдал за голубями, не делая никому ничего плохого ни в эти минуты, ни когда-либо ещё. И теперь, дабы морально компенсировать нанесённый ему физический ущерб, грузчики обязаны отдать ему хотя бы один стул.
– Помилуйте, – воскликнула в этом месте рассказа Дама, – какой стул? Я не заказывала никаких стульев!
Но тут вмешался один из грузчиков и пояснил, что на самом деле, стул в заказе есть, более того, стульев – два! Два чудесных плетёных стула из Камбоджи дарит Даме фирма за первый заказ, практически «задарма», как изящно выразился один из представителей этой фирмы. А вы уловили подвох в малюсеньком слове «практически»? Не искушённая в интернет-покупках Дама не заметила этой оговорки, поневоле вовлечённая в нарастающий инцидент и сочувствующая каждой стороне.
Находясь под гипнозом обаяния молодых очаровательных мужчин, Дама рассеянно пробегает глазами накладную и не замечает того, что чудесные стулья, во-первых, не из Камбоджи, а, во-вторых, вовсе не бесплатны, хотя цена их в действительности не велика. Вследствие некоторого приятного смущения, радостного волнения и, вообще, будучи крайне великодушной отзывчивой и благородной, Дама склонна подарить один из изумительных плетёных стульев пострадавшему человеку, тем более что стул ей не нужен, и она считает его бесплатным. Ей и второй стул не нужен тоже, но грех отказываться, когда тебе дарят что-то, поэтому при всём уважении к страданиям окровавленного человека, тот, второй стул, она решает оставить себе.
Дама предлагает жертве наезда пройти в ванную, умыться и привести себя в порядок, пока грузчики будут собирать диванчик и извлекать из коробки дивные плетёные стулья.
Через несколько минут все трое уходят. Бывший ранее окровавленным человек умыт и свеж, но оставил после себя в ванной бурое полотенце, красные капли на раковине и зеркале и, видно по рассеянности, прихватил не один, а оба великолепных плетёных стула.
Дети тормошат Даму, просят сразу же разложить диванчик, примериться – удобно ли на нём спать; собаки от избытка чувств носятся, лают, и слегка прикусывают зубами новинку. Всё это отвлекает Даму от неясных тревожных дум.
Но если бы Дама обладала умением видеть сквозь стены (в полметра толщиной, как у Тяжмашевского никогда не построенного дома) или хотя бы выглянула в окно, то увидела бы, как трое, вышедших от неё мужчин – и не поймёшь теперь, где грузчики, а где пострадавший – похлопывают друг друга по плечам, потирают руки и ухмыляются хищно и плотоядно. Как ставят они стулья в Газель между коробок с другими товарами и присовокупив к ещё трём или четырём таким же восхитительным плетёным стульям; как радостно осклабясь, тычут в телефон, показывая друг другу СМС о том, что на карту одного из них поступили деньги; как бывший окровавленным, а теперь чистый и благоуханный, помывшийся дорогим шампунем Дамы, встряхивает и смотрит на свет баночку с алой жидкостью, как бы прикидывая, на сколько обливаний её ещё хватит; как усаживаются все вместе в Газель, как прокладывает водитель новый маршрут к следующему доверчивому покупателю; как скоро позабыта коллизия, коли не была последняя виртуозно спланирована и исполнена.
А наша изумлённая и несколько даже ошеломлённая Дама, поминутно хватаясь то за очки, то за сердце, прочитывает, наконец, в накладной, что сумма её заказа – диванчик и два стула – 162. Это подтверждает и СМС из банка, сообщающая о списании с её счёта 162-х совсем не условных, а что ни на есть кровных, денежных единиц. Вместо 126-ти!
Что сказать вам, милые дамы? Никому не верьте, не следуйте высоким движениям души? Будьте благоразумны? Сама я никак не научусь внимать этому совету.
ВЛЮБЛЕННЫЙ КАЩЕЙ
Кощей Бессмертный, не замечая волочащийся по полу плащ, угрюмо бродил по своему дворцу, останавливался в мрачной задумчивости, тосковал. Чёрные стены дворца, поблёскивающие антрацитными всполохами, лишь усиливали его печаль.
– Что жизнь? Зачем она мне без Василисы? – вязкие мысли, медленно поворачиваясь, шмякались в мозгу.
Кощей смотрел на прялку, на веретено, на пяльцы с неоконченной вышивкой (птица Сирин расправляла на вышивке свои крыла) и вспоминал мягкую русую прядь, выбившуюся из длинной косы, красный, как мак, сарафан… Вспоминал Василису, как сидела она ещё вчера на высоком деревянном стуле, рукодельничала. Кощей подходил сзади, осторожно трогал Василисины волосы. Сжималась Василиса под его рукою, переставая дышать, и впадал Кощей в отчаяние, испарялась робкая, лелеемая им надежда, что полюбит его Василиса, оттает, поймёт, что ради любви к ней, на всё готов Кощей: не разорять более городов, не дружить с бабой Ягой, даже умереть готов: для чего ему бессмертие, коли самая прекрасная девушка на свете считает его злодеем и чудовищем?
И когда наблюдал за Василисой исподтишка (поблёскивала иголка в её пальчиках), понимал отчётливо, что держит Василиса в своих слабых ручках его бессмертие (точнее, его жизнь), не зря же смерть его – точно такая же тонкая легко ломающаяся иголка.
Но явился вечор Иван-царевич, мечом размахивал, на Кощея кидался. А Кощею и смешно, и грустно. Смешно от того, что возомнил о себе этот мальчишка! С Кощеем справиться никому пока не удавалось, никакой меч-кладенец не поможет, только если утку найти. А утку Кощей, чтобы глупых случайностей избежать (какой-нибудь шальной охотник подстрелит), давно в вольере держит, пшеничным зерном откармливает: не найти иголку в заплывшем жиром утином теле.
А грустно – грустно потому, что любит этого юнца Василиса Прекрасная! Видел Кощей, как вспыхнули её ланиты, как затрепетали ресницы, как заволновалась под белой рубахою чудесная грудь, когда Иван в Кощеевы покои явился. Как прижала Василиса к закушенной губке стиснутый кулачок, как наполнились ужасом её глаза, стоило завязаться битве между Кощеем да Иваном. И хоть играл Кощей, не всерьёз бился, но руку царевичу поранил – чтоб неповадно было. Ишь, понравилось – чуть что, с Кощеем драться!
А как кровь Иванова хлынула, заголосила Василиса и накинулась на Кощея, да всё кричала: «Беги, Ваня, беги! Меня душегуб не тронет!»
И прикинулся Кощей побеждённым, упал наземь. Плащом укрылся, чтоб не видеть, как убегает счастливая парочка.
А сегодня мается Кощей, кручинясь, вопрошает в отчаянии: «Зачем мне бессмертие без тебя, Василиса? Сам утку вскрою, отдам тебе иголку. Хочешь, шей-вышивай ею, хочешь – ломай, круши, приближай мою погибель».
Летом вечерний чай всегда накрывался на террасе, и Лиза принимала в подготовке самое деятельное участие.
В чайник – металлический, большой, зелёный, литров на пять – Лиза наливала воду, принесённую из колодца, прямо из оцинкованного ведра, через край, широкой ровной струёй, но с острым языком на конце, чтобы не пролить на пол, попасть точно в горлышко чайника. Двумя руками подняв, ставила чайник на электрическую плитку. Тоненькая плотно закрученная спираль, змейкой проложенная в керамических желобках, в одном месте чуть раскрутилась, и завитки, слегка вылезающие из своего ложа, перед включением плитки приходится заправлять на место. Спираль медленно краснеет, наливается алым цветом, как малина соком, становясь всё ярче, всё горячее. Конечно, когда чайник стоит на плитке, этого не увидеть, но что мешает Лизе приподнять чайник и наблюдать до тех пор, пока не обдаст лицо горячим жаром? По бокам чайника стекают мелкие капли и испаряются сначала с мягким шипением, потом с острым сухим треском; в его утробе зарождается глухое ворчание, перетекающее в тоненький свист. Из носика вырывается пар, и Лиза выдёргивает вилку из розетки. Чайник остаётся на выключенной плитке, постепенно успокаиваясь, долго держа тепло. Однажды Лиза отхлебнула из этого чайника, прямо из носика (нестерпимо захотелось попить) но не ожидала, что вода так горяча. Пришлось потом катать во рту округлое подсолнечное масло, почти не ощущая обожжённым языком его маслянистых боков.
Днём всё на террасе оплывает и плавится от зноя, настежь раскрытая на улицу дверь и тюль на окнах от пекла не спасают. В стекло, нет-нет, бьётся ленивая муха, и когда она прекращает жужжать, кажется, что её сморило от расслабляющего зноя.
А вечером воздух остывает, твердея; становятся более чёткими очертания предметов, глубокими и яркими цвета. Прямо у крыльца благоухают маттиолы – ночные цветы, они раскрываются к вечеру и источают одуряющий запах.
На светло-синем небе загорается первая звезда маленькой точкой, без лучей. Повисает тонюсенький месяц, всегда в одном и том же месте – на третьей снизу ветке яблони, и эта яблоня отделяется от остальных, выдвигается на первый план, солирует. Но вот высыпают звёзды ещё и ещё, и ещё, словно зёрна в посевную, рассыпанные по полю щедрой рукой. Кроны яблонь сливаются в общий шатёр, становясь неразличимыми в темноте, и луна поднимается всё выше. А вот и ковш сияет во все свои семь звёзд. Подружка Вера уверяет, что звёзд в Большой медведице – восемь, но, якобы, только самые глазастые различают четвёртую звезду в ручке ковша. Никто из девчонок не хочет казаться близорукой, и потому все согласно кивают: «Восемь, восемь, я вижу восемь! Воооон восьмая!» Стрекочут на разные голоса кузнечики, и одинокий пирамидальный тополь за калиткой изредка трепещет под мимолетным ветерком.
Чай из жёлтой пачки с нарисованным на боку слоном давно заварен в фиолетовом с золотыми вензелями чайничке из сервиза «Кобальт», который укрыт «Бабой на чайник». Только «Баба» совсем не баба, а изящная девушка с тонкой талией, пышной юбкой, в шляпке и с ажурным зонтиком. Лизе всегда кажется, что именно этот зонтик ловит аромат чая, как сачок бабочку, не давая ему улететь с чуть заметным сквозняком. Чашки из сервиза, чтобы не разбились, вынимаются из буфета только по праздникам, а заварной чайник несёт свою службу каждый день. На столе – пряники, сушки, карамель без обёрток, в блестящих крупинках сахарного песка, но Лиза очень любит пить чай с сахаром. Его – плотный, разновеликими кусками – не откусить даже крепкими Лизиными зубками, и Лиза макает его в чай, как впрочем, и все остальные: мама, папа, бабушка…Очень важно не прозевать момент, когда сахар чуть подтаял, но не начал растворяться, хотя так заманчиво наблюдать, как образуется сироп, и две жидкости разной плотности, толкаясь и волнуясь, проникают друг в друга. Горячий чай наливается из чашки в блюдце, и все присутствующие смачно прихлёбывают из этих блюдечек. Тихо спускается ночь, и мама зажигает свет. Взлетают и кружатся вокруг лампы ночные бабочки, тонко звенят комары. Взрослые изредка переговариваются, а Лизина голова, подпёртая кулачком на согнутом локте, уже клонится к столу и вот-вот упадёт. Сон смежит веки, но Лиза упрямо таращит глаза: «Нет, я не сплю», но, наконец, сдаётся, и, ныряя в прохладу своей постельки, чувствует, как медленно плывёт и вращается Земля, чтобы через несколько часов подставить Солнцу свой бок.
РАССКАЗ О ДАМЕ, ОКРОВАВЛЕННОМ ЧЕЛОВЕК И ЧУДЕСНОМ ПЛЕТЁНОМ СТУЛЕ
Приснился мне сон, до того отчётлив, связен и структурирован, что диву даёшься – как будто всё произошло наяву.
Коли прочтёте до конца, сможете в этом убедиться.
И снилась мне я сама, но намереваясь не создавать путаницы в повествовании, назову главное действующее лицо кратко – «жительница Москвы зрелых лет и малого достатка», ну, а ежели ещё короче – «Дама».
Так вот, заказала наша Дама в интернет-магазине (не буду упоминать его названия, дабы не уличили меня, автора, в навязчивой рекламе) диванчик для кухни. Маленький компактный диванчик, но чтобы непременно раскладывался, создавая таким образом, ещё одно спальное место в небольшой квартире Дамы для запозднившихся гостей. Необходимо заметить, что небольшая квартира – у меня, а что за жилплощадь у Дамы, мне неведомо, потому как мелькали в причудливых кулуарах сна какие-то галереи, арки, убегающие вдаль колоннады.
Стоил диванчик то ли 12600, то ли 126600 – это для нашей повести неважно, поэтому будем считать 126 денежных единиц. Не условных, а самых, что ни на есть, кровных. (С доставкой и сборкой).
И привезли диванчик в срок.
Немного отвлекусь, к слову сказать (хотя мысль не нова), что в снах понапихано многое из того, что происходило накануне: события разной значимости и продолжительности, посты в Фейсбуке, разговоры по телефону, прочитанные книги и просмотренные фильмы. Намедни я смотрела онлайн-экскурсию о незавершённых объектах архитектуры 30-х годов, и поэтому, вероятно, жила Дама в громадной прямоугольной коробке по типу не построенного, а лишь спроектированного дома Наркомата тяжёлой промышленности. Прекрасным утром во внутреннем, прямоугольном же, дворе этого самого дома три грузчика вытаскивают из Газели большую картонную коробку и тащат её к подъезду. Не знаю, происходит ли это до всемирного карантина или доставщики грубо нарушают масочный режим, но их лица открыты и в прямом, и в переносном смысле. Но когда Дама открывает дверь холла (о, этот пресловутый холл! Странное помещение за металлической дверью, неизвестно, зачем выделенное), пред её взором возникает такая сцена: два (это важно для полноты картины и развязки сюжета) улыбающихся грузчика держат коробку с заказанной мебелью, а третий человек – в ссадинах, пыли и с окровавленной головой – наседает на них, оттирает от двери и, активно жестикулируя, требует компенсации, пока для Дамы не понятно за что. Мелкими шажками, словно муравьи с соломинкой передвигаясь, волокут грузчики заказ в квартиру; вваливается за ними против воли хозяйки и окровавленный человек. В квартире во всех её залах, комнатах и комнатёнках носятся и визжат дети, лают и крутятся под ногами собаки, кружится пыль в лучах света из высоких стрельчатых окон, короче, царит суматоха, усиливающаяся с появлением посторонних мужчин. Перепалка меж прибывшими не утихает, и становится ясна суть конфликта. По словам окровавленного человека, те двое наехали (в самом буквальном смысле) на своей Газели на него, когда он стоял во дворе, обсаженном липами по периметру, и с умилением наблюдал за голубями, не делая никому ничего плохого ни в эти минуты, ни когда-либо ещё. И теперь, дабы морально компенсировать нанесённый ему физический ущерб, грузчики обязаны отдать ему хотя бы один стул.
– Помилуйте, – воскликнула в этом месте рассказа Дама, – какой стул? Я не заказывала никаких стульев!
Но тут вмешался один из грузчиков и пояснил, что на самом деле, стул в заказе есть, более того, стульев – два! Два чудесных плетёных стула из Камбоджи дарит Даме фирма за первый заказ, практически «задарма», как изящно выразился один из представителей этой фирмы. А вы уловили подвох в малюсеньком слове «практически»? Не искушённая в интернет-покупках Дама не заметила этой оговорки, поневоле вовлечённая в нарастающий инцидент и сочувствующая каждой стороне.
Находясь под гипнозом обаяния молодых очаровательных мужчин, Дама рассеянно пробегает глазами накладную и не замечает того, что чудесные стулья, во-первых, не из Камбоджи, а, во-вторых, вовсе не бесплатны, хотя цена их в действительности не велика. Вследствие некоторого приятного смущения, радостного волнения и, вообще, будучи крайне великодушной отзывчивой и благородной, Дама склонна подарить один из изумительных плетёных стульев пострадавшему человеку, тем более что стул ей не нужен, и она считает его бесплатным. Ей и второй стул не нужен тоже, но грех отказываться, когда тебе дарят что-то, поэтому при всём уважении к страданиям окровавленного человека, тот, второй стул, она решает оставить себе.
Дама предлагает жертве наезда пройти в ванную, умыться и привести себя в порядок, пока грузчики будут собирать диванчик и извлекать из коробки дивные плетёные стулья.
Через несколько минут все трое уходят. Бывший ранее окровавленным человек умыт и свеж, но оставил после себя в ванной бурое полотенце, красные капли на раковине и зеркале и, видно по рассеянности, прихватил не один, а оба великолепных плетёных стула.
Дети тормошат Даму, просят сразу же разложить диванчик, примериться – удобно ли на нём спать; собаки от избытка чувств носятся, лают, и слегка прикусывают зубами новинку. Всё это отвлекает Даму от неясных тревожных дум.
Но если бы Дама обладала умением видеть сквозь стены (в полметра толщиной, как у Тяжмашевского никогда не построенного дома) или хотя бы выглянула в окно, то увидела бы, как трое, вышедших от неё мужчин – и не поймёшь теперь, где грузчики, а где пострадавший – похлопывают друг друга по плечам, потирают руки и ухмыляются хищно и плотоядно. Как ставят они стулья в Газель между коробок с другими товарами и присовокупив к ещё трём или четырём таким же восхитительным плетёным стульям; как радостно осклабясь, тычут в телефон, показывая друг другу СМС о том, что на карту одного из них поступили деньги; как бывший окровавленным, а теперь чистый и благоуханный, помывшийся дорогим шампунем Дамы, встряхивает и смотрит на свет баночку с алой жидкостью, как бы прикидывая, на сколько обливаний её ещё хватит; как усаживаются все вместе в Газель, как прокладывает водитель новый маршрут к следующему доверчивому покупателю; как скоро позабыта коллизия, коли не была последняя виртуозно спланирована и исполнена.
А наша изумлённая и несколько даже ошеломлённая Дама, поминутно хватаясь то за очки, то за сердце, прочитывает, наконец, в накладной, что сумма её заказа – диванчик и два стула – 162. Это подтверждает и СМС из банка, сообщающая о списании с её счёта 162-х совсем не условных, а что ни на есть кровных, денежных единиц. Вместо 126-ти!
Что сказать вам, милые дамы? Никому не верьте, не следуйте высоким движениям души? Будьте благоразумны? Сама я никак не научусь внимать этому совету.
ВЛЮБЛЕННЫЙ КАЩЕЙ
Кощей Бессмертный, не замечая волочащийся по полу плащ, угрюмо бродил по своему дворцу, останавливался в мрачной задумчивости, тосковал. Чёрные стены дворца, поблёскивающие антрацитными всполохами, лишь усиливали его печаль.
– Что жизнь? Зачем она мне без Василисы? – вязкие мысли, медленно поворачиваясь, шмякались в мозгу.
Кощей смотрел на прялку, на веретено, на пяльцы с неоконченной вышивкой (птица Сирин расправляла на вышивке свои крыла) и вспоминал мягкую русую прядь, выбившуюся из длинной косы, красный, как мак, сарафан… Вспоминал Василису, как сидела она ещё вчера на высоком деревянном стуле, рукодельничала. Кощей подходил сзади, осторожно трогал Василисины волосы. Сжималась Василиса под его рукою, переставая дышать, и впадал Кощей в отчаяние, испарялась робкая, лелеемая им надежда, что полюбит его Василиса, оттает, поймёт, что ради любви к ней, на всё готов Кощей: не разорять более городов, не дружить с бабой Ягой, даже умереть готов: для чего ему бессмертие, коли самая прекрасная девушка на свете считает его злодеем и чудовищем?
И когда наблюдал за Василисой исподтишка (поблёскивала иголка в её пальчиках), понимал отчётливо, что держит Василиса в своих слабых ручках его бессмертие (точнее, его жизнь), не зря же смерть его – точно такая же тонкая легко ломающаяся иголка.
Но явился вечор Иван-царевич, мечом размахивал, на Кощея кидался. А Кощею и смешно, и грустно. Смешно от того, что возомнил о себе этот мальчишка! С Кощеем справиться никому пока не удавалось, никакой меч-кладенец не поможет, только если утку найти. А утку Кощей, чтобы глупых случайностей избежать (какой-нибудь шальной охотник подстрелит), давно в вольере держит, пшеничным зерном откармливает: не найти иголку в заплывшем жиром утином теле.
А грустно – грустно потому, что любит этого юнца Василиса Прекрасная! Видел Кощей, как вспыхнули её ланиты, как затрепетали ресницы, как заволновалась под белой рубахою чудесная грудь, когда Иван в Кощеевы покои явился. Как прижала Василиса к закушенной губке стиснутый кулачок, как наполнились ужасом её глаза, стоило завязаться битве между Кощеем да Иваном. И хоть играл Кощей, не всерьёз бился, но руку царевичу поранил – чтоб неповадно было. Ишь, понравилось – чуть что, с Кощеем драться!
А как кровь Иванова хлынула, заголосила Василиса и накинулась на Кощея, да всё кричала: «Беги, Ваня, беги! Меня душегуб не тронет!»
И прикинулся Кощей побеждённым, упал наземь. Плащом укрылся, чтоб не видеть, как убегает счастливая парочка.
А сегодня мается Кощей, кручинясь, вопрошает в отчаянии: «Зачем мне бессмертие без тебя, Василиса? Сам утку вскрою, отдам тебе иголку. Хочешь, шей-вышивай ею, хочешь – ломай, круши, приближай мою погибель».
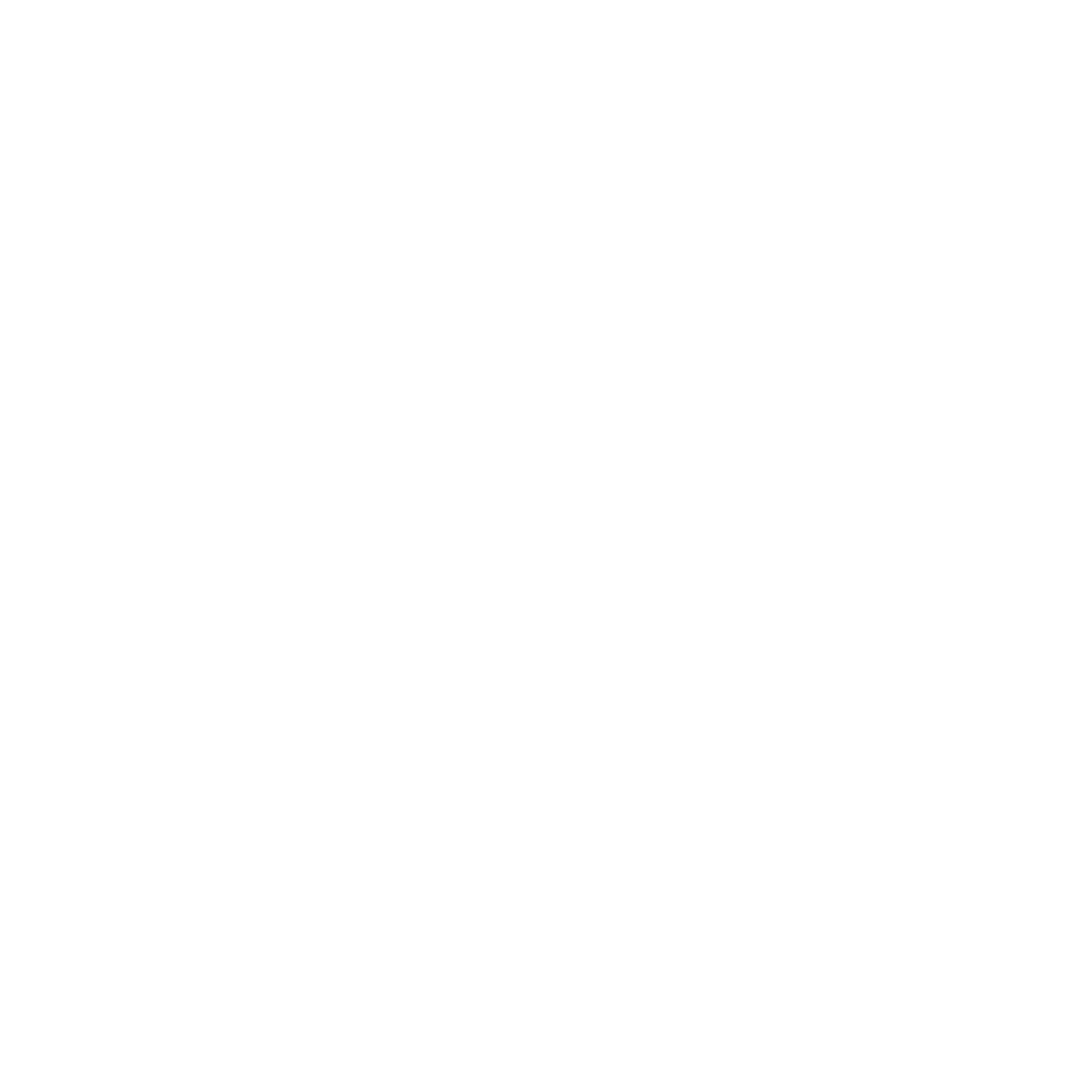
Евгений ШИЛОВ
Родился в 1981 году в г. Вязники Владимирской обл. Магистр теологии, кандидат философских наук. Член Российского Союза Писателей. Автор нескольких книг, переводов с латыни, французского и английского языков. Лауреат литературной премии «Наследие» (2019 г.).
Родился в 1981 году в г. Вязники Владимирской обл. Магистр теологии, кандидат философских наук. Член Российского Союза Писателей. Автор нескольких книг, переводов с латыни, французского и английского языков. Лауреат литературной премии «Наследие» (2019 г.).
ПАПИНО НАСЛЕДСТВО
Он с самого детства приучил себя писать. Уже в школе он начал вести дневники, записывал ежедневно – свои впечатления, мысли, встречи, стихи. Поначалу он их прятал от родителей, сестры, затем от жены и детей. Потом этих дневников стало слишком много, и они заняли целую полку в его шкафу. Тогда он перестал их прятать – к тому же жена ушла, а детям они были совершенно не интересны. В школьном возрасте ему далекая тетя из Москвы подарила печатную машинку – и он отстукивал по ночам, раздражая родственников и соседей – всё, что только можно: перепечатывал чужие стихи, понравившиеся статьи, свои сочинения. Потом появился компьютер, и с ним всегда чего-то недоставало: запаха бумаги, тактильных ощущений, дырочек-точек на обратной стороне листа, которые мягко кололи пальцы, когда он вынимал из машинки отпечатанный лист. Компьютер ему казался бездушной машиной, но и к нему он постепенно привык.
Но в этом многообразии исписанных листов, тетрадей, дневников, была одна записная книжка, которая была особенно дорога для него. Это была розовая толстая тетрадь с мягкой и теплой на ощупь, будто человеческая кожа, обложкой. Между страницами торчала несколько потрепанная сплетенная из голубых нитей закладка, раздваивающаяся на конце – будто прихлопнули ящерицу, и она высунула язык от неожиданности. Эта записная книжка была как новенькая – потому что он берег ее, брал ее аккуратно, вносил туда записи или перечитывал отдельные страницы, а потом так же нежно закрывал ее и нежно прижимал к себе – словно маленького ребенка или любимую женщину. С этой книжкой он никогда не расставался – возил ее с собой на конференции, в другие страны, в отпуск на море. Всегда прятал ее от чужих глаз. Постоянно менял ее тайное место дислокации, и порой долго ее искал сам, забыв о новом потайном месте. О ней никто не знал, кроме него самого. Этот блокнот подарила ему когда-то любимая девушка. Он прекрасно помнил тот день – выпускной в Университете, радостные лица, она ждет его на остановке автобуса и вручает ему подарок, завернутый в ярко-красную упаковку. Потом были ссоры, ее беременность, выкидыш, его позорное бегство от нее – она оказалась слишком живой, чтобы уложиться в его сухие и безжизненные теории, не помещалась в его рассудочных схемах. Потом он попытался ее вернуть, но было уже поздно, и она вышла замуж за его друга. А он практически сразу после этого женился – ей (или себе) на зло – на ее знакомой, и был несчастен всю жизнь, живя с нелюбимой и вспоминая о той, первой, подарившей ему записную книжку.
В этой книжке он записывал особое – он даже так ее и надписал – «Для особого», хотя и сам понимал, что название как-то не очень. Туда он записывал самые важные для него вещи – фразы из прочитанных книг и просмотренных фильмов, из своих дневников, отдельные стихи, которые он любил перечитывать (и от которых, тайком от других, сентиментально плакал). Туда же он вносил свои зарисовки (хотя он рисовал ужасно, и сам признавался в этом). Он когда-то нарисовал там дом, в котором бы он хотел жить. Нарисовал лес, в котором бы он хотел спрятаться от всех. Ракету, на которой хотел улететь в космос, подальше от людей. Иногда это были просто какие-то абстрактные линии, но и в них он вкладывал особый смысл – зашифрованный и понятный ему одному (хотя спустя годы и в который раз просматривая свои записи, он порой задавал вопрос: а что я имел в виду тогда, когда рисовал эти каракули, и сам же смеялся над собой – как старый человек смеется над глупым ребенком). И еще – он никогда не давал себе права закончить эту записную книжку. Она была бесконечным воспоминанием о юности и первой его любви.
Живя в небольшом провинциальном городе, он всегда ощущал себя непомещающимся в его узких границах. Писатель, краевед, преподаватель, он был известным и даже немного знаменитым. Его статьи печатались постоянно в местных газетах. Его приглашали на все городские мероприятия. Он переписывался с различными поэтами, писателями, историками. Можно сказать, он был местной достопримечательностью. Он собрал огромные архивы по истории города и района. И он был доволен собой – чувствовал себя нужным, необходимым. Его любили студенты – называли его «машиной времени» за его живые истории о прошлом, как будто он сам там побывал и был свидетелем великих событий и другом великих людей.
Но однажды вечером он пришел домой разбитый и уставший. Болело сердце, как будто кто-то сжимал его в своем кулаке и не отпускал. Он выпил корвалолу и закрылся в своей комнате. Казалось бы, ничего такого не произошло. Утром ездил в редакцию, днем – несколько лекций. Все, как обычно. Но стоя на остановке и ожидая своего автобуса, он разглядывал проезжающие мимо машины – отрешенно, как будто в забытьи, отдыхая от напряженного дня. И вдруг его взгляд зацепился за лицо в одной из машин – красном форде. Это лицо было знакомым, даже родным, но давным-давно забытым, выплывшим из прошлого. Это была она. Он давно не видел ее и даже последнее время не вспоминал о ней – все-таки прошло уже много лет, и так много всего поменялось. И она была за рулем, проехала мимо. И его окатило ледяной волной. Он решил не ждать автобуса, пройтись пешком. И во время этой прогулки он впервые задал для себя страшный вопрос, который застал его врасплох, распял его своей прямотой: а что я здесь делаю? ради чего всё это? И он не находил ответа. И пустота разлилась из него и затопила весь мир. Было пусто и бессмысленно всё – вся жизнь, все потуги, все поступки, все подвиги. Всё обесценилось моментально – в один миг, разрушив красивый карточный домик и не оставив ничего взамен.
Когда он пришёл домой, его встретили уже взрослые дочери. И он посмотрел на них и ему стало противно от мысли, что у него есть дочери. Он ясно осознал то, что всегда скрывал даже от себя самого – он никогда никого не любил. Его дочери всегда были для него чужими – от нелюбимой жены, они были изменой первой любви. И поэтому он никогда не бывал с ними близок, не чувствовал родные души в них – как будто только вынужденное соседство по комнатам заставляло его с ними разговаривать и общаться. Он прошел в свою комнату, закрылся в ней. Дочери знали, что отца лучше не беспокоить – они выучили его язык. Он лег на диван, достал свою тайную записную книжку и положил себе на грудь. Он гладил ее, как будто это была она – как будто она лежала рядом и никогда никуда не уходила. Гладил ее по голове, по ее мягким и шелковым волосам, чувствовал ее запах.
Он как никогда осознал, что всю свою жизнь он бежал от самого себя, от правды о себе. Он был всегда занят, чтобы не думать, не вспоминать, забыть прошлое. А сейчас все перевернулось вверх дном. Он стал настоящим. Но это была сплошная пустота – ничего не осталось, все маски разлетелись, и он остался наедине с самим собой – зияющей дырой в бесконечном и бессмысленном пространстве.
Он не понимал, что делать с этим дальше, как можно жить с этим осознанием. Он закрыл глаза. Сердце билось, как будто сломался какой-то ограничитель, как будто стерлись зубцы шестеренок и механизм крутился вхолостую, все более и более развивая скорость, лишенный всяких тормозов. Потом что-то сломалось – движение прекратилось и осталось одно тело. Его тело. Тело, которое не могло больше жить, остаток сознания, которое потеряло смысл…
Утром старшая дочь заглянула в комнату отца – удивляясь, что он так долго спит. Отца она там не нашла – она нашла какого-то чужого человека с бледным уставшим лицом. Она поняла, что совсем не видела отца настоящим – вот таким, как сейчас. Он всегда был чужим, каким-то далеким, прятавшимся от всех и молчавшим о самом главном. А вот теперь он настоящий – только поговорить с ним уже нельзя, да и не хочется.
После него остались груды книг, исписанных старательными каракулями тетрадей, записных книжек, папки фотографий. Поначалу дочери пытались разобрать папин почерк, но, поняв всю безуспешность (а главное – всю бесполезность) этой затеи, не нашли ничего лучшего, как отвезти всю эту макулатуру на дачу и сложить в подвале, чтобы комнаты не захламлять. Жизнь продолжалась дальше – и шла своим чередом. И вечерами, сидя за чашкой чая и в который раз просматривая альбомы с фотографиями, вспоминали об отце. И он им представлялся далеким, как будто из очень давнего прошлого – смутным воспоминанием о самом близком для них человеке, которого они так и не смогли узнать. Возможно, они и пытались это сделать, когда он был жив, но он не пускал их в свой внутренний мир – как будто прятался от них и от себя за какими-то невидимыми каменными перегородками. И с его смертью перегородки пали – и не осталось совершенно ничего, кроме смутных и далеких воспоминаний о незнакомом родном человеке, которого они звали «папа».
На следующий год по весне загородный дом затопило. Груды тетрадей, сваленные кучей в подвале, наполовину отсырели, наполовину покрылись плесенью. Пришлось развести во дворе костер и сжечь все папино наследство. Последней брошенной в костер тетрадью была та самая записная книжка – «Для особого». Она была найдена в руках умершего. Младшая дочь, пролистав ее, не нашла там ничего интересного – странные каракули, непонятные рисунки, какие-то детские стихи. Эта тетрадь горела красиво – она сразу вспыхнула. Розовая, будто человеческая кожа, обложка, покрылась черными волдырями, и на траву стали падать красные капли краски – словно кровь. Никто не обратил на это внимания. Все было буднично, разумно, без всяких эмоций – просто наводили порядок и сжигали мусор. И не осталось ничего – только груда пепла, которая под струями дождя превратилась в грязь и стала черноземом. А через год на месте этого костра не выросло ничего – единственная пустошь на дачном участке словно утраченная память о том, чего никогда не было.
Он с самого детства приучил себя писать. Уже в школе он начал вести дневники, записывал ежедневно – свои впечатления, мысли, встречи, стихи. Поначалу он их прятал от родителей, сестры, затем от жены и детей. Потом этих дневников стало слишком много, и они заняли целую полку в его шкафу. Тогда он перестал их прятать – к тому же жена ушла, а детям они были совершенно не интересны. В школьном возрасте ему далекая тетя из Москвы подарила печатную машинку – и он отстукивал по ночам, раздражая родственников и соседей – всё, что только можно: перепечатывал чужие стихи, понравившиеся статьи, свои сочинения. Потом появился компьютер, и с ним всегда чего-то недоставало: запаха бумаги, тактильных ощущений, дырочек-точек на обратной стороне листа, которые мягко кололи пальцы, когда он вынимал из машинки отпечатанный лист. Компьютер ему казался бездушной машиной, но и к нему он постепенно привык.
Но в этом многообразии исписанных листов, тетрадей, дневников, была одна записная книжка, которая была особенно дорога для него. Это была розовая толстая тетрадь с мягкой и теплой на ощупь, будто человеческая кожа, обложкой. Между страницами торчала несколько потрепанная сплетенная из голубых нитей закладка, раздваивающаяся на конце – будто прихлопнули ящерицу, и она высунула язык от неожиданности. Эта записная книжка была как новенькая – потому что он берег ее, брал ее аккуратно, вносил туда записи или перечитывал отдельные страницы, а потом так же нежно закрывал ее и нежно прижимал к себе – словно маленького ребенка или любимую женщину. С этой книжкой он никогда не расставался – возил ее с собой на конференции, в другие страны, в отпуск на море. Всегда прятал ее от чужих глаз. Постоянно менял ее тайное место дислокации, и порой долго ее искал сам, забыв о новом потайном месте. О ней никто не знал, кроме него самого. Этот блокнот подарила ему когда-то любимая девушка. Он прекрасно помнил тот день – выпускной в Университете, радостные лица, она ждет его на остановке автобуса и вручает ему подарок, завернутый в ярко-красную упаковку. Потом были ссоры, ее беременность, выкидыш, его позорное бегство от нее – она оказалась слишком живой, чтобы уложиться в его сухие и безжизненные теории, не помещалась в его рассудочных схемах. Потом он попытался ее вернуть, но было уже поздно, и она вышла замуж за его друга. А он практически сразу после этого женился – ей (или себе) на зло – на ее знакомой, и был несчастен всю жизнь, живя с нелюбимой и вспоминая о той, первой, подарившей ему записную книжку.
В этой книжке он записывал особое – он даже так ее и надписал – «Для особого», хотя и сам понимал, что название как-то не очень. Туда он записывал самые важные для него вещи – фразы из прочитанных книг и просмотренных фильмов, из своих дневников, отдельные стихи, которые он любил перечитывать (и от которых, тайком от других, сентиментально плакал). Туда же он вносил свои зарисовки (хотя он рисовал ужасно, и сам признавался в этом). Он когда-то нарисовал там дом, в котором бы он хотел жить. Нарисовал лес, в котором бы он хотел спрятаться от всех. Ракету, на которой хотел улететь в космос, подальше от людей. Иногда это были просто какие-то абстрактные линии, но и в них он вкладывал особый смысл – зашифрованный и понятный ему одному (хотя спустя годы и в который раз просматривая свои записи, он порой задавал вопрос: а что я имел в виду тогда, когда рисовал эти каракули, и сам же смеялся над собой – как старый человек смеется над глупым ребенком). И еще – он никогда не давал себе права закончить эту записную книжку. Она была бесконечным воспоминанием о юности и первой его любви.
Живя в небольшом провинциальном городе, он всегда ощущал себя непомещающимся в его узких границах. Писатель, краевед, преподаватель, он был известным и даже немного знаменитым. Его статьи печатались постоянно в местных газетах. Его приглашали на все городские мероприятия. Он переписывался с различными поэтами, писателями, историками. Можно сказать, он был местной достопримечательностью. Он собрал огромные архивы по истории города и района. И он был доволен собой – чувствовал себя нужным, необходимым. Его любили студенты – называли его «машиной времени» за его живые истории о прошлом, как будто он сам там побывал и был свидетелем великих событий и другом великих людей.
Но однажды вечером он пришел домой разбитый и уставший. Болело сердце, как будто кто-то сжимал его в своем кулаке и не отпускал. Он выпил корвалолу и закрылся в своей комнате. Казалось бы, ничего такого не произошло. Утром ездил в редакцию, днем – несколько лекций. Все, как обычно. Но стоя на остановке и ожидая своего автобуса, он разглядывал проезжающие мимо машины – отрешенно, как будто в забытьи, отдыхая от напряженного дня. И вдруг его взгляд зацепился за лицо в одной из машин – красном форде. Это лицо было знакомым, даже родным, но давным-давно забытым, выплывшим из прошлого. Это была она. Он давно не видел ее и даже последнее время не вспоминал о ней – все-таки прошло уже много лет, и так много всего поменялось. И она была за рулем, проехала мимо. И его окатило ледяной волной. Он решил не ждать автобуса, пройтись пешком. И во время этой прогулки он впервые задал для себя страшный вопрос, который застал его врасплох, распял его своей прямотой: а что я здесь делаю? ради чего всё это? И он не находил ответа. И пустота разлилась из него и затопила весь мир. Было пусто и бессмысленно всё – вся жизнь, все потуги, все поступки, все подвиги. Всё обесценилось моментально – в один миг, разрушив красивый карточный домик и не оставив ничего взамен.
Когда он пришёл домой, его встретили уже взрослые дочери. И он посмотрел на них и ему стало противно от мысли, что у него есть дочери. Он ясно осознал то, что всегда скрывал даже от себя самого – он никогда никого не любил. Его дочери всегда были для него чужими – от нелюбимой жены, они были изменой первой любви. И поэтому он никогда не бывал с ними близок, не чувствовал родные души в них – как будто только вынужденное соседство по комнатам заставляло его с ними разговаривать и общаться. Он прошел в свою комнату, закрылся в ней. Дочери знали, что отца лучше не беспокоить – они выучили его язык. Он лег на диван, достал свою тайную записную книжку и положил себе на грудь. Он гладил ее, как будто это была она – как будто она лежала рядом и никогда никуда не уходила. Гладил ее по голове, по ее мягким и шелковым волосам, чувствовал ее запах.
Он как никогда осознал, что всю свою жизнь он бежал от самого себя, от правды о себе. Он был всегда занят, чтобы не думать, не вспоминать, забыть прошлое. А сейчас все перевернулось вверх дном. Он стал настоящим. Но это была сплошная пустота – ничего не осталось, все маски разлетелись, и он остался наедине с самим собой – зияющей дырой в бесконечном и бессмысленном пространстве.
Он не понимал, что делать с этим дальше, как можно жить с этим осознанием. Он закрыл глаза. Сердце билось, как будто сломался какой-то ограничитель, как будто стерлись зубцы шестеренок и механизм крутился вхолостую, все более и более развивая скорость, лишенный всяких тормозов. Потом что-то сломалось – движение прекратилось и осталось одно тело. Его тело. Тело, которое не могло больше жить, остаток сознания, которое потеряло смысл…
Утром старшая дочь заглянула в комнату отца – удивляясь, что он так долго спит. Отца она там не нашла – она нашла какого-то чужого человека с бледным уставшим лицом. Она поняла, что совсем не видела отца настоящим – вот таким, как сейчас. Он всегда был чужим, каким-то далеким, прятавшимся от всех и молчавшим о самом главном. А вот теперь он настоящий – только поговорить с ним уже нельзя, да и не хочется.
После него остались груды книг, исписанных старательными каракулями тетрадей, записных книжек, папки фотографий. Поначалу дочери пытались разобрать папин почерк, но, поняв всю безуспешность (а главное – всю бесполезность) этой затеи, не нашли ничего лучшего, как отвезти всю эту макулатуру на дачу и сложить в подвале, чтобы комнаты не захламлять. Жизнь продолжалась дальше – и шла своим чередом. И вечерами, сидя за чашкой чая и в который раз просматривая альбомы с фотографиями, вспоминали об отце. И он им представлялся далеким, как будто из очень давнего прошлого – смутным воспоминанием о самом близком для них человеке, которого они так и не смогли узнать. Возможно, они и пытались это сделать, когда он был жив, но он не пускал их в свой внутренний мир – как будто прятался от них и от себя за какими-то невидимыми каменными перегородками. И с его смертью перегородки пали – и не осталось совершенно ничего, кроме смутных и далеких воспоминаний о незнакомом родном человеке, которого они звали «папа».
На следующий год по весне загородный дом затопило. Груды тетрадей, сваленные кучей в подвале, наполовину отсырели, наполовину покрылись плесенью. Пришлось развести во дворе костер и сжечь все папино наследство. Последней брошенной в костер тетрадью была та самая записная книжка – «Для особого». Она была найдена в руках умершего. Младшая дочь, пролистав ее, не нашла там ничего интересного – странные каракули, непонятные рисунки, какие-то детские стихи. Эта тетрадь горела красиво – она сразу вспыхнула. Розовая, будто человеческая кожа, обложка, покрылась черными волдырями, и на траву стали падать красные капли краски – словно кровь. Никто не обратил на это внимания. Все было буднично, разумно, без всяких эмоций – просто наводили порядок и сжигали мусор. И не осталось ничего – только груда пепла, которая под струями дождя превратилась в грязь и стала черноземом. А через год на месте этого костра не выросло ничего – единственная пустошь на дачном участке словно утраченная память о том, чего никогда не было.
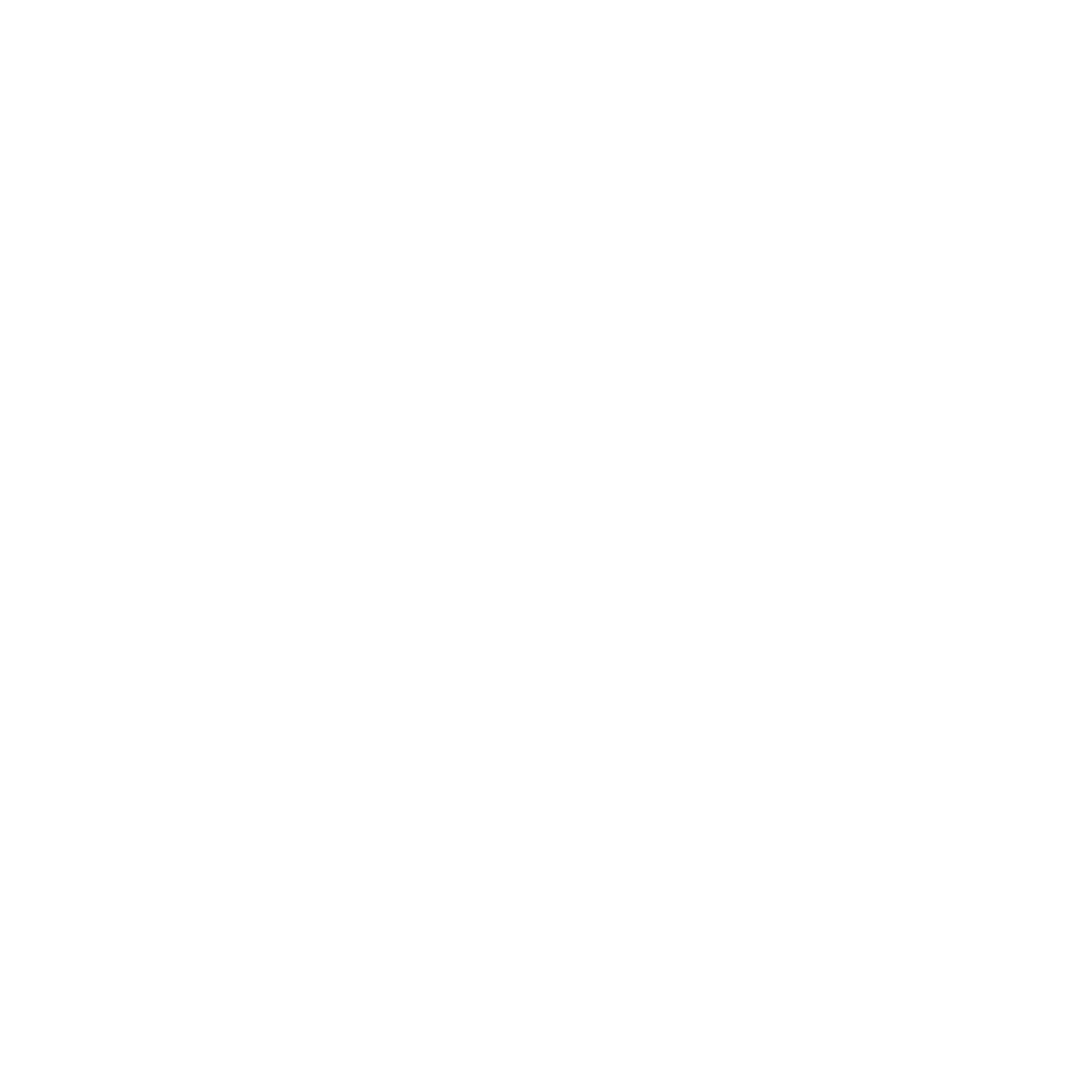
Валерий ФЕДОСОВ
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живу в Подмосковье. По основной специальности — инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Красноярске-45 на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 — в Институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке.
Стихами и прозой занимаюсь с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в альманахе «Муза», газете «Родники» и других изданиях.
Издал четыре книги стихов: «Речь осенней птицы»(2007), «Главное слово» (2010), «Орган, баян и балалайка» (2012), «Бренная листва. Венок сонетов» (2016). Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2010) и книгу прозы «Поцелуй с неба» (2020). Книгу прозы можно приобрести: https://bookshop.novslovo.ru/
Cайт автора: http://www.valeryfedosov.ru
Родился в 1939 году в Ставропольском крае. С 1951 г. живу в Подмосковье. По основной специальности — инженер-гидротехник. Закончил МИСИ в 1960 г., работал мастером, прорабом в Красноярске-45 на гидротехническом строительстве. С 1964 по июнь 2010 — в Институте «Гидропроект» (Москва). Главный инженер проектов трех построенных и действующих гидроузлов в Африке, Азии и Латинской Америке.
Стихами и прозой занимаюсь с 1960 г. Публиковался в «Литературной газете», «Московском Литераторе», «Литературной России», в альманахе «Муза», газете «Родники» и других изданиях.
Издал четыре книги стихов: «Речь осенней птицы»(2007), «Главное слово» (2010), «Орган, баян и балалайка» (2012), «Бренная листва. Венок сонетов» (2016). Лауреат литературной премии им. Дм.Кедрина «Зодчий» (2010) и книгу прозы «Поцелуй с неба» (2020). Книгу прозы можно приобрести: https://bookshop.novslovo.ru/
Cайт автора: http://www.valeryfedosov.ru
RIO MADEIRA
В конце 1988 года мне пришлось по служебным делам побывать в Бразилии. Крупная местная фирма пригласила группу советских специалистов познакомиться с её строительным опытом.
Обе стороны – советская и бразильская – имели каждая свой интерес: мы, советские, проектировали в Анголе крупнейший гидроузел Капанда на реке Кванза, а брать на себя подряд на строительство в наши планы не входило.
– C чего бы это вдруг «не входило-то»? – вы спро́сите, – Ведь главные «бабки» подряда в таком случае уплывают мимо нас – к строительному подрядчику, а нам, советским, остаётся только «поставка оборудования»; деньги, хотя и немаленькие, но не сопоставимые с затратами на строительство и, соответственно, с прибылью за это дело. А ларчик просто открывался: предыдущая практика так называемого «технического содействия», можно сказать, практически закончилась с завершением строительства Асуанского гидроузла в Египте. Мы, «благодетели мировые», были обеспокоены только «внешней помпой» – международным впечатлением о советском участии в строительстве. Денег своих советских-кровных не считали, и как выживала под непосильной ношей бедная наша «кляча-экономика» ни умом, ни сердцем не хотели понять, глаза бы не смотрели... И кто виноват? – ответа на первый русский вопрос вы не увидите. Как и не увидите конкретных – положительных – итогов нашего хозяйствования тогдашних времён, и не только по Асуану. Мы не понимали будто бы, хотя и видели, что провал за провалом падает на совесть тех руками-водителей, которые при неограниченной власти имели непререкаемый авторитет, но весьма ограниченные (имею ввиду умственные, в смысле – стратегические) возможности заниматься серьёзным делом управления такой страной как наша. Не хочется продолжать и вводить себя и невинного читателя в сердечное расстройство. В конце концов желание остаться в «лидерах» пересилило подспудную перспективу сесть в очередной раз и прилюдно «на ежа», (можно сказать, и – в лужу!) и рискнули обойтись риском поменьше, ограничившись только поставкой оборудования. Но при этом, иметь важные и надутые щёки…быть лидером! Консорциума.
Надо было подыскать строительного подрядчика, чтобы построить гидроузел по нашему проекту. Бразильцы уже на практике доказали всему миру свой высокий опыт гидротехнического строительства, загвоздка была в «малом»: Ангола, шедшая вместе с Союзом «по путям социализма», не очень-то воспринимала капиталистическую Бразилию и поэтому для решения вопроса – привлекать Бразилию к строительству или нет, опиралась на мнение советских, – что они скажут, так, пожалуй, сами подумавши, на том и остановимся…
Это раньше Союз был «богатым», позволяя себе «техническое содействие» иностранному заказчику, а теперь речь шла о строительстве «под ключ». А это такая система, что заявленная смета практически является и окончательной: никто копейки-доллара в неё добавить не может, а удорожания бери из своего кармана… Хозяйствовать надо с оглядкой на будущую выгоду и добиваясь её в конечном итоге. Так что полностью взять объект на себя, нам было рискованно, а на политические нюансы пришлось глаза прикрыть. В конце концов окончательно договорились и убедили ангольцев взять «в компанию» «капиталистических» бразильцев.
Что ж, мировая практика сотрудничества в принципе позволяет такие «альянсы»: впереди сооружение объекта континентального и мирового масштаба плюс международный резонанс, надо постараться… Немалым козырем для бразильцев было и то, что язык общения – португальский – был общим, для Анголы и для Бразилии.
Оставлю за скобками повествования профессиональные вопросы этой поездки в Бразилию, здесь было всё в порядке, – хочу остановиться на одном эпизоде командировки, когда наша советско-бразильская комиссия оказалась (по плану, а не случайно) на реке по имени Мадейра, притоке великой Амазонки.
Здесь нам предстояло ознакомиться с опытом строительства бразильцев в тропических условиях. А по завершении ознакомительной экскурсии, на другой день, ожидался «заслуженный» уик-энд в награду трудов праведных. Отмечу, что бразильцы работать умеют крепко и – без оглядки, равно как и отдыхать, уже не отвлекаясь на работу. Работать, так работать, отдыхать, так отдыхать! Не смешивая оба процесса в неизвестно что. Как говорили древние зулусы, «мухи – отдельно, котлеты – отдельно».
Надо сказать, что бразильцы вообще, по моему убеждению, люди весьма контактные, с ними быстро и легко находится общий язык, а уж если дело касается запланированного (за счёт фирмы, конечно) ланча-перекуса-обеда под «нон-стоп» аккомпанемент прохладительных (и горячительных) напитков, здесь наши коллеги – большие энтузиасты. Не буду утверждать, что в нашей московской команде энтузиазм подобного рода отсутствует, – отнюдь! Но мы, как северяне по природе, должны быть гораздо сдержаннее, хотя, конечно, отклонения, в том числе, и существенные, подчиняются суровым законам статистики.
Были переживания глобального плана типа «за державу-то свою обидно как!» – уплывает жирный кусок – строительный подряд.
А теперь поделюсь переживаниями личного плана, вдруг выплывшими неожиданно, и в определённом диссонансе с общим настроением участников: ведь заслуженный выходной обещал и отдых на воде, и впечатления от первозданной природы, и первоклассную еду с напитками, – принимала бразильская сторона. Настроение должно быть самое что ни на есть благостное, а у меня что-то с ним не получается, тормозит что-то…
На прогулочном катере мы отчалили от пристани в городке Порту Велью. Велью означает – «старый». Так что по-русски городок именуется примерно, как «Старгород». Этот «старикан» на берегу Мадейры без выходных и отгулов загорает под нещадным южным солнцем. Спрашивается вопрос: где же тропическая зелень леса? где же обещанные джунгли амазонские, в которых, не говоря о буйной растительности, должно быть «так много диких обезьян»? Ничего похожего!
Как только отчалили, я с воды глянул на город, быстро удаляющийся от нас, и ответа не получил. Только грязно-серый пейзаж: в одном цвете земля, вода, воздух и даже… на душе – тоска зелёная, точнее – грязно-зелёная. Вода непрозрачная, мутная. До противоположного берега, одни говорят, около трёх километров, другие – около четырёх, а третьи говорят, что там не берег реки, а только остров, а после него ещё протока в несколько километров…
Течение, надо сказать, довольно быстрое, река без устали работает-трудится, пережёвывает свое родное ложе, которое ещё вчера было другим, сейчас же при нас меняется и уже сегодня, а тем более завтра, будет другим: в очередной раз бесконечно обновится. Для капитанов и лоцманов задачка серьёзная: ещё та…
Впечатление – как от пустыни, – судя по жаре и цвету окружающего безликого пейзажа. И странное ощущение от совмещения двух противоположностей «в одном флаконе», – иссыхающего пустынного берега, безводной пустыни (засушу!) и бесконечного водного потока (утоплю!). Ой, тоска, тоска, да и только. И что это ты привязалась ко мне на выходной-то?
А катер бежит резво-резво, фырчит от удовольствия и постоянно… рыскает вправо и влево, как заправская охотничья собака в поисках утки, которую надо поднять в воздух. И что ему, катеру прямо-то не идётся? Простору-то вон сколько! Чудно! И капитан на салагу не похож: седые бакенбарды, глубокие складки бороздят лицо, хоть и не морского, но… амазонского речного «волка».
Присматриваюсь к воде по моему борту и понимаю понемногу суть лоцманской задачки. Река-то вроде бы приличная, а вода-то в ней не вода вовсе, а скажем так: крутая, густая водо-песчаная смесь. Пульпа, одним словом, похожая на то, с чем работают серьёзные земснаряды. То, что за кормой творится, понятно, но и справа и слева от нашего катера волны, похоже вовсе не из воды состоят, а будто бы из грунта песчаного, да ещё и с гравием вперемешку! Тут капитана нашего хочешь ли – не хочешь, а зауважаешь…
На палубе два громадных пенопластовых (надёжная теплоизоляция!) ящика с дневным «пайком» на всю компанию, внутри лёд шариками, приготовленный специальной машиной. Напитки разные от «кока колы» и «спрайта» до серьёзных «вискарей», «Смирновых» и т.д. Не забыта и традиционная бразильская «кашáса», – попросту – приличный самогон из сахарного тростника. Почему приличная, потому что, как говорят знатоки, (и автор подтверждает!) пьётся легко и легко с неё «гуляется»… Так нет же ж настроения! Нету и только. До привала ещё далеко, только отдельные энтузиасты в заветный ящик уже заглядывают, «отовариваются» и потихоньку на свои места «уплывают».
А меня грусть-тоска зацепила, и не отпускает… Да что же за напасть!
Проплываем мимо одного, другого острова. Которые помельче, те Река съедает в момент, был только что, и вдруг нет его, утонул в её объятьях, пропал навсегда, а вон чуть подальше из бурлящей воды островок возник, на виду вроде бы даже растёт, оформляется. Вон ещё дальше островок гораздо старше, на нём деревца матереют, а землю у них из-под ног Река выгрызает, вымывает…
И вот – высоченный остров. С высокими деревьями на нём. Толстенные стволы, густая крона, что-то похожее на иранские платаны, стаи птиц устраивают свои базары, галдёж, скандалы за место под солнцем: жить-то надо! Давно, видимо, живёт остров, хотя сумасшедшей водой Мадейры безжалостно и систематически размывается. А волна мелким бесом под ногами валандается, целует берег, ластится и причмокивает от удовольствия, всё норовит откусить хоть сколько-нибудь от его желанного тела. Проплываем остров, и что же видим в его «хвосте»? Натуральную трагедию: этот самый «хвост» ненасытная река всё-таки угрызает, размывает… вон высоченные деревья оказались подмытыми, наверху уже, потерявшие устойчивость, среди оказавшегося склона направляются, как приговорённые, в речную пучину, а на берегу в хвостовой части острова вода обгладывает с длинных стволов листву, пережёвывает ветви, «живьём» сдирает кожу (то есть, – кору)… А волна – то ли всхлипывает из жалости, то ли причмокивает от удовольствия, – поди разберись!
Смотрю на «поданный» пейзаж и думаю: как же этот бесстрастный вид Жизнь нашу бренную напоминает!...
Да и сама река… Здесь она зовётся Мадейрой, а на самом деле никакая это не Мадейра, а – Лета!... Вечной Летой она называется…
Засмотрелся, задумался, забылся, зачаровался… Поплыли строчки, неровные случайные обрывки, сплетающиеся как им заблагорассудится, а я, пожалуй, предоставлю им свободу…
На палубе и в трюме – предобеденный ажиотаж, предчувствие наступающего праздника. Градус радостного общего настроения ожидаемо повышается, а я совсем и не на катере, а в… небесах… вечности. Плыву и созерцаю… Строка, ещё строка… И никакие «надвигающиеся – перспективные» напитки, еда и веселье не могут рассеять во мне главного воспоминания, навеянного дикой огромной рекой… Воспоминания, звучащего негромко и нежно, но, тем не менее, перекрывающего мелодию громоподобной бразильской самбы, летящей из капитанской рубки над мутными волнами великой Реки…
Невзначай обращаюсь к своей памяти с тем же вопросом: да что же это за настроение такое сегодня? Так же неожиданно получаю и ответ: сегодня, именно сегодня исполнилось ровно пять лет со дня кончины моего незабвенного отца.
Припоминаю события той – пятилетней давности, чувствую, что краснею, стыдно-то как… Отец в эти – последние – дни три раза приезжал из Пушкино к нам, в Мытищи. А точнее, – ко мне. Сыну своему. И все три раза (совпадение? провидение? наказание?) я задерживался в Москве на работе, – сдача и отправка подготовленных чертежей для стройки (с традиционной русской обмывкой «очередного успеха»). Приезжал поздно, и отец, не дождавшись «шибко занятого» сына, возвращался к себе в Пушкино.
Гром же грянуть не замедлил, 18 декабря… Мама позвонила, я примчался, да, оказалось, поздно. «Его нашёл уж на столе, как дань готовую земле…» Прости, отец, не знаю, достоин ли твой сын прощения! Царствие тебе небесное… Понимаю же теперь, что на самом деле ты приезжал попрощаться. На веки вечные... Прости!
Стыд мой запоздалый, как и вина моя… не выветривается до сей поры… Да и простится ли когда-нибудь?...
И не выпустила меня Мадейра в тот «прогулочный» день 1988 года из «раскопок» собственной памяти и безжалостного к себе отношения, но заострила внимание на выявленной причине. А вечером на моём столе в гостинице появился исчёрканный листок, сквозь каракули которого на следующее утро я расшифровал собственный некий вразумительный текст…
РЕКА ЗАБВЕНИЯ
Как во сне разметав рукава,
обнажает холмов острова
в оторочках зелёного веера,
то всхрапнёт, как усталый прибой,
то причмокнет ленивой волной,
нет, не Лета, а – Рио Мадейра...
Пробивая зыбучий песок,
ты на острове вырос высок, –
(кто-то должен был вырасти Деревом!) –
В пёстром гомоне свадеб и свар
на плечах твоих птичий базар
моет косточки Рио Мадейре...
Только где ж он, Вожак-великан,
изумрудно-зелёный Платан,
что родителем был и примером?
Это кто там с обрыва упал?
Кто себя на песке распластал,
утопая в объятьях Мадейры?
Я всё ближе к воде подхожу
и теперь по-иному сужу
о шагах в направлении берега...
Как корнями в земле ни держись,
обрушается здешняя жизнь,
обручаясь навеки с Мадейрой!
Приехал в Россию. Показал стихотворение в нашем Мытищинском ЛитОбъединении, а также своим родным, а сын Максим написал хорошую музыку. Получилась Песня. Вот такая приключилась светло-печальная история... из того заморского путешествия.
В конце 1988 года мне пришлось по служебным делам побывать в Бразилии. Крупная местная фирма пригласила группу советских специалистов познакомиться с её строительным опытом.
Обе стороны – советская и бразильская – имели каждая свой интерес: мы, советские, проектировали в Анголе крупнейший гидроузел Капанда на реке Кванза, а брать на себя подряд на строительство в наши планы не входило.
– C чего бы это вдруг «не входило-то»? – вы спро́сите, – Ведь главные «бабки» подряда в таком случае уплывают мимо нас – к строительному подрядчику, а нам, советским, остаётся только «поставка оборудования»; деньги, хотя и немаленькие, но не сопоставимые с затратами на строительство и, соответственно, с прибылью за это дело. А ларчик просто открывался: предыдущая практика так называемого «технического содействия», можно сказать, практически закончилась с завершением строительства Асуанского гидроузла в Египте. Мы, «благодетели мировые», были обеспокоены только «внешней помпой» – международным впечатлением о советском участии в строительстве. Денег своих советских-кровных не считали, и как выживала под непосильной ношей бедная наша «кляча-экономика» ни умом, ни сердцем не хотели понять, глаза бы не смотрели... И кто виноват? – ответа на первый русский вопрос вы не увидите. Как и не увидите конкретных – положительных – итогов нашего хозяйствования тогдашних времён, и не только по Асуану. Мы не понимали будто бы, хотя и видели, что провал за провалом падает на совесть тех руками-водителей, которые при неограниченной власти имели непререкаемый авторитет, но весьма ограниченные (имею ввиду умственные, в смысле – стратегические) возможности заниматься серьёзным делом управления такой страной как наша. Не хочется продолжать и вводить себя и невинного читателя в сердечное расстройство. В конце концов желание остаться в «лидерах» пересилило подспудную перспективу сесть в очередной раз и прилюдно «на ежа», (можно сказать, и – в лужу!) и рискнули обойтись риском поменьше, ограничившись только поставкой оборудования. Но при этом, иметь важные и надутые щёки…быть лидером! Консорциума.
Надо было подыскать строительного подрядчика, чтобы построить гидроузел по нашему проекту. Бразильцы уже на практике доказали всему миру свой высокий опыт гидротехнического строительства, загвоздка была в «малом»: Ангола, шедшая вместе с Союзом «по путям социализма», не очень-то воспринимала капиталистическую Бразилию и поэтому для решения вопроса – привлекать Бразилию к строительству или нет, опиралась на мнение советских, – что они скажут, так, пожалуй, сами подумавши, на том и остановимся…
Это раньше Союз был «богатым», позволяя себе «техническое содействие» иностранному заказчику, а теперь речь шла о строительстве «под ключ». А это такая система, что заявленная смета практически является и окончательной: никто копейки-доллара в неё добавить не может, а удорожания бери из своего кармана… Хозяйствовать надо с оглядкой на будущую выгоду и добиваясь её в конечном итоге. Так что полностью взять объект на себя, нам было рискованно, а на политические нюансы пришлось глаза прикрыть. В конце концов окончательно договорились и убедили ангольцев взять «в компанию» «капиталистических» бразильцев.
Что ж, мировая практика сотрудничества в принципе позволяет такие «альянсы»: впереди сооружение объекта континентального и мирового масштаба плюс международный резонанс, надо постараться… Немалым козырем для бразильцев было и то, что язык общения – португальский – был общим, для Анголы и для Бразилии.
Оставлю за скобками повествования профессиональные вопросы этой поездки в Бразилию, здесь было всё в порядке, – хочу остановиться на одном эпизоде командировки, когда наша советско-бразильская комиссия оказалась (по плану, а не случайно) на реке по имени Мадейра, притоке великой Амазонки.
Здесь нам предстояло ознакомиться с опытом строительства бразильцев в тропических условиях. А по завершении ознакомительной экскурсии, на другой день, ожидался «заслуженный» уик-энд в награду трудов праведных. Отмечу, что бразильцы работать умеют крепко и – без оглядки, равно как и отдыхать, уже не отвлекаясь на работу. Работать, так работать, отдыхать, так отдыхать! Не смешивая оба процесса в неизвестно что. Как говорили древние зулусы, «мухи – отдельно, котлеты – отдельно».
Надо сказать, что бразильцы вообще, по моему убеждению, люди весьма контактные, с ними быстро и легко находится общий язык, а уж если дело касается запланированного (за счёт фирмы, конечно) ланча-перекуса-обеда под «нон-стоп» аккомпанемент прохладительных (и горячительных) напитков, здесь наши коллеги – большие энтузиасты. Не буду утверждать, что в нашей московской команде энтузиазм подобного рода отсутствует, – отнюдь! Но мы, как северяне по природе, должны быть гораздо сдержаннее, хотя, конечно, отклонения, в том числе, и существенные, подчиняются суровым законам статистики.
Были переживания глобального плана типа «за державу-то свою обидно как!» – уплывает жирный кусок – строительный подряд.
А теперь поделюсь переживаниями личного плана, вдруг выплывшими неожиданно, и в определённом диссонансе с общим настроением участников: ведь заслуженный выходной обещал и отдых на воде, и впечатления от первозданной природы, и первоклассную еду с напитками, – принимала бразильская сторона. Настроение должно быть самое что ни на есть благостное, а у меня что-то с ним не получается, тормозит что-то…
На прогулочном катере мы отчалили от пристани в городке Порту Велью. Велью означает – «старый». Так что по-русски городок именуется примерно, как «Старгород». Этот «старикан» на берегу Мадейры без выходных и отгулов загорает под нещадным южным солнцем. Спрашивается вопрос: где же тропическая зелень леса? где же обещанные джунгли амазонские, в которых, не говоря о буйной растительности, должно быть «так много диких обезьян»? Ничего похожего!
Как только отчалили, я с воды глянул на город, быстро удаляющийся от нас, и ответа не получил. Только грязно-серый пейзаж: в одном цвете земля, вода, воздух и даже… на душе – тоска зелёная, точнее – грязно-зелёная. Вода непрозрачная, мутная. До противоположного берега, одни говорят, около трёх километров, другие – около четырёх, а третьи говорят, что там не берег реки, а только остров, а после него ещё протока в несколько километров…
Течение, надо сказать, довольно быстрое, река без устали работает-трудится, пережёвывает свое родное ложе, которое ещё вчера было другим, сейчас же при нас меняется и уже сегодня, а тем более завтра, будет другим: в очередной раз бесконечно обновится. Для капитанов и лоцманов задачка серьёзная: ещё та…
Впечатление – как от пустыни, – судя по жаре и цвету окружающего безликого пейзажа. И странное ощущение от совмещения двух противоположностей «в одном флаконе», – иссыхающего пустынного берега, безводной пустыни (засушу!) и бесконечного водного потока (утоплю!). Ой, тоска, тоска, да и только. И что это ты привязалась ко мне на выходной-то?
А катер бежит резво-резво, фырчит от удовольствия и постоянно… рыскает вправо и влево, как заправская охотничья собака в поисках утки, которую надо поднять в воздух. И что ему, катеру прямо-то не идётся? Простору-то вон сколько! Чудно! И капитан на салагу не похож: седые бакенбарды, глубокие складки бороздят лицо, хоть и не морского, но… амазонского речного «волка».
Присматриваюсь к воде по моему борту и понимаю понемногу суть лоцманской задачки. Река-то вроде бы приличная, а вода-то в ней не вода вовсе, а скажем так: крутая, густая водо-песчаная смесь. Пульпа, одним словом, похожая на то, с чем работают серьёзные земснаряды. То, что за кормой творится, понятно, но и справа и слева от нашего катера волны, похоже вовсе не из воды состоят, а будто бы из грунта песчаного, да ещё и с гравием вперемешку! Тут капитана нашего хочешь ли – не хочешь, а зауважаешь…
На палубе два громадных пенопластовых (надёжная теплоизоляция!) ящика с дневным «пайком» на всю компанию, внутри лёд шариками, приготовленный специальной машиной. Напитки разные от «кока колы» и «спрайта» до серьёзных «вискарей», «Смирновых» и т.д. Не забыта и традиционная бразильская «кашáса», – попросту – приличный самогон из сахарного тростника. Почему приличная, потому что, как говорят знатоки, (и автор подтверждает!) пьётся легко и легко с неё «гуляется»… Так нет же ж настроения! Нету и только. До привала ещё далеко, только отдельные энтузиасты в заветный ящик уже заглядывают, «отовариваются» и потихоньку на свои места «уплывают».
А меня грусть-тоска зацепила, и не отпускает… Да что же за напасть!
Проплываем мимо одного, другого острова. Которые помельче, те Река съедает в момент, был только что, и вдруг нет его, утонул в её объятьях, пропал навсегда, а вон чуть подальше из бурлящей воды островок возник, на виду вроде бы даже растёт, оформляется. Вон ещё дальше островок гораздо старше, на нём деревца матереют, а землю у них из-под ног Река выгрызает, вымывает…
И вот – высоченный остров. С высокими деревьями на нём. Толстенные стволы, густая крона, что-то похожее на иранские платаны, стаи птиц устраивают свои базары, галдёж, скандалы за место под солнцем: жить-то надо! Давно, видимо, живёт остров, хотя сумасшедшей водой Мадейры безжалостно и систематически размывается. А волна мелким бесом под ногами валандается, целует берег, ластится и причмокивает от удовольствия, всё норовит откусить хоть сколько-нибудь от его желанного тела. Проплываем остров, и что же видим в его «хвосте»? Натуральную трагедию: этот самый «хвост» ненасытная река всё-таки угрызает, размывает… вон высоченные деревья оказались подмытыми, наверху уже, потерявшие устойчивость, среди оказавшегося склона направляются, как приговорённые, в речную пучину, а на берегу в хвостовой части острова вода обгладывает с длинных стволов листву, пережёвывает ветви, «живьём» сдирает кожу (то есть, – кору)… А волна – то ли всхлипывает из жалости, то ли причмокивает от удовольствия, – поди разберись!
Смотрю на «поданный» пейзаж и думаю: как же этот бесстрастный вид Жизнь нашу бренную напоминает!...
Да и сама река… Здесь она зовётся Мадейрой, а на самом деле никакая это не Мадейра, а – Лета!... Вечной Летой она называется…
Засмотрелся, задумался, забылся, зачаровался… Поплыли строчки, неровные случайные обрывки, сплетающиеся как им заблагорассудится, а я, пожалуй, предоставлю им свободу…
На палубе и в трюме – предобеденный ажиотаж, предчувствие наступающего праздника. Градус радостного общего настроения ожидаемо повышается, а я совсем и не на катере, а в… небесах… вечности. Плыву и созерцаю… Строка, ещё строка… И никакие «надвигающиеся – перспективные» напитки, еда и веселье не могут рассеять во мне главного воспоминания, навеянного дикой огромной рекой… Воспоминания, звучащего негромко и нежно, но, тем не менее, перекрывающего мелодию громоподобной бразильской самбы, летящей из капитанской рубки над мутными волнами великой Реки…
Невзначай обращаюсь к своей памяти с тем же вопросом: да что же это за настроение такое сегодня? Так же неожиданно получаю и ответ: сегодня, именно сегодня исполнилось ровно пять лет со дня кончины моего незабвенного отца.
Припоминаю события той – пятилетней давности, чувствую, что краснею, стыдно-то как… Отец в эти – последние – дни три раза приезжал из Пушкино к нам, в Мытищи. А точнее, – ко мне. Сыну своему. И все три раза (совпадение? провидение? наказание?) я задерживался в Москве на работе, – сдача и отправка подготовленных чертежей для стройки (с традиционной русской обмывкой «очередного успеха»). Приезжал поздно, и отец, не дождавшись «шибко занятого» сына, возвращался к себе в Пушкино.
Гром же грянуть не замедлил, 18 декабря… Мама позвонила, я примчался, да, оказалось, поздно. «Его нашёл уж на столе, как дань готовую земле…» Прости, отец, не знаю, достоин ли твой сын прощения! Царствие тебе небесное… Понимаю же теперь, что на самом деле ты приезжал попрощаться. На веки вечные... Прости!
Стыд мой запоздалый, как и вина моя… не выветривается до сей поры… Да и простится ли когда-нибудь?...
И не выпустила меня Мадейра в тот «прогулочный» день 1988 года из «раскопок» собственной памяти и безжалостного к себе отношения, но заострила внимание на выявленной причине. А вечером на моём столе в гостинице появился исчёрканный листок, сквозь каракули которого на следующее утро я расшифровал собственный некий вразумительный текст…
РЕКА ЗАБВЕНИЯ
Как во сне разметав рукава,
обнажает холмов острова
в оторочках зелёного веера,
то всхрапнёт, как усталый прибой,
то причмокнет ленивой волной,
нет, не Лета, а – Рио Мадейра...
Пробивая зыбучий песок,
ты на острове вырос высок, –
(кто-то должен был вырасти Деревом!) –
В пёстром гомоне свадеб и свар
на плечах твоих птичий базар
моет косточки Рио Мадейре...
Только где ж он, Вожак-великан,
изумрудно-зелёный Платан,
что родителем был и примером?
Это кто там с обрыва упал?
Кто себя на песке распластал,
утопая в объятьях Мадейры?
Я всё ближе к воде подхожу
и теперь по-иному сужу
о шагах в направлении берега...
Как корнями в земле ни держись,
обрушается здешняя жизнь,
обручаясь навеки с Мадейрой!
Приехал в Россию. Показал стихотворение в нашем Мытищинском ЛитОбъединении, а также своим родным, а сын Максим написал хорошую музыку. Получилась Песня. Вот такая приключилась светло-печальная история... из того заморского путешествия.
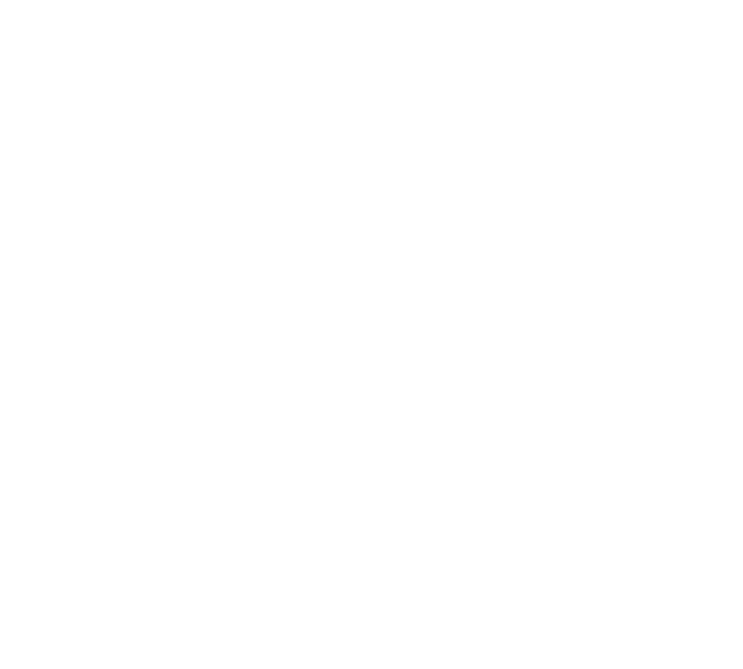
Виктор ЗУБАРЕВ
Родился в 1958 году в Магдебурге (Германия). Окончил ЛЭТИ им. Ленина. После института служил в частях ВМФ на Байконуре, затем – в военном НИИ в Ленинграде. В соавторстве и самостоятельно написал более двадцати научных статей. Потом был бизнес. Много лет работал генеральным директором производственных предприятий. Писать прозу начал после выхода на пенсию с 2019 года. Написал 58 рассказов. Они все опубликованы на сайтах Проза. ру и fabulae.ru. Финалист национальной литературной премии «Писатель года» за 2019 год в номинации «Дебют». Член Российского союза писателей с апреля 2020 года.
Родился в 1958 году в Магдебурге (Германия). Окончил ЛЭТИ им. Ленина. После института служил в частях ВМФ на Байконуре, затем – в военном НИИ в Ленинграде. В соавторстве и самостоятельно написал более двадцати научных статей. Потом был бизнес. Много лет работал генеральным директором производственных предприятий. Писать прозу начал после выхода на пенсию с 2019 года. Написал 58 рассказов. Они все опубликованы на сайтах Проза. ру и fabulae.ru. Финалист национальной литературной премии «Писатель года» за 2019 год в номинации «Дебют». Член Российского союза писателей с апреля 2020 года.
ВОТ ЭТО – КОСМОС!
Ворота в космос
Назначение прозвучало не конкретно, а как-то витиевато: «В распоряжение Главкома ВМФ». Подумалось: «Москва, штаб». Но зря. Ошибочка выяснилась сразу при получении документов. В проездных была написана станция Тюратам.
– Это на какой планете?
– Во, во! Это космос. Вернее, космодром Байконур.
– Интересно, какие же там дела у Главкома ВМФ и у офицеров флота?
– Не рассуждай! Приедешь, увидишь.
Трое суток пути из Ленинграда, и вот они – ворота в космос. Это надо было видеть. Это – просто космос! Небольшой вокзальчик захолустного типа. На лавочке около него сидят два аксакала. Один из них худой, с козлиной бородкой, в черной шинели, несмотря на то, что на улице апрель, и здесь температура уже за двадцать. Но не это в нем привлекало внимание. К шинели были приколоты две медали. Причем, обе юбилейные и, к тому же, одинаковые: «ХХ лет победы в Великой Отечественной Войне». На эту тему позже я услышал рассказ, как искали стрелочника на переезд. Ну, никак не найти. Тогда один бывалый казах сказал: «Неправильно ищите. Надо написать, что требуется директор или начальник переезда». Нашли сразу.
Но, ближе к делу.
Поселок состоял из одноэтажных неказистых домиков. Чем они интересны? Первое – окна. Наверное, никогда не мытые, с вековым слоем пыли, изнутри заклеенные пожелтевшими газетами. Второе – заборы: набор палок различной высоты и толщины. Очевидно, их не подрезали вровень из-за дефицита дерева, а может, по каким-то другим казахским причинам.
На небольшой пыльной площади с автобусным кольцом продавалось разливное пиво из бочки. Называлось оно акайским. Дай Бог здоровья тем акайцам, которые его пили. Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи» разбавлял бензин ослиной мочой. Здесь же, ослиная моча была разбавлена пивом. Однако, поехали дальше.
В километре-двух от станции дорога упиралась в КПП, в обе стороны от которого тянулись в даль ряды колючей проволоки: периметр. За периметром виднелся город. Город-призрак. Ни на какой карте вы его не найдёте. Хотя население его было более пятидесяти тысяч. И название для тех лет (начало восьмидесятых) было громкое – Ленинск. В обиходе его называли просто «десятка». То есть, площадка номер десять. Например, площадка, с которой запускали Гагарина – двойка, а с двухсотой запускали беспилотные грузовые корабли типа «Прогресс». Вокруг города в радиусе около ста километров таких площадок было больше сотни. Это всё в комплексе называлось Байконур.
Ленинск, город советской космонавтики. На вид обычный, типовой городок, построенный в конце пятидесятых – в шестидесятые годы. Без архитектурных излишеств. Хрущевки, хрущевки, что-то типа хрущевок и плюс площадь с памятником Ленина и Домом офицеров с колоннами. Всё это не впечатляет. А вот, зелень – это, да! Вокруг – голая степь и перекати-поле, а здесь – цветущие зеленые аллеи. Приглядевшись, становилось понятно, что это. Вдоль деревьев были проложены трубы с дырочками,а из них лилась вода из Сыр-Дарьи, на берегу которой стоял город. Такого я ещё не встречал.
Вот это – космос!
Моряки в пустыне
Оглядевшись вокруг, подумалось: «Жить можно». А вот, и не угадал! Направили меня в часть, которая находилась в девяносто пяти километрах от города. Пока не получу квартиру, поселили в местной офицерской гостинице среди степей и воинских заборов. Квартира же полагалась только семейным и не раньше, чем через полгода.
Спросите: как же люди добирались на службу каждый день из города в такую даль? Очень просто: в семь утра от «десятки» отправлялся специальный поезд. Назывался «мотовоз». В девять часов все уже стояли на построении на плацу. В семнадцать – обратный путь. Опоздал – беда. Ночуй в казарме, а хочешь – в степи. Шучу.
Вот на таком мотовозе я отправился в свой первый путь на Байконур, в широком понимании этого слова. Как я уже упоминал, был апрель. За окнами вагонов вся степь от горизонта до горизонта цвела оранжево-желтыми тюльпанами.
Вот это – космос!
Прибыв на место, первое, что я увидел – построение на плацу. Это был полк. Именно полком называлась та часть, куда меня направили. Половина военнослужащих была в обычной зеленой форме, а вторая – настоящие матросы и морские офицеры. В пустыне, без единой лужи на сотни километров.
Вот это – космос!
Действительно, это были причуды космоса тех времен. Вернее особенности ведомственной подчиненности. Я молчу, о том, что космос тогда был мирным. Поэтому и Ленинска никакого не было на картах. Но, у мирного адмирала Горшкова, Главкома ВМФ, было здесь своё подразделение по запуску морских спутников. То есть, спутников наведения подводных лодок и кораблей, а также других задач флота. Мирных задач…
И только в восемьдесят третьем официально появились космические войска. Все, что касалось космоса, туда объединили. Морякам выдали лётную форму. Но и после этого, они ещё несколько лет упорно донашивали остатки потрепанных флотских мундиров, регулярно получая взыскания за нарушение формы одежды.
Но, эта грустная история была потом. А тогда, по прибытии – внешний осмотр. Шитая мица (фуражка) и шитый краб (кокарда) – нормальный пацан. Форменные, выданные со склада – чмо. И пойди, ещё докажи потом, что ты не чмо. То есть, здесь встречали, как говорят, по одёжке.
Вообще, «сапоги» моряков недолюбливали. Их было мало, около сотни офицеров на весь гарнизон, но были они как бельмо в глазу. Очень выделялись из серо-зелёной массы. Это раздражало. Например, наш командир полка, сухопутный полковник, как-то зимой при двадцати с лишним мороза во время построения на плацу устроил разнос морским командирам:
– Почему, все люди как люди, а ваши выпендриваются? Почему в фуражках? Почему в ботиночках? Завтра же всем быть в шапках и в сапогах. Иначе, будете стоять на плацу, пока не примёрзните к асфальту. Долго ему объясняли, что у моряков нет сапог и галифе. Но шапки пришлось одеть. Матросы тоже отличались от своих зеленых соратников по оружию. Не только цветом формы, но и лицом. Сюда призывались только бледнолицые (первая категория: русские, украинцы, белорусы, прибалты, плюс полное среднее образование). Непонятно, правда, зачем такой серьезный отбор, если они занимались только мытьем палубы, протиркой пыли и караульной службой. Ах, нет, забыл! Еще были политзанятия и строевые.
Сухой закон
Казалось, что молодые офицеры, живущие в гостинице в голой степи, должны были вымереть со скуки. Но нет, выживали. Некоторые даже женились на «ложкомойках» (работницах офицерской столовой). Через пару лет, всё же, разводились, потому, что не о таких мечтали.
А представьте себе, ко всей этой тоске впридачу – сухой закон, объявленный по всему гарнизону. Но сухим, закон выглядел только на первый взгляд. На самом деле, вероятно, или мне показалось, пить никому не запрещалось. Просто в продаже не было обычного спиртного. Были только импортные выкрутасы, оставшиеся после московской олимпиады: португальские портвейны по шесть пятьдесят, французские коньяки, как сейчас помню: Камю Селебрасьон – шестнадцать рублей, а Камю Наполеон – двадцать пять, югославский Вермут по четыре пятьдесят и баночное пиво по девяносто копеек. Попробовать такое – интересно, но пить – разоришься.
Однако, кто-то наверху забыл, что космос – это спирт. Почти все работы по подготовке к запуску были связаны со спиртом. Спрашивается, какой же советский офицер сможет использовать шило не по его прямому назначению? Вероятно, по этой причине по вечерам или в выходные встретить в городе нетрезвых мужчин не составляло ни малейшего труда.
Один недостаток: пить спирт летом, когда средняя температура в тени – под сорок, очень не просто. Я бы, даже, сказал – тяжело. Но ничего, находили люди способы. Однако, были и те, кто этих людей угнетал. Командир полка любил раз в неделю, несмотря на жару, устраивать профилактические марш-броски на шесть километров. Профилактика была направлена на борьбу с пьющими. Причем, была она изощрённая. Не в какой-то конкретный день недели, а внезапно, без предупреждения. Ему-то сзади на машине хорошо, а остальным бежать такой кросс – это космос.
Старт
Спутники ВМФ запускались со своей, идивидуальной стартовой площадки. Одно из двух морских подразделений содержало и обслуживало этот комплекс. За ними была и ракета. Второе подразделение занималось «головой», то есть спутником. Я попал во второе. Спутник наш был не простым, а с ядерным реактором на борту. Поскольку нормальных аккумуляторов, удовлетворяющих требованиям габаритов, веса и ёмкости, в нашей стране не было, то в теневой стороне, где не работали солнечные батареи, в активном режиме аппаратура работать не могла. Маленький бортовой реактор решал эту проблему. У американцев такого не было. У них, просто, были аккумуляторы.
Кстати, реактор – вещь очень секретная. С его устройством и порядком подготовки и эксплуатации мы знакомились только в секретной комнате и только после подписки о неразглашении на десять лет. Было, наверное, чего скрывать. Дело в том, что на некоторых чертежах по моей специальности стояли немецкие штампы датированные 1944-м годом. Видимо, в секрете держали, что мы сами не можем создать ничего существенного в этой области, а может и не только в этой. Вот такой он, космос.
Наблюдать запуск ракеты очень интересно. Пульсирующее, удаляющееся пятно пламени, непередаваемый звук: не то треск, не то какой-то стрекот. Долгий громкий, постепенно затихающий. Но раз или два в год ракеты падали. Либо, не сходя со старта, либо немного пролетев, шатаясь из стороны в сторону, а затем, заваливаясь на бок.
Но это были ракеты не нашего подразделения. Разные другие. Вокруг было много стартовых комплексов. Падения сопровождались огромными разливами пламени и тучами дыма. На километры вокруг оставалась глубоко выжженная земля.
Наш спутник разок упал в Канаде в начале семидесятых. Вот, был скандал! Не меньше, чем после Чернобыля. Однако, следует заметить, что никогда не падают только те спутники, которые не запускают. В космосе пока – только так.
Война
И была война. Не наша, чужая. Воевали Англия и Аргентина за Фолкленды.
А наших моряков посадили на казарменное положение с весны до самой осени. Они чуть ли не каждую неделю запускали новые спутники.
Мнения, за кого воюем разделились. Часть офицеров, наверное, двоечников по политической подготовке, считала, что мы помогаем англичанам. Но правильные пацаны, всё правильно понимали и очень гордились, когда был уничтожен непотопляемый и невидимый английский «Шеффилд».
А сколько спирта было выпито за время ведения круглосуточных боевых действий! И в преферанс научились играть даже самые тупые офицеры. Правда, это сейчас всё можно свести к хиханькам– хаханькам. А тогда, было не до шуток. Ведь спутники к запуску кто-то всё же готовил. По окончании, казалось, что полгода проведено в заключении. Короче, космос – есть космос. И на космической войне всё не так как на войне обычной.
Космос – кирдык?
Скажу честно, невозможно забыть клоунские костюмы дембелей. Наверное, Газманов или Розенбаум, одевая мундиры с орденами и медалями, решили сегодня с ними посостязаться. Да, что там они. Возьмите баб в звании генерала или полковника неизвестно чего. Но, не об этом. Не забыть мне и шоу, которые устраивали матросы в часы досуга: гладиаторские бои фаланг и скорпионов в трехлитровой банке. Скорпион, залитый эпоксидкой, кстати, обязательный атрибут дембеля-космонавта. Мне такой тоже когда-то подарили. Вот это – часть космоса. Моего космоса.
Потом, наконец, пришла победа «светлой», «подлинно народной демократии». У офицеров всё отобрали, кроме чести. Остальные тоже имущественно пострадали, но многие при этом лишились и чести и совести. Партийцы разных республик растащили великую страну на части. Борис Николаевич ногой закрыл дверь в целую эпоху. В том числе и в эпоху советской космонавтики.
Теперь космос... другой. Раньше это была мощь, сила и гордость державы, а теперь – товар. Так, иногда, бывает, когда министры обороны в молодости заканчивают торговые институты. Говорят, что и из того, что было, половину разворовали.
А может, всё-таки, хоть что-то осталось?
Ворота в космос
Назначение прозвучало не конкретно, а как-то витиевато: «В распоряжение Главкома ВМФ». Подумалось: «Москва, штаб». Но зря. Ошибочка выяснилась сразу при получении документов. В проездных была написана станция Тюратам.
– Это на какой планете?
– Во, во! Это космос. Вернее, космодром Байконур.
– Интересно, какие же там дела у Главкома ВМФ и у офицеров флота?
– Не рассуждай! Приедешь, увидишь.
Трое суток пути из Ленинграда, и вот они – ворота в космос. Это надо было видеть. Это – просто космос! Небольшой вокзальчик захолустного типа. На лавочке около него сидят два аксакала. Один из них худой, с козлиной бородкой, в черной шинели, несмотря на то, что на улице апрель, и здесь температура уже за двадцать. Но не это в нем привлекало внимание. К шинели были приколоты две медали. Причем, обе юбилейные и, к тому же, одинаковые: «ХХ лет победы в Великой Отечественной Войне». На эту тему позже я услышал рассказ, как искали стрелочника на переезд. Ну, никак не найти. Тогда один бывалый казах сказал: «Неправильно ищите. Надо написать, что требуется директор или начальник переезда». Нашли сразу.
Но, ближе к делу.
Поселок состоял из одноэтажных неказистых домиков. Чем они интересны? Первое – окна. Наверное, никогда не мытые, с вековым слоем пыли, изнутри заклеенные пожелтевшими газетами. Второе – заборы: набор палок различной высоты и толщины. Очевидно, их не подрезали вровень из-за дефицита дерева, а может, по каким-то другим казахским причинам.
На небольшой пыльной площади с автобусным кольцом продавалось разливное пиво из бочки. Называлось оно акайским. Дай Бог здоровья тем акайцам, которые его пили. Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи» разбавлял бензин ослиной мочой. Здесь же, ослиная моча была разбавлена пивом. Однако, поехали дальше.
В километре-двух от станции дорога упиралась в КПП, в обе стороны от которого тянулись в даль ряды колючей проволоки: периметр. За периметром виднелся город. Город-призрак. Ни на какой карте вы его не найдёте. Хотя население его было более пятидесяти тысяч. И название для тех лет (начало восьмидесятых) было громкое – Ленинск. В обиходе его называли просто «десятка». То есть, площадка номер десять. Например, площадка, с которой запускали Гагарина – двойка, а с двухсотой запускали беспилотные грузовые корабли типа «Прогресс». Вокруг города в радиусе около ста километров таких площадок было больше сотни. Это всё в комплексе называлось Байконур.
Ленинск, город советской космонавтики. На вид обычный, типовой городок, построенный в конце пятидесятых – в шестидесятые годы. Без архитектурных излишеств. Хрущевки, хрущевки, что-то типа хрущевок и плюс площадь с памятником Ленина и Домом офицеров с колоннами. Всё это не впечатляет. А вот, зелень – это, да! Вокруг – голая степь и перекати-поле, а здесь – цветущие зеленые аллеи. Приглядевшись, становилось понятно, что это. Вдоль деревьев были проложены трубы с дырочками,а из них лилась вода из Сыр-Дарьи, на берегу которой стоял город. Такого я ещё не встречал.
Вот это – космос!
Моряки в пустыне
Оглядевшись вокруг, подумалось: «Жить можно». А вот, и не угадал! Направили меня в часть, которая находилась в девяносто пяти километрах от города. Пока не получу квартиру, поселили в местной офицерской гостинице среди степей и воинских заборов. Квартира же полагалась только семейным и не раньше, чем через полгода.
Спросите: как же люди добирались на службу каждый день из города в такую даль? Очень просто: в семь утра от «десятки» отправлялся специальный поезд. Назывался «мотовоз». В девять часов все уже стояли на построении на плацу. В семнадцать – обратный путь. Опоздал – беда. Ночуй в казарме, а хочешь – в степи. Шучу.
Вот на таком мотовозе я отправился в свой первый путь на Байконур, в широком понимании этого слова. Как я уже упоминал, был апрель. За окнами вагонов вся степь от горизонта до горизонта цвела оранжево-желтыми тюльпанами.
Вот это – космос!
Прибыв на место, первое, что я увидел – построение на плацу. Это был полк. Именно полком называлась та часть, куда меня направили. Половина военнослужащих была в обычной зеленой форме, а вторая – настоящие матросы и морские офицеры. В пустыне, без единой лужи на сотни километров.
Вот это – космос!
Действительно, это были причуды космоса тех времен. Вернее особенности ведомственной подчиненности. Я молчу, о том, что космос тогда был мирным. Поэтому и Ленинска никакого не было на картах. Но, у мирного адмирала Горшкова, Главкома ВМФ, было здесь своё подразделение по запуску морских спутников. То есть, спутников наведения подводных лодок и кораблей, а также других задач флота. Мирных задач…
И только в восемьдесят третьем официально появились космические войска. Все, что касалось космоса, туда объединили. Морякам выдали лётную форму. Но и после этого, они ещё несколько лет упорно донашивали остатки потрепанных флотских мундиров, регулярно получая взыскания за нарушение формы одежды.
Но, эта грустная история была потом. А тогда, по прибытии – внешний осмотр. Шитая мица (фуражка) и шитый краб (кокарда) – нормальный пацан. Форменные, выданные со склада – чмо. И пойди, ещё докажи потом, что ты не чмо. То есть, здесь встречали, как говорят, по одёжке.
Вообще, «сапоги» моряков недолюбливали. Их было мало, около сотни офицеров на весь гарнизон, но были они как бельмо в глазу. Очень выделялись из серо-зелёной массы. Это раздражало. Например, наш командир полка, сухопутный полковник, как-то зимой при двадцати с лишним мороза во время построения на плацу устроил разнос морским командирам:
– Почему, все люди как люди, а ваши выпендриваются? Почему в фуражках? Почему в ботиночках? Завтра же всем быть в шапках и в сапогах. Иначе, будете стоять на плацу, пока не примёрзните к асфальту. Долго ему объясняли, что у моряков нет сапог и галифе. Но шапки пришлось одеть. Матросы тоже отличались от своих зеленых соратников по оружию. Не только цветом формы, но и лицом. Сюда призывались только бледнолицые (первая категория: русские, украинцы, белорусы, прибалты, плюс полное среднее образование). Непонятно, правда, зачем такой серьезный отбор, если они занимались только мытьем палубы, протиркой пыли и караульной службой. Ах, нет, забыл! Еще были политзанятия и строевые.
Сухой закон
Казалось, что молодые офицеры, живущие в гостинице в голой степи, должны были вымереть со скуки. Но нет, выживали. Некоторые даже женились на «ложкомойках» (работницах офицерской столовой). Через пару лет, всё же, разводились, потому, что не о таких мечтали.
А представьте себе, ко всей этой тоске впридачу – сухой закон, объявленный по всему гарнизону. Но сухим, закон выглядел только на первый взгляд. На самом деле, вероятно, или мне показалось, пить никому не запрещалось. Просто в продаже не было обычного спиртного. Были только импортные выкрутасы, оставшиеся после московской олимпиады: португальские портвейны по шесть пятьдесят, французские коньяки, как сейчас помню: Камю Селебрасьон – шестнадцать рублей, а Камю Наполеон – двадцать пять, югославский Вермут по четыре пятьдесят и баночное пиво по девяносто копеек. Попробовать такое – интересно, но пить – разоришься.
Однако, кто-то наверху забыл, что космос – это спирт. Почти все работы по подготовке к запуску были связаны со спиртом. Спрашивается, какой же советский офицер сможет использовать шило не по его прямому назначению? Вероятно, по этой причине по вечерам или в выходные встретить в городе нетрезвых мужчин не составляло ни малейшего труда.
Один недостаток: пить спирт летом, когда средняя температура в тени – под сорок, очень не просто. Я бы, даже, сказал – тяжело. Но ничего, находили люди способы. Однако, были и те, кто этих людей угнетал. Командир полка любил раз в неделю, несмотря на жару, устраивать профилактические марш-броски на шесть километров. Профилактика была направлена на борьбу с пьющими. Причем, была она изощрённая. Не в какой-то конкретный день недели, а внезапно, без предупреждения. Ему-то сзади на машине хорошо, а остальным бежать такой кросс – это космос.
Старт
Спутники ВМФ запускались со своей, идивидуальной стартовой площадки. Одно из двух морских подразделений содержало и обслуживало этот комплекс. За ними была и ракета. Второе подразделение занималось «головой», то есть спутником. Я попал во второе. Спутник наш был не простым, а с ядерным реактором на борту. Поскольку нормальных аккумуляторов, удовлетворяющих требованиям габаритов, веса и ёмкости, в нашей стране не было, то в теневой стороне, где не работали солнечные батареи, в активном режиме аппаратура работать не могла. Маленький бортовой реактор решал эту проблему. У американцев такого не было. У них, просто, были аккумуляторы.
Кстати, реактор – вещь очень секретная. С его устройством и порядком подготовки и эксплуатации мы знакомились только в секретной комнате и только после подписки о неразглашении на десять лет. Было, наверное, чего скрывать. Дело в том, что на некоторых чертежах по моей специальности стояли немецкие штампы датированные 1944-м годом. Видимо, в секрете держали, что мы сами не можем создать ничего существенного в этой области, а может и не только в этой. Вот такой он, космос.
Наблюдать запуск ракеты очень интересно. Пульсирующее, удаляющееся пятно пламени, непередаваемый звук: не то треск, не то какой-то стрекот. Долгий громкий, постепенно затихающий. Но раз или два в год ракеты падали. Либо, не сходя со старта, либо немного пролетев, шатаясь из стороны в сторону, а затем, заваливаясь на бок.
Но это были ракеты не нашего подразделения. Разные другие. Вокруг было много стартовых комплексов. Падения сопровождались огромными разливами пламени и тучами дыма. На километры вокруг оставалась глубоко выжженная земля.
Наш спутник разок упал в Канаде в начале семидесятых. Вот, был скандал! Не меньше, чем после Чернобыля. Однако, следует заметить, что никогда не падают только те спутники, которые не запускают. В космосе пока – только так.
Война
И была война. Не наша, чужая. Воевали Англия и Аргентина за Фолкленды.
А наших моряков посадили на казарменное положение с весны до самой осени. Они чуть ли не каждую неделю запускали новые спутники.
Мнения, за кого воюем разделились. Часть офицеров, наверное, двоечников по политической подготовке, считала, что мы помогаем англичанам. Но правильные пацаны, всё правильно понимали и очень гордились, когда был уничтожен непотопляемый и невидимый английский «Шеффилд».
А сколько спирта было выпито за время ведения круглосуточных боевых действий! И в преферанс научились играть даже самые тупые офицеры. Правда, это сейчас всё можно свести к хиханькам– хаханькам. А тогда, было не до шуток. Ведь спутники к запуску кто-то всё же готовил. По окончании, казалось, что полгода проведено в заключении. Короче, космос – есть космос. И на космической войне всё не так как на войне обычной.
Космос – кирдык?
Скажу честно, невозможно забыть клоунские костюмы дембелей. Наверное, Газманов или Розенбаум, одевая мундиры с орденами и медалями, решили сегодня с ними посостязаться. Да, что там они. Возьмите баб в звании генерала или полковника неизвестно чего. Но, не об этом. Не забыть мне и шоу, которые устраивали матросы в часы досуга: гладиаторские бои фаланг и скорпионов в трехлитровой банке. Скорпион, залитый эпоксидкой, кстати, обязательный атрибут дембеля-космонавта. Мне такой тоже когда-то подарили. Вот это – часть космоса. Моего космоса.
Потом, наконец, пришла победа «светлой», «подлинно народной демократии». У офицеров всё отобрали, кроме чести. Остальные тоже имущественно пострадали, но многие при этом лишились и чести и совести. Партийцы разных республик растащили великую страну на части. Борис Николаевич ногой закрыл дверь в целую эпоху. В том числе и в эпоху советской космонавтики.
Теперь космос... другой. Раньше это была мощь, сила и гордость державы, а теперь – товар. Так, иногда, бывает, когда министры обороны в молодости заканчивают торговые институты. Говорят, что и из того, что было, половину разворовали.
А может, всё-таки, хоть что-то осталось?
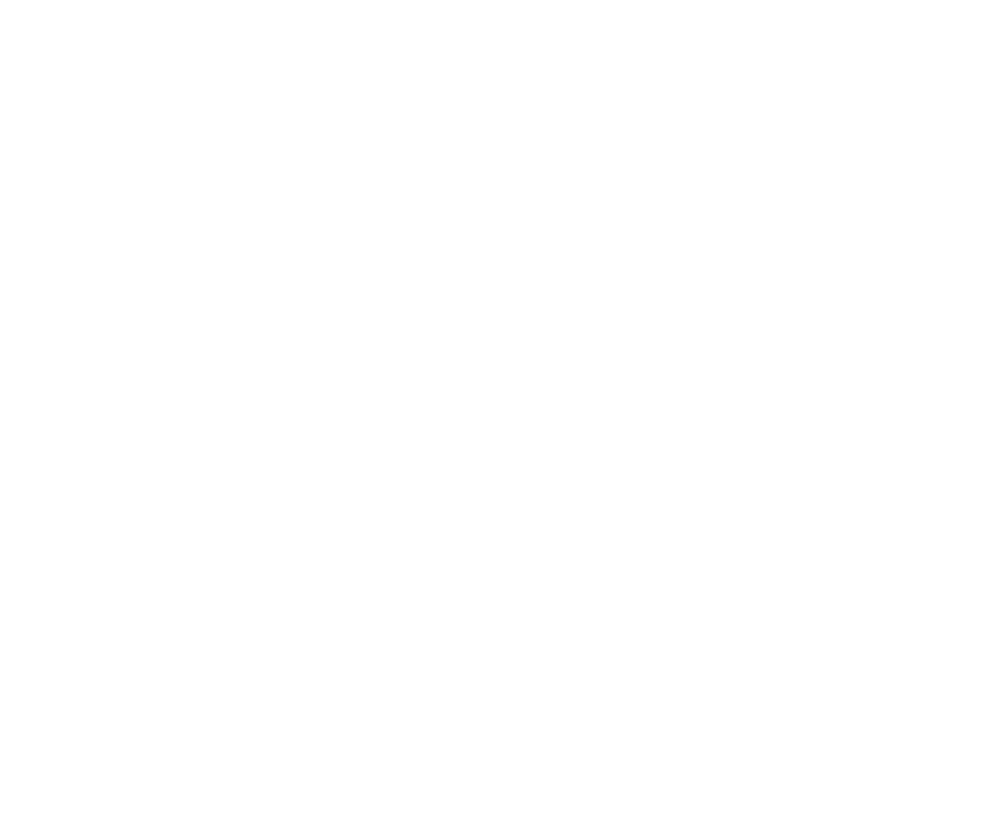
Николай ШОЛАСТЕР
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал не долго, вскоре, начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году, привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году освободившись от занимаемой должности, в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить, давно терзающий душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал не долго, вскоре, начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году, привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году освободившись от занимаемой должности, в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить, давно терзающий душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
ВСТРЕЧА
С этой стороны у Оки довольно высокий берег и вид открывается просто волшебный, а когда подходишь к самому краю, чувствуешь себя парящей птицей! Где-то далеко внизу «на камушках», куда ведут многочисленные извилистые тропинки, в сверкающей на солнце воде радостно плещутся люди. Свежий ветерок с реки, врываясь в теплый и густой летний воздух, создает повод для ликования в груди, а насыщенные яркие цвета, настолько врезаются в память, что до самой зимы согревают сознание. Зимой же все это превращается в ослепительно белый холст, весь изрисованный темными лыжными дорожками и усыпанный разноцветными фигурками все тех же людей, которые в любой сезон и в любую погоду, всегда найдут в природе что-то прекрасное.
В один из солнечных дней начала лета компания молодых парней, уже вдоволь накупавшись и наигравшись, направлялась домой через рощицу, по тропинке к своим домам. Чуть поодаль ковылял тучный мужчина, более чем средних лет, он старался далеко не отставать, но и близко тоже не подходил, будто боялся чего-то. Он пытался уловить каждое слово из их разговора и, подслеповато прищуриваясь, всматривался в лица. По всему было видно, он ищет кого-то. Так обычно ищут близких родных в толпе, с которыми уже не виделись очень много лет, суетясь и терзая себя сомнениями относительно возможности их узнать. Наконец он нашел, кого искал, глаза его заблестели, слегка увлажнившись от нахлынувших эмоций. Оглянувшись по сторонам, толстяк чуть приподнял голову и напрягся, намереваясь окликнуть одного из парней.
– О, нет, нет! Вот это Вы совершенно напрасно пытаетесь делать. Мы же договорились! – прозвучало у него в голове. – Неужели Вы всерьез думаете, что мы допустим что-либо подобное, все уже предусмотрено, так будьте же благоразумны.
В подтверждение этих слов, навстречу вдруг нарисовались два хмурых субъекта, словно они всегда здесь и были, только ловко прятались. Очень внимательный, но совершенно равнодушный взгляд, точно и хладнокровно оценивающий любое, даже едва заметное движение, считывающий любой скрытый умысел. Так смотрят на глупую букашку, с интересом наблюдая за ее бесхитростными действиями.
– Вам разрешили только посмотреть на него, но не разговаривать с ним! – продолжал все тот же голос. – Ну что Вы ему скажете? «Здравствуй, родной, я это ты»? Или может, расскажете, что было, что будет и чем все успокоится? А разве Вам неизвестно, что прожитая Вами жизнь, это всего-то лишь один из вариантов развития событий. И не смущает ли то, что после разговора, если он вообще вдруг состоится, его жизнь уж точно покатит совсем иным путём, который вряд ли представится возможным точно просчитать – так много в нем переменных!
– Да нет, конечно, ничего подобного и не помышлял! Так... перекинуться парой слов…
– Парой слов…, а что он подумает, узнав, что этот лысый толстяк – он сам и есть, пусть даже в будущем?
– Я бы узнал такое, точно повесился!
– Вот! По крайней мере, всю дальнейшую жизнь потратил бы на то, чтобы таким не стать и стал бы еще хуже или… ну, да…никем бы уже и не стал. Так что, возвращайтесь к реке, там сейчас замечательно. У Вас есть время!
Сидеть у реки на высоком берегу, да в такую погоду, занятие, вне всяких сомнений, приятное! Усевшись на скамейку и лениво наблюдая за плавным движением воды, он вдруг подумал, что и жизнь наша так же течет, оставляя позади себя уже знакомые берега, а что там за поворотом, никто до поры и не узнает. Так вот, прошлое, это то, что уже прошло, это история, которую ты знаешь и помнишь, а будущее, оно никогда не бывает определено до конца, поскольку зависит от бесконечного множества факторов и, в том числе, твоих действий, которые ты совершаешь сейчас. Так же, как любой кинофильм или музыка, записанная на студии, сколько их ни крути, остаются неизменными, в то же время, как живое исполнение на сцене это почти всегда наполовину импровизация, и зависит от сиюминутного вдохновения.
Под воздействием расслабляющего вида летней природы мощная волна эмоций от встречи, накрывшая его, постепенно затихала. Душа успокоилась, и к его праздным рассуждениям о «времени и временах» и месте человека на этой бесконечной оси жизни добавились воспоминания. Он вспомнил, как много лет назад в такой же прекрасный летний день он отдыхал с друзьями на этом же самом месте, и какой-то странный человек сидел неподалеку и все смотрел на них. Долго смотрел, не отрываясь, иногда даже казалось, он хочет что-то сказать, а когда взгляды их, как бы нечаянно, встретились, то внезапно возникло чувство причастности друг к другу, хотя его внешность была совершенно незнакома.
Вот же наступают в жизни моменты, когда хочется пообщаться с самим собой, покопаться в недрах души, добраться до самых темных закоулков ее, анализируя свое прошлое и планируя свои сиюминутные действия. Однако, при этом будущее лишь прогнозируется и остается до конца неясным. Но, если вдруг, «забежать вперед» с целью узнать о грядущих ошибках или пусть наоборот, что-то важное узнав, «вернуться назад», с благими намерениями предупредить о нежелательных действиях «идущего следом», будущее все равно извернется этаким вредным образом, чтобы остаться загадкой.
Вся наша жизнь это большой спектакль, устроенный Богом, но каждому в нем предоставлено право самостоятельно вносить коррективы в свою игру, импровизируя создавать непредсказуемый финал. Вот течет река, и берега ее знакомы вроде, да уже не те. В этом и есть вся прелесть нашего мира, в его совершенной непредсказуемости и полной зависимости от душевных мук и воображения импровизатора.
– Ну как, подумали о смысле жизни? Можно лететь в контору? Там уже ждут нас. В отделе кадров оформим все, как полагается, и определим наши дальнейшие действия, наконец, – сообщил голос.
– Да, пора уже, я думаю. Вот нелепо, как-то, вышло, встретил самого себя, а сказать – то и нечего! Печально это.
– Ну, ну! Грустить не надо, знание будущего смысла не имеет, оно просто убивает жизнь, ибо смысл ее в незнании! Это все равно, что решать задачи, подглядывая в ответ, они тут же теряют свое методическое значение.
– Все-таки так хотелось с ним поговорить, просто о чем-то нейтральном, без риска нежелательных изменений.
– Изменения произошли бы в любом случае, и что они за собой повлекли, просчитать было бы совершенно невозможно. Если Вас угнетает совсем уже непреодолимая потребность говорить с собой, займитесь самосозерцанием. Кстати, скоро и узнаем о Вашей новой специальности. Вот очередная загадка будущего!
Они от души рассмеялись и полетели. Какой же чудный вид у Земли сверху!
ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
– Василек, ворота держи, левый угол, не дай им забить! – кричали пацаны, но куда там, мяч, словно снаряд, просвистел мимо растопыренных Васиных рук и влетел между двух кирпичей, изображавших футбольные ворота.
– Гооол! – радостно заорали Витька с Пашкой. Да, это был уже третий гол пропущенный Васей, и «наши» позорно проиграли соседям.
– Эх, Вася! Ты что в защите, что на воротах…, сплошной «Вася»! – ворчали на него ребята.
Вообще-то его во дворе не обижали, он был самым маленьким, но играть с собой особо и не приглашали. Как слабое звено в команде, он всегда был в запасе. У всех во дворе были солидные клички: Юрку Климова звали «Клим», Сережку – «Серый», а Вася был просто «Васей», никакого почтения! Конечно, это сильно огорчало, хотелось уважения, внутри-то он себя чувствовал более сильным и умелым, но в реальности все было не так.
Иногда он сравнивал себя со львом из сказки «Волшебник изумрудного города», который так же мучился из-за несовпадения своего статуса – царя зверей, с реальным положением дел. Вася очень любил эту сказку, и когда научился читать, часто ее перечитывал. А еще он рисовал всех ее героев, как хороших, так и плохих, любил передавать их образы в рисунках. Он совсем и не думал об этом, просто это занятие было ему по душе, и как-то само собой, рисунки получались очень реалистичными, да настолько, что порою казались живыми. Рисовал он, как мог, и не все получалось хорошо, но поступление в студию, многое поменяло к лучшему.
Лев у Васи получился старым и добрым, похожим на дедушку. Доброта, золотистым ручьем от макушки до лап, так и стекала по его лохматой гриве, которая местами прикрывала шрамы и частые морщинки – следы суровых львиных будней. Но глаза! Они были просто источником добра и света, и совсем не по-звериному смотрели прямо в душу. И настолько они казались живыми, что даже меняли свое выражение в зависимости от его, львиного настроения, от погоды и разных жизненных обстоятельств.
Как же ему были близки и понятны переживания главных героев сказки, их всех объединяла мечта получить недостающие качества, так необходимые для построения успешной жизни. Но думать о любви Васе было еще рано, а голова у него была набита отнюдь не соломой, вот силы и храбрости ему, как раз, очень не хватало, поэтому лев был ему ближе всех. И так получилось, что стали они большими друзьями. Вася придумал ему новое имя – «Лео» и его рисунок теперь всегда находился на самом почетном месте в Васиной комнатке.
– Ну почему мне так не везет? Опять сегодня напропускал целую кучу голов! Меня не хотят брать в команду! – жаловался Вася своему другу на рисунке.
– Да ты боишься мяча! А ты не отворачивайся от него, а разозлись и схвати! Это же не кирпич, в конце концов,– неожиданно, человеческим голосом ответил Лео.
– Ого, ты говорить умеешь!
– Да любая картинка может говорить, если она хорошо нарисована и автор ее очень любит.
– А почему тогда другие картины не разговаривают? Их, значит, плохо нарисовали?
– Нет. Просто они не со всеми разговаривают, только с кем хотят.
– Значит, ты со мной хочешь разговаривать?
– Да, ты хорошо рисуешь, любишь меня и веришь в мое существование.
Так их дружба еще больше укрепилась и перешла на новый уровень. А на следующий день ребята опять играли в футбол. На «наших» воротах должен был стоять Колька, но его не выпустили гулять за двойку по математике и ребята нехотя предложили Васе заменить его. Больше-то и некому было.
Мяч стремительно и, как-то уже, по привычке летел в «наши» ворота! Клим, предвидя очередное позорное поражение, разочарованно махнул рукой и отвернулся, но тут Вася с диким ревом кинулся на мяч, схватил его и крепко прижал к себе. Пашка даже опешил от такого поворота событий и замер, тараща удивленные глаза. Как же так, это же был неминуемый гол! И марш победы фанфары уже трубили, предвидя сокрушительное поражение противника! И тут вдруг все оборвалось! Такого никто не ожидал.
А Вася, крепко сжимая мяч, гордо глядел на оторопевших и «наших» и «ваших», так обычно во дворе назывались противоборствующие команды. Сделав несколько уверенных шагов вперед, он вбросил мяч в игру. Сегодня Фортуна явно была на стороне «наших», и игра закончилась их уверенной победой.
– Ну, Василек, ты даешь! Молодец, наш пацан! Пусть все теперь знают, что у наших ворот появился надежный вратарь! – торжественно подытожил результат матча Клим и похлопал Васю по плечу. Затем, каждый из команды подошел к нему и крепко пожал руку.
Весь наш двор ликовал, а соседи удивленно покачивали головами, мол, «ничего себе, поворот событий! Вот тебе и Вася – «пустые ворота»!» Так его называли в соседнем дворе.
Вернувшись домой, Вася сразу бросился к Лео, стал его благодарить и рассказывать ему «в красках», как все происходило.
– Да ладно, я всего лишь посоветовал, а делал ты все сам! Я никакой не волшебник, просто так, кое-что умею. Кстати, ты не забыл случайно, кто меня нарисовал? Вот! – с этими словами Лео хитро улыбнулся и подмигнул Васе.
– Но главное, ты мой друг, ты мой настоящий друг, Лео! – ответил Вася и аккуратно коснулся ладонью рисунка.
С этой стороны у Оки довольно высокий берег и вид открывается просто волшебный, а когда подходишь к самому краю, чувствуешь себя парящей птицей! Где-то далеко внизу «на камушках», куда ведут многочисленные извилистые тропинки, в сверкающей на солнце воде радостно плещутся люди. Свежий ветерок с реки, врываясь в теплый и густой летний воздух, создает повод для ликования в груди, а насыщенные яркие цвета, настолько врезаются в память, что до самой зимы согревают сознание. Зимой же все это превращается в ослепительно белый холст, весь изрисованный темными лыжными дорожками и усыпанный разноцветными фигурками все тех же людей, которые в любой сезон и в любую погоду, всегда найдут в природе что-то прекрасное.
В один из солнечных дней начала лета компания молодых парней, уже вдоволь накупавшись и наигравшись, направлялась домой через рощицу, по тропинке к своим домам. Чуть поодаль ковылял тучный мужчина, более чем средних лет, он старался далеко не отставать, но и близко тоже не подходил, будто боялся чего-то. Он пытался уловить каждое слово из их разговора и, подслеповато прищуриваясь, всматривался в лица. По всему было видно, он ищет кого-то. Так обычно ищут близких родных в толпе, с которыми уже не виделись очень много лет, суетясь и терзая себя сомнениями относительно возможности их узнать. Наконец он нашел, кого искал, глаза его заблестели, слегка увлажнившись от нахлынувших эмоций. Оглянувшись по сторонам, толстяк чуть приподнял голову и напрягся, намереваясь окликнуть одного из парней.
– О, нет, нет! Вот это Вы совершенно напрасно пытаетесь делать. Мы же договорились! – прозвучало у него в голове. – Неужели Вы всерьез думаете, что мы допустим что-либо подобное, все уже предусмотрено, так будьте же благоразумны.
В подтверждение этих слов, навстречу вдруг нарисовались два хмурых субъекта, словно они всегда здесь и были, только ловко прятались. Очень внимательный, но совершенно равнодушный взгляд, точно и хладнокровно оценивающий любое, даже едва заметное движение, считывающий любой скрытый умысел. Так смотрят на глупую букашку, с интересом наблюдая за ее бесхитростными действиями.
– Вам разрешили только посмотреть на него, но не разговаривать с ним! – продолжал все тот же голос. – Ну что Вы ему скажете? «Здравствуй, родной, я это ты»? Или может, расскажете, что было, что будет и чем все успокоится? А разве Вам неизвестно, что прожитая Вами жизнь, это всего-то лишь один из вариантов развития событий. И не смущает ли то, что после разговора, если он вообще вдруг состоится, его жизнь уж точно покатит совсем иным путём, который вряд ли представится возможным точно просчитать – так много в нем переменных!
– Да нет, конечно, ничего подобного и не помышлял! Так... перекинуться парой слов…
– Парой слов…, а что он подумает, узнав, что этот лысый толстяк – он сам и есть, пусть даже в будущем?
– Я бы узнал такое, точно повесился!
– Вот! По крайней мере, всю дальнейшую жизнь потратил бы на то, чтобы таким не стать и стал бы еще хуже или… ну, да…никем бы уже и не стал. Так что, возвращайтесь к реке, там сейчас замечательно. У Вас есть время!
Сидеть у реки на высоком берегу, да в такую погоду, занятие, вне всяких сомнений, приятное! Усевшись на скамейку и лениво наблюдая за плавным движением воды, он вдруг подумал, что и жизнь наша так же течет, оставляя позади себя уже знакомые берега, а что там за поворотом, никто до поры и не узнает. Так вот, прошлое, это то, что уже прошло, это история, которую ты знаешь и помнишь, а будущее, оно никогда не бывает определено до конца, поскольку зависит от бесконечного множества факторов и, в том числе, твоих действий, которые ты совершаешь сейчас. Так же, как любой кинофильм или музыка, записанная на студии, сколько их ни крути, остаются неизменными, в то же время, как живое исполнение на сцене это почти всегда наполовину импровизация, и зависит от сиюминутного вдохновения.
Под воздействием расслабляющего вида летней природы мощная волна эмоций от встречи, накрывшая его, постепенно затихала. Душа успокоилась, и к его праздным рассуждениям о «времени и временах» и месте человека на этой бесконечной оси жизни добавились воспоминания. Он вспомнил, как много лет назад в такой же прекрасный летний день он отдыхал с друзьями на этом же самом месте, и какой-то странный человек сидел неподалеку и все смотрел на них. Долго смотрел, не отрываясь, иногда даже казалось, он хочет что-то сказать, а когда взгляды их, как бы нечаянно, встретились, то внезапно возникло чувство причастности друг к другу, хотя его внешность была совершенно незнакома.
Вот же наступают в жизни моменты, когда хочется пообщаться с самим собой, покопаться в недрах души, добраться до самых темных закоулков ее, анализируя свое прошлое и планируя свои сиюминутные действия. Однако, при этом будущее лишь прогнозируется и остается до конца неясным. Но, если вдруг, «забежать вперед» с целью узнать о грядущих ошибках или пусть наоборот, что-то важное узнав, «вернуться назад», с благими намерениями предупредить о нежелательных действиях «идущего следом», будущее все равно извернется этаким вредным образом, чтобы остаться загадкой.
Вся наша жизнь это большой спектакль, устроенный Богом, но каждому в нем предоставлено право самостоятельно вносить коррективы в свою игру, импровизируя создавать непредсказуемый финал. Вот течет река, и берега ее знакомы вроде, да уже не те. В этом и есть вся прелесть нашего мира, в его совершенной непредсказуемости и полной зависимости от душевных мук и воображения импровизатора.
– Ну как, подумали о смысле жизни? Можно лететь в контору? Там уже ждут нас. В отделе кадров оформим все, как полагается, и определим наши дальнейшие действия, наконец, – сообщил голос.
– Да, пора уже, я думаю. Вот нелепо, как-то, вышло, встретил самого себя, а сказать – то и нечего! Печально это.
– Ну, ну! Грустить не надо, знание будущего смысла не имеет, оно просто убивает жизнь, ибо смысл ее в незнании! Это все равно, что решать задачи, подглядывая в ответ, они тут же теряют свое методическое значение.
– Все-таки так хотелось с ним поговорить, просто о чем-то нейтральном, без риска нежелательных изменений.
– Изменения произошли бы в любом случае, и что они за собой повлекли, просчитать было бы совершенно невозможно. Если Вас угнетает совсем уже непреодолимая потребность говорить с собой, займитесь самосозерцанием. Кстати, скоро и узнаем о Вашей новой специальности. Вот очередная загадка будущего!
Они от души рассмеялись и полетели. Какой же чудный вид у Земли сверху!
ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
– Василек, ворота держи, левый угол, не дай им забить! – кричали пацаны, но куда там, мяч, словно снаряд, просвистел мимо растопыренных Васиных рук и влетел между двух кирпичей, изображавших футбольные ворота.
– Гооол! – радостно заорали Витька с Пашкой. Да, это был уже третий гол пропущенный Васей, и «наши» позорно проиграли соседям.
– Эх, Вася! Ты что в защите, что на воротах…, сплошной «Вася»! – ворчали на него ребята.
Вообще-то его во дворе не обижали, он был самым маленьким, но играть с собой особо и не приглашали. Как слабое звено в команде, он всегда был в запасе. У всех во дворе были солидные клички: Юрку Климова звали «Клим», Сережку – «Серый», а Вася был просто «Васей», никакого почтения! Конечно, это сильно огорчало, хотелось уважения, внутри-то он себя чувствовал более сильным и умелым, но в реальности все было не так.
Иногда он сравнивал себя со львом из сказки «Волшебник изумрудного города», который так же мучился из-за несовпадения своего статуса – царя зверей, с реальным положением дел. Вася очень любил эту сказку, и когда научился читать, часто ее перечитывал. А еще он рисовал всех ее героев, как хороших, так и плохих, любил передавать их образы в рисунках. Он совсем и не думал об этом, просто это занятие было ему по душе, и как-то само собой, рисунки получались очень реалистичными, да настолько, что порою казались живыми. Рисовал он, как мог, и не все получалось хорошо, но поступление в студию, многое поменяло к лучшему.
Лев у Васи получился старым и добрым, похожим на дедушку. Доброта, золотистым ручьем от макушки до лап, так и стекала по его лохматой гриве, которая местами прикрывала шрамы и частые морщинки – следы суровых львиных будней. Но глаза! Они были просто источником добра и света, и совсем не по-звериному смотрели прямо в душу. И настолько они казались живыми, что даже меняли свое выражение в зависимости от его, львиного настроения, от погоды и разных жизненных обстоятельств.
Как же ему были близки и понятны переживания главных героев сказки, их всех объединяла мечта получить недостающие качества, так необходимые для построения успешной жизни. Но думать о любви Васе было еще рано, а голова у него была набита отнюдь не соломой, вот силы и храбрости ему, как раз, очень не хватало, поэтому лев был ему ближе всех. И так получилось, что стали они большими друзьями. Вася придумал ему новое имя – «Лео» и его рисунок теперь всегда находился на самом почетном месте в Васиной комнатке.
– Ну почему мне так не везет? Опять сегодня напропускал целую кучу голов! Меня не хотят брать в команду! – жаловался Вася своему другу на рисунке.
– Да ты боишься мяча! А ты не отворачивайся от него, а разозлись и схвати! Это же не кирпич, в конце концов,– неожиданно, человеческим голосом ответил Лео.
– Ого, ты говорить умеешь!
– Да любая картинка может говорить, если она хорошо нарисована и автор ее очень любит.
– А почему тогда другие картины не разговаривают? Их, значит, плохо нарисовали?
– Нет. Просто они не со всеми разговаривают, только с кем хотят.
– Значит, ты со мной хочешь разговаривать?
– Да, ты хорошо рисуешь, любишь меня и веришь в мое существование.
Так их дружба еще больше укрепилась и перешла на новый уровень. А на следующий день ребята опять играли в футбол. На «наших» воротах должен был стоять Колька, но его не выпустили гулять за двойку по математике и ребята нехотя предложили Васе заменить его. Больше-то и некому было.
Мяч стремительно и, как-то уже, по привычке летел в «наши» ворота! Клим, предвидя очередное позорное поражение, разочарованно махнул рукой и отвернулся, но тут Вася с диким ревом кинулся на мяч, схватил его и крепко прижал к себе. Пашка даже опешил от такого поворота событий и замер, тараща удивленные глаза. Как же так, это же был неминуемый гол! И марш победы фанфары уже трубили, предвидя сокрушительное поражение противника! И тут вдруг все оборвалось! Такого никто не ожидал.
А Вася, крепко сжимая мяч, гордо глядел на оторопевших и «наших» и «ваших», так обычно во дворе назывались противоборствующие команды. Сделав несколько уверенных шагов вперед, он вбросил мяч в игру. Сегодня Фортуна явно была на стороне «наших», и игра закончилась их уверенной победой.
– Ну, Василек, ты даешь! Молодец, наш пацан! Пусть все теперь знают, что у наших ворот появился надежный вратарь! – торжественно подытожил результат матча Клим и похлопал Васю по плечу. Затем, каждый из команды подошел к нему и крепко пожал руку.
Весь наш двор ликовал, а соседи удивленно покачивали головами, мол, «ничего себе, поворот событий! Вот тебе и Вася – «пустые ворота»!» Так его называли в соседнем дворе.
Вернувшись домой, Вася сразу бросился к Лео, стал его благодарить и рассказывать ему «в красках», как все происходило.
– Да ладно, я всего лишь посоветовал, а делал ты все сам! Я никакой не волшебник, просто так, кое-что умею. Кстати, ты не забыл случайно, кто меня нарисовал? Вот! – с этими словами Лео хитро улыбнулся и подмигнул Васе.
– Но главное, ты мой друг, ты мой настоящий друг, Лео! – ответил Вася и аккуратно коснулся ладонью рисунка.
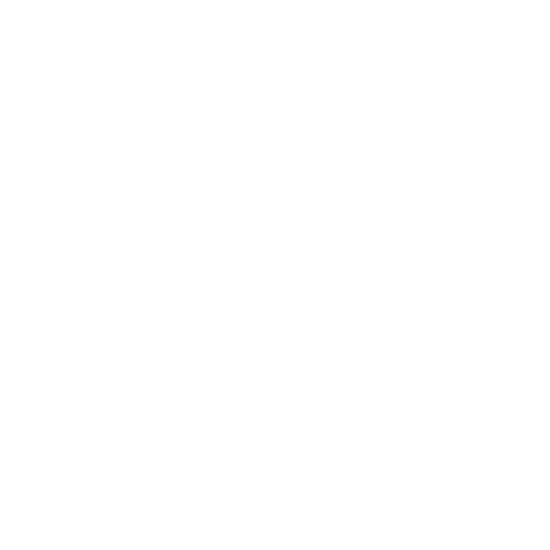
Лариса КЕФФЕЛЬ
Родилась и выросла в Москве. Училась в музыкальной школе имени
М. Ростроповича. После средней школы окончила Московский Библиотечный техникум и, далее, Московский Государственный институт Культуры по специализации «Художественная литература и искусство».
Профессия - библиограф. С 1986 года работала в Тимирязевской библиотечной системе г. Москвы, затем перешла на работу зав. сектором чит. зала в Университет Дружбы народов им. П.Лумумбы. В 1993 году вышла замуж и уехала в Германию.
Разведена. Живу уже около 20 лет в г. Майнц. Работала в научной библиотеке Высшей Католической школы Майнца. (Земля Райнланд - Пфальц) на Юго-Западе Германии. Хорошо владею немецким, но пишу только на русском. Писала стихи с юности. Готовы к публикации два романа, несколько рассказов. Люблю театр, живопись, книги.
Родилась и выросла в Москве. Училась в музыкальной школе имени
М. Ростроповича. После средней школы окончила Московский Библиотечный техникум и, далее, Московский Государственный институт Культуры по специализации «Художественная литература и искусство».
Профессия - библиограф. С 1986 года работала в Тимирязевской библиотечной системе г. Москвы, затем перешла на работу зав. сектором чит. зала в Университет Дружбы народов им. П.Лумумбы. В 1993 году вышла замуж и уехала в Германию.
Разведена. Живу уже около 20 лет в г. Майнц. Работала в научной библиотеке Высшей Католической школы Майнца. (Земля Райнланд - Пфальц) на Юго-Западе Германии. Хорошо владею немецким, но пишу только на русском. Писала стихи с юности. Готовы к публикации два романа, несколько рассказов. Люблю театр, живопись, книги.
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
«Amantes amentes sunt»
Лера вырвалась и ринулась от него прочь. Она потеряла ориентир в пространстве, будто ослепнув и оглохнув, не пытаясь лавировать, то и дело наталкиваясь на людей. Слёзы жгли ей глаза. Она бежала, не оглядываясь, заворачивала в какие-то переулки, кружа по кишащим людьми узким и бессолнечным, как уходящий вверх сруб колодца, улицам, сопровождаемая раздражёнными окриками:
– Синьорина, Вы что, не видите? – и только повторяла:
– Scusi… Scusi...
– Pazza... Stupida! – неслось ей вслед.
Наконец, Лера выдохлась, в беге растеряв первую боль. Остановилась, тяжело дыша. Огляделась по сторонам, надеясь узреть свободный уголок. Невозможно найти уединение в центре Рима в июле. Она просто прислонилась к углу какой-то древней развалины, отвернувшись от всех, и закрыла лицо руками. Что он ей сейчас кричал? Не прошло и двух недель, как он назвал её кретинкой, путаной! Жила себе, жила, и вот – её, нормальную московскую девчонку, втаптывает в грязь жених, который говорил ей о любви, вырвал из дома, с родины... Господи! Что же это? Что она делает здесь – в этом чужом, надменном, дышащим жаром, городе?
Когда это произошло впервые – ужаснулась необузданности его чувств. Замерла в недоумении. Он понял. Взял её на руки, с неожиданной нежностью прижал к себе. Больше ничего в тот раз не было. Но её желанию быть с ним уже мешал этот необъяснимый страх – увидеть его опять таким, словно из сказки о Синей Бороде...
Лера зашла в какую-то подворотню и без сил опустилась прямо на камни, прислонившись к шершавой, пахнущей пылью и плесенью, каменной кладке. Пекло было невыносимым. Раскалённый город плавился, тонул в мареве зноя. Камни, на которые она села – и те были тёплые, как будто на них до неё только что сидели. Попить бы! Она вспомнила, что вода в рюкзаке. С ужасом поняла, что и паспорт там. Он не вместился в портмоне. Сколько у неё денег? Она вытащила кошелёк. Посчитала. Эти сумасшедшие лиры. Сто лир, тысяча лир... Сколько это? Что на это можно купить? Посидела, обняв колени, опустив на них устало голову. Закрыла глаза. Мысленно увидела перекошенное от гнева лицо Витторио. Что она сделала не так? Заговорила с парнем…
Сидя на краю фонтана Треви, окунув руку в тёплую воду, вспомнила сокурсника подруги Маруси, режиссёра из Португалии. Милый, вечно мечтающий Жуан! Он называл её – Леру – «женщиной Феллини», светловолосой Анитой... Хотел снимать в своих курсовых работах.
Парень у фонтана сказал ей что-то. Она улыбнулась. Заколка сползла и волосы рассыпались. Незнакомец спросил – откуда она? Из России. В России красивые девушки. Да. Генетика. Она засмеялась. Подскочил Вито. Дёрнул за руку. Она хотела как раз собрать волосы. Заколка упала в фонтан.
– Ты ведёшь себя, как путана! – он тащил её сквозь людей. – Кретинка! Ты теперь будешь улыбаться каждому? Мне это надоело. Ты что, не понимаешь – где ты? Это тебе не твоя продажная Россия!
– Вито, как ты можешь? Я только... – он не дал ей договорить. Стал толкать её в спину. С побелевшим лицом, он полушипел, полукричал:
– Basta cosi! Sono un cretino! Sono un completo idiota! Pinocchio! Andiamo! Мы идём в отель! Сapisci?! – командовал он. – Allora? Perché batti gli occhi? Forza, andiamo! Ведь знал же, знал, что все эти русские – шалавы! Stronza!
Он выплёвывал в неё напрасные обвинения, намеренно распаляя себя. Леру охватило безотчётное оцепенение, она смотрела на него с жалостью – будто видела этого человека впервые.
– Но ничего, завтра утром кончится, наконец, этот цирк! Мы уезжаем! – он сорвался на крик. Грубо схватил её за локоть.
– Отпусти! Мне больно!
Она резко отшатнулась, вырвалась. Так её назвать! С ней никто так никогда не обращался. Жгучая обида сдавила ей горло. Выдернув руку, она бросилась бежать.
– Да стой ты, идиотка! Стой! Куда ты? Лера-а!
Беглянка быстро затерялась в причудливом лабиринте римских улочек. Лера не могла себя заставить двинуться с места, опять встать и куда-то идти. Её будто парализовало ощущение роковой ошибки, чего-то, что она не в силах избежать, изменить… Вдруг громко и близко зазвонили колокола. Лера очнулась. Подняла голову. Во дворике за аркой была видна маленькая итальянская церквушка. Или это капелла? На фронтоне читалась полустёртая временем надпись: DOM . В памяти явственно всплыла цитата из библии: «...И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём». А есть ли Бог в их любви?.. Та ли это любовь, что угодна Богу?
Она тряхнула головой. Мысли не слушались её. Как странно, что она обо всём этом думает. Ей надо думать о другом. Что дальше?.. Ничего. Надо домой. Обратный билет в отеле, если он не выбросил. Вито ругал её, зачем купила обратный. Дата открыта. Она может улететь хоть завтра. Надо пробраться в отель до его прихода. Мысли путались. Её била дрожь. Нет. Не успеет, да и до Милана ещё надо долететь. Как? Всё это несерьёзно. Она его заложница. Точка. Он так изменился! Его письма на пяти листах, телефонные звонки каждый вечер, ветка жасмина из Бриндизи... В Москве он был так нежен и предупредителен – или она его просто не знала, не разглядела в пунктирной близости прилётов и отлётов, похожих на меняющиеся рисунки из стёклышек в детском калейдоскопе? И ночью он стал другой. Как будто дьявол в него вселялся. Он изводил её ревностью к «каждому фонарному столбу». Вот и этот парень... Глупость какая!
Витторио потерял её из виду. Он опомнился. Расталкивая людей, пытался догнать её, кричал, чтобы она остановилась, вернулась, но тщетно. Споткнувшись, упал, поцарапав колено. Пошёл, прихрамывая. Он упустил её. Увидел в конце улицы карабинеров – парня и девушку. Он поспешил к ним. Надо её найти. Надо её обязательно найти…
Лера поднялась. Она должна идти. Но куда? Куда-нибудь... Пока идёт, что-нибудь придумает. Футболка прилипла к телу. Одёрнула, отряхнула сзади шорты. От распущенных волос было жарко. Хорошо, что светлые, голову не так печёт. Жалко заколку. Она шла, смотрела на людей. Радостные, у них всё хорошо: осматривают город, впитывают дух тысячелетий, делают фото на память. Где ей искать помощи? Господи, услышь меня! Николай Угодник, скорый помощник, помоги!
Лера не хотела назад. Не хотела видеть его. Ей надо свыкнуться с ситуацией. Всё обдумать. На комнату в отеле у неё всё равно, наверное, не хватит денег, да и без документов не сдадут. Может, переночевать где-нибудь на скамейке? Вспомнила вчерашний вечер. Они сидели в каком-то парке. Где это было? Где-то над Римом, кажется, у Палатинского холма?
Она неплохо ориентировалась. Первый шок прошёл, и она задышала спокойнее. Спросила, как пройти к памятнику Виктора Эммануила. Через него они проходили с холма. Лера шла по узкой, как щель, улочке, по обеим сторонам которой теснились сувенирные лавки с открытками, магнитами и всякой всячиной, вроде открывалок для пива. Она искала что-нибудь, чтобы заколоть волосы.
Сегодня ночью ей опять снился тот сон. Что-то уж очень часто. Второй раз за две недели. Однажды, впервые, он приснился почти два года назад – когда она, совсем одуревшая от истории искусств, от закомар, кокошников, нефов и абсид, заснула над учебниками, готовясь к экзамену. Она тогда доверилась коллеге по университетской библиотеке, Лике. Рассказала про сон. Лика умела толковать сны. Говорили, что она занимается гаданиями, чёрной магией, но в это как-то не верилось. Что за чушь! Лика что-то сделала, провела над ней какой-то странный ритуал. Потом сказала непонятно:
– Я вижу... – и медленно произнесла, – ты никогда не должна быть с тем, кто носит имя, означающее «победитель», иначе тот – из сна – погибнет.
– Почему? – не поняла Лера.
– Я вижу... – упрямо повторила Лика. Она вообще была немногословной.
Лера познакомилась с Витторио случайно, незадолго до ликиного пророчества. В автобусе с группой туристов из Италии оказалось свободным одно, уже оплаченное, место на поездку в Большой. Подружка Ритка, переводчица, захлёбывалась в трубку:
– Быстрей! Будем ждать на стоянке у «Космоса». Шофёру скажу, чтобы потянул с отъездом.
Большой театр. «Тоска». Соткилава. Когда ещё представится такая возможность! Билет стоил запредельно, непозволительно дорого, а так – бесплатно... Лера влетела в ожидавший на стоянке «Икарус». Все в автобусе оживились. Ждали только её. Она пошла по проходу, чувствуя на себе любопытные взгляды туристов. Приветливые, возбуждённые от предвкушения приятного вечера. Некоторые здоровались с ней по-итальянски. Неужели правда, все итальянцы так любят оперу? Или им просто интересно взглянуть на роскошь Большого?.. Ритка указала ей на свободное место в середине салона. В соседнем кресле у окна сидел мужчина средних лет в смокинге. Лера скользнула по незнакомцу взглядом. Интересное, умное лицо. Он посмотрел на неё. Извинился. Убрал пальто с кресла. Последующие три часа его взгляд преследовал её неотрывно.
Большой встретил их, как обычно, помпезностью покрытых красными дорожками мраморных лестниц, роскошью избыточной позолоты, навощёнными мозаиками паркета. Сколько раз она переступала этот порог с трепетом от ожидания чуда, с предвкушением каждый раз нового откровения и таинства гармонии, чудесного синтеза фантазий и сновидений, покорившего всё твоё существо навсегда, такого условного и такого захватывающего, как Музыка. Это единственный язык, на котором говорит весь мир, все души. На котором говорит счастье. Почему, когда человек счастлив – он поёт?.. Или вспоминает самую любимую и прекрасную мелодию, которая настраивает его душу, как божественную скрипку, и она взлетает вместе с музыкой в небеса! Здесь подпитывался гений Пушкина, Толстой, может быть, впервые прозрел, увидев мысленно тоненькую фигурку Наташи Ростовой в бальном платье, Тургенев заболел балетом и намечтал Полину. Казалось, что их тени незримо витали где-то здесь. Так и не смогли оторваться от «великого и ужасного» Большого. А скольких затоптала эта золотая колесница Мельпомены! Сколько Одиллий, сошедших с ума, и торжествующих Одетт. Призраков оперы. Сколько побед и провалов, интриг и стёкол в пуантах, несбывшихся надежд и сломанных судеб. Запах старого двухсотлетнего театра, бархатных кресел и занавеса. Лера узнала бы его с закрытыми глазами.
Ритка села в ложе сзади и, деловито опираясь локтями на их кресла, перешёптывалась с Витторио весь спектакль. Переводила. В основном, спрашивал Витторио. Но Лера, выходя из себя, шикала на них, и Ритка с итальянцем на минуту замолкали. Ария Каварадосси… Это всё, что в этот момент ей хотелось слышать, слушать. Корелли, конечно, невозможно превзойти! Соткилава был тоже хорош.
Если бы Ритка периодически не шипела в ухо, то Лера, наверное, пропела бы вместе с ним:
...И должен я погибнуть,
И должен я погибнуть…
Но никогда я так не жаждал жизни,
Не жаждал жизни!
Итальянцы бурно аплодировали, кричали «браво!» после каждой арии. «Всё-таки, музыка объединяет людей», думала Лера, отбивая себе ладони вместе с ними. Этот восторг от торжества русского искусства наполнял её сердце гордостью за свою страну – особенно здесь, в Большом...
После спектакля, у гардероба, Ритка перекинулась парой фраз с Витторио и спросила:
– Давать ему твой телефон?
– Этого ещё не хватало!
Лера наотрез отказалась давать свои координаты. Мало того, что весь вечер ей испортили, ещё и названивать будет. Мама этого не поймёт. Шофёр Гоша высадил её где-то на Дмитровке. Ей пришлось ещё долго мёрзнуть на остановке, чтобы добраться до дома.
Витторио не мог найти её долго. Ритке строго-настрого приказала молчать.
– Ну и дура! – фыркнула Ритка, неодобрительно покачав головой. – Ты хоть знаешь, кто он? Профессор! Он мне визитку оставил. Смотри, пробросаешься! Так и просидишь в старых девах. А он как раз для тебя. По искусству.
Кажущаяся циничность подруги её не обманывала. Лера знала Ритку. Это же добрая душа! Но и «продуманистая». Излюбленное словечко из риткиного лексикона. Им она припечатывала «персонажей с хитринкой» из круга общих знакомых. Как своё клеймо ставила. Хотя у самой Ритки все её хитрые умыслы сводились к тому, чтобы других обогреть и вытащить из грязи... Часто, даже если её об этом не просили.
– Вон, Женька из Австралии звонит… Это просто сказка!
Ритка восторженно закатила глаза. Женька была Риткиной сестрой, спортсменкой-бегуньей, которую она «пристроила» за австралийца, кстати, тренера по гребле.
– Как она там, ещё не всех кенгуру перегнала? – пошутила Лера.
– Скучает. Плакала в трубку, – неохотно призналась Ритка. – А она что думает, нам здесь легко?
– Бедняжка... – посочувствовала Лера.
– Во-во, давай, ещё пожалей её. Тоже идеалистка, типа тебя! – презрительно хмыкнула Ритка, затянувшись сигаретой. – Блин! Ну не понимаете вы своего счастья!.. Стараешься тут для них... Неблагодарные...
– Я не жалуюсь, – пожала плечами Лера.
– Ах, не жалуешься! – Ритка зло выпустила дым. – Посмотри на себя, на кого ты похожа? Нет. Это не мексиканский тушкан! Это шанхайский барс!
– Ладно ехидничать, – Лера закрутила шерстяной шарф вокруг шеи, наскоро засунув концы поглубже в полушубок. – Я побежала.
Ритка чмокнула её, бросив укоризненно вслед:
– Такой шанс упустила, дурёха.
Увидев Витторио на пороге, в голове Леры сразу вспыхнули слова Лики. Верила и не верила. Долго не подпускала. Он упорно добивался её. Прилетал, используя все возможные контакты: своё членство в обществе СССР-Италия. Она училась. ОВиР затягивал с документами, потом заканчивала институт, итальянцы долго проверяли. Юг Италии был закрытой зоной. Казалось, что прошла вечность. И вот опять, уже в Риме, ей снится всё тот же сон – как мучение, как пытка на медленном огне. Она в который раз увидела себя сегодня на какой-то голой и выжженной равнине, медленно пошла по красному песку.
Вдалеке показалось белое строение в мавританском стиле, края которого как будто стекали вверх, в небо. Небесное притяжение. Похоже на «сумасшествия» Дали. Испугалась, что уже никогда не выйдет из этой красной пустыни. Неожиданно кто-то сзади закрыл ей лицо руками, как в детской шутке: «отгадай – кто я?». Она почувствовала дыхание у виска и жар тела, стоящего за ней. Стало тепло и так легко. Она поняла, что тот, сзади – ОН. Её мир. Вселенная. Стала отнимать от лица его руки, поворачиваясь... и проснулась. Опять в этот момент. Так и не увидела его лица. Лере казалось, что это был Витторио. Тогда, в Москве, он положил руку ей на лоб. От неё шло то же тепло, что и во сне. Что значит этот сон? Что ей хотят сказать? От чего предостеречь? Если бы знать. Было ли ликино пророчество знаком? Роковой неизбежностью или лишь предупреждением? Кто стоял там, на равнине? Вито?
«Amantes amentes sunt»
Лера вырвалась и ринулась от него прочь. Она потеряла ориентир в пространстве, будто ослепнув и оглохнув, не пытаясь лавировать, то и дело наталкиваясь на людей. Слёзы жгли ей глаза. Она бежала, не оглядываясь, заворачивала в какие-то переулки, кружа по кишащим людьми узким и бессолнечным, как уходящий вверх сруб колодца, улицам, сопровождаемая раздражёнными окриками:
– Синьорина, Вы что, не видите? – и только повторяла:
– Scusi… Scusi...
– Pazza... Stupida! – неслось ей вслед.
Наконец, Лера выдохлась, в беге растеряв первую боль. Остановилась, тяжело дыша. Огляделась по сторонам, надеясь узреть свободный уголок. Невозможно найти уединение в центре Рима в июле. Она просто прислонилась к углу какой-то древней развалины, отвернувшись от всех, и закрыла лицо руками. Что он ей сейчас кричал? Не прошло и двух недель, как он назвал её кретинкой, путаной! Жила себе, жила, и вот – её, нормальную московскую девчонку, втаптывает в грязь жених, который говорил ей о любви, вырвал из дома, с родины... Господи! Что же это? Что она делает здесь – в этом чужом, надменном, дышащим жаром, городе?
Когда это произошло впервые – ужаснулась необузданности его чувств. Замерла в недоумении. Он понял. Взял её на руки, с неожиданной нежностью прижал к себе. Больше ничего в тот раз не было. Но её желанию быть с ним уже мешал этот необъяснимый страх – увидеть его опять таким, словно из сказки о Синей Бороде...
Лера зашла в какую-то подворотню и без сил опустилась прямо на камни, прислонившись к шершавой, пахнущей пылью и плесенью, каменной кладке. Пекло было невыносимым. Раскалённый город плавился, тонул в мареве зноя. Камни, на которые она села – и те были тёплые, как будто на них до неё только что сидели. Попить бы! Она вспомнила, что вода в рюкзаке. С ужасом поняла, что и паспорт там. Он не вместился в портмоне. Сколько у неё денег? Она вытащила кошелёк. Посчитала. Эти сумасшедшие лиры. Сто лир, тысяча лир... Сколько это? Что на это можно купить? Посидела, обняв колени, опустив на них устало голову. Закрыла глаза. Мысленно увидела перекошенное от гнева лицо Витторио. Что она сделала не так? Заговорила с парнем…
Сидя на краю фонтана Треви, окунув руку в тёплую воду, вспомнила сокурсника подруги Маруси, режиссёра из Португалии. Милый, вечно мечтающий Жуан! Он называл её – Леру – «женщиной Феллини», светловолосой Анитой... Хотел снимать в своих курсовых работах.
Парень у фонтана сказал ей что-то. Она улыбнулась. Заколка сползла и волосы рассыпались. Незнакомец спросил – откуда она? Из России. В России красивые девушки. Да. Генетика. Она засмеялась. Подскочил Вито. Дёрнул за руку. Она хотела как раз собрать волосы. Заколка упала в фонтан.
– Ты ведёшь себя, как путана! – он тащил её сквозь людей. – Кретинка! Ты теперь будешь улыбаться каждому? Мне это надоело. Ты что, не понимаешь – где ты? Это тебе не твоя продажная Россия!
– Вито, как ты можешь? Я только... – он не дал ей договорить. Стал толкать её в спину. С побелевшим лицом, он полушипел, полукричал:
– Basta cosi! Sono un cretino! Sono un completo idiota! Pinocchio! Andiamo! Мы идём в отель! Сapisci?! – командовал он. – Allora? Perché batti gli occhi? Forza, andiamo! Ведь знал же, знал, что все эти русские – шалавы! Stronza!
Он выплёвывал в неё напрасные обвинения, намеренно распаляя себя. Леру охватило безотчётное оцепенение, она смотрела на него с жалостью – будто видела этого человека впервые.
– Но ничего, завтра утром кончится, наконец, этот цирк! Мы уезжаем! – он сорвался на крик. Грубо схватил её за локоть.
– Отпусти! Мне больно!
Она резко отшатнулась, вырвалась. Так её назвать! С ней никто так никогда не обращался. Жгучая обида сдавила ей горло. Выдернув руку, она бросилась бежать.
– Да стой ты, идиотка! Стой! Куда ты? Лера-а!
Беглянка быстро затерялась в причудливом лабиринте римских улочек. Лера не могла себя заставить двинуться с места, опять встать и куда-то идти. Её будто парализовало ощущение роковой ошибки, чего-то, что она не в силах избежать, изменить… Вдруг громко и близко зазвонили колокола. Лера очнулась. Подняла голову. Во дворике за аркой была видна маленькая итальянская церквушка. Или это капелла? На фронтоне читалась полустёртая временем надпись: DOM . В памяти явственно всплыла цитата из библии: «...И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём». А есть ли Бог в их любви?.. Та ли это любовь, что угодна Богу?
Она тряхнула головой. Мысли не слушались её. Как странно, что она обо всём этом думает. Ей надо думать о другом. Что дальше?.. Ничего. Надо домой. Обратный билет в отеле, если он не выбросил. Вито ругал её, зачем купила обратный. Дата открыта. Она может улететь хоть завтра. Надо пробраться в отель до его прихода. Мысли путались. Её била дрожь. Нет. Не успеет, да и до Милана ещё надо долететь. Как? Всё это несерьёзно. Она его заложница. Точка. Он так изменился! Его письма на пяти листах, телефонные звонки каждый вечер, ветка жасмина из Бриндизи... В Москве он был так нежен и предупредителен – или она его просто не знала, не разглядела в пунктирной близости прилётов и отлётов, похожих на меняющиеся рисунки из стёклышек в детском калейдоскопе? И ночью он стал другой. Как будто дьявол в него вселялся. Он изводил её ревностью к «каждому фонарному столбу». Вот и этот парень... Глупость какая!
Витторио потерял её из виду. Он опомнился. Расталкивая людей, пытался догнать её, кричал, чтобы она остановилась, вернулась, но тщетно. Споткнувшись, упал, поцарапав колено. Пошёл, прихрамывая. Он упустил её. Увидел в конце улицы карабинеров – парня и девушку. Он поспешил к ним. Надо её найти. Надо её обязательно найти…
Лера поднялась. Она должна идти. Но куда? Куда-нибудь... Пока идёт, что-нибудь придумает. Футболка прилипла к телу. Одёрнула, отряхнула сзади шорты. От распущенных волос было жарко. Хорошо, что светлые, голову не так печёт. Жалко заколку. Она шла, смотрела на людей. Радостные, у них всё хорошо: осматривают город, впитывают дух тысячелетий, делают фото на память. Где ей искать помощи? Господи, услышь меня! Николай Угодник, скорый помощник, помоги!
Лера не хотела назад. Не хотела видеть его. Ей надо свыкнуться с ситуацией. Всё обдумать. На комнату в отеле у неё всё равно, наверное, не хватит денег, да и без документов не сдадут. Может, переночевать где-нибудь на скамейке? Вспомнила вчерашний вечер. Они сидели в каком-то парке. Где это было? Где-то над Римом, кажется, у Палатинского холма?
Она неплохо ориентировалась. Первый шок прошёл, и она задышала спокойнее. Спросила, как пройти к памятнику Виктора Эммануила. Через него они проходили с холма. Лера шла по узкой, как щель, улочке, по обеим сторонам которой теснились сувенирные лавки с открытками, магнитами и всякой всячиной, вроде открывалок для пива. Она искала что-нибудь, чтобы заколоть волосы.
Сегодня ночью ей опять снился тот сон. Что-то уж очень часто. Второй раз за две недели. Однажды, впервые, он приснился почти два года назад – когда она, совсем одуревшая от истории искусств, от закомар, кокошников, нефов и абсид, заснула над учебниками, готовясь к экзамену. Она тогда доверилась коллеге по университетской библиотеке, Лике. Рассказала про сон. Лика умела толковать сны. Говорили, что она занимается гаданиями, чёрной магией, но в это как-то не верилось. Что за чушь! Лика что-то сделала, провела над ней какой-то странный ритуал. Потом сказала непонятно:
– Я вижу... – и медленно произнесла, – ты никогда не должна быть с тем, кто носит имя, означающее «победитель», иначе тот – из сна – погибнет.
– Почему? – не поняла Лера.
– Я вижу... – упрямо повторила Лика. Она вообще была немногословной.
Лера познакомилась с Витторио случайно, незадолго до ликиного пророчества. В автобусе с группой туристов из Италии оказалось свободным одно, уже оплаченное, место на поездку в Большой. Подружка Ритка, переводчица, захлёбывалась в трубку:
– Быстрей! Будем ждать на стоянке у «Космоса». Шофёру скажу, чтобы потянул с отъездом.
Большой театр. «Тоска». Соткилава. Когда ещё представится такая возможность! Билет стоил запредельно, непозволительно дорого, а так – бесплатно... Лера влетела в ожидавший на стоянке «Икарус». Все в автобусе оживились. Ждали только её. Она пошла по проходу, чувствуя на себе любопытные взгляды туристов. Приветливые, возбуждённые от предвкушения приятного вечера. Некоторые здоровались с ней по-итальянски. Неужели правда, все итальянцы так любят оперу? Или им просто интересно взглянуть на роскошь Большого?.. Ритка указала ей на свободное место в середине салона. В соседнем кресле у окна сидел мужчина средних лет в смокинге. Лера скользнула по незнакомцу взглядом. Интересное, умное лицо. Он посмотрел на неё. Извинился. Убрал пальто с кресла. Последующие три часа его взгляд преследовал её неотрывно.
Большой встретил их, как обычно, помпезностью покрытых красными дорожками мраморных лестниц, роскошью избыточной позолоты, навощёнными мозаиками паркета. Сколько раз она переступала этот порог с трепетом от ожидания чуда, с предвкушением каждый раз нового откровения и таинства гармонии, чудесного синтеза фантазий и сновидений, покорившего всё твоё существо навсегда, такого условного и такого захватывающего, как Музыка. Это единственный язык, на котором говорит весь мир, все души. На котором говорит счастье. Почему, когда человек счастлив – он поёт?.. Или вспоминает самую любимую и прекрасную мелодию, которая настраивает его душу, как божественную скрипку, и она взлетает вместе с музыкой в небеса! Здесь подпитывался гений Пушкина, Толстой, может быть, впервые прозрел, увидев мысленно тоненькую фигурку Наташи Ростовой в бальном платье, Тургенев заболел балетом и намечтал Полину. Казалось, что их тени незримо витали где-то здесь. Так и не смогли оторваться от «великого и ужасного» Большого. А скольких затоптала эта золотая колесница Мельпомены! Сколько Одиллий, сошедших с ума, и торжествующих Одетт. Призраков оперы. Сколько побед и провалов, интриг и стёкол в пуантах, несбывшихся надежд и сломанных судеб. Запах старого двухсотлетнего театра, бархатных кресел и занавеса. Лера узнала бы его с закрытыми глазами.
Ритка села в ложе сзади и, деловито опираясь локтями на их кресла, перешёптывалась с Витторио весь спектакль. Переводила. В основном, спрашивал Витторио. Но Лера, выходя из себя, шикала на них, и Ритка с итальянцем на минуту замолкали. Ария Каварадосси… Это всё, что в этот момент ей хотелось слышать, слушать. Корелли, конечно, невозможно превзойти! Соткилава был тоже хорош.
Если бы Ритка периодически не шипела в ухо, то Лера, наверное, пропела бы вместе с ним:
...И должен я погибнуть,
И должен я погибнуть…
Но никогда я так не жаждал жизни,
Не жаждал жизни!
Итальянцы бурно аплодировали, кричали «браво!» после каждой арии. «Всё-таки, музыка объединяет людей», думала Лера, отбивая себе ладони вместе с ними. Этот восторг от торжества русского искусства наполнял её сердце гордостью за свою страну – особенно здесь, в Большом...
После спектакля, у гардероба, Ритка перекинулась парой фраз с Витторио и спросила:
– Давать ему твой телефон?
– Этого ещё не хватало!
Лера наотрез отказалась давать свои координаты. Мало того, что весь вечер ей испортили, ещё и названивать будет. Мама этого не поймёт. Шофёр Гоша высадил её где-то на Дмитровке. Ей пришлось ещё долго мёрзнуть на остановке, чтобы добраться до дома.
Витторио не мог найти её долго. Ритке строго-настрого приказала молчать.
– Ну и дура! – фыркнула Ритка, неодобрительно покачав головой. – Ты хоть знаешь, кто он? Профессор! Он мне визитку оставил. Смотри, пробросаешься! Так и просидишь в старых девах. А он как раз для тебя. По искусству.
Кажущаяся циничность подруги её не обманывала. Лера знала Ритку. Это же добрая душа! Но и «продуманистая». Излюбленное словечко из риткиного лексикона. Им она припечатывала «персонажей с хитринкой» из круга общих знакомых. Как своё клеймо ставила. Хотя у самой Ритки все её хитрые умыслы сводились к тому, чтобы других обогреть и вытащить из грязи... Часто, даже если её об этом не просили.
– Вон, Женька из Австралии звонит… Это просто сказка!
Ритка восторженно закатила глаза. Женька была Риткиной сестрой, спортсменкой-бегуньей, которую она «пристроила» за австралийца, кстати, тренера по гребле.
– Как она там, ещё не всех кенгуру перегнала? – пошутила Лера.
– Скучает. Плакала в трубку, – неохотно призналась Ритка. – А она что думает, нам здесь легко?
– Бедняжка... – посочувствовала Лера.
– Во-во, давай, ещё пожалей её. Тоже идеалистка, типа тебя! – презрительно хмыкнула Ритка, затянувшись сигаретой. – Блин! Ну не понимаете вы своего счастья!.. Стараешься тут для них... Неблагодарные...
– Я не жалуюсь, – пожала плечами Лера.
– Ах, не жалуешься! – Ритка зло выпустила дым. – Посмотри на себя, на кого ты похожа? Нет. Это не мексиканский тушкан! Это шанхайский барс!
– Ладно ехидничать, – Лера закрутила шерстяной шарф вокруг шеи, наскоро засунув концы поглубже в полушубок. – Я побежала.
Ритка чмокнула её, бросив укоризненно вслед:
– Такой шанс упустила, дурёха.
Увидев Витторио на пороге, в голове Леры сразу вспыхнули слова Лики. Верила и не верила. Долго не подпускала. Он упорно добивался её. Прилетал, используя все возможные контакты: своё членство в обществе СССР-Италия. Она училась. ОВиР затягивал с документами, потом заканчивала институт, итальянцы долго проверяли. Юг Италии был закрытой зоной. Казалось, что прошла вечность. И вот опять, уже в Риме, ей снится всё тот же сон – как мучение, как пытка на медленном огне. Она в который раз увидела себя сегодня на какой-то голой и выжженной равнине, медленно пошла по красному песку.
Вдалеке показалось белое строение в мавританском стиле, края которого как будто стекали вверх, в небо. Небесное притяжение. Похоже на «сумасшествия» Дали. Испугалась, что уже никогда не выйдет из этой красной пустыни. Неожиданно кто-то сзади закрыл ей лицо руками, как в детской шутке: «отгадай – кто я?». Она почувствовала дыхание у виска и жар тела, стоящего за ней. Стало тепло и так легко. Она поняла, что тот, сзади – ОН. Её мир. Вселенная. Стала отнимать от лица его руки, поворачиваясь... и проснулась. Опять в этот момент. Так и не увидела его лица. Лере казалось, что это был Витторио. Тогда, в Москве, он положил руку ей на лоб. От неё шло то же тепло, что и во сне. Что значит этот сон? Что ей хотят сказать? От чего предостеречь? Если бы знать. Было ли ликино пророчество знаком? Роковой неизбежностью или лишь предупреждением? Кто стоял там, на равнине? Вито?
Она вышла к Площади Венеции. Народу было много. Здесь, среди толпы, её охватило какое-то благостное отчуждение. Никто её не знает. Она никого не знает. Можно взять паузу. Собраться с мыслями. Или вообще ни о чём не думать. Жалко, что у человека нет такой кнопки, чтобы нажать и на время перестать думать, страдать…
Все шли на Палатинский холм, спускались с него, устремляясь дальше, к центру города. Около памятника проходила какая-то акция. Лера увидела жёлтую палатку и расставленные по периметру столики, пёстрые буклеты и газеты на них; парней и девушек в одинаковых жёлтых кепках и майках, на которых было написано: «CEIS – Contro la droga е AIDS» , там и тут виднелась маленькая перекрещенная красная ленточка, в виде петли. Действительно, как петля на шее у человека. Она подумала, что её ситуация всё-таки не такая безнадёжная. А этим бедолагам трудно выкарабкаться. Молодёжь жёлтыми стайками, веселясь вовсю, хаотично перепархивала по площади, привычно раздавая листовки. Заинтересовавшиеся подходили к раскладным столикам, разговаривали с активистами – симпатичными девчонками и молодыми ребятами-красавцами. Желающие помочь листали брошюры, что-то подписывали, наклоняясь. Рядом слышался английский. Лера с любопытством наблюдала, как грузный американец в шортах и огромных белых мокасах, вальяжно пережёвывая чуинг-гам, нехотя взял листовку и выбросил её у первой же урны. Чета пожилых немцев с приклеенными улыбками старательно обходила всё, что чревато потерей денег. Японцы, преувеличенно выражая одобрение, мелко кланялись, с энтузиазмом присоединялись. Их щебетание в этом вавилонском гомоне перекрывало всё разноязычье, разносясь по всей площади. Воробьи, то и дело отпрыгивая из-под ног туристов, среди всей суеты устроили купальню в луже около питьевого фонтанчика.
Лера направилась, стараясь наступать на одну ногу, к широкой лестнице у подножия памятника. Камешек попал внутрь сандалии и больно впивался. С неприязнью посмотрела на каменного Командора, а именно – его величество Витторио, первого короля объединённой Италии. Ещё один. «И этот – победитель. Где уж нам их победить! Друг с другом мериться амбициями сподручнее, а женщину можно просто сломать, оторвать хрупкие крылья или приколоть булавкой в коллекцию. Разные весовые категории. Победители нашлись!» Позади помпезного Витторио во всей красе высился под стать ему дворец «Витториано» – сколь гигантский, столь и безвкусный. «Надо же было такое построить!» – с отвращением подумала Лера. Все диктаторы обожают архитектуру гигантизма, как будто они, окружённые гигантскими сооружениями, и сами становятся гигантами. Муссолини тоже любил его. А всё равно – в конце висел вниз головой, раскачиваясь на скрипящей виселице. Подругу его жалко. Она только «подавала патроны» – не тому Бенито. Настоящим исчадием ада должен быть мужчина, чтобы не нашлось женщины, которая полюбит его. Лера стояла, непроизвольно поражаясь этому шедевру эклектики. Всё у них «нео». Неоклассицизм, неореализм, неоидиотизм!..
Лера прищурилась, созерцая крылатые колесницы, подсвеченные закатным солнцем. А что-то в нём есть булгаковское. Дворец Ирода. «И эти идолы... Золотые идолы!»
Вдруг, сзади кто-то закрыл ей лицо руками. Лера ойкнула от неожиданности. «Вито? Так быстро?» Она почувствовала тепло… От рук шло то же тепло, что и во сне. Кто-то почти обнимал её сзади.
Она потрогала руки, попыталась разомкнуть, но их перехватили, смеясь. Затем развели вместе со своими, разворачивая её к себе.
– Лючия! Всё-таки приехала?
Она увидела незнакомого юношу. Незнакомого? Странно. Перед ней как будто стоял Витторио, его точная копия – только моложе, намного моложе. Белозубая улыбка сползла с его лица.
– О, простите, синьорина! Я принял Вас за другую.
– Я уже догадалась, – улыбнулась Лера. – Что, так похожа на Вашу девушку?
– Да. У неё тоже светлые волосы. – Он замялся. – Она однокурсница.
– И что же это за учебное заведение, где учатся Лючии со светлыми волосами?
– Флорентийский университет.
– Какое удивительное совпадение! Я только что оттуда.
– Да? А что Вы делаете в Риме?
– Что можно делать в Риме? – ответила она вопросом на вопрос. – Что все, то и я.
Он как-то странно посмотрел на неё.
– Вы... красивая! – Не отрывая взгляда, спросил, словно подтверждая свою догадку. – Вы – русская?
– Что это, в Италии сходу узнают русских и делают странные комплименты? – Лера почувствовала, что начинает краснеть. Эта неприятность случалась с ней часто. – Что, много русских после «перестройки»? «Культурная интервенция» девушек из бывшего URSS?
– Простите! – он осёкся.
Тут только она заметила, что он в жёлтой футболке. Ясно. Он из этих – борцов со СПИДом. Он, кажется, тоже опомнился.
– Мы проводим здесь акцию, – объяснял он, проследив за её взглядом.
– Я уже поняла по Вашей футболке.
– Хотите присоединиться?
– Ой! – Лера поморщилась.
– Что? – он напрягся.
– Да камешек попал в сандалию…
Она непроизвольно опёрлась на его руку. Он довёл её до ступеньки.
– Можно с Вами? – он тоже хотел сесть.
– Вы лучше принесите мне листовку. Расскажите, для чего Вы это делаете? – Она хотела хоть на минуту остаться одна, понять, что произошло.
– Только Вы не уходите!
– Не уйду.
Она вытряхнула сандалию. Обула. Сама, не зная почему, всё время искала его глазами. А он бежал и оглядывался, натыкаясь на людей.
– Эй! Поосторожней, юноша!
– Извините!
Он был так похож на Вито – и всё же другой. Немного выше. Тёмные волосы чуть подвивались в некоем художественном беспорядке. Глаза – омуты. Бедная Лючия. Разве можно устоять перед этой субтильной копией «Давида»? Хотя, молодые итальянцы все – «давиды». Бьющая в глаза яркость, на наш северный взгляд. Римлянин? Лет двадцать? Больше? О чём она? Ах, да. Его руки... Почему он так немилосердно напоминал ей Витторио? Она будто ощутила себя опять на той красной равнине.
«Давид» вернулся обратно.
– Ну вот, теперь можем посидеть. – Лера подвинулась к краю ступеньки, освобождая место. – Я вся – внимание! Вы, как бы, объясняете мне суть борьбы со СПИДом.
– Не шутите, это действительно очень важно, – парень протянул ей листок.
– А я и не шучу. Сексуальная революция уже давненько прогрессирует. Сначала мы всё попробуем, а потом добрые люди нас вылечат. – Лера стала читать. – И что здесь?
– Мы католическая молодёжная лига. Помогаем страдающим, заблудшим, больным, инфицированным. Мы собираем деньги на реабилитационные центры, на лечение.
– Вы гомосексуалист? – Лера задумчиво оглядела его.
Провокационность её вопроса не застала его врасплох.
– Нет, а что – похоже?
– У итальянцев многие похожи на них. – Лера не стала развивать эту скользкую тему. Друг-гомосексуалист? Почему бы нет! Вообще-то, для некоторых женщин, видимо, жить с импотентом было бы наилучшим решением. Лера усмехнулась. Но муж-гомосексуалист – это, пожалуй, уже перебор. – Где я должна расписаться?
– Здесь, – он показал, протягивая ручку. – Но Вы ещё не прочитали...
– Дело хорошее. Всё и так понятно. Чего ж читать? Помогать надо. Я Вам верю! Не прогуляете, надеюсь? – Она расписалась.
Он посмотрел на роспись.
– А какое здесь имя?
– Это фамилия. Не поймёте.
– А имя?
– Валерия. – Лера с улыбкой протянула ему руку. – А как Вас зовут?
– А я – Лоренцо, – он пожал её руку, задержав в своей чуть дольше обычного.
– Медичи? – пошутила она, неловко высвободив руку.
– Нет. Мариелли.
Она вздрогнула, как от удара током. Ну, наверное, это у них распространённая фамилия, как у нас – «Иванов»?
– Что с Вами? Что случилось?
– Ничего. – Лера провела рукой по глазам, отгоняя видение. – Просто один знакомый тоже... – махнула рукой. – А, неважно! – Она достала из шорт кошелёк. – Этого хватит?
– Не надо! – он отстранил рукой протянутые Лерой деньги.
– Почему? Я тоже хочу внести свою лепту. Берите!
Он взял верхнюю купюру из пачки.
– Этого достаточно… – Он поднял на неё глаза, вспомнив. – А кого Вы хотели увидеть, обернувшись? Вы кого-то ждали? – Он тоже был немного не в своей тарелке. Тревожно разглядывал её. Взволнованность его передалась и Лере.
– Говори мне «ты»! – она махнула рукой, как бы подводя черту. Он улыбнулся.
– Это девушка должна предложить. С радостью буду звать тебя... – он подал ей руку, вставая. – Валери. Можно? – Докончил он фразу, делая ударение на последний слог в её имени на французский манер.
– Необычно, – согласилась она, кивнув. – Меня так ещё никто не называл.
– Yes! – Он обрадовано показал «V» (Victory). – Я буду первым и последним. – Пошли, я предупрежу, что мы уходим.
– Куда? – не поняла Лера.
– Валери! – он склонился в шутливом полупоклоне, приложив правую руку к сердцу. – Я могу угостить тебя кофе или мороженым?
– Конечно, Лоренцо.
– Энцо. Просто Энцо.
– Спасибо, Энцо, – Лера подала ему обе руки, и он резко потянул её вверх. Намеренно не рассчитал рывок, и они стукнулись друг о друга.
– Извини, – он смотрел на неё и не отпускал. Она высвободилась.
– Целую вечность не ела мороженого... Я так люблю фисташковое, – она скребла длинной ложкой по пустой вазочке.
– Я закажу ещё! – он махнул гарсону.
– Не надо, – Лера отрицательно покачала головой. – А то я лопну.
Он засмеялся.
– Где твой отель? Я могу проводить тебя. Но если есть время, я могу показать тебе Рим. В сумерках Рим – волшебный город! Согласна? – Лоренцо просительно посмотрел на неё, склонив голову набок, ожидая ответа. – Я изучаю архитектуру и живопись. Знаю, как показать самое прекрасное и с какого ракурса. Так тебе никто не покажет! Она невесело улыбнулась. Его наивная попытка заинтересовать её умилила Леру.
– Спасибо, но, к сожалению, тебя опередили. – На его вопросительный взгляд, пояснила: – Мне уже показали. – она облизала ложку. – Так что, ты опоздал.
– Да? Кто? – Лоренцо с опаской взглянул на неё.
– Есть, видно, профессионалы и кроме тебя. – Лера саркастически усмехнулась. – Энцо, – она укоризненно покачала головой, – давай расставим точки над «i». Серьёзно, ты же не думаешь, что русская здесь одна?
– А при чём тут… – он запнулся на полуслове, – «русская»? Ты другая, – помолчав, непонятно закончил он.
Она благодарно улыбнулась. Вот он понял, а тот, другой – нет. Почему она не могла оторвать от него взгляда? Что с ней? Что происходит? Это – ОН… Это были ЕГО руки… С ума её сведёт этот сон! Было хорошо просто слушать голос Лоренцо, идти рядом с ним. Когда они шли к кафе, он взял её за руку, как ребёнка, смотря вправо и влево на снующие автомобили и мотороллеры. Для незнакомого с Римом человека могло показаться, что и ПДД здесь какие-то странные, и римляне позволяют себе неслыханную дерзость – мчаться во всех направлениях. Вспомнилось никитинское: «Переведи меня через майдан...» Так хорошо было довериться ему решать за себя.
– Народу много. Здесь легко потерять друг друга, – отвечая её мыслям, объяснил он.
– Да. Ты прав. Легко.
Лера горько усмехнулась чему-то.
Она оглянулась неуверенно. Уже смеркалось. Раскалённый шар римского солнца с треском провалился, наконец, куда-то за горизонт. Его взгляд никуда не уходил с её лица, но он смотрел так, что не было неудобно. Как святой, или как рыцарь. Нет. Он – не Давид. Теперь она разглядела его лучше. Он ей мучительно напоминал... Да! Спасителя с фрески Андреа дель Сарто.
Она увидела проходящих мимо кафе карабинеров, оглядывающих людей, как будто ищущих кого-то. Лера юркнула между столиков:
– Я сейчас приду.
От страха, что сейчас её найдут, Лера просидела в туалете несколько дольше, чем обычно бывает.
– Всё в порядке? – почему-то этот вопрос от него не показался ей неприличным.
– Да. Просто...
– Что?
– Энцо… – она выдохнула. Полицейских рядом не наблюдалось. – Я должна тебе что-то сказать.
Лера вдруг перешла на шёпот. На её лице читалась решимость.
– Я сбежала! – призналась она, наконец, с полными ужаса глазами, хотела продолжить, но он остановил.
– Я уже понял.
– Меня будут искать.
– Иди в туалет.
– В смысле?
– Сиди там. Я принесу тебе переодеться. То же, что и на мне, – он показал на футболку.
– Хорошо!
Через несколько минут он вошёл в женский туалет. Позвал негромко:
– Валери?
– Я здесь, – она выглянула из кабинки.
– Давай! В темпе. Футболка. Бейсболка. Кидай мне твою.
Она разделась и кинула ему через дверь футболку. Угодила прямо на голову. Он засмеялся. Вдохнул.
– Эй! Поосторожнее со стриптизом.
– Что? – она выглянула. – Ой, извини.
– Давай быстрей. Потом будешь извиняться.
Он сунул футболку в рюкзак.
– Карабинеры начали ходить кругами.
– Ой! – Лера вскрикнула от испуга. – У меня паспорта нет!
– И не надо. Что он тебе даст, если ты не хочешь назад?
Пожилая женщина прошла в туалет.
– Молодой человек? Вы не заблудились?
– О! Простите!
– Что вытворяет эта молодёжь! – дама возмущённо хлопнула дверцей. Лера показалась из кабинки. Теперь её было не отличить от участников акции. Бейсболка всегда обезличивает. Она повернулась.
– Ну как?
– Супер! Аманда Лир!
– Кажется, я где-то читала, что Аманда Лир – мужчина! – неуверенно возразила Лера, обескураженно глядя на Энцо. Что это вообще за комплимент? Странное сравнение!
– Ерунда. Не верь, она классная! – Вдруг вспомнив о чём-то, Энцо полез в карман. – Вот! Это тебе. Я по дороге купил. – Он протянул ей. – Убери волосы.
Это была заколка для волос в виде римской волчицы.
– Спасибо! Ты милый.
– Я знаю.
Они выскользнули из кафе. Было уже темно. Дворец «Витториано», подсвеченный изнутри, выглядел таинственно и совсем даже не уродливо. Перебежали через площадь до палатки.
– Филонишь? – высокий крупный парень схватил Лоренцо за плечо. – А мы тут пашем. Увидел смущённую, прятавшуюся за Энцо Леру. Заглянул ей под козырёк.
– Ясно. У нас пополнение?
– Что тебе ясно? Где наш автобус?
– Массимо поехал отвозить ребят на вокзал.
– Вот не везёт! Мне он нужен.
– До виллы недалеко. Дойдёте.
– Про какую виллу он говорит? – Лера непонимающе смотрела на обоих, пытаясь уловить разговор. Между собой итальянцы разговаривают быстро, проглатывая окончания.
– Джиджи! Язык прикуси! – возмутился Лоренцо. – Ладно. Извини, что не смогу помочь паковаться. Встретимся дома.
– Я что, не человек, что ли? Понял.
– Чем вас кормят в университете? – удивилась Лера. – Он просто гигант.
Было уже совсем темно. Ночь упала сразу и изменила всё вокруг. Она заколдовала город – будто и не было двух тысяч лет. Рельефнее выхватывались прожекторами подсвеченные, «пылающие» руины Колизея, форумов, колоннад. Купола бесчисленных церквей, монастырей, казалось, празднично взлетали, отражаясь фата-морганой на ночном римском небе. Нерон остался бы доволен панорамой! Адское зрелище пожирающего город бущующего огня, рушащихся, исчезающих в пламени древних храмов вдохновляло его. Пожалуй, и сейчас его посетила бы безумная муза… А если он и вправду был неплохой поэт? Но «гений и злодейство – две вещи несовместные»! А Микеланджело? Убить натурщика, создавая шедевр? Как это может уживаться в одном человеке?! Что же касается Нерона, то за две тысячи лет кучу мерзостей могли наговорить: что было и чего не было. Мёртвого льва может лягнуть даже осёл. Тем более – мёртвого Нерона.
Скрылась из виду, погаснув вдали, пылающая панорама старого города. Вывалившись в очередной раз из кустов, они оказались на набережной Тибра прямо за площадью, на которой сегодня днём они с Вито осматривали храм Виргилис и базилику Санта-Мария-ин-Козмедин. Было темновато, хоть и центр Рима. Но она сразу узнала это место. Мысленно перед ней возник Вито, его глаза смотрели на неё с немым укором. Где он сейчас? Она не могла не понимать, что он где-то мечется, не находя себе места, что он трагически болезненно, как-то остервенело и, в общем, безнадежно любит её. Леру уже вначале пугала эта инфернальная сила его любви. Осознав это, ей почти не верилось, что у них вообще может быть что-то похожее на счастье. После всего, что случилось, ей было совершенно невозможно разобраться в этой убийственной буре эмоций, клятв, требований… А может, всему виной – эти жуткие тени Вечного города? Это они разбудили в Вито страсти из прошлого? Что-то и в нём было от Нерона.
Лоренцо вёл её какими-то закоулками, они перепрыгивали через сложенные из древних камней невысокие укрепления, продирались сквозь колючие изгороди, стараясь обойти людные улицы. Он подсаживал её, помогал спрыгнуть, подхватывал, не отпускал ни на минуту её руки.
– Ты так хорошо знаешь Рим! – воскликнула Лера.
– Я нет. А вот Джиджи – римлянин. Ну тот парень, на площади! – Лоренцо кивнул в сторону Палатинского холма… – Я просто часто бываю здесь.
– А ты разве не из Рима? – Она пыталась понять, где они. Сориентироваться. Почему она не боялась его, доверилась ему?
– Я с юга, из Пулии.
Лера замерла. Догадка ударила в неё, как зигзаг молнии, пронзив сознание насквозь, и ушла куда-то, в римскую каменистую землю.
– Куда мы идём? – Лера другими глазами посмотрела на него. Он засмеялся, несколько смущённо:
– Ты так смотришь, что сердце останавливается. Такие глаза дают ещё до рождения. Там. – он указал вверх. – Зелёные...
– Так куда же лежит наш путь? – Лера намеренно сбивала его с этой темы.
– А мы как раз к Джиджи и идём.
– Как? К нему домой?
– Да, родители на Сардинии, а нам разрешили остановиться на время акции.
– Я лучше где-нибудь здесь посижу. – На его непонимающий взгляд Лера начала сбивчиво, торопливо что-то придумывать. – Знаешь, мне надо побыть одной, собраться с мыслями. Спасибо тебе за всё, но дальше я с тобой не пойду. – Она неуверенно остановилась, разжала руку.
– Что? – он, казалось, оскорбился. – Ты не так поняла! – Лера почувствовала, что её подозрение задело его за живое, но он лишь сокрушённо покачал головой, глядя на неё с полуулыбкой. – Никто не собирается к тебе приставать!
Она недоверчиво посмотрела на него.
– Там человек пятнадцать. Мои друзья.
– И девушки?
– Да. Ты их видела на площади. – Он опять взял её руку. – Ты отдохнёшь, а утром решим, что дальше делать.
Они шли вдоль обмелевшего русла реки.
– Я думала, что Тибр – это большая река, как Арно!
– Она полноводнее зимой. Но, вообще-то, она небольшая. Здесь жарко. Она всегда так мелеет, особенно летом.
Ночь разорвал вой сирены. Мимо них, за деревьями, промчалась одна полицейская машина, затем другая, вращая голубыми огнями. Лера задрожала. Машины остановились недалеко, на площади. Послышались голоса. Шаги приближались.
– Не бойся! Иди ко мне… – Лоренцо повернул ей козырёк бейсболки вбок, приподнял на руки и, прислонив к дереву, обнял, закрывая её всю. Лера хотела оттолкнуть.
– Тише, тише, молчи… – шептал он, щекоча её ухо, щёку, полураскрытые губы. Ещё не веря в происходящее, они робко, неуверенно потянулись друг к другу, как две разнозаряженные частицы, словно инь и ян, продлевая это узнавание, погружаясь в него, притягиваясь бессознательной, неконтролируемой силой. Нежность его обезоруживала, лишала воли. Послышались смешки. Карабинеры стояли совсем рядом, видимо, любопытствуя. Лоренцо, казалось, ничего не слышал. Он обнимал её, будто желая слиться с нею, вобрать её всю в себя.
Лера, забываясь, словно проваливалась в пропасть, непроизвольно подчиняясь его порыву. Странным диссонансом доносились откуда-то, казалось, с другой планеты, комментарии стражей порядка.
– Va bene, da questa parte, piccioncini... Innamorati!
– E Certo. Due pazzi piccioncini! – один засмеялся. – Смотри, не зацелуй её до смерти, парень!
Полоснули небрежно, для острастки, по ним фонариком, проходя мимо. Шаги удалялись. Он отстранился, приходя в себя.
– Извини. Они могли проверить документы. – Дыхание его было всё ещё прерывистым. Казалось, что взглядом он продолжал её целовать.
– Спасибо. – Лера смутилась.
– Не за что.
Возникла неловкая пауза. Они постояли, глядя по сторонам, стараясь не встречаться глазами. Медленно направились дальше. Но с этой минуты всё изменилось.
Оба поняли, что произошло нечто главное – нежданное, налетевшее, обрушившееся на них из вечности в Вечном городе внезапно, и что завтра уже будет навсегда другим. Ошеломлённые этим знанием, преображением в них обоих, молчали, счастливые от того, что идут рядом. Они брели вдоль ночного Тибра, держась ближе к платанам. Фонари горели через один, как в Москве, на окраине.
– Долго ещё? Я больше не могу. Там есть душ?
– Есть. – Он вытащил из рюкзака безрукавку. Расстелил на траве. – Садись. Ещё минут пятнадцать. – Сел рядом с ней.
– А такси нельзя было взять? – Лере казалось, что если она ляжет на минутку, то тут же заснёт.
– Нет. Карабинерам уже, наверное, раздали твои фотографии. – Он положил голову на сомкнутые замком руки. – Уже близко. Потерпи.
Помолчали. В листве деревьев бессонно вскрикивала какая-то беспокойная птица. До них долетали звуки аккордеона, отголоски песни, смех, обрывки разговоров с террасы траттории где-то поблизости. В наступающей волнами тишине слышалось журчание обмелевшей реки, и уж очень надрывно в эту какофонию-симфонию вступали сходу торопливо цикады, боясь не успеть, словно подавали знак: «SOS! SOS! SOS!» От этих тревожных сухих трелей Лере делалось не по себе. Непонятно замирало сердце: как будто сейчас остановится – от сладости римской ночи, от этих настойчивых, непонятных «предсказаний» невидимых сверчков, совершенной неясности всего, что с ней будет дальше, и от того, что он был рядом. Она сидела, прислушиваясь к музыке прекрасного, но чужого ей города, пытаясь разгадать её. Энцо по-прежнему молчал, опустив голову на руки.
– Ты замучился, наверное, со мной? – Лера дотронулась до его плеча.
– Что? – он будто очнулся. – Замучился? Да. Можно и так сказать. Один вопрос не дает мне покоя.
Он поднял голову. Посерьёзнел.
– Извини. Ты, конечно, можешь не отвечать.
Лера смотрела на его профиль. Даёт же Бог такие лица! Ей хотелось прикоснуться к нему, медленно провести черту ото лба к подбородку, потрогать эту античность. Он повернул голову и пристально посмотрел на неё.
– Кто он? Что случилось? Он совершал какое-то насилие, принуждал тебя к чему-то?
Лера отвела взгляд.
– Я не хочу сейчас об этом!
– Почему? Я должен знать, как тебе помочь. – Его требовательность пугала её. Разве нужно всё объяснять?
Она упорно смотрела в сторону.
– Ладно. Расскажешь, если захочешь.
– Давай лучше смотреть на звёзды. Видишь, какое странное сияние над Римом? – Лера хотела изменить ход разговора.
– В Риме никогда не видно звёзд, – ответил он.
– Почему? А я вижу звёзды. Смотри, их сколько! – Лера восторженно раскинула руки, будто желая вместить всю Вселенную в свои объятия.
– Наверное, просто не замечал… – Лоренцо покосился на тоненький серп луны, примостившийся скромно сбоку в рассыпанной над ними мозаике летней римской ночи. Словно живые брызги какого-то божественного фейерверка, там, наверху, удивительно ярко горели звёзды. – Сегодня прямо какой-то феномен! – признался он, всмотревшись в изумлении в небо.
– Ты просто никогда не смотрел на звёзды! – воскликнула Лера, любуясь фантастическим зрелищем. – Смотрящий сердцем всегда их увидит. Они прячутся только от тех, кто равнодушен.
– Да. Ты права. Часто нет времени на созерцание.
– Когда же, если не сейчас? – Лера продолжала, глубоко вздохнув, всё ещё глядя вверх. – Разве можно не восхищаться этой красотой, этой звёздной бездной над нами?
Она почувствовала его взгляд и перестала разглядывать капельки звёзд. Лоренцо смотрел совсем не на небо, а на неё. Сейчас он был похож на врубелевского Демона. Леру смутила сосредоточенность этого взгляда. Она немного отодвинулась. Он отвёл взгляд. Над ними слабым ропотом жухло зашелестели кроны платанов, будто жалуясь – умаявшись, должно быть, за день в каменном пекле города. Налетел порыв остывшего наконец к ночи ветра, заволновав было плоские пинии и старые огромные акации в парке позади них, насмешливо пахнул в лицо свежестью близкой реки, и, лишь раздразнив, затих где-то вдалеке. Стараясь, чтобы голос звучал спокойно, Лера спросила:
– Ты же постигаешь тайны искусства, а это сама природа. Тебе нравится то, чему ты учишься?
– Нравится. – Он помолчал. – Искусство – это единственное, что приближает нас к Богу.
– А тебе это важно?
– Для меня это было главным. Отец настоял, а я хотел другого.
– А почему, тогда, послушал отца?
Энцо пожал неопределённо плечами.
– Он тоже архитектор. И потом, я единственный сын. Отец сказал, что проклянёт меня. – Энцо сорвал сухую травинку, пожевал.
– Господи! Это ещё почему?
– Потому, что я хотел стать… священником. – Он помолчал. – А лучше – жить в монастыре.
– Ты?! – Лера была потрясена.
Она не знала, что дальше говорить. Монах, от которого пять минут назад она чуть не потеряла сознание... И опять это тепло. Это ОН. И почему она не была Лючией, которую он ожидал?..
– А как же Лючия?
– Я же сказал, что она сокурсница! – Энцо отрицательно покачал головой, сжав её руку. – Только сокурсница, слышишь? – он посмотрел ей прямо в глаза.
– Ну, это неважно! – пожала плечами Лера, пытаясь придать голосу весёлое безразличие, но получился почти шёпот. Он поднёс её руку к своим губам. Лера замерла от удивительной нежности его прикосновений. Она не сопротивлялась. Его тепло разливалось по ней, как живительное, чистое чувство счастья. Непонятного. Стремительного. Абсолютного. Как будто он вдыхал в неё обратно жизнь.
Неожиданно для неё самой, её накрыла волна безотчётной радости. Стало стыдно и одновременно легко. Она сходит с ума. Это неправильно. Этот мальчик и она… Что это?
– Поэтому ты занимаешься благотворительностью? И эта акция? Да?
– Понимаешь, я хочу вернуть этим людям веру. Я хочу, чтобы они снова полюбили жизнь. Нашли себя в этом мире. Открыли глаза.
– И поэтому ты хочешь отказаться от себя самого? – Лера сглотнула. Горло сжимало. Было трудно произносить слова. – От своей жизни, любви, и служить Богу? Почему? Ты знаешь, от чего отказываешься?
Он поглядел на неё мрачно.
– Думаю, что знаю.
Лера опустила глаза.
– Пойдём. Я уже отдохнула.
Опять сирены. На этот раз – с противоположной стороны реки. Невдалеке послышался лай собак.
– Пошли быстрей. Они не должны тебя учуять. Ветра нет.
Они побежали. Лера не могла уже дышать, когда они наконец добрались до дома. Вилла вдруг вынырнула из ночи, среди чёрных верхушек кипарисов. Казалось, что это пики каких-то страшных воинов, которые поджидают тебя в темноте.
Из глубины дома доносилась музыка. Кто-то бренчал на гитаре.
– Это Джиджи. Быстро они свернулись, – ответил он на её безмолвный вопрос. Они прошли через зал.
– Здесь рояль? – Лера подняла крышку. Нажала на клавиши. – Хороший.
– Мама Джиджи – пианистка, – ответил Лоренцо.
– А ты умеешь играть? – понял он.
– Немного.
– Сыграешь потом?
– Да. Покажи мне пожалуйста, где душ? – попросила она.
Стоя под прохладными струями она услышала, как он заглянул.
– Я принес полотенце и чистую футболку. Это моя.
– Спасибо. – Лера улыбнулась.
Позже они сидели и слушали, как Джиджи поёт. В комнате, когда они вошли, было человек шесть. Лоренцо представил ей всех.
– Это Массимо, вот там Нандо, Лаура, Кьяра, Джино.
Каждый со своего места приветливо кивал, кто поближе – протягивал руку.
– Ciao! Russa?
– Valerie? Piacere…
– Molto lieto, Valerie…
Казалось, никто не был удивлён, что Энцо откуда-то притащил русскую, не закидывали её вопросами. Лера была этому рада. Она устала. Просто села и слушала Джиджи.
У этого гиганта был мягкий бархатистый голос. Пели неизвестные Лере песни. На английском. Журнальный столик был уставлен минералкой, пустые коробки с остатками пиццы ещё не убрали. Лера с удовольствием пила «Сан Пеллегрино». Казалось, что ничего вкуснее не было на свете.
– Есть пицца. Какую ты хочешь? – Лоренцо вопросительно смотрел на неё, поднимаясь.
– «Фрутти ди маре».
Джиджи наигрывал Стинга.
Все шли на Палатинский холм, спускались с него, устремляясь дальше, к центру города. Около памятника проходила какая-то акция. Лера увидела жёлтую палатку и расставленные по периметру столики, пёстрые буклеты и газеты на них; парней и девушек в одинаковых жёлтых кепках и майках, на которых было написано: «CEIS – Contro la droga е AIDS» , там и тут виднелась маленькая перекрещенная красная ленточка, в виде петли. Действительно, как петля на шее у человека. Она подумала, что её ситуация всё-таки не такая безнадёжная. А этим бедолагам трудно выкарабкаться. Молодёжь жёлтыми стайками, веселясь вовсю, хаотично перепархивала по площади, привычно раздавая листовки. Заинтересовавшиеся подходили к раскладным столикам, разговаривали с активистами – симпатичными девчонками и молодыми ребятами-красавцами. Желающие помочь листали брошюры, что-то подписывали, наклоняясь. Рядом слышался английский. Лера с любопытством наблюдала, как грузный американец в шортах и огромных белых мокасах, вальяжно пережёвывая чуинг-гам, нехотя взял листовку и выбросил её у первой же урны. Чета пожилых немцев с приклеенными улыбками старательно обходила всё, что чревато потерей денег. Японцы, преувеличенно выражая одобрение, мелко кланялись, с энтузиазмом присоединялись. Их щебетание в этом вавилонском гомоне перекрывало всё разноязычье, разносясь по всей площади. Воробьи, то и дело отпрыгивая из-под ног туристов, среди всей суеты устроили купальню в луже около питьевого фонтанчика.
Лера направилась, стараясь наступать на одну ногу, к широкой лестнице у подножия памятника. Камешек попал внутрь сандалии и больно впивался. С неприязнью посмотрела на каменного Командора, а именно – его величество Витторио, первого короля объединённой Италии. Ещё один. «И этот – победитель. Где уж нам их победить! Друг с другом мериться амбициями сподручнее, а женщину можно просто сломать, оторвать хрупкие крылья или приколоть булавкой в коллекцию. Разные весовые категории. Победители нашлись!» Позади помпезного Витторио во всей красе высился под стать ему дворец «Витториано» – сколь гигантский, столь и безвкусный. «Надо же было такое построить!» – с отвращением подумала Лера. Все диктаторы обожают архитектуру гигантизма, как будто они, окружённые гигантскими сооружениями, и сами становятся гигантами. Муссолини тоже любил его. А всё равно – в конце висел вниз головой, раскачиваясь на скрипящей виселице. Подругу его жалко. Она только «подавала патроны» – не тому Бенито. Настоящим исчадием ада должен быть мужчина, чтобы не нашлось женщины, которая полюбит его. Лера стояла, непроизвольно поражаясь этому шедевру эклектики. Всё у них «нео». Неоклассицизм, неореализм, неоидиотизм!..
Лера прищурилась, созерцая крылатые колесницы, подсвеченные закатным солнцем. А что-то в нём есть булгаковское. Дворец Ирода. «И эти идолы... Золотые идолы!»
Вдруг, сзади кто-то закрыл ей лицо руками. Лера ойкнула от неожиданности. «Вито? Так быстро?» Она почувствовала тепло… От рук шло то же тепло, что и во сне. Кто-то почти обнимал её сзади.
Она потрогала руки, попыталась разомкнуть, но их перехватили, смеясь. Затем развели вместе со своими, разворачивая её к себе.
– Лючия! Всё-таки приехала?
Она увидела незнакомого юношу. Незнакомого? Странно. Перед ней как будто стоял Витторио, его точная копия – только моложе, намного моложе. Белозубая улыбка сползла с его лица.
– О, простите, синьорина! Я принял Вас за другую.
– Я уже догадалась, – улыбнулась Лера. – Что, так похожа на Вашу девушку?
– Да. У неё тоже светлые волосы. – Он замялся. – Она однокурсница.
– И что же это за учебное заведение, где учатся Лючии со светлыми волосами?
– Флорентийский университет.
– Какое удивительное совпадение! Я только что оттуда.
– Да? А что Вы делаете в Риме?
– Что можно делать в Риме? – ответила она вопросом на вопрос. – Что все, то и я.
Он как-то странно посмотрел на неё.
– Вы... красивая! – Не отрывая взгляда, спросил, словно подтверждая свою догадку. – Вы – русская?
– Что это, в Италии сходу узнают русских и делают странные комплименты? – Лера почувствовала, что начинает краснеть. Эта неприятность случалась с ней часто. – Что, много русских после «перестройки»? «Культурная интервенция» девушек из бывшего URSS?
– Простите! – он осёкся.
Тут только она заметила, что он в жёлтой футболке. Ясно. Он из этих – борцов со СПИДом. Он, кажется, тоже опомнился.
– Мы проводим здесь акцию, – объяснял он, проследив за её взглядом.
– Я уже поняла по Вашей футболке.
– Хотите присоединиться?
– Ой! – Лера поморщилась.
– Что? – он напрягся.
– Да камешек попал в сандалию…
Она непроизвольно опёрлась на его руку. Он довёл её до ступеньки.
– Можно с Вами? – он тоже хотел сесть.
– Вы лучше принесите мне листовку. Расскажите, для чего Вы это делаете? – Она хотела хоть на минуту остаться одна, понять, что произошло.
– Только Вы не уходите!
– Не уйду.
Она вытряхнула сандалию. Обула. Сама, не зная почему, всё время искала его глазами. А он бежал и оглядывался, натыкаясь на людей.
– Эй! Поосторожней, юноша!
– Извините!
Он был так похож на Вито – и всё же другой. Немного выше. Тёмные волосы чуть подвивались в некоем художественном беспорядке. Глаза – омуты. Бедная Лючия. Разве можно устоять перед этой субтильной копией «Давида»? Хотя, молодые итальянцы все – «давиды». Бьющая в глаза яркость, на наш северный взгляд. Римлянин? Лет двадцать? Больше? О чём она? Ах, да. Его руки... Почему он так немилосердно напоминал ей Витторио? Она будто ощутила себя опять на той красной равнине.
«Давид» вернулся обратно.
– Ну вот, теперь можем посидеть. – Лера подвинулась к краю ступеньки, освобождая место. – Я вся – внимание! Вы, как бы, объясняете мне суть борьбы со СПИДом.
– Не шутите, это действительно очень важно, – парень протянул ей листок.
– А я и не шучу. Сексуальная революция уже давненько прогрессирует. Сначала мы всё попробуем, а потом добрые люди нас вылечат. – Лера стала читать. – И что здесь?
– Мы католическая молодёжная лига. Помогаем страдающим, заблудшим, больным, инфицированным. Мы собираем деньги на реабилитационные центры, на лечение.
– Вы гомосексуалист? – Лера задумчиво оглядела его.
Провокационность её вопроса не застала его врасплох.
– Нет, а что – похоже?
– У итальянцев многие похожи на них. – Лера не стала развивать эту скользкую тему. Друг-гомосексуалист? Почему бы нет! Вообще-то, для некоторых женщин, видимо, жить с импотентом было бы наилучшим решением. Лера усмехнулась. Но муж-гомосексуалист – это, пожалуй, уже перебор. – Где я должна расписаться?
– Здесь, – он показал, протягивая ручку. – Но Вы ещё не прочитали...
– Дело хорошее. Всё и так понятно. Чего ж читать? Помогать надо. Я Вам верю! Не прогуляете, надеюсь? – Она расписалась.
Он посмотрел на роспись.
– А какое здесь имя?
– Это фамилия. Не поймёте.
– А имя?
– Валерия. – Лера с улыбкой протянула ему руку. – А как Вас зовут?
– А я – Лоренцо, – он пожал её руку, задержав в своей чуть дольше обычного.
– Медичи? – пошутила она, неловко высвободив руку.
– Нет. Мариелли.
Она вздрогнула, как от удара током. Ну, наверное, это у них распространённая фамилия, как у нас – «Иванов»?
– Что с Вами? Что случилось?
– Ничего. – Лера провела рукой по глазам, отгоняя видение. – Просто один знакомый тоже... – махнула рукой. – А, неважно! – Она достала из шорт кошелёк. – Этого хватит?
– Не надо! – он отстранил рукой протянутые Лерой деньги.
– Почему? Я тоже хочу внести свою лепту. Берите!
Он взял верхнюю купюру из пачки.
– Этого достаточно… – Он поднял на неё глаза, вспомнив. – А кого Вы хотели увидеть, обернувшись? Вы кого-то ждали? – Он тоже был немного не в своей тарелке. Тревожно разглядывал её. Взволнованность его передалась и Лере.
– Говори мне «ты»! – она махнула рукой, как бы подводя черту. Он улыбнулся.
– Это девушка должна предложить. С радостью буду звать тебя... – он подал ей руку, вставая. – Валери. Можно? – Докончил он фразу, делая ударение на последний слог в её имени на французский манер.
– Необычно, – согласилась она, кивнув. – Меня так ещё никто не называл.
– Yes! – Он обрадовано показал «V» (Victory). – Я буду первым и последним. – Пошли, я предупрежу, что мы уходим.
– Куда? – не поняла Лера.
– Валери! – он склонился в шутливом полупоклоне, приложив правую руку к сердцу. – Я могу угостить тебя кофе или мороженым?
– Конечно, Лоренцо.
– Энцо. Просто Энцо.
– Спасибо, Энцо, – Лера подала ему обе руки, и он резко потянул её вверх. Намеренно не рассчитал рывок, и они стукнулись друг о друга.
– Извини, – он смотрел на неё и не отпускал. Она высвободилась.
– Целую вечность не ела мороженого... Я так люблю фисташковое, – она скребла длинной ложкой по пустой вазочке.
– Я закажу ещё! – он махнул гарсону.
– Не надо, – Лера отрицательно покачала головой. – А то я лопну.
Он засмеялся.
– Где твой отель? Я могу проводить тебя. Но если есть время, я могу показать тебе Рим. В сумерках Рим – волшебный город! Согласна? – Лоренцо просительно посмотрел на неё, склонив голову набок, ожидая ответа. – Я изучаю архитектуру и живопись. Знаю, как показать самое прекрасное и с какого ракурса. Так тебе никто не покажет! Она невесело улыбнулась. Его наивная попытка заинтересовать её умилила Леру.
– Спасибо, но, к сожалению, тебя опередили. – На его вопросительный взгляд, пояснила: – Мне уже показали. – она облизала ложку. – Так что, ты опоздал.
– Да? Кто? – Лоренцо с опаской взглянул на неё.
– Есть, видно, профессионалы и кроме тебя. – Лера саркастически усмехнулась. – Энцо, – она укоризненно покачала головой, – давай расставим точки над «i». Серьёзно, ты же не думаешь, что русская здесь одна?
– А при чём тут… – он запнулся на полуслове, – «русская»? Ты другая, – помолчав, непонятно закончил он.
Она благодарно улыбнулась. Вот он понял, а тот, другой – нет. Почему она не могла оторвать от него взгляда? Что с ней? Что происходит? Это – ОН… Это были ЕГО руки… С ума её сведёт этот сон! Было хорошо просто слушать голос Лоренцо, идти рядом с ним. Когда они шли к кафе, он взял её за руку, как ребёнка, смотря вправо и влево на снующие автомобили и мотороллеры. Для незнакомого с Римом человека могло показаться, что и ПДД здесь какие-то странные, и римляне позволяют себе неслыханную дерзость – мчаться во всех направлениях. Вспомнилось никитинское: «Переведи меня через майдан...» Так хорошо было довериться ему решать за себя.
– Народу много. Здесь легко потерять друг друга, – отвечая её мыслям, объяснил он.
– Да. Ты прав. Легко.
Лера горько усмехнулась чему-то.
Она оглянулась неуверенно. Уже смеркалось. Раскалённый шар римского солнца с треском провалился, наконец, куда-то за горизонт. Его взгляд никуда не уходил с её лица, но он смотрел так, что не было неудобно. Как святой, или как рыцарь. Нет. Он – не Давид. Теперь она разглядела его лучше. Он ей мучительно напоминал... Да! Спасителя с фрески Андреа дель Сарто.
Она увидела проходящих мимо кафе карабинеров, оглядывающих людей, как будто ищущих кого-то. Лера юркнула между столиков:
– Я сейчас приду.
От страха, что сейчас её найдут, Лера просидела в туалете несколько дольше, чем обычно бывает.
– Всё в порядке? – почему-то этот вопрос от него не показался ей неприличным.
– Да. Просто...
– Что?
– Энцо… – она выдохнула. Полицейских рядом не наблюдалось. – Я должна тебе что-то сказать.
Лера вдруг перешла на шёпот. На её лице читалась решимость.
– Я сбежала! – призналась она, наконец, с полными ужаса глазами, хотела продолжить, но он остановил.
– Я уже понял.
– Меня будут искать.
– Иди в туалет.
– В смысле?
– Сиди там. Я принесу тебе переодеться. То же, что и на мне, – он показал на футболку.
– Хорошо!
Через несколько минут он вошёл в женский туалет. Позвал негромко:
– Валери?
– Я здесь, – она выглянула из кабинки.
– Давай! В темпе. Футболка. Бейсболка. Кидай мне твою.
Она разделась и кинула ему через дверь футболку. Угодила прямо на голову. Он засмеялся. Вдохнул.
– Эй! Поосторожнее со стриптизом.
– Что? – она выглянула. – Ой, извини.
– Давай быстрей. Потом будешь извиняться.
Он сунул футболку в рюкзак.
– Карабинеры начали ходить кругами.
– Ой! – Лера вскрикнула от испуга. – У меня паспорта нет!
– И не надо. Что он тебе даст, если ты не хочешь назад?
Пожилая женщина прошла в туалет.
– Молодой человек? Вы не заблудились?
– О! Простите!
– Что вытворяет эта молодёжь! – дама возмущённо хлопнула дверцей. Лера показалась из кабинки. Теперь её было не отличить от участников акции. Бейсболка всегда обезличивает. Она повернулась.
– Ну как?
– Супер! Аманда Лир!
– Кажется, я где-то читала, что Аманда Лир – мужчина! – неуверенно возразила Лера, обескураженно глядя на Энцо. Что это вообще за комплимент? Странное сравнение!
– Ерунда. Не верь, она классная! – Вдруг вспомнив о чём-то, Энцо полез в карман. – Вот! Это тебе. Я по дороге купил. – Он протянул ей. – Убери волосы.
Это была заколка для волос в виде римской волчицы.
– Спасибо! Ты милый.
– Я знаю.
Они выскользнули из кафе. Было уже темно. Дворец «Витториано», подсвеченный изнутри, выглядел таинственно и совсем даже не уродливо. Перебежали через площадь до палатки.
– Филонишь? – высокий крупный парень схватил Лоренцо за плечо. – А мы тут пашем. Увидел смущённую, прятавшуюся за Энцо Леру. Заглянул ей под козырёк.
– Ясно. У нас пополнение?
– Что тебе ясно? Где наш автобус?
– Массимо поехал отвозить ребят на вокзал.
– Вот не везёт! Мне он нужен.
– До виллы недалеко. Дойдёте.
– Про какую виллу он говорит? – Лера непонимающе смотрела на обоих, пытаясь уловить разговор. Между собой итальянцы разговаривают быстро, проглатывая окончания.
– Джиджи! Язык прикуси! – возмутился Лоренцо. – Ладно. Извини, что не смогу помочь паковаться. Встретимся дома.
– Я что, не человек, что ли? Понял.
– Чем вас кормят в университете? – удивилась Лера. – Он просто гигант.
Было уже совсем темно. Ночь упала сразу и изменила всё вокруг. Она заколдовала город – будто и не было двух тысяч лет. Рельефнее выхватывались прожекторами подсвеченные, «пылающие» руины Колизея, форумов, колоннад. Купола бесчисленных церквей, монастырей, казалось, празднично взлетали, отражаясь фата-морганой на ночном римском небе. Нерон остался бы доволен панорамой! Адское зрелище пожирающего город бущующего огня, рушащихся, исчезающих в пламени древних храмов вдохновляло его. Пожалуй, и сейчас его посетила бы безумная муза… А если он и вправду был неплохой поэт? Но «гений и злодейство – две вещи несовместные»! А Микеланджело? Убить натурщика, создавая шедевр? Как это может уживаться в одном человеке?! Что же касается Нерона, то за две тысячи лет кучу мерзостей могли наговорить: что было и чего не было. Мёртвого льва может лягнуть даже осёл. Тем более – мёртвого Нерона.
Скрылась из виду, погаснув вдали, пылающая панорама старого города. Вывалившись в очередной раз из кустов, они оказались на набережной Тибра прямо за площадью, на которой сегодня днём они с Вито осматривали храм Виргилис и базилику Санта-Мария-ин-Козмедин. Было темновато, хоть и центр Рима. Но она сразу узнала это место. Мысленно перед ней возник Вито, его глаза смотрели на неё с немым укором. Где он сейчас? Она не могла не понимать, что он где-то мечется, не находя себе места, что он трагически болезненно, как-то остервенело и, в общем, безнадежно любит её. Леру уже вначале пугала эта инфернальная сила его любви. Осознав это, ей почти не верилось, что у них вообще может быть что-то похожее на счастье. После всего, что случилось, ей было совершенно невозможно разобраться в этой убийственной буре эмоций, клятв, требований… А может, всему виной – эти жуткие тени Вечного города? Это они разбудили в Вито страсти из прошлого? Что-то и в нём было от Нерона.
Лоренцо вёл её какими-то закоулками, они перепрыгивали через сложенные из древних камней невысокие укрепления, продирались сквозь колючие изгороди, стараясь обойти людные улицы. Он подсаживал её, помогал спрыгнуть, подхватывал, не отпускал ни на минуту её руки.
– Ты так хорошо знаешь Рим! – воскликнула Лера.
– Я нет. А вот Джиджи – римлянин. Ну тот парень, на площади! – Лоренцо кивнул в сторону Палатинского холма… – Я просто часто бываю здесь.
– А ты разве не из Рима? – Она пыталась понять, где они. Сориентироваться. Почему она не боялась его, доверилась ему?
– Я с юга, из Пулии.
Лера замерла. Догадка ударила в неё, как зигзаг молнии, пронзив сознание насквозь, и ушла куда-то, в римскую каменистую землю.
– Куда мы идём? – Лера другими глазами посмотрела на него. Он засмеялся, несколько смущённо:
– Ты так смотришь, что сердце останавливается. Такие глаза дают ещё до рождения. Там. – он указал вверх. – Зелёные...
– Так куда же лежит наш путь? – Лера намеренно сбивала его с этой темы.
– А мы как раз к Джиджи и идём.
– Как? К нему домой?
– Да, родители на Сардинии, а нам разрешили остановиться на время акции.
– Я лучше где-нибудь здесь посижу. – На его непонимающий взгляд Лера начала сбивчиво, торопливо что-то придумывать. – Знаешь, мне надо побыть одной, собраться с мыслями. Спасибо тебе за всё, но дальше я с тобой не пойду. – Она неуверенно остановилась, разжала руку.
– Что? – он, казалось, оскорбился. – Ты не так поняла! – Лера почувствовала, что её подозрение задело его за живое, но он лишь сокрушённо покачал головой, глядя на неё с полуулыбкой. – Никто не собирается к тебе приставать!
Она недоверчиво посмотрела на него.
– Там человек пятнадцать. Мои друзья.
– И девушки?
– Да. Ты их видела на площади. – Он опять взял её руку. – Ты отдохнёшь, а утром решим, что дальше делать.
Они шли вдоль обмелевшего русла реки.
– Я думала, что Тибр – это большая река, как Арно!
– Она полноводнее зимой. Но, вообще-то, она небольшая. Здесь жарко. Она всегда так мелеет, особенно летом.
Ночь разорвал вой сирены. Мимо них, за деревьями, промчалась одна полицейская машина, затем другая, вращая голубыми огнями. Лера задрожала. Машины остановились недалеко, на площади. Послышались голоса. Шаги приближались.
– Не бойся! Иди ко мне… – Лоренцо повернул ей козырёк бейсболки вбок, приподнял на руки и, прислонив к дереву, обнял, закрывая её всю. Лера хотела оттолкнуть.
– Тише, тише, молчи… – шептал он, щекоча её ухо, щёку, полураскрытые губы. Ещё не веря в происходящее, они робко, неуверенно потянулись друг к другу, как две разнозаряженные частицы, словно инь и ян, продлевая это узнавание, погружаясь в него, притягиваясь бессознательной, неконтролируемой силой. Нежность его обезоруживала, лишала воли. Послышались смешки. Карабинеры стояли совсем рядом, видимо, любопытствуя. Лоренцо, казалось, ничего не слышал. Он обнимал её, будто желая слиться с нею, вобрать её всю в себя.
Лера, забываясь, словно проваливалась в пропасть, непроизвольно подчиняясь его порыву. Странным диссонансом доносились откуда-то, казалось, с другой планеты, комментарии стражей порядка.
– Va bene, da questa parte, piccioncini... Innamorati!
– E Certo. Due pazzi piccioncini! – один засмеялся. – Смотри, не зацелуй её до смерти, парень!
Полоснули небрежно, для острастки, по ним фонариком, проходя мимо. Шаги удалялись. Он отстранился, приходя в себя.
– Извини. Они могли проверить документы. – Дыхание его было всё ещё прерывистым. Казалось, что взглядом он продолжал её целовать.
– Спасибо. – Лера смутилась.
– Не за что.
Возникла неловкая пауза. Они постояли, глядя по сторонам, стараясь не встречаться глазами. Медленно направились дальше. Но с этой минуты всё изменилось.
Оба поняли, что произошло нечто главное – нежданное, налетевшее, обрушившееся на них из вечности в Вечном городе внезапно, и что завтра уже будет навсегда другим. Ошеломлённые этим знанием, преображением в них обоих, молчали, счастливые от того, что идут рядом. Они брели вдоль ночного Тибра, держась ближе к платанам. Фонари горели через один, как в Москве, на окраине.
– Долго ещё? Я больше не могу. Там есть душ?
– Есть. – Он вытащил из рюкзака безрукавку. Расстелил на траве. – Садись. Ещё минут пятнадцать. – Сел рядом с ней.
– А такси нельзя было взять? – Лере казалось, что если она ляжет на минутку, то тут же заснёт.
– Нет. Карабинерам уже, наверное, раздали твои фотографии. – Он положил голову на сомкнутые замком руки. – Уже близко. Потерпи.
Помолчали. В листве деревьев бессонно вскрикивала какая-то беспокойная птица. До них долетали звуки аккордеона, отголоски песни, смех, обрывки разговоров с террасы траттории где-то поблизости. В наступающей волнами тишине слышалось журчание обмелевшей реки, и уж очень надрывно в эту какофонию-симфонию вступали сходу торопливо цикады, боясь не успеть, словно подавали знак: «SOS! SOS! SOS!» От этих тревожных сухих трелей Лере делалось не по себе. Непонятно замирало сердце: как будто сейчас остановится – от сладости римской ночи, от этих настойчивых, непонятных «предсказаний» невидимых сверчков, совершенной неясности всего, что с ней будет дальше, и от того, что он был рядом. Она сидела, прислушиваясь к музыке прекрасного, но чужого ей города, пытаясь разгадать её. Энцо по-прежнему молчал, опустив голову на руки.
– Ты замучился, наверное, со мной? – Лера дотронулась до его плеча.
– Что? – он будто очнулся. – Замучился? Да. Можно и так сказать. Один вопрос не дает мне покоя.
Он поднял голову. Посерьёзнел.
– Извини. Ты, конечно, можешь не отвечать.
Лера смотрела на его профиль. Даёт же Бог такие лица! Ей хотелось прикоснуться к нему, медленно провести черту ото лба к подбородку, потрогать эту античность. Он повернул голову и пристально посмотрел на неё.
– Кто он? Что случилось? Он совершал какое-то насилие, принуждал тебя к чему-то?
Лера отвела взгляд.
– Я не хочу сейчас об этом!
– Почему? Я должен знать, как тебе помочь. – Его требовательность пугала её. Разве нужно всё объяснять?
Она упорно смотрела в сторону.
– Ладно. Расскажешь, если захочешь.
– Давай лучше смотреть на звёзды. Видишь, какое странное сияние над Римом? – Лера хотела изменить ход разговора.
– В Риме никогда не видно звёзд, – ответил он.
– Почему? А я вижу звёзды. Смотри, их сколько! – Лера восторженно раскинула руки, будто желая вместить всю Вселенную в свои объятия.
– Наверное, просто не замечал… – Лоренцо покосился на тоненький серп луны, примостившийся скромно сбоку в рассыпанной над ними мозаике летней римской ночи. Словно живые брызги какого-то божественного фейерверка, там, наверху, удивительно ярко горели звёзды. – Сегодня прямо какой-то феномен! – признался он, всмотревшись в изумлении в небо.
– Ты просто никогда не смотрел на звёзды! – воскликнула Лера, любуясь фантастическим зрелищем. – Смотрящий сердцем всегда их увидит. Они прячутся только от тех, кто равнодушен.
– Да. Ты права. Часто нет времени на созерцание.
– Когда же, если не сейчас? – Лера продолжала, глубоко вздохнув, всё ещё глядя вверх. – Разве можно не восхищаться этой красотой, этой звёздной бездной над нами?
Она почувствовала его взгляд и перестала разглядывать капельки звёзд. Лоренцо смотрел совсем не на небо, а на неё. Сейчас он был похож на врубелевского Демона. Леру смутила сосредоточенность этого взгляда. Она немного отодвинулась. Он отвёл взгляд. Над ними слабым ропотом жухло зашелестели кроны платанов, будто жалуясь – умаявшись, должно быть, за день в каменном пекле города. Налетел порыв остывшего наконец к ночи ветра, заволновав было плоские пинии и старые огромные акации в парке позади них, насмешливо пахнул в лицо свежестью близкой реки, и, лишь раздразнив, затих где-то вдалеке. Стараясь, чтобы голос звучал спокойно, Лера спросила:
– Ты же постигаешь тайны искусства, а это сама природа. Тебе нравится то, чему ты учишься?
– Нравится. – Он помолчал. – Искусство – это единственное, что приближает нас к Богу.
– А тебе это важно?
– Для меня это было главным. Отец настоял, а я хотел другого.
– А почему, тогда, послушал отца?
Энцо пожал неопределённо плечами.
– Он тоже архитектор. И потом, я единственный сын. Отец сказал, что проклянёт меня. – Энцо сорвал сухую травинку, пожевал.
– Господи! Это ещё почему?
– Потому, что я хотел стать… священником. – Он помолчал. – А лучше – жить в монастыре.
– Ты?! – Лера была потрясена.
Она не знала, что дальше говорить. Монах, от которого пять минут назад она чуть не потеряла сознание... И опять это тепло. Это ОН. И почему она не была Лючией, которую он ожидал?..
– А как же Лючия?
– Я же сказал, что она сокурсница! – Энцо отрицательно покачал головой, сжав её руку. – Только сокурсница, слышишь? – он посмотрел ей прямо в глаза.
– Ну, это неважно! – пожала плечами Лера, пытаясь придать голосу весёлое безразличие, но получился почти шёпот. Он поднёс её руку к своим губам. Лера замерла от удивительной нежности его прикосновений. Она не сопротивлялась. Его тепло разливалось по ней, как живительное, чистое чувство счастья. Непонятного. Стремительного. Абсолютного. Как будто он вдыхал в неё обратно жизнь.
Неожиданно для неё самой, её накрыла волна безотчётной радости. Стало стыдно и одновременно легко. Она сходит с ума. Это неправильно. Этот мальчик и она… Что это?
– Поэтому ты занимаешься благотворительностью? И эта акция? Да?
– Понимаешь, я хочу вернуть этим людям веру. Я хочу, чтобы они снова полюбили жизнь. Нашли себя в этом мире. Открыли глаза.
– И поэтому ты хочешь отказаться от себя самого? – Лера сглотнула. Горло сжимало. Было трудно произносить слова. – От своей жизни, любви, и служить Богу? Почему? Ты знаешь, от чего отказываешься?
Он поглядел на неё мрачно.
– Думаю, что знаю.
Лера опустила глаза.
– Пойдём. Я уже отдохнула.
Опять сирены. На этот раз – с противоположной стороны реки. Невдалеке послышался лай собак.
– Пошли быстрей. Они не должны тебя учуять. Ветра нет.
Они побежали. Лера не могла уже дышать, когда они наконец добрались до дома. Вилла вдруг вынырнула из ночи, среди чёрных верхушек кипарисов. Казалось, что это пики каких-то страшных воинов, которые поджидают тебя в темноте.
Из глубины дома доносилась музыка. Кто-то бренчал на гитаре.
– Это Джиджи. Быстро они свернулись, – ответил он на её безмолвный вопрос. Они прошли через зал.
– Здесь рояль? – Лера подняла крышку. Нажала на клавиши. – Хороший.
– Мама Джиджи – пианистка, – ответил Лоренцо.
– А ты умеешь играть? – понял он.
– Немного.
– Сыграешь потом?
– Да. Покажи мне пожалуйста, где душ? – попросила она.
Стоя под прохладными струями она услышала, как он заглянул.
– Я принес полотенце и чистую футболку. Это моя.
– Спасибо. – Лера улыбнулась.
Позже они сидели и слушали, как Джиджи поёт. В комнате, когда они вошли, было человек шесть. Лоренцо представил ей всех.
– Это Массимо, вот там Нандо, Лаура, Кьяра, Джино.
Каждый со своего места приветливо кивал, кто поближе – протягивал руку.
– Ciao! Russa?
– Valerie? Piacere…
– Molto lieto, Valerie…
Казалось, никто не был удивлён, что Энцо откуда-то притащил русскую, не закидывали её вопросами. Лера была этому рада. Она устала. Просто села и слушала Джиджи.
У этого гиганта был мягкий бархатистый голос. Пели неизвестные Лере песни. На английском. Журнальный столик был уставлен минералкой, пустые коробки с остатками пиццы ещё не убрали. Лера с удовольствием пила «Сан Пеллегрино». Казалось, что ничего вкуснее не было на свете.
– Есть пицца. Какую ты хочешь? – Лоренцо вопросительно смотрел на неё, поднимаясь.
– «Фрутти ди маре».
Джиджи наигрывал Стинга.
– Спасибо. Так вкусно! – Она посмотрела с благодарностью на Лоренцо. Он кивнул.
– А мне нравится Моранди и вообще ваши старые: Модуньо, Вилла. – Лера вытерла рот салфеткой, обращаясь к гитаристу.
– Сколько тебе лет? – засмеялся Джиджи.
– Двадцать три скоро будет.
– Да? Странно. В России слушают ещё наших ветеранов?
Он запел иронично: «Канцоне д’аморе...» Лера оборвала:
– А ну, давай, подыграй! Не сбейся. Там речитатив.
– Да ладно, не собьюсь. – Джиджи прислушался.
Лера негромко запела:
Io odio settembre, io odio la sera.
Questa’aria pulita rinfresca l’immagine cara.
Mi spiace molto, pensare a qualcuno che non c`é
Ma torno a giocare con questo dolore
Pensando a te…
Все слушали, Джиджи играл перебором, переходя на мягкие аккорды, чтобы не заглушить её:
Tu, gridi aiuto e nessuno ti ascolta.
E sopratutto Lei aspetti la fine del telegiornale e dopo, a letto vai.
Vorresti volare e invece rimani
Lí fermo su questa terrazza…
Dall’ultimo piano a guardare…
Джиджи давал медленный аккорд и вдруг начинал перебирать. Последний аккорд замер.
– Классно! – все захлопали. – Откуда ты так знаешь итальянский? Филолог?
Лера отрицательно покачала головой:
– Как-то так получилось. Выучила.
– Откуда ты её взял? – Джиджи восхищённо ударил Энцо по коленке.
– Где взял, там уже нет! – Энцо грустно улыбнулся. – Ты хотела сыграть. – Он взглянул на Леру.
– Когда? – смутилась она.
– Ты ещё и играешь? – Джиджи возмущённо показал, мол, поднимайся!
– Давай, а то эксплуатируют меня одного.
Все перешли в зал. Одна из девушек, Кьяра, зажгла свечи.
– Света мало. Она не видит. – Вторая девушка, Лаура, хотела включить свет.
– Нет, нет. Мне достаточно. – Лера попробовала инструмент. Все собрались около. Она покашляла и запела, подыгрывая себе. Лера взглядывала на Лоренцо. Лицо его менялось. На него набегали тени. Или это было эффектом от колеблющегося, неверного отблеска свечей? Оно было печально, почти трагично. Лера негромко пела, перебирая клавиши:
Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь...
Она доиграла. Все молчали.
– О чём это?
– Это рок-опера русского композитора Рыбникова. «Юнона и Авось» называется. Есть спектакль. Они и к вам приезжали.
– Юнона – это богиня? А второе слово? – Кьяра улыбнулась лучистыми глазами, одобрительно дотронулась до её руки. – Музыка красивая, правда? – обратилась она ко всем.
– Это два корабля. – Лера помолчала, собираясь с мыслями. – Был такой русский путешественник, граф Николай Резанов. Он приехал в Калифорнию налаживать торговлю со Штатами и на балу увидел дочь губернатора, Кончиту. Они узнали и полюбили друг друга. – Лера, казалось, рассказывала всё это только Лоренцо, смотря на него одного. – Но они были разной веры. Он должен вернуться в Россию, чтобы испросить разрешения у Государя на брак с католичкой. По дороге он заболел и умер. Кончита ждала его тридцать пять лет. Когда один из русских, который приехал в Калифорнию, сказал ей, что Резанов умер, она дала обет молчания на всю оставшуюся жизнь. – Лера помолчала. – Это песня их прощания.
– Как грустно. А сколько она прожила? – спросила курчавая, как африканка, Лаура, сочувственно качая головой.
– Много, – устало вздохнула Лера, закрывая крышку. – Я сейчас усну.
– Э, нет! Я, как хозяин дома, должен вам хотя бы один танец. – Джиджи согнал её с пуфа, шепнув: – Иди. Танцуй с ним. Играю для вас. – Он заиграл медленный вальс.
Лера услышала вступление. Мелодия была щемяще грустной и, казалось, знакомой. Где-то она её слышала, но не могла вспомнить, где: «Это не Манчини?»
Лоренцо подошёл к ней.
– Разреши тебя пригласить?
Она положила ему руки на плечи. Он взял их своими и замкнул у себя на шее. Потом обнял и притянул к себе, наклонившись. Она чувствовала, как бьётся его сердце – прямо в неё, ощущала теплоту его губ. Он вдыхал её волосы, соскальзывая от виска на щёку. Света почти не было. Смутно двигались силуэты, тени, а они были одни в своём притяжении и, казалось, если оторвутся друг от друга, то умрут.
Они вошли в комнату.
– Кровать одна, но я могу устроиться в кресле.
Лера неуверенно легла к стенке. Сказала ему:
– Места много. Ложись с краю.
Она закрыла глаза. Сон не шёл. Сегодня столько всего случилось. Окончательно разбилась её любовь. А была ли это любовь? Кто этот парень с ней рядом? Кажется, что ближе него нет никого на этой земле! Разве так бывает? Она лежала не шевелясь. Лоренцо повернулся к ней. В темноте она чувствовала, что он смотрит на неё. Сердце как будто на миг остановилось.
– Ты не спишь? – Он помолчал. – Ты устала. Спи! Ничего не будет. Я не коснусь тебя. – Он приподнялся и снял со стены над кроватью распятие. Подвинувшись на край, положил его посередине, как границу, как Тристан положил между собой и Изольдой меч.
– Спи! – почти приказал он, и через мгновенье она уснула.
Опять эта равнина. Чьи-то руки. На этот раз она успевает, оборачивается и видит его. Лоренцо. Это ты? Как я долго не могла увидеть тебя. Это ты! Она гладит его лицо, его волосы. Лоренцо... Почему тебя так долго не было?
– Валери, проснись, эй! Что с тобой? – Она очнулась и увидела над собой его встревоженное лицо. Он говорил, силясь дышать спокойно:
– Ты стонала во сне. Звала меня.
– Да? – Лера смотрела на него, ещё не совсем очнувшись.
Он убрал ей прядь волос с лица.
– Я видела сон. Я его вижу уже давно.
– Надо же! – он удивился. – Мне снится тоже один, уже долго.
– Какой? Расскажи, – еле слышно спросила Лера.
– Да странный... Не страшный, но что-то он должен значить? Что-то очень важное. Я уже давно думаю над этой загадкой.… – Лоренцо задумчиво покачал головой. – Я родился в Пулии, недалеко от Таранто, – продолжил он. – Это пустыня. Кактусы, песок и земля – красная, как терракота. Мне часто снится, что я иду по направлению к дому отца. У него особенный дом, непохожий ни на какой другой. Он сам его спроектировал: с плоской крышей, сюрреалистический такой. Края как будто оплавлены солнцем и вот-вот стекут в небо. Неважно… Вот… Я иду, а чуть впереди идёт девушка в чём-то белом. Лица я не вижу, только силуэт. Я хочу её повернуть к себе. Закрываю ей глаза сзади руками, вот как тебе сегодня на площади, и она начинает поворачиваться. Тут я всегда просыпаюсь. – Он словно очнулся и перевёл взгляд на неё. – А какой у тебя?
Не отвечая, Лера резко села на постели.
– Почему ещё темно?
– Ты спала не более часа.
– Знаешь парк с очень густой зеленью? Где-то над Римом? Там ещё такие двойные старинные фонари и какая-то полуразрушенная часовня? – Она с надеждой посмотрела на него.
– Знаю, это...
Она перебила:
– Пожалуйста, отвези меня сейчас туда!
– Зачем?! – он почти закричал, ничего не понимая.
Она закрыла ему рот рукой:
– Тише. Я должна вернуться назад.
– Почему?
– Я хочу туда, мне надо.
– Да объясни, почему? – Он отрицательно замотал головой. – Я тебя никуда не повезу! Тебе не надо быть с ним.
– Пожалуйста! Так должно быть.
– Нет!
– Почему?
– Потому, – он попытался обнять её. Лера слабо сопротивлялась, упираясь руками ему в грудь.
– Нет, Энцо. Это нельзя!
– Почему?
На мгновение он возмущённо отпрянул, но увидел её беспомощное, опрокинутое лицо. Приподнял за подбородок. Лера беззвучно плакала.
– Почему ты плачешь?
Она уткнулась ему в плечо, всхлипывая и повторяя одно и тоже, как заклинание.
– Не спрашивай. Просто отвези.
– Что ты делаешь со мной! Я больше никогда не увижу тебя? – он оторвал её от себя. Взял её лицо в ладони, заглядывая ей в глаза, пытаясь прочесть что-то. – Не уходи!
Она вдруг широко открыла мокрые от слёз глаза. Посмотрела на него, силясь произнести эти слова:
– Я люблю его, – сказала тихо.
– Нет! Это неправда! – Он встряхнул её за плечи. – Посмотри на меня. Ты его не любишь! Я не верю! Я знаю, зачем ты говоришь мне это. Я не отдам тебя, слышишь? Я тебя…
Лера закрыла ему рот рукой. Поняла, что он хотел сказать.
– Не говори ничего. Так надо. Энцо, не мучь меня.
– Кому надо?
– Мне!
Энцо секунду с отчаянием смотрел на неё. Это конец? Господи, почему сейчас?.. Когда Ты сам явил мне великую благость Твою?! Он отвернулся, медленно поднялся и, поискав, стал надевать кроссовки, стараясь не думать о том, что будет.
– Через пять минут выходи. Если гараж открыт, то не придется будить Джиджи.
Она оглядела ещё раз своё временное пристанище. На смятой кровати всё ещё лежало деревянное распятие. Лера подошла и осторожно повесила его обратно на стену. Перекрестилась.
Лоренцо затормозил. Молчал, глядя прямо перед собой:
– Это здесь.
Они подъехали к парку на рассвете. Лера так и не узнала, как он назывался.
– Я пойду одна.
– Нет! – он категорично мотнул головой. – Я с тобой.
– Нет, Энцо. Я должна одна.
– Я провожу тебя. Тут полно цыган и бездомных.
– Ладно. Только обещай мне сразу же уйти.
– Обещаю!
В парке была ещё ночь. Сумрак, который бывает только перед самым рассветом. Душная липкость так и не остывшего южного города. Они медленно шли, держась за руки. Ещё одна лишняя минута. Гравий тоскливо шуршал под их шагами. Гулко отдавался вечностью в зыбкой тишине аллей. Вон там, в конце аллеи, кажется, должна быть эта скамья. Да. Точно. Позади высились бесформенной грудой остатки часовни. Здесь прошлой ночью она была с Вито. Здесь он... Впрочем, это уже неважно. Он должен прийти сюда. Он должен искать её здесь. Ей надо подумать. Вспомнить. Осмыслить. Оторваться от того, кто сейчас шёл рядом с ней. Отпустить его. Это не наваждение. Это не пройдёт. Лера посмотрела на Лоренцо, пытаясь разглядеть в темноте.
Если Вито сюда не придёт, она вернётся в отель. Попросит понять её. Что-то придумает. Потом бежать, бежать далеко… Улетать. Скорей… Домой. В Москву.
В темноте аллеи вспыхнул огонёк сигареты. Лера остановилась в ужасе. Она только уловила это движение, как Витторио, словно в замедленной съёмке, поднимается со скамьи. Лоренцо тоже увидел, но она опередила. Лера бросилась и, раскинув руки, закрыла его. Успела. Полыхнул выстрел. Лоренцо, ещё не веря в происходящее, рванулся, подхватил её сзади под руки и какие-то секунды держал, пока она оседала на колени...
Лоренцо сидел на земле, взяв её на руки и будто укачивая. Вито, не до конца понимая, что он сделал, смотрел на них.
– Я не хотел...
Лоренцо молился. Витторио глядел на дело рук своих: на, неизвестно откуда и почему, появившегося здесь сына и убитую им возлюбленную. А в его взбудораженном сознании всё ещё продолжали крутиться кадры из – теперь уже навсегда ушедшего – прошлого… Он целует её в гондоле под Мостом вздохов… Щёлкает неожиданно вспышкой, несмотря на протест, удачно поймав её в объектив камеры с Венерой Медичи в похожей позе… Вчерашнее утро – их последнее утро у Собора Святого Петра… Служитель не впустил Витторио в шортах внутрь. Он остался ждать её на ступенях и читал газету. Увидев Леру, он поднялся, взглянул на неё и остолбенел.
– У тебя лицо, как у святой! Что тебя так поразило?
– «Пьета» Микеланджело, – ответила она.
– А мне нравится Моранди и вообще ваши старые: Модуньо, Вилла. – Лера вытерла рот салфеткой, обращаясь к гитаристу.
– Сколько тебе лет? – засмеялся Джиджи.
– Двадцать три скоро будет.
– Да? Странно. В России слушают ещё наших ветеранов?
Он запел иронично: «Канцоне д’аморе...» Лера оборвала:
– А ну, давай, подыграй! Не сбейся. Там речитатив.
– Да ладно, не собьюсь. – Джиджи прислушался.
Лера негромко запела:
Io odio settembre, io odio la sera.
Questa’aria pulita rinfresca l’immagine cara.
Mi spiace molto, pensare a qualcuno che non c`é
Ma torno a giocare con questo dolore
Pensando a te…
Все слушали, Джиджи играл перебором, переходя на мягкие аккорды, чтобы не заглушить её:
Tu, gridi aiuto e nessuno ti ascolta.
E sopratutto Lei aspetti la fine del telegiornale e dopo, a letto vai.
Vorresti volare e invece rimani
Lí fermo su questa terrazza…
Dall’ultimo piano a guardare…
Джиджи давал медленный аккорд и вдруг начинал перебирать. Последний аккорд замер.
– Классно! – все захлопали. – Откуда ты так знаешь итальянский? Филолог?
Лера отрицательно покачала головой:
– Как-то так получилось. Выучила.
– Откуда ты её взял? – Джиджи восхищённо ударил Энцо по коленке.
– Где взял, там уже нет! – Энцо грустно улыбнулся. – Ты хотела сыграть. – Он взглянул на Леру.
– Когда? – смутилась она.
– Ты ещё и играешь? – Джиджи возмущённо показал, мол, поднимайся!
– Давай, а то эксплуатируют меня одного.
Все перешли в зал. Одна из девушек, Кьяра, зажгла свечи.
– Света мало. Она не видит. – Вторая девушка, Лаура, хотела включить свет.
– Нет, нет. Мне достаточно. – Лера попробовала инструмент. Все собрались около. Она покашляла и запела, подыгрывая себе. Лера взглядывала на Лоренцо. Лицо его менялось. На него набегали тени. Или это было эффектом от колеблющегося, неверного отблеска свечей? Оно было печально, почти трагично. Лера негромко пела, перебирая клавиши:
Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь...
Она доиграла. Все молчали.
– О чём это?
– Это рок-опера русского композитора Рыбникова. «Юнона и Авось» называется. Есть спектакль. Они и к вам приезжали.
– Юнона – это богиня? А второе слово? – Кьяра улыбнулась лучистыми глазами, одобрительно дотронулась до её руки. – Музыка красивая, правда? – обратилась она ко всем.
– Это два корабля. – Лера помолчала, собираясь с мыслями. – Был такой русский путешественник, граф Николай Резанов. Он приехал в Калифорнию налаживать торговлю со Штатами и на балу увидел дочь губернатора, Кончиту. Они узнали и полюбили друг друга. – Лера, казалось, рассказывала всё это только Лоренцо, смотря на него одного. – Но они были разной веры. Он должен вернуться в Россию, чтобы испросить разрешения у Государя на брак с католичкой. По дороге он заболел и умер. Кончита ждала его тридцать пять лет. Когда один из русских, который приехал в Калифорнию, сказал ей, что Резанов умер, она дала обет молчания на всю оставшуюся жизнь. – Лера помолчала. – Это песня их прощания.
– Как грустно. А сколько она прожила? – спросила курчавая, как африканка, Лаура, сочувственно качая головой.
– Много, – устало вздохнула Лера, закрывая крышку. – Я сейчас усну.
– Э, нет! Я, как хозяин дома, должен вам хотя бы один танец. – Джиджи согнал её с пуфа, шепнув: – Иди. Танцуй с ним. Играю для вас. – Он заиграл медленный вальс.
Лера услышала вступление. Мелодия была щемяще грустной и, казалось, знакомой. Где-то она её слышала, но не могла вспомнить, где: «Это не Манчини?»
Лоренцо подошёл к ней.
– Разреши тебя пригласить?
Она положила ему руки на плечи. Он взял их своими и замкнул у себя на шее. Потом обнял и притянул к себе, наклонившись. Она чувствовала, как бьётся его сердце – прямо в неё, ощущала теплоту его губ. Он вдыхал её волосы, соскальзывая от виска на щёку. Света почти не было. Смутно двигались силуэты, тени, а они были одни в своём притяжении и, казалось, если оторвутся друг от друга, то умрут.
Они вошли в комнату.
– Кровать одна, но я могу устроиться в кресле.
Лера неуверенно легла к стенке. Сказала ему:
– Места много. Ложись с краю.
Она закрыла глаза. Сон не шёл. Сегодня столько всего случилось. Окончательно разбилась её любовь. А была ли это любовь? Кто этот парень с ней рядом? Кажется, что ближе него нет никого на этой земле! Разве так бывает? Она лежала не шевелясь. Лоренцо повернулся к ней. В темноте она чувствовала, что он смотрит на неё. Сердце как будто на миг остановилось.
– Ты не спишь? – Он помолчал. – Ты устала. Спи! Ничего не будет. Я не коснусь тебя. – Он приподнялся и снял со стены над кроватью распятие. Подвинувшись на край, положил его посередине, как границу, как Тристан положил между собой и Изольдой меч.
– Спи! – почти приказал он, и через мгновенье она уснула.
Опять эта равнина. Чьи-то руки. На этот раз она успевает, оборачивается и видит его. Лоренцо. Это ты? Как я долго не могла увидеть тебя. Это ты! Она гладит его лицо, его волосы. Лоренцо... Почему тебя так долго не было?
– Валери, проснись, эй! Что с тобой? – Она очнулась и увидела над собой его встревоженное лицо. Он говорил, силясь дышать спокойно:
– Ты стонала во сне. Звала меня.
– Да? – Лера смотрела на него, ещё не совсем очнувшись.
Он убрал ей прядь волос с лица.
– Я видела сон. Я его вижу уже давно.
– Надо же! – он удивился. – Мне снится тоже один, уже долго.
– Какой? Расскажи, – еле слышно спросила Лера.
– Да странный... Не страшный, но что-то он должен значить? Что-то очень важное. Я уже давно думаю над этой загадкой.… – Лоренцо задумчиво покачал головой. – Я родился в Пулии, недалеко от Таранто, – продолжил он. – Это пустыня. Кактусы, песок и земля – красная, как терракота. Мне часто снится, что я иду по направлению к дому отца. У него особенный дом, непохожий ни на какой другой. Он сам его спроектировал: с плоской крышей, сюрреалистический такой. Края как будто оплавлены солнцем и вот-вот стекут в небо. Неважно… Вот… Я иду, а чуть впереди идёт девушка в чём-то белом. Лица я не вижу, только силуэт. Я хочу её повернуть к себе. Закрываю ей глаза сзади руками, вот как тебе сегодня на площади, и она начинает поворачиваться. Тут я всегда просыпаюсь. – Он словно очнулся и перевёл взгляд на неё. – А какой у тебя?
Не отвечая, Лера резко села на постели.
– Почему ещё темно?
– Ты спала не более часа.
– Знаешь парк с очень густой зеленью? Где-то над Римом? Там ещё такие двойные старинные фонари и какая-то полуразрушенная часовня? – Она с надеждой посмотрела на него.
– Знаю, это...
Она перебила:
– Пожалуйста, отвези меня сейчас туда!
– Зачем?! – он почти закричал, ничего не понимая.
Она закрыла ему рот рукой:
– Тише. Я должна вернуться назад.
– Почему?
– Я хочу туда, мне надо.
– Да объясни, почему? – Он отрицательно замотал головой. – Я тебя никуда не повезу! Тебе не надо быть с ним.
– Пожалуйста! Так должно быть.
– Нет!
– Почему?
– Потому, – он попытался обнять её. Лера слабо сопротивлялась, упираясь руками ему в грудь.
– Нет, Энцо. Это нельзя!
– Почему?
На мгновение он возмущённо отпрянул, но увидел её беспомощное, опрокинутое лицо. Приподнял за подбородок. Лера беззвучно плакала.
– Почему ты плачешь?
Она уткнулась ему в плечо, всхлипывая и повторяя одно и тоже, как заклинание.
– Не спрашивай. Просто отвези.
– Что ты делаешь со мной! Я больше никогда не увижу тебя? – он оторвал её от себя. Взял её лицо в ладони, заглядывая ей в глаза, пытаясь прочесть что-то. – Не уходи!
Она вдруг широко открыла мокрые от слёз глаза. Посмотрела на него, силясь произнести эти слова:
– Я люблю его, – сказала тихо.
– Нет! Это неправда! – Он встряхнул её за плечи. – Посмотри на меня. Ты его не любишь! Я не верю! Я знаю, зачем ты говоришь мне это. Я не отдам тебя, слышишь? Я тебя…
Лера закрыла ему рот рукой. Поняла, что он хотел сказать.
– Не говори ничего. Так надо. Энцо, не мучь меня.
– Кому надо?
– Мне!
Энцо секунду с отчаянием смотрел на неё. Это конец? Господи, почему сейчас?.. Когда Ты сам явил мне великую благость Твою?! Он отвернулся, медленно поднялся и, поискав, стал надевать кроссовки, стараясь не думать о том, что будет.
– Через пять минут выходи. Если гараж открыт, то не придется будить Джиджи.
Она оглядела ещё раз своё временное пристанище. На смятой кровати всё ещё лежало деревянное распятие. Лера подошла и осторожно повесила его обратно на стену. Перекрестилась.
Лоренцо затормозил. Молчал, глядя прямо перед собой:
– Это здесь.
Они подъехали к парку на рассвете. Лера так и не узнала, как он назывался.
– Я пойду одна.
– Нет! – он категорично мотнул головой. – Я с тобой.
– Нет, Энцо. Я должна одна.
– Я провожу тебя. Тут полно цыган и бездомных.
– Ладно. Только обещай мне сразу же уйти.
– Обещаю!
В парке была ещё ночь. Сумрак, который бывает только перед самым рассветом. Душная липкость так и не остывшего южного города. Они медленно шли, держась за руки. Ещё одна лишняя минута. Гравий тоскливо шуршал под их шагами. Гулко отдавался вечностью в зыбкой тишине аллей. Вон там, в конце аллеи, кажется, должна быть эта скамья. Да. Точно. Позади высились бесформенной грудой остатки часовни. Здесь прошлой ночью она была с Вито. Здесь он... Впрочем, это уже неважно. Он должен прийти сюда. Он должен искать её здесь. Ей надо подумать. Вспомнить. Осмыслить. Оторваться от того, кто сейчас шёл рядом с ней. Отпустить его. Это не наваждение. Это не пройдёт. Лера посмотрела на Лоренцо, пытаясь разглядеть в темноте.
Если Вито сюда не придёт, она вернётся в отель. Попросит понять её. Что-то придумает. Потом бежать, бежать далеко… Улетать. Скорей… Домой. В Москву.
В темноте аллеи вспыхнул огонёк сигареты. Лера остановилась в ужасе. Она только уловила это движение, как Витторио, словно в замедленной съёмке, поднимается со скамьи. Лоренцо тоже увидел, но она опередила. Лера бросилась и, раскинув руки, закрыла его. Успела. Полыхнул выстрел. Лоренцо, ещё не веря в происходящее, рванулся, подхватил её сзади под руки и какие-то секунды держал, пока она оседала на колени...
Лоренцо сидел на земле, взяв её на руки и будто укачивая. Вито, не до конца понимая, что он сделал, смотрел на них.
– Я не хотел...
Лоренцо молился. Витторио глядел на дело рук своих: на, неизвестно откуда и почему, появившегося здесь сына и убитую им возлюбленную. А в его взбудораженном сознании всё ещё продолжали крутиться кадры из – теперь уже навсегда ушедшего – прошлого… Он целует её в гондоле под Мостом вздохов… Щёлкает неожиданно вспышкой, несмотря на протест, удачно поймав её в объектив камеры с Венерой Медичи в похожей позе… Вчерашнее утро – их последнее утро у Собора Святого Петра… Служитель не впустил Витторио в шортах внутрь. Он остался ждать её на ступенях и читал газету. Увидев Леру, он поднялся, взглянул на неё и остолбенел.
– У тебя лицо, как у святой! Что тебя так поразило?
– «Пьета» Микеланджело, – ответила она.
