Текст альманаха «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» №5 2024 год
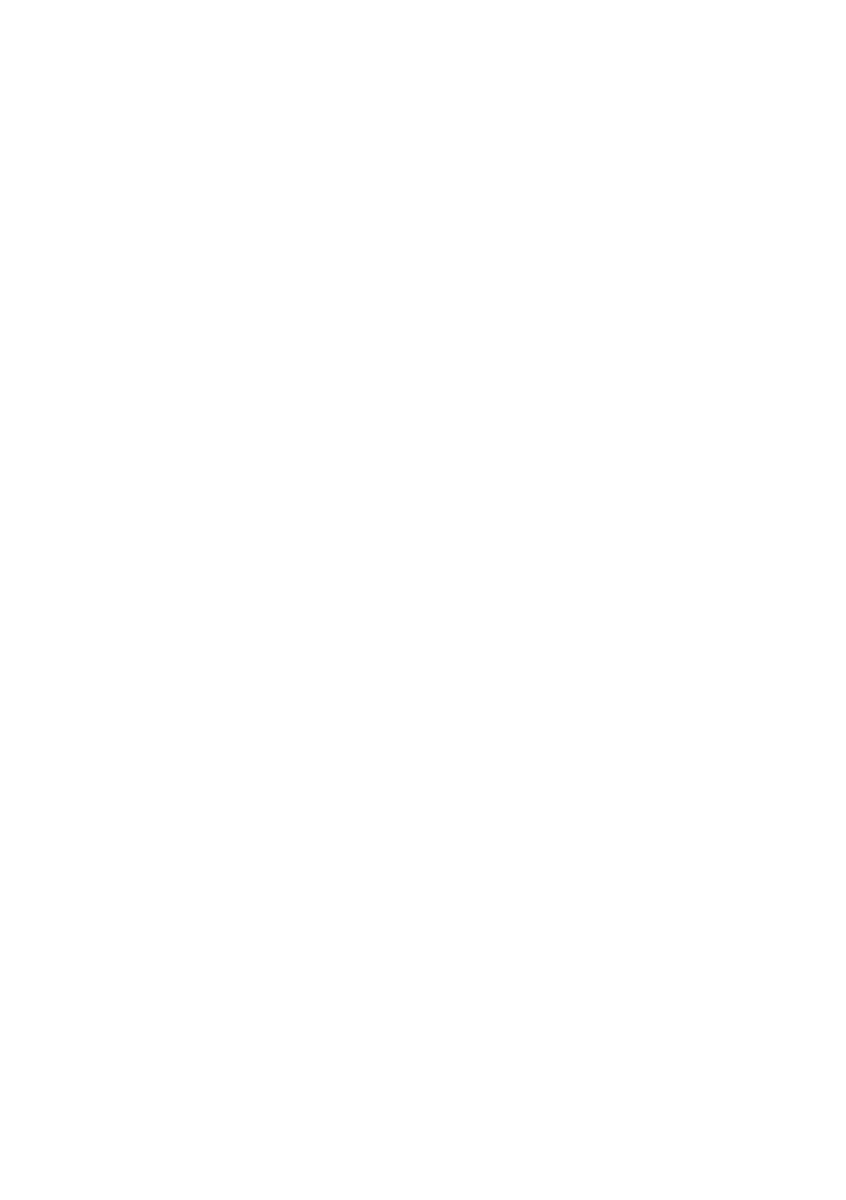
Пятый номер альманаха вдохновляющих историй «Все будет хорошо!» вышел в январе 2024 года.
Содержание сборника:
Константин ЛЕУШИН – «Кашi-яблуки, мальчик-девочка»
Светлана ГРИНЬКО – «Без отчества»
Евгения МАРЦИШЕВСКАЯ – «Домик в лесу»
Наталья ШЕСТАКОВА – «Наваждение»
Галина СМЕЦКАЯ – «Пирожки с вишнями...»
Наталья ГОШЕВА – «Умка»
Сергей САФОНОВ – «Замкнутый квадрат»
Максим ЛАЗАРЕВ – «Первомай из детства», «День одуванчика»
Анастасия ОМЕЛЬЧЕНКО – «Чудеса под Новый год»
Дмитрий ЛАЗАРЕВ – «Небесный квадрат»
Гузель АРСЛАН – «Дюша»
Инесса СМИРНОВА – «Дождь»
Василий МОРСКОЙ – «Алешкины истории-2»
Павел КИСЕЛЕВ – «Не хмурь бровей из-за ударов рока...»
Ксения ЧИГЛАДЗЕ – «Свет внутри»
Василий ШИШКОВ – «Расцветут!»
Дмитрий ТУРБИН – «Яблоко для Евы»
Алексей СОФИЙСКИЙ – «Горький медовый месяц», «Испытание», «Табачная история»
Кристина КАЗМИРСКАЯ – «Писатель»
Татьяна ТВОРОЖКОВА – «Вторая жена», «ВХУТЕМАС-100»
Элла ПЕТРИЩЕВА (Зайцева) – «Вагонные истории»
Наталья ЛОСЕВА – «С Новым годом!»
Вадим ПОСТАВНЁВ – «Пыль несуществующей дороги» (отрывок)
Работы победителей конкурса «СВОБОДНАЯ ТЕМА»
(опубликовано только в электронной версии)
Елизавета ПАЙОР — «Чуду не прикажешь»
Владислав ЧИВИЛЕВ — «Тайна похищения чайного пакетика»
Юлия ГУСЬКОВА — «Моя счастливая история»
Константин ЛЕУШИН – «Кашi-яблуки, мальчик-девочка»
Светлана ГРИНЬКО – «Без отчества»
Евгения МАРЦИШЕВСКАЯ – «Домик в лесу»
Наталья ШЕСТАКОВА – «Наваждение»
Галина СМЕЦКАЯ – «Пирожки с вишнями...»
Наталья ГОШЕВА – «Умка»
Сергей САФОНОВ – «Замкнутый квадрат»
Максим ЛАЗАРЕВ – «Первомай из детства», «День одуванчика»
Анастасия ОМЕЛЬЧЕНКО – «Чудеса под Новый год»
Дмитрий ЛАЗАРЕВ – «Небесный квадрат»
Гузель АРСЛАН – «Дюша»
Инесса СМИРНОВА – «Дождь»
Василий МОРСКОЙ – «Алешкины истории-2»
Павел КИСЕЛЕВ – «Не хмурь бровей из-за ударов рока...»
Ксения ЧИГЛАДЗЕ – «Свет внутри»
Василий ШИШКОВ – «Расцветут!»
Дмитрий ТУРБИН – «Яблоко для Евы»
Алексей СОФИЙСКИЙ – «Горький медовый месяц», «Испытание», «Табачная история»
Кристина КАЗМИРСКАЯ – «Писатель»
Татьяна ТВОРОЖКОВА – «Вторая жена», «ВХУТЕМАС-100»
Элла ПЕТРИЩЕВА (Зайцева) – «Вагонные истории»
Наталья ЛОСЕВА – «С Новым годом!»
Вадим ПОСТАВНЁВ – «Пыль несуществующей дороги» (отрывок)
Работы победителей конкурса «СВОБОДНАЯ ТЕМА»
(опубликовано только в электронной версии)
Елизавета ПАЙОР — «Чуду не прикажешь»
Владислав ЧИВИЛЕВ — «Тайна похищения чайного пакетика»
Юлия ГУСЬКОВА — «Моя счастливая история»
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
С выхода первого номера альманаха «Все будет хорошо!» прошло уже четыре года (первый альманах вышел в январе 2020 г.), и сегодня мы с радостью представляем вам 5-й номер альманаха, в котором участвуют 23 автора с рассказами о жизни, о людях нашей прекрасной страны, о Надежде, Любви и Вере. Всех авторов объединяет желание поддержать, помочь, укрепить читателей своими рассказами, полными эмоций, характеров и судеб. Заголовки рассказов говорят сами за себя: «Свет внутри» (Ксения Чигладзе), «Чудеса под Новый год» (Анастасия Омельченко), «Не хмурь бровей из-за ударов рока...» (Павел Киселев), «С Новым годом!» (Наталья Лосева), «Расцветут!» (Василий Шишков). И в каждом рассказе есть и рождественская радость и нерастраченная надежда и уверенность, что все будет хорошо, что наступающий год принесет счастье и успех во всех наших занятиях. Вдохновляющая история – это не просто рассказ, как писал Марк Твен: «Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь». Так пусть в ваших домах царят мир, тепло и уют, а в ваших сердцах – спокойствие и уверенность в том, что «Все будет хорошо!». Ведь так оно и будет!
Номер альманаха, который вы держите в руках, уже тридцатый по счету, с того момента, когда в 2019 году, в издательстве «Новое слово» приняли решение заниматься выпуском литературно-художественных изданий по принципу «товарищеских сборников». Такой принцип сбора альманахов не нов – еще в 1896 году сборники «Новое Слово» собирались в редакции именно по такому принципу, и тогда, и несколькими годами позже – в 1907 году альманах «Новое Слово» составлялся из публикаций нескольких авторов, объединяя в своих рядах прозаиков, поэтов и публицистов (в номере «Нового слова» от 1907 года были напечатаны письма А.П.Чехова и стихи И.А.Бунина – посетите наш виртуальный музей). В 2019 году мы издали первый номер возрожденного альманаха «Новое Слово», и нам сразу показалось не совсем уместным объединять прозу и поэзию под одной обложкой – уж если каждому автору в своей среде, в своем жанре захочется расти профессионально важно, чтобы каждый жанр имел свой собственный сборник. Так родился поэтический альманах «Линии». Затем были альманахи «Битва», «Книжная полка»... Но и этого нам показалось мало.
Дело в том, что в эти рождественские дни, когда мы заканчиваем один год и с надежной и уверенностью входим в новый год, – мы всегда испытываем некое ощущение, что так тяжело, как мы жили в прошлом году – мы уже не хотим и не будем. И это ощущение всегда подсказывает нам, что нужно без сомнений смотреть вперед, нужно быть уверенным в новых и лучших временах, а еще лучше – засучив рукава «строить это лучшее время» для себя, своей семьи, своих детей и для своей страны. Так и родился альманах с названием, которое вы видите на обложке – «Все будет хорошо!». Наши постоянные авторы, узнав о создании такого альманаха, постарались принять в нем участие – кто-то обнаружил у себя такой «вдохновляющий рассказ», кто-то сел писать новое произведение на заданную тему. С выхода первого номера альманаха «Все будет хорошо!» прошло уже 4 года (первый альманах вышел в 2020 году), и сегодня мы с радостью представляем вам 5-й номер альманаха, в котором участвуют 23 автора с рассказами о жизни, о людях нашей прекрасной страны, о Надежде, Любви и Вере. Особенно приятно отметить, что среди авторов всех выпусков сборника (за 4 года) есть и граждане России, Украины, Белоруссии, есть люди, которые несут тяжелую службу в боевых точках и в местах проведения специальной военной операции, есть молодые люди и авторы, прошедшие огромный литературный путь, есть профессиональные писатели, а есть – врачи, преподаватели, художники и люди других профессий. Но всех нас объединяют именно эти страницы с рассказами, полными эмоций, характеров и судеб. Заголовки рассказов говорят сами за себя: «Свет внутри» (Ксения Чигладзе), «Чудеса под Новый год» (Анастасия Омельченко), «Не хмурь бровей из-за ударов рока...» (Павел Киселев), «С Новым годом!» (Наталья Лосева), «Расцветут!» (Василий Шишков). И в каждом рассказе есть и рождественская радость, и нерастраченная надежда, и уверенность, что все будет хорошо, что наступающий год принесет счастье и успех во всех наших занятиях. Вдохновляющая история – это не просто рассказ, как писал Марк Твен: «Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь».
Издательский сервис «Новое Слово» в ушедшем 2023 году запустил новый сборник для короткой прозы «Записная книжка» (это уже восьмой альманах в нашей литературной «семье»!), принял участие в Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре и выставил все вышедшие альманахи и книги на продажу в маркетплейс OZON, где любой читатель и автор может докупить любое количество альманахов. Жаль только, что некоторых экземпляров уже нет в продаже – мы сами не ожидали, каким спросом будут пользоваться наши издания у читателей! Некоторые авторы, собрав рассказы по определенной тематике, выпустили в этом году свои авторские книги – в этом году издательство выпустило 6 изданий наших авторов, все они были успешно представлены на книжной выставке и запущены в продажу. Чтобы попасть в наши сборники (ближайшие планы по выходу альманахов – уже на следующей странице!), достаточно зайти на наш сайт и загрузить свой рассказ в специальную форму.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших авторов и читателей сборников с наступившим 2024 годом и пожелать крепкого здоровья, счастья и творческих усилий (!), которые с помощью нашего издательского сервиса превратятся в ваш успех! Пусть в ваших домах царят мир, тепло и уют, а в ваших сердцах – спокойствие и уверенность в том, что «Все будет хорошо!» Ведь так оно и будет!
Составитель М.Федосов
С выхода первого номера альманаха «Все будет хорошо!» прошло уже четыре года (первый альманах вышел в январе 2020 г.), и сегодня мы с радостью представляем вам 5-й номер альманаха, в котором участвуют 23 автора с рассказами о жизни, о людях нашей прекрасной страны, о Надежде, Любви и Вере. Всех авторов объединяет желание поддержать, помочь, укрепить читателей своими рассказами, полными эмоций, характеров и судеб. Заголовки рассказов говорят сами за себя: «Свет внутри» (Ксения Чигладзе), «Чудеса под Новый год» (Анастасия Омельченко), «Не хмурь бровей из-за ударов рока...» (Павел Киселев), «С Новым годом!» (Наталья Лосева), «Расцветут!» (Василий Шишков). И в каждом рассказе есть и рождественская радость и нерастраченная надежда и уверенность, что все будет хорошо, что наступающий год принесет счастье и успех во всех наших занятиях. Вдохновляющая история – это не просто рассказ, как писал Марк Твен: «Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь». Так пусть в ваших домах царят мир, тепло и уют, а в ваших сердцах – спокойствие и уверенность в том, что «Все будет хорошо!». Ведь так оно и будет!
Номер альманаха, который вы держите в руках, уже тридцатый по счету, с того момента, когда в 2019 году, в издательстве «Новое слово» приняли решение заниматься выпуском литературно-художественных изданий по принципу «товарищеских сборников». Такой принцип сбора альманахов не нов – еще в 1896 году сборники «Новое Слово» собирались в редакции именно по такому принципу, и тогда, и несколькими годами позже – в 1907 году альманах «Новое Слово» составлялся из публикаций нескольких авторов, объединяя в своих рядах прозаиков, поэтов и публицистов (в номере «Нового слова» от 1907 года были напечатаны письма А.П.Чехова и стихи И.А.Бунина – посетите наш виртуальный музей). В 2019 году мы издали первый номер возрожденного альманаха «Новое Слово», и нам сразу показалось не совсем уместным объединять прозу и поэзию под одной обложкой – уж если каждому автору в своей среде, в своем жанре захочется расти профессионально важно, чтобы каждый жанр имел свой собственный сборник. Так родился поэтический альманах «Линии». Затем были альманахи «Битва», «Книжная полка»... Но и этого нам показалось мало.
Дело в том, что в эти рождественские дни, когда мы заканчиваем один год и с надежной и уверенностью входим в новый год, – мы всегда испытываем некое ощущение, что так тяжело, как мы жили в прошлом году – мы уже не хотим и не будем. И это ощущение всегда подсказывает нам, что нужно без сомнений смотреть вперед, нужно быть уверенным в новых и лучших временах, а еще лучше – засучив рукава «строить это лучшее время» для себя, своей семьи, своих детей и для своей страны. Так и родился альманах с названием, которое вы видите на обложке – «Все будет хорошо!». Наши постоянные авторы, узнав о создании такого альманаха, постарались принять в нем участие – кто-то обнаружил у себя такой «вдохновляющий рассказ», кто-то сел писать новое произведение на заданную тему. С выхода первого номера альманаха «Все будет хорошо!» прошло уже 4 года (первый альманах вышел в 2020 году), и сегодня мы с радостью представляем вам 5-й номер альманаха, в котором участвуют 23 автора с рассказами о жизни, о людях нашей прекрасной страны, о Надежде, Любви и Вере. Особенно приятно отметить, что среди авторов всех выпусков сборника (за 4 года) есть и граждане России, Украины, Белоруссии, есть люди, которые несут тяжелую службу в боевых точках и в местах проведения специальной военной операции, есть молодые люди и авторы, прошедшие огромный литературный путь, есть профессиональные писатели, а есть – врачи, преподаватели, художники и люди других профессий. Но всех нас объединяют именно эти страницы с рассказами, полными эмоций, характеров и судеб. Заголовки рассказов говорят сами за себя: «Свет внутри» (Ксения Чигладзе), «Чудеса под Новый год» (Анастасия Омельченко), «Не хмурь бровей из-за ударов рока...» (Павел Киселев), «С Новым годом!» (Наталья Лосева), «Расцветут!» (Василий Шишков). И в каждом рассказе есть и рождественская радость, и нерастраченная надежда, и уверенность, что все будет хорошо, что наступающий год принесет счастье и успех во всех наших занятиях. Вдохновляющая история – это не просто рассказ, как писал Марк Твен: «Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь».
Издательский сервис «Новое Слово» в ушедшем 2023 году запустил новый сборник для короткой прозы «Записная книжка» (это уже восьмой альманах в нашей литературной «семье»!), принял участие в Московской международной книжной ярмарке в Экспоцентре и выставил все вышедшие альманахи и книги на продажу в маркетплейс OZON, где любой читатель и автор может докупить любое количество альманахов. Жаль только, что некоторых экземпляров уже нет в продаже – мы сами не ожидали, каким спросом будут пользоваться наши издания у читателей! Некоторые авторы, собрав рассказы по определенной тематике, выпустили в этом году свои авторские книги – в этом году издательство выпустило 6 изданий наших авторов, все они были успешно представлены на книжной выставке и запущены в продажу. Чтобы попасть в наши сборники (ближайшие планы по выходу альманахов – уже на следующей странице!), достаточно зайти на наш сайт и загрузить свой рассказ в специальную форму.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших авторов и читателей сборников с наступившим 2024 годом и пожелать крепкого здоровья, счастья и творческих усилий (!), которые с помощью нашего издательского сервиса превратятся в ваш успех! Пусть в ваших домах царят мир, тепло и уют, а в ваших сердцах – спокойствие и уверенность в том, что «Все будет хорошо!» Ведь так оно и будет!
Составитель М.Федосов
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 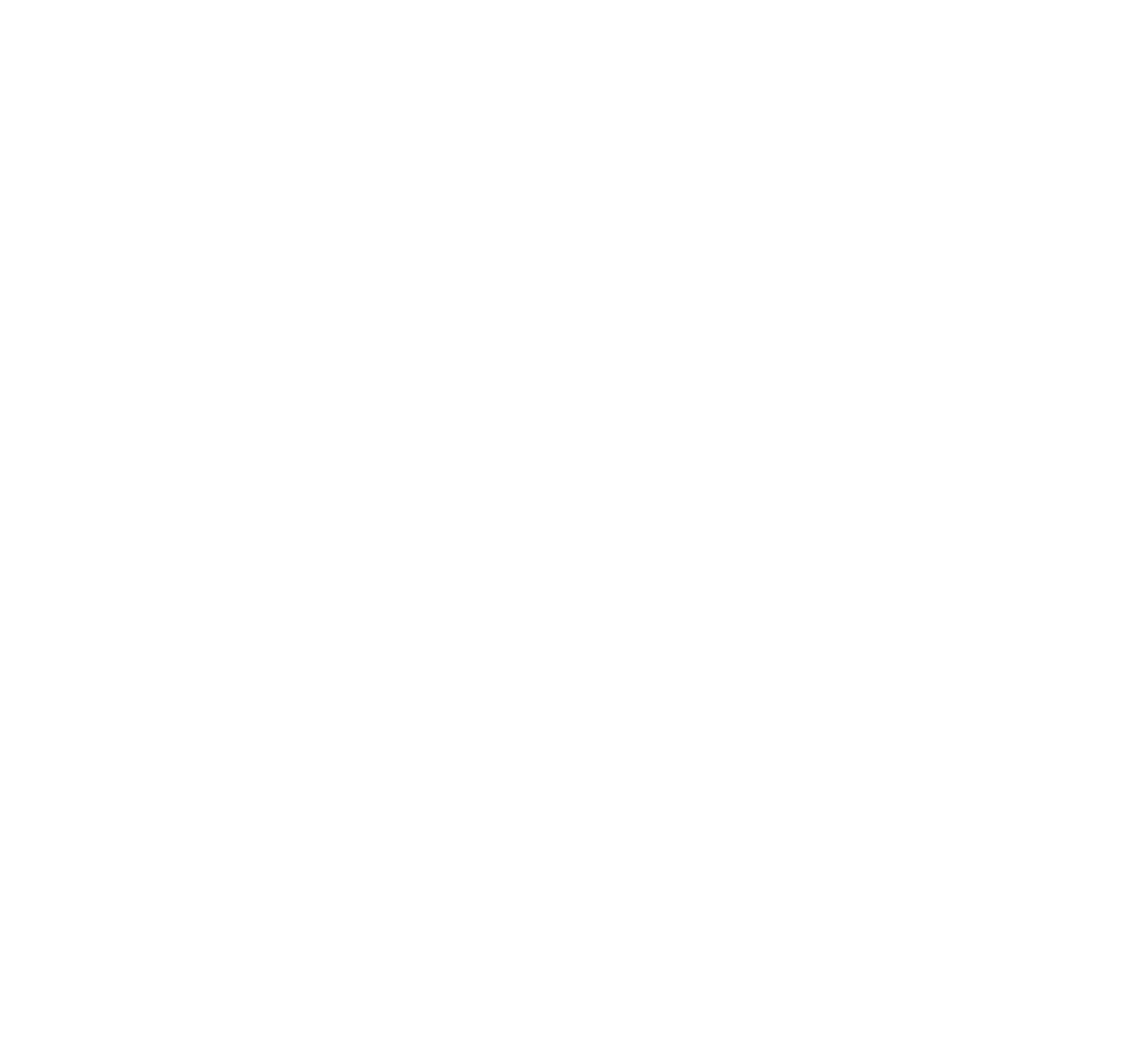
Константин ЛЕУШИН
Родился в 1971 году, работаю врачом анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия».
Автор 17 печатных работ в научно-практических медицинских журналах. Живу и работаю в Москве. С началом СВО оказываю медицинскую помощь гражданскому населению Донецкой и Луганской Народных Республик и военнослужащим Армии России. Награждён медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Автор сборника рассказов о работе и жизни врача анестезиолога-реаниматолога «Разряд!.. Ещё разряд!», 2022 г.
Родился в 1971 году, работаю врачом анестезиологом-реаниматологом высшей квалификационной категории по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия».
Автор 17 печатных работ в научно-практических медицинских журналах. Живу и работаю в Москве. С началом СВО оказываю медицинскую помощь гражданскому населению Донецкой и Луганской Народных Республик и военнослужащим Армии России. Награждён медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». Автор сборника рассказов о работе и жизни врача анестезиолога-реаниматолога «Разряд!.. Ещё разряд!», 2022 г.
КАШI-ЯБЛУКИ, МАЛЬЧИК-ДЕВОЧКА
(из сборника рассказов «Разряд!.. Ещё разряд!»)
Я не открою ничего нового, если скажу, что рождение ребёнка – это всеобъемлющее счастье для родителей, братиков-сестричек, бабушек-дедушек и всей родни. Особенно когда всё по плану: через 9 месяцев уже всё и все подготовлены к появлению на свет маленького, всеми любимого человека. Вспомните, как это было у вас, мои дорогие читатели, и мне незачем будет расписывать всю эту радость.
Но, как известно некоторым родителям (и мне в их числе), не все дети с самого своего зачатия одинаково послушны, а некоторые непоседы вообще не высиживают все положенные 9 месяцев у мамы в животике, всё сучат ножками и норовят побыстрее выбраться на свет божий.
На этот случай есть врачи-акушеры, неонатологи («микропедиатры») и моя братия – анестезиологи, если самой маме нужно будет помочь родить безболезненно. Так и происходят дни и ночи в роддомах и перинатальных центрах нашей необъятной родины.
Случаи же несвоевременных родов «в поле», воспетые классиками и запечатлённые на полотнах художников, оставим для школьного курса русской литературы. Это я к чему? Это я к тому, что те из моих коллег, которым в реальной жизни приходилось принимать роды «в полевых условиях», рассказывали мне про это отнюдь не высоким литературным слогом, потому что как, например, обеспечить стерильность в поезде, в котором вы с друзьями едете на рыбалку и, понятное дело, за рюмкой чая уже спорите, где будет лучше клёв, а рядом, в следующем купе, по паровозному свистку женщина начинает рожать? К тому же у неё оказывается поперечное положение плода, и необходим акушерский поворот за ножку.
Конечно, на первом полустанке уже ожидает Скорая, но до него ещё стучать и стучать по рельсам, не превышая скорости следования пассажирского поезда. Я, разумеется, допускаю некоторый перебор в рассказах моих коллег, но понять их могу, потому что сам тоже, сразу после медучилища работая фельдшером Скорой, «родил» ребёнка – то ли мальчика, то ли девочку. Короче, слушайте.
Акушерство и гинекологию у нас в медухе вела Никитична, пожилой врач акушер-гинеколог, которая всем беременным советовала придерживаться «дiэти» – кушать «кашi та яблуки», потому что «у них вiтамiни, не буде проблем зi стiльцем, а через девять мicяцiв ваша дитина як з гармати (то есть как из пушки) вилетить». На случай же экстренных родов или кесарева у Никитичны тоже был алгоритм: «насамперед (первым делом, значит) викликаю Любов Михайлiвну» (опытную акушерку), и если у роженицы кровопотеря, то «вiдразу (сразу) кальцiю хлорiд внутрiшньовенно!»
Конечно же, с лёгкой руки моего друга Вовы Петровича, нашего преподавателя по акушерству, мы прозвали ее Кашей! Забавно и весело было с ним дежурить в приёмном отделении роддома и ждать поступления рожениц по Скорой. Смех смехом, а к родовспоможению мы подготовились основательно: два раза побывали на плановых родах и один раз по дежурству, листая «Неонатологию», дождались экстренных: ребёнок «как из пушки» не вылетел, но родился розовеньким и сразу закричал на 9 баллов по шкале Апгар.
Мне этого было явно недостаточно, хотелось экстрима, и, возможно, поэтому я начал читать «Реанимацию новорожденных». Про чеховское ружьё, наверное, все в курсе? Хотя сам Антон Палыч выстрела, похоже, так и не дождался…
Дорогие коллеги, те, кому сейчас от пятидесяти, вспомните, как вы поступали в мединституты-академии! Ведь правда – быть врачом тогда было престижно, и, может быть, поэтому большинству из нас так трудно было поступить в мед? К тому же (что сейчас скрывать!), во многие вузы можно было попасть только по льготам или по знакомству, с солидной доплатой.
Убедившись в этом на своём горьком опыте, я устроился фельдшером на Скорую, не теряя надежды на следующий год поступить во что бы то ни стало. Но для этого надо было найти медвуз, где за поступление не надо было бы давать взятку. В 90-х ещё не было Интернета и социальных сетей с отзывами абитуриентов, и для того, чтобы поехать посмотреть, как выглядит та или иная потенциальная alma mater, и почувствовать, какая там обстановка, я попросил своего старшего фельдшера Шурика отдежурить за меня неделю: по двое суток подряд с перерывом на сутки. Мол, а потом я отдежурю за него.
Шурик был умным, и сам тоже вполне мог бы попросить за него подежурить, чтобы решить с поступлением, но в свои 25 он для себя уже всё решил: женился и успокоился. Но моё стремление ему было понятно и здоровья работать по двое суток «за себя и за того парня» тогда хватало – он всегда шёл мне навстречу. Спасибо, Саша!
Ну так вот, пока коллега работал по 48 часов подряд, я съездил в славный город Полтаву и, обедая там в столовке, стилизованной под украинскую хату, понял, что кроме галушек мне здесь, увы, ничего не светит. Денег было в обрез, поэтому вояжи по Незалежной в поисках «лiкарськой академii» пришлось пока отложить и вернуться к гонкам на уазике.
Когда я приехал на родную Скорую, осунувшийся Шурик только и спросил: «Ну, как там?» и сдал полупустую сумку неотложки – похоже, укатали сивку крутые горки. Теперь настала моя очередь дежурить да ещё в паре с терапевтом Май Ванной, которая после моей поездки «у Полтаву», стала называть меня не иначе как Кóнстантином Юровичем. Ну да ладно, разбиралась бы лучше в «аритмiях серця та лiкувала високий артерiальний тиск» не одним только дибазолом, цены б ей не было.
Откатались мы в первые сутки по полной, и утром в пересменку с самим собой я принимал контрастный душ, когда в дверь постучала испуганная Май Ванна и сообщила: «Кóнстантин Юрович, вам термiново на вызов – пологи! А я пiшла до дому!»
(Да валите! И как можно термiновей, очень вы мне там нужны со своим стетоскопом!)
Быстро обтеревшись полотенцем, вновь свежий и бодрый, несмотря на бессонную ночь, я сказал водителю: «Погнали, Иваныч, там, похоже, роды начинаются!» – «Куда погнали, Кóнстантин Юр…» – «Вот только без этого, ладно, Алексей Иваныч? Давай, пока я на вызове, заправляй полный бак – в Славянск, в роддом поедем!»
(Если успеем, конечно).
Поднявшись в квартиру, я понял, что надо не успевать, а уже поспевать за стремительными схватками молодой роженицы. Пока мой водитель гонял на заправку, я успел собрать анамнез: 18 лет, первая беременность, вела здоровый образ жизни: прогулки на свежем воздухе, режим и здоровый сон, соблюдала диету – ела каши и фрукты.
«Яблоки?» – «Да, конечно, врач Нина Никитична в поликлинике посоветовала». – «Срок?» – «8 месяцев, сегодня с утра начались схватки…Ой, опять!»
Набираю магнезию.
«Болючий укол, но потерпи, сейчас схватка пройдёт, поедем в роддом».
Её супруг и отец будущего ребёнка, судя по всему, лет на пять-семь старше, спрашивает меня: «Не рано ей рожать? Всего 8 месяцев…» – «Да, рановато…Но не критично: сурфактант – фосфолипидный слой, покрывающий и защищающий альвеолы лёгких изнутри, – у ребёночка уже почти сформирован, значит, сам дышать сможет. Сейчас о супруге вашей надо думать!»
Между тем схватки у моей первой роженицы достаточно болезненные и после укола магнезии стихают минут на 20, затем снова возобновляются. Она немного истерит, а будущий отец от стремительно надвигающегося счастья входит в ступор. Однозначно – надо побыстрей в роддом! На всякий случай у меня в Скорой акушерский чемодан, там есть всё для принятия родов в дороге… Не дай Бог!
Как вдруг:
– Ой, мне в туалет надо! Не успела…
Я знаю: это у неё лопнул плодный пузырь. Так и есть! Ну всё, сейчас рожать начнёт! Сам между тем выглядываю в окно и вижу, что Алексей Иваныч подъехал с заправки. Молодец, успел вовремя! Поэтому кричу ошарашенному счастливцу:
– Давай бери её на руки и – за мной, в Скорую! Ты что, жену до сих пор не разу на руках не носил?! Давай быстро, иначе здесь родит!
В Скорой: «Иваныч, гони быстрей, мы уже рожаем!»
Начало ноября, на трассе Харьков-Ростов гололёд, машину заносит на обгонах, и из-за воя сирены и визга протекторов непонятно, кто кричит «Ма-а-а-ма!», роженица или новоявленный фельдшер-акушер. Отец будущего ребёнка сидит рядом и, похоже, пребывает в ступоре. При очередных схватках показывается головка ребёночка, и я понимаю, что придётся принять роды прямо здесь и сейчас («Никитична! Чтоб вы были здоровы со своими кашами та яблуками! Помочь мне некому, и ваша акушерка Любов Михайлiвна даже на ковре-самолёте нас не догонит!»).
Несмотря на то, что я от страха всё же придерживал головку ребёночка, препятствуя его появлению на свет, на очередном вираже он таки «вылетел, как из пушки», но почему-то сразу не закричал и безжизненно повис у меня на руках. Вам бы, Нина Никитична, своим студентам больше про принятие родов надо было рассказывать, а не про то, как готовить каши! После акушерской обработки я начал понимать, что с новорожденным что-то не так, к тому же сама мамочка начала спрашивать: «Кто у меня родился?»
– Мальчик! – кожа восьмимесячного новорожденного была в родовой смазке, и, как мне показалось, в паху, между ножек, была складочка с двумя привесками по бокам.
– А почему он не кричит? Он жив? Жив?.. Не молчите…
Я ещё раз потормошил ребенка и похлопал его по попке – он не подавал признаков жизни. Я открыл окно к водителю и крикнул: «Тормози, Иваныч!»
Наша Скорая стала на обочине, сирена оборвалась. Я набрал в двухмиллиметровый шприц преднизолон, кокарбоксилазу и глюкозу с аскорбинкой (как прописано в «Реанимации новорожденных»). Но чтобы живительная смесь полностью попала в организм ребёночка, надо перекрыть обратный ток крови к матери, то есть наложить зажим на пуповину. Я вспомнил, что это необходимо было сделать в первую очередь! Ведь для того, чтобы плод стал ребёнком, надо прервать его кровоснабжение от матери через пуповину, тогда к нему прекратит поступать кислород, накопится углекислота, которая возбудит дыхательный центр в продолговатом мозге, и произойдёт первый вдох. Далее, по версии эскулапов XVII века Уильяма Харви и Натаниэля Гаймора, одновременно с закрытием артериального протока и овального окна ребёнок начнёт дышать собственными лёгкими. Тем не менее в прошлом, ХХ веке, прописанная живительная смесь в таких случаях тоже была не лишней.
Закончив инъекцию, я обработал пуповину между двух зажимов и стерильными ножницами отсёк её, то есть прервал кровоснабжение плода от матери, затем запеленал ребёночка и, передав его ничего не понимающему отцу, сказал водителю: «Не гони так, Иваныч, спешить уже некуда, все разобьёмся…» И отвернулся, глядя в окно. Всё, приехали…
Никаких чувств я уже не испытывал – наверное, после бессонной ночи и всего пережитого тоже впал в ступор. На некоторое время в салоне Скорой наступила тишина. Но Алексей Иваныч, видимо, единственный из нас не потерял надежду: он выжимал из уазика последние лошадиные силы, гнал на предельной скорости по гололёду, с воем сирены обгонял машины и вылетал на встречку, не думая о последствиях.
В таких случаях пишут: я не помню, сколько это продолжалось, но на очередном вираже пронзительный крик маленького человека заглушил сирену и вывел всех нас из ступора.
Он закричал, засучил ножками и через пару минут был уже розовенький! Я опомнился и с некоторым опозданием всё же сказал мамочке: «Поздравляю! У вас родился сын!». Но ребёнка снова пришлось вручить счастливому отцу, потому что с самой молодой мамочкой что-то происходило. «Ой, я опять рожаю!» – (Хватит одного, милая!) – «Это детское место отходит. Всё нормально, уже подъезжаем» – (Не кровани только напоследок!)
И вот так, дорогие коллеги, даже не успев поставить роженице вену на случай кровопотери, я благополучно передал в приёмном отделении роддома Славянска здоровую мать и живое дитя. Я наконец начал осознавать, что самостоятельно принял роды. Начал заполнять сопроводок и всё не мог закончить: мешали слёзы – то ли радости, то ли усталости.
Акушерка роддома помогла мне собраться. «Какой пол ребёнка?» – «Мальчик». – «Какой же мальчик, когда это девочка? Ты куда смотрел? Лет-то тебе сколько, а, доктор?» – «Лет?.. Девятнадцать… и я ещё не доктор. Были стремительные роды. Ребёнок родился недоношенным, кожа была вся в складках и родовой смазке, может, это и девочка… хотя родился мальчик» – «Езжай домой отдыхать, акушер юный!»
Позже я звонил в Славянский роддом, спрашивал: как там ребёнок, которого восьмимесячным привезли по Скорой из Славяногорска? Мне отвечали, что девочка по своему гестационному возрасту две недели была в кувезе, а потом её с мамой выписали. Вроде бы всё у них в порядке.
* * *
С тех пор прошло уже 30 лет. Каждый раз, приезжая домой в отпуск, я хочу узнать, как сложилась судьба этой девочки: всё ли у неё в порядке, здорова ли, счастлива? Наверное, уже у самой есть дети. Но, честное слово, боюсь: вдруг что-то у неё не так? Ведь мы живы надеждой, и я очень хочу верить, что помог родиться счастливому человеку.
(из сборника рассказов «Разряд!.. Ещё разряд!»)
Я не открою ничего нового, если скажу, что рождение ребёнка – это всеобъемлющее счастье для родителей, братиков-сестричек, бабушек-дедушек и всей родни. Особенно когда всё по плану: через 9 месяцев уже всё и все подготовлены к появлению на свет маленького, всеми любимого человека. Вспомните, как это было у вас, мои дорогие читатели, и мне незачем будет расписывать всю эту радость.
Но, как известно некоторым родителям (и мне в их числе), не все дети с самого своего зачатия одинаково послушны, а некоторые непоседы вообще не высиживают все положенные 9 месяцев у мамы в животике, всё сучат ножками и норовят побыстрее выбраться на свет божий.
На этот случай есть врачи-акушеры, неонатологи («микропедиатры») и моя братия – анестезиологи, если самой маме нужно будет помочь родить безболезненно. Так и происходят дни и ночи в роддомах и перинатальных центрах нашей необъятной родины.
Случаи же несвоевременных родов «в поле», воспетые классиками и запечатлённые на полотнах художников, оставим для школьного курса русской литературы. Это я к чему? Это я к тому, что те из моих коллег, которым в реальной жизни приходилось принимать роды «в полевых условиях», рассказывали мне про это отнюдь не высоким литературным слогом, потому что как, например, обеспечить стерильность в поезде, в котором вы с друзьями едете на рыбалку и, понятное дело, за рюмкой чая уже спорите, где будет лучше клёв, а рядом, в следующем купе, по паровозному свистку женщина начинает рожать? К тому же у неё оказывается поперечное положение плода, и необходим акушерский поворот за ножку.
Конечно, на первом полустанке уже ожидает Скорая, но до него ещё стучать и стучать по рельсам, не превышая скорости следования пассажирского поезда. Я, разумеется, допускаю некоторый перебор в рассказах моих коллег, но понять их могу, потому что сам тоже, сразу после медучилища работая фельдшером Скорой, «родил» ребёнка – то ли мальчика, то ли девочку. Короче, слушайте.
Акушерство и гинекологию у нас в медухе вела Никитична, пожилой врач акушер-гинеколог, которая всем беременным советовала придерживаться «дiэти» – кушать «кашi та яблуки», потому что «у них вiтамiни, не буде проблем зi стiльцем, а через девять мicяцiв ваша дитина як з гармати (то есть как из пушки) вилетить». На случай же экстренных родов или кесарева у Никитичны тоже был алгоритм: «насамперед (первым делом, значит) викликаю Любов Михайлiвну» (опытную акушерку), и если у роженицы кровопотеря, то «вiдразу (сразу) кальцiю хлорiд внутрiшньовенно!»
Конечно же, с лёгкой руки моего друга Вовы Петровича, нашего преподавателя по акушерству, мы прозвали ее Кашей! Забавно и весело было с ним дежурить в приёмном отделении роддома и ждать поступления рожениц по Скорой. Смех смехом, а к родовспоможению мы подготовились основательно: два раза побывали на плановых родах и один раз по дежурству, листая «Неонатологию», дождались экстренных: ребёнок «как из пушки» не вылетел, но родился розовеньким и сразу закричал на 9 баллов по шкале Апгар.
Мне этого было явно недостаточно, хотелось экстрима, и, возможно, поэтому я начал читать «Реанимацию новорожденных». Про чеховское ружьё, наверное, все в курсе? Хотя сам Антон Палыч выстрела, похоже, так и не дождался…
Дорогие коллеги, те, кому сейчас от пятидесяти, вспомните, как вы поступали в мединституты-академии! Ведь правда – быть врачом тогда было престижно, и, может быть, поэтому большинству из нас так трудно было поступить в мед? К тому же (что сейчас скрывать!), во многие вузы можно было попасть только по льготам или по знакомству, с солидной доплатой.
Убедившись в этом на своём горьком опыте, я устроился фельдшером на Скорую, не теряя надежды на следующий год поступить во что бы то ни стало. Но для этого надо было найти медвуз, где за поступление не надо было бы давать взятку. В 90-х ещё не было Интернета и социальных сетей с отзывами абитуриентов, и для того, чтобы поехать посмотреть, как выглядит та или иная потенциальная alma mater, и почувствовать, какая там обстановка, я попросил своего старшего фельдшера Шурика отдежурить за меня неделю: по двое суток подряд с перерывом на сутки. Мол, а потом я отдежурю за него.
Шурик был умным, и сам тоже вполне мог бы попросить за него подежурить, чтобы решить с поступлением, но в свои 25 он для себя уже всё решил: женился и успокоился. Но моё стремление ему было понятно и здоровья работать по двое суток «за себя и за того парня» тогда хватало – он всегда шёл мне навстречу. Спасибо, Саша!
Ну так вот, пока коллега работал по 48 часов подряд, я съездил в славный город Полтаву и, обедая там в столовке, стилизованной под украинскую хату, понял, что кроме галушек мне здесь, увы, ничего не светит. Денег было в обрез, поэтому вояжи по Незалежной в поисках «лiкарськой академii» пришлось пока отложить и вернуться к гонкам на уазике.
Когда я приехал на родную Скорую, осунувшийся Шурик только и спросил: «Ну, как там?» и сдал полупустую сумку неотложки – похоже, укатали сивку крутые горки. Теперь настала моя очередь дежурить да ещё в паре с терапевтом Май Ванной, которая после моей поездки «у Полтаву», стала называть меня не иначе как Кóнстантином Юровичем. Ну да ладно, разбиралась бы лучше в «аритмiях серця та лiкувала високий артерiальний тиск» не одним только дибазолом, цены б ей не было.
Откатались мы в первые сутки по полной, и утром в пересменку с самим собой я принимал контрастный душ, когда в дверь постучала испуганная Май Ванна и сообщила: «Кóнстантин Юрович, вам термiново на вызов – пологи! А я пiшла до дому!»
(Да валите! И как можно термiновей, очень вы мне там нужны со своим стетоскопом!)
Быстро обтеревшись полотенцем, вновь свежий и бодрый, несмотря на бессонную ночь, я сказал водителю: «Погнали, Иваныч, там, похоже, роды начинаются!» – «Куда погнали, Кóнстантин Юр…» – «Вот только без этого, ладно, Алексей Иваныч? Давай, пока я на вызове, заправляй полный бак – в Славянск, в роддом поедем!»
(Если успеем, конечно).
Поднявшись в квартиру, я понял, что надо не успевать, а уже поспевать за стремительными схватками молодой роженицы. Пока мой водитель гонял на заправку, я успел собрать анамнез: 18 лет, первая беременность, вела здоровый образ жизни: прогулки на свежем воздухе, режим и здоровый сон, соблюдала диету – ела каши и фрукты.
«Яблоки?» – «Да, конечно, врач Нина Никитична в поликлинике посоветовала». – «Срок?» – «8 месяцев, сегодня с утра начались схватки…Ой, опять!»
Набираю магнезию.
«Болючий укол, но потерпи, сейчас схватка пройдёт, поедем в роддом».
Её супруг и отец будущего ребёнка, судя по всему, лет на пять-семь старше, спрашивает меня: «Не рано ей рожать? Всего 8 месяцев…» – «Да, рановато…Но не критично: сурфактант – фосфолипидный слой, покрывающий и защищающий альвеолы лёгких изнутри, – у ребёночка уже почти сформирован, значит, сам дышать сможет. Сейчас о супруге вашей надо думать!»
Между тем схватки у моей первой роженицы достаточно болезненные и после укола магнезии стихают минут на 20, затем снова возобновляются. Она немного истерит, а будущий отец от стремительно надвигающегося счастья входит в ступор. Однозначно – надо побыстрей в роддом! На всякий случай у меня в Скорой акушерский чемодан, там есть всё для принятия родов в дороге… Не дай Бог!
Как вдруг:
– Ой, мне в туалет надо! Не успела…
Я знаю: это у неё лопнул плодный пузырь. Так и есть! Ну всё, сейчас рожать начнёт! Сам между тем выглядываю в окно и вижу, что Алексей Иваныч подъехал с заправки. Молодец, успел вовремя! Поэтому кричу ошарашенному счастливцу:
– Давай бери её на руки и – за мной, в Скорую! Ты что, жену до сих пор не разу на руках не носил?! Давай быстро, иначе здесь родит!
В Скорой: «Иваныч, гони быстрей, мы уже рожаем!»
Начало ноября, на трассе Харьков-Ростов гололёд, машину заносит на обгонах, и из-за воя сирены и визга протекторов непонятно, кто кричит «Ма-а-а-ма!», роженица или новоявленный фельдшер-акушер. Отец будущего ребёнка сидит рядом и, похоже, пребывает в ступоре. При очередных схватках показывается головка ребёночка, и я понимаю, что придётся принять роды прямо здесь и сейчас («Никитична! Чтоб вы были здоровы со своими кашами та яблуками! Помочь мне некому, и ваша акушерка Любов Михайлiвна даже на ковре-самолёте нас не догонит!»).
Несмотря на то, что я от страха всё же придерживал головку ребёночка, препятствуя его появлению на свет, на очередном вираже он таки «вылетел, как из пушки», но почему-то сразу не закричал и безжизненно повис у меня на руках. Вам бы, Нина Никитична, своим студентам больше про принятие родов надо было рассказывать, а не про то, как готовить каши! После акушерской обработки я начал понимать, что с новорожденным что-то не так, к тому же сама мамочка начала спрашивать: «Кто у меня родился?»
– Мальчик! – кожа восьмимесячного новорожденного была в родовой смазке, и, как мне показалось, в паху, между ножек, была складочка с двумя привесками по бокам.
– А почему он не кричит? Он жив? Жив?.. Не молчите…
Я ещё раз потормошил ребенка и похлопал его по попке – он не подавал признаков жизни. Я открыл окно к водителю и крикнул: «Тормози, Иваныч!»
Наша Скорая стала на обочине, сирена оборвалась. Я набрал в двухмиллиметровый шприц преднизолон, кокарбоксилазу и глюкозу с аскорбинкой (как прописано в «Реанимации новорожденных»). Но чтобы живительная смесь полностью попала в организм ребёночка, надо перекрыть обратный ток крови к матери, то есть наложить зажим на пуповину. Я вспомнил, что это необходимо было сделать в первую очередь! Ведь для того, чтобы плод стал ребёнком, надо прервать его кровоснабжение от матери через пуповину, тогда к нему прекратит поступать кислород, накопится углекислота, которая возбудит дыхательный центр в продолговатом мозге, и произойдёт первый вдох. Далее, по версии эскулапов XVII века Уильяма Харви и Натаниэля Гаймора, одновременно с закрытием артериального протока и овального окна ребёнок начнёт дышать собственными лёгкими. Тем не менее в прошлом, ХХ веке, прописанная живительная смесь в таких случаях тоже была не лишней.
Закончив инъекцию, я обработал пуповину между двух зажимов и стерильными ножницами отсёк её, то есть прервал кровоснабжение плода от матери, затем запеленал ребёночка и, передав его ничего не понимающему отцу, сказал водителю: «Не гони так, Иваныч, спешить уже некуда, все разобьёмся…» И отвернулся, глядя в окно. Всё, приехали…
Никаких чувств я уже не испытывал – наверное, после бессонной ночи и всего пережитого тоже впал в ступор. На некоторое время в салоне Скорой наступила тишина. Но Алексей Иваныч, видимо, единственный из нас не потерял надежду: он выжимал из уазика последние лошадиные силы, гнал на предельной скорости по гололёду, с воем сирены обгонял машины и вылетал на встречку, не думая о последствиях.
В таких случаях пишут: я не помню, сколько это продолжалось, но на очередном вираже пронзительный крик маленького человека заглушил сирену и вывел всех нас из ступора.
Он закричал, засучил ножками и через пару минут был уже розовенький! Я опомнился и с некоторым опозданием всё же сказал мамочке: «Поздравляю! У вас родился сын!». Но ребёнка снова пришлось вручить счастливому отцу, потому что с самой молодой мамочкой что-то происходило. «Ой, я опять рожаю!» – (Хватит одного, милая!) – «Это детское место отходит. Всё нормально, уже подъезжаем» – (Не кровани только напоследок!)
И вот так, дорогие коллеги, даже не успев поставить роженице вену на случай кровопотери, я благополучно передал в приёмном отделении роддома Славянска здоровую мать и живое дитя. Я наконец начал осознавать, что самостоятельно принял роды. Начал заполнять сопроводок и всё не мог закончить: мешали слёзы – то ли радости, то ли усталости.
Акушерка роддома помогла мне собраться. «Какой пол ребёнка?» – «Мальчик». – «Какой же мальчик, когда это девочка? Ты куда смотрел? Лет-то тебе сколько, а, доктор?» – «Лет?.. Девятнадцать… и я ещё не доктор. Были стремительные роды. Ребёнок родился недоношенным, кожа была вся в складках и родовой смазке, может, это и девочка… хотя родился мальчик» – «Езжай домой отдыхать, акушер юный!»
Позже я звонил в Славянский роддом, спрашивал: как там ребёнок, которого восьмимесячным привезли по Скорой из Славяногорска? Мне отвечали, что девочка по своему гестационному возрасту две недели была в кувезе, а потом её с мамой выписали. Вроде бы всё у них в порядке.
* * *
С тех пор прошло уже 30 лет. Каждый раз, приезжая домой в отпуск, я хочу узнать, как сложилась судьба этой девочки: всё ли у неё в порядке, здорова ли, счастлива? Наверное, уже у самой есть дети. Но, честное слово, боюсь: вдруг что-то у неё не так? Ведь мы живы надеждой, и я очень хочу верить, что помог родиться счастливому человеку.
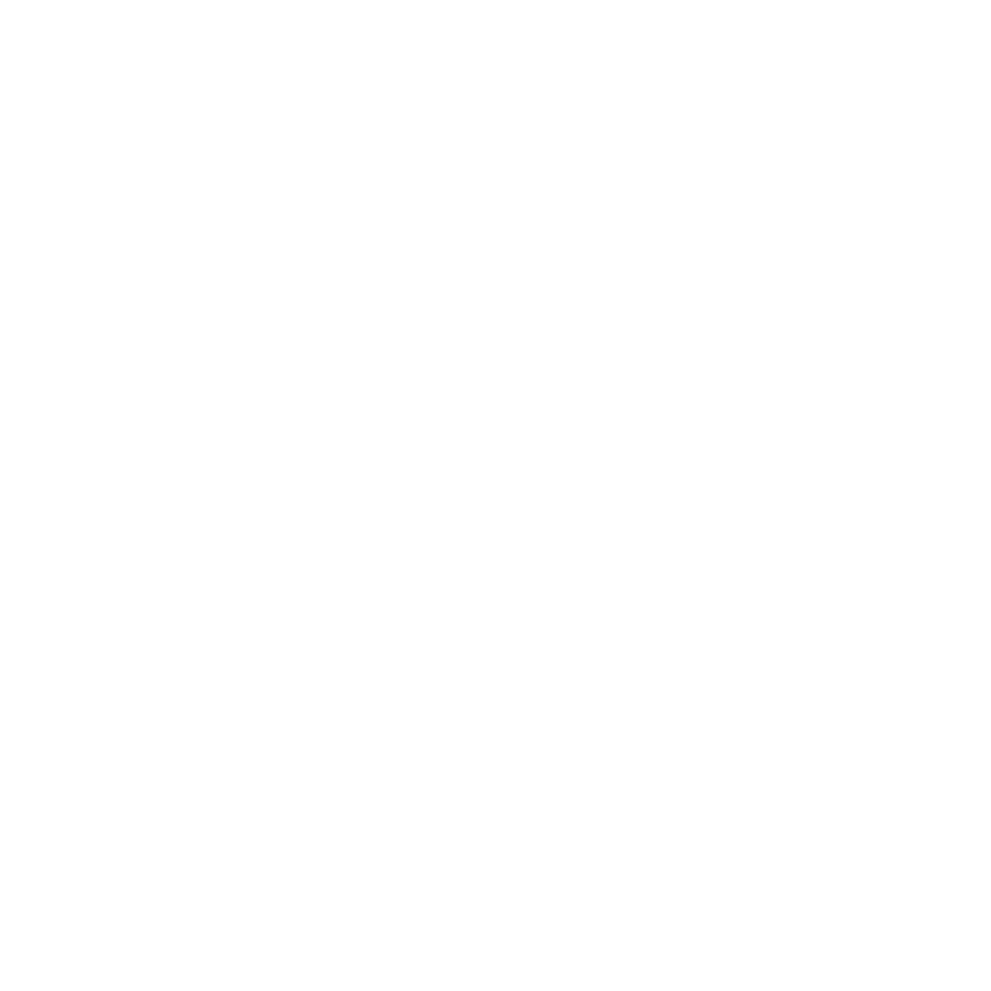
Светлана ГРИНЬКО
Родилась в г. Ленинск Волгоградской области. Закончила ДХШ г. Знаменск (1983), СОШ №232 г. Знаменск (1984), Астраханское художественное училище им. П. А. Власова (1989), ИПК ПРНО МО г. Москва (1998).
Более тридцати лет работает педагогом и художником в г. Наро-Фоминске и Москве. Окончила курсы литературного мастерства в институте им. М. Горького (2018-2019), семинар А.Ю. Сегеня. Публикации в журналах, Интернет-порталах. Педагогический сайт https://nsportal.ru/grinko-svetlana.
Родилась в г. Ленинск Волгоградской области. Закончила ДХШ г. Знаменск (1983), СОШ №232 г. Знаменск (1984), Астраханское художественное училище им. П. А. Власова (1989), ИПК ПРНО МО г. Москва (1998).
Более тридцати лет работает педагогом и художником в г. Наро-Фоминске и Москве. Окончила курсы литературного мастерства в институте им. М. Горького (2018-2019), семинар А.Ю. Сегеня. Публикации в журналах, Интернет-порталах. Педагогический сайт https://nsportal.ru/grinko-svetlana.
БЕЗ ОТЧЕСТВА
Посвящается двум усадьбам царского времени: в Крёкшино и в Петровском
Уже много лет нет мне покоя от увиденного в Петровском. Разрушенная усадьба Демидовых-Мещерских, величественный когда-то дворец, теперь – в руинах. Время истории не пощадило уникальную архитектуру. Как и сама история усадьбы не прояснила в ушедшем времени: кто же автор этого неповторимого архитектурного ансамбля? Кто тот таинственный архитектор, который произвёл на свет красивейший дворец в классическом стиле, окружил его парком вековых деревьев? Чьё это творение, устоявшее в веках, но теперь утраченное?
А ведь нельзя забывать родителя, как и нельзя утаивать истинное происхождение его дитя. Так же, как и нельзя усыновлять маленького ребёнка, скрыв от него его корни. Это страшное заблуждение доброжелателей – прятать истину. Они должны знать о последствиях: происходит казнь судеб. Таковы слёзы истории...
... – Я взял тебя с ребёнком лишь потому, чтобы он не мучился, а тебе стало легче. И я не требую ничего и не прошу вас ни о чём, – впервые я так заговорил с женой, пребывая в каком-то раздражённом состоянии, чего раньше со мной не происходило.
– Оставьте меня! Живите по-своему! И ребёнку верни отчество! – кричал я в страшном сне моей единственной и дорогой женщине. Она удивительно терпелива, никогда не ссорится со мной, и в этот раз она промолчала, лишь, смахнув слезу, отвернулась и вышла из комнаты...
– Да что же с тобой, проснись, – осторожно трясла меня за плечи жена. – Что опять случилось?
Сквозь какое-то наваждение я проснулся. В меня всматривались через пушистые ресницы шоколадные глаза моей любимой.
– Не пугай меня так, Саша, – мягко шептала она. – И что за привычка – спать вечерами, ночь же впереди!
– Дворец, – я вскочил с дивана. – Снова этот дворец!
Зайдя в ванную, окунул голову в таз, наполненный холодной водой.
– Фуууу, – моментально взбодрившись, я стал рассказывать жене моё видение, уверенный в её поддержке.
... – И, скорее всего, архитектор Михаил Казаков довёл до конца чью-то идею, начатое строительство усадьбы и дворца теперь уже неизвестного нам автора. Возможно, и своего учителя Баженова.
Аромат запеканки, проникающий во все комнаты с кухни, наполнил квартиру особым запахом. Из игровой прибежала дочка, забралась на самый большой стул у окна, тихо радуясь предстоящему ужину. Пока я в дверях вытирался полотенцем и наблюдал за женой, быстро и красиво раскладывающей румяную запеканку на наши цветные тарелки, и за улыбающейся дочуркой, озорно поглядывавшей на нас с женой, появился наш любимец – кот Васька. Мяукая, он запрыгнул на подоконник и принялся мурчать.
– Катюха, как тебе творожок? – я радовался дочке. – Как, умеет наша мамка готовить?
– Па, давай спросим нашего Ваську, – смеясь, Катюша ладошкой гладила ластящегося кота и аппетитно уплетала свою порцию. Васька, облизываясь, не стал есть запеканку.
– Я предполагаю, что тот архитектор отказался от своего детища по какой-то причине, а продолжил его дело именно Казаков. Поэтому Казаков нигде и не упоминал себя автором.
– Знаешь, это как со мной, – моё неприятное заключение шокировало жену. – Родил меня один отец, а вырастил – другой. Но, к счастью, я знаю имена обоих.
– Перестань, – вспылила она. – Мы не должны возвращаться к той истории. Да и при дочери не надо. Катюшка, ты всё скушала, иди к себе.
Она поцеловала убегающую дочурку.
– Зачем тебе всё это? – попыталась остановить моё размышление жена. – Разве у тебя нет других, более важных дел?
– И в закладном камне главного дома усадьбы слова же: «Имя дому – не забудь меня». С этой мыслью не могу расстаться. Чьи они? Кому принадлежали? – я вновь не слышал жены.
– Господь – навстречу, враг – в сторону.
Жена сквозь слёзы, дрожа, смотрела на меня, словно впервые. А я не понимал её.
– Когда тебя терзает угнетающая тоска, – продолжил я, – тебе необходимо что-то изменить, к такому приходишь не сразу, только через ряд сомнений.
Жена воскликнула, отпрянув от меня: «Что ты собрался сделать?»
Я не спешил с ответом. Поймёт ли она? У неё непростой путь со своим ребёнком. Сможет ли правильно оценить моё решение – этого я не мог предвидеть.
– Давай завтра обсудим всё, – я вышел из комнаты на балкон, оставив мою супругу одну.
Ночное небо звенело отражённым гулом эстакады. Звёзды мерцали, словно блики на чёрной воде. Мир будто перевернулся. А если восстановить моё отчество? Отказаться от усыновлённости. Это напрягло мои раздумья о жене. Как она воспримет такое? Мне стало холодно. Войдя в тёмную комнату, я почувствовал, что не смогу решиться на такой разворот в судьбе. Удивительная тишина окружила меня. Жена спала в зале у дочурки. На диване, в моём телефоне светилась смс-ка от жены: «Решай, как знаешь, только об одном прошу: не меняй отчество».
На другой день я проснулся в тягостном состоянии. Всю ночь мне мерещились какие-то вопросы в странных образах. Я листал сон, как книгу, где яркие картинки гласили о чём-то. Вспомнилось только одно – для чего мне понадобилось менять отчество? Чтобы уже не ощущать в моём возрасте себя? Стать другим человеком? Зачем? Во сне я знал ответ, а проснувшись – нет.
В некой параллельной реальности катили волной думы об усадьбе. В итоге-то она разрушилась. Как дом мог запомнить своего автора? Он же только зарождался. А второй автор, достроивший его, всё-таки не признал своим детищем, если не упоминал о нём нигде и никогда. И только посторонние люди, решившие найти родителя, присвоили дому фамилию, но чужую... Но это же казнь судьбы всей усадьбы. Дом, дворец, усадьба, род – не важно, что это или кто, нельзя ничего менять в предначертанном зарождении чьей-то жизни...
Утром со смутными раздумьями я вышел из квартиры, захлопнув дверь. Хотелось идти и идти, не возвращаясь. Жена с дочкой уже в школе. Странное ощущение – одному легче. Сейчас только бы не видеть никого. И я отправился в Петровское. Не терпелось прикоснуться к тайне. Свой единственный отгул я проведу в том незабываемом месте – в Княжищево.
После московской слякоти осенний день в Петровском казался сказкой. Пахло дождиком, грибами и лесной тишиной. Мне не хватало именно этого дня. Миновав больничную территорию, я снова стоял перед руинами усадьбы. Ей более 250 лет. Её вроде бы нет уже. И в то же время я вижу её. Вот же пирамиды ворот, покрытые налётом безжалостного времени. Они уже перестали ждать хозяев и сиротливо стоят у дороги. Всё заросло травой. Где-то здесь серебрился красивый пруд с чугунным мостиком. Его давно нет. Как-то непривычно видеть пустой двор, который почему-то не наполнился деревьями за два с половиной столетия. Хотя причина известна. Вековые липы парка и лес не пустили свои корни во дворе усадьбы. На дворец я не мог смотреть. Моё сердце обжигало отчаяние. За что этому дому такая коварная участь? Передо мной витал призрак разрушенной истории, ушедшей старины, слёзы которой переполняли меня теперь.
Отчество, Отечество, судьбы людей... Сколько же всего исчезло. Эти руины – колонны дворца с остатками стен – когда-то тоже пропадут совсем. Их не останется в памяти чьей-то, ведь нет же потомков у них. От этой дурной мысли мне стало ещё хуже, и я прошёл дальше по улице, в библиотеку посёлка Петровское. Я намеревался взять там книгу воспоминаний княжны Екатерины Мещерской. Мне необходимо найти в ней нечто, какую-нибудь зацепку за идеи той маленькой Китти, запомнившей в мельчайших деталях своё детство в этом дворце. Она так трепетно и трогательно рассказала о нём в мемуарах. Пожалуй, только она и смогла увековечить память об усадьбе в своей книге. Получается, книга сможет прожить очень долго, возможно, она сильнее архитектуры. Книга не разрушится и не останется в руинах: она вечна! Её мысли осядут в умах людей и не испарятся.
С этой идеей я подошёл к дверям библиотеки и увидел, что она заперта. «Библиотека закрыта на ремонт», – расстроила меня краткая информация на маленьком листке, прилепленном к верхнему краю двери под козырьком. Вот и всё, что я успел сегодня посмотреть в Петровском.
Домой не хотелось. И я провёл остаток дня в безлюдном Петровском. Стоя у разрушенных ворот усадьбы, вспоминал строки мемуаров княжны. Фантазия юной Китти пронесла через роковой рубеж атмосферу дореволюционной жизни. Мемуары Китти представляются единой картиной большой истории. Ощущаешь себя её участником. Появляется интерес к каждому персонажу. Открываешь для себя множество новых фактов царского времени. Меня заинтересовала история рождения самой Китти. Кто же её отец? Мистическое совпадение? Разница в датах ухода князя Мещерского и рождения его дочери? Кто чего напутал? Зачем?
Про автора усадьбы Китти не говорила. Знала ли? Всё это почему-то волнует меня. Я прислонился к одному из обелисков и стал смотреть на дворец и сквозь него, вдаль. И отчётливо увидел ещё одну усадьбу, соседнюю – в Крёкшино. Мне вспомнилось, что усадьба в Крёкшино повторила судьбу усадьбы Княжищево. Она тоже руинирована. Её теперь нет. Нет той прежней, нарядной и большой. Как и нет, увы, установленного имени её создателя. Почему же так?
Я всё ещё смотрел вдаль, в сторону Крёкшино, отчётливо представляя усадьбу, в которой гостил великий Л. Н. Толстой. В какой-то момент обе усадьбы слились воедино и, невольно сравнивая участь двух архитектурных ансамблей, я постиг всю трагедию произошедшего. Мне стало невыносимо больно за всё, что произошло, и за всех тех людей: они ведь делали очень много для процветания...
Этот таинственный багаж уничтоженной архитектуры неизвестных авторов словно сундук, полный загадок, закрылся навсегда, захлопнув в нём и мою душу. И я уже не могу найти ключа к моей тайне. Нет ответов, хотя бы верных предположений об авторах, о времени, которое так коварно расправилось с ними. От этого ещё грустнее, ведь проходит уже другое время, оттесняя предыдущее. Дальше наступит забвение или совсем другая придуманная история уже в новейшем времени. Почему? Зачем эти тайны?
Усадьбу Крёкшино описывала мемуаристка Софья Могилевская в рассказе «Лето в Крёкшине». Вспоминала она, в отличие от княжны Мещерской, уже иначе. Своеобразно, но тоже непередаваемо трепетно...
Я представил утраченную историю и видел, как все они – владельцы усадеб, их потомки – общаются, ходят, думают, смотрят сюда через какой-то туман времени и не могут ничего уже сделать. Я вижу их, они видят меня. И всё. Об авторах они сказать мне не могут, так же и я не спрошу их об этом. Как-то я раскис от того, что мы не знаем ничего про самих себя...Следующий выходной проведу в Крёкшино...
Я сочинил письмо, прочтите его сейчас. И пусть оно идёт сквозь время для всех поколений. Читайте!
Как же много ещё на русской земле разрушенного старинного архитектурного величия. Небольшие, одинокие обелиски истории, оставшиеся нам в наследство как память об ушедших столетиях. Я пишу именно о руинированных. О тех, которые, похоже, уже никогда никем не будут восстановлены. Вот и ещё один. Стою рядом, читаю новенькую табличку, пронзающую островок земли и души: «Памятник истории и культуры. В этом доме в имении Пашковых «Крёкшино» великий русский писатель Л. Н. Толстой гостил у В. Г. Черткова в октябре 1887 года... Охраняется государством».
Своеобразное, наполненное духом того времени уникальное двухэтажное строение, навсегда разваленное, аккуратно размещено у дороги. Рядом, по новенькому асфальту, не спеша, проезжают современные автомобили. Резвятся дети на велосипедах и роликах. А ведь сто лет назад это была другая жизнь. И территория, теперь отрезанная столетием, принадлежала достойнейшим лицам, сохранявшим и оберегавшим её.
От былого архитектурного великолепия на самом верху дома осталось несколько фрагментов крыши, на одном из которых уцелел кусочек деревянного покрытия с шестью обрывками досок, прикреплённых к боковине стены из красного кирпича, каким-то чудом дошедшей до наших дней. На первом этаже над двумя оконными колоннами рядом с замурованной дверью-входом свисает оторванная временем деревянная доска. Хочется поправить её, как это ни странно. Вокруг нет никакого ограждения. Яркий солнечный день, нет даже малейшего ветерка, без пения птиц, всё замерло, лишь гул машин доносится издалека. Видимо, природа тоже скорбит с печальной участью самого здания.
Такие очерки я пишу с волнением, мне пронзительно жаль всё устаревшее, никому не нужное, уничтоженное равнодушием.
Услышьте меня! Берегите всё оставшееся от русской старины, ведь такого нигде больше нет и уже никогда не будет. Почему все едут за рубеж любоваться иностранными красотами? Почему не сохраняем свою неповторимую память?
Помню мгновения из моего раннего детства. Я рос в маленьком приволжском городке. Там стояли старинные деревянные дома и избы. Они восхищали меня своей необычностью, чем-то неведомым, какой-то тайной. Проходя мимо них, я подолгу рассматривал ту необычайность фасадов, окон в ажурных наличниках, мощь замысловатых заборов, а также причудливые кроны деревьев, сказочно прячущих под собой такие строения. Большинство из тех домов не сохранилось. Люди, проживавшие в них, наверное, не берегли их. В основном дома погибали от пожаров.
Время рушит, а память восстанавливает утраченное. Мне никогда не забыть той красоты, которой я восхищался в моём детстве. Но молодое поколение, наши потомки, что они будут видеть из той старины, которая уже в далёком прошлом? А ведь ещё не поздно вернуть часть утраченного. Уцелевшие крепкие стены и фундамент, закладывавшийся на многие века, возможно ещё отреставрировать. Разрушенная старина ждёт возрождения.
Посвящается двум усадьбам царского времени: в Крёкшино и в Петровском
Уже много лет нет мне покоя от увиденного в Петровском. Разрушенная усадьба Демидовых-Мещерских, величественный когда-то дворец, теперь – в руинах. Время истории не пощадило уникальную архитектуру. Как и сама история усадьбы не прояснила в ушедшем времени: кто же автор этого неповторимого архитектурного ансамбля? Кто тот таинственный архитектор, который произвёл на свет красивейший дворец в классическом стиле, окружил его парком вековых деревьев? Чьё это творение, устоявшее в веках, но теперь утраченное?
А ведь нельзя забывать родителя, как и нельзя утаивать истинное происхождение его дитя. Так же, как и нельзя усыновлять маленького ребёнка, скрыв от него его корни. Это страшное заблуждение доброжелателей – прятать истину. Они должны знать о последствиях: происходит казнь судеб. Таковы слёзы истории...
... – Я взял тебя с ребёнком лишь потому, чтобы он не мучился, а тебе стало легче. И я не требую ничего и не прошу вас ни о чём, – впервые я так заговорил с женой, пребывая в каком-то раздражённом состоянии, чего раньше со мной не происходило.
– Оставьте меня! Живите по-своему! И ребёнку верни отчество! – кричал я в страшном сне моей единственной и дорогой женщине. Она удивительно терпелива, никогда не ссорится со мной, и в этот раз она промолчала, лишь, смахнув слезу, отвернулась и вышла из комнаты...
– Да что же с тобой, проснись, – осторожно трясла меня за плечи жена. – Что опять случилось?
Сквозь какое-то наваждение я проснулся. В меня всматривались через пушистые ресницы шоколадные глаза моей любимой.
– Не пугай меня так, Саша, – мягко шептала она. – И что за привычка – спать вечерами, ночь же впереди!
– Дворец, – я вскочил с дивана. – Снова этот дворец!
Зайдя в ванную, окунул голову в таз, наполненный холодной водой.
– Фуууу, – моментально взбодрившись, я стал рассказывать жене моё видение, уверенный в её поддержке.
... – И, скорее всего, архитектор Михаил Казаков довёл до конца чью-то идею, начатое строительство усадьбы и дворца теперь уже неизвестного нам автора. Возможно, и своего учителя Баженова.
Аромат запеканки, проникающий во все комнаты с кухни, наполнил квартиру особым запахом. Из игровой прибежала дочка, забралась на самый большой стул у окна, тихо радуясь предстоящему ужину. Пока я в дверях вытирался полотенцем и наблюдал за женой, быстро и красиво раскладывающей румяную запеканку на наши цветные тарелки, и за улыбающейся дочуркой, озорно поглядывавшей на нас с женой, появился наш любимец – кот Васька. Мяукая, он запрыгнул на подоконник и принялся мурчать.
– Катюха, как тебе творожок? – я радовался дочке. – Как, умеет наша мамка готовить?
– Па, давай спросим нашего Ваську, – смеясь, Катюша ладошкой гладила ластящегося кота и аппетитно уплетала свою порцию. Васька, облизываясь, не стал есть запеканку.
– Я предполагаю, что тот архитектор отказался от своего детища по какой-то причине, а продолжил его дело именно Казаков. Поэтому Казаков нигде и не упоминал себя автором.
– Знаешь, это как со мной, – моё неприятное заключение шокировало жену. – Родил меня один отец, а вырастил – другой. Но, к счастью, я знаю имена обоих.
– Перестань, – вспылила она. – Мы не должны возвращаться к той истории. Да и при дочери не надо. Катюшка, ты всё скушала, иди к себе.
Она поцеловала убегающую дочурку.
– Зачем тебе всё это? – попыталась остановить моё размышление жена. – Разве у тебя нет других, более важных дел?
– И в закладном камне главного дома усадьбы слова же: «Имя дому – не забудь меня». С этой мыслью не могу расстаться. Чьи они? Кому принадлежали? – я вновь не слышал жены.
– Господь – навстречу, враг – в сторону.
Жена сквозь слёзы, дрожа, смотрела на меня, словно впервые. А я не понимал её.
– Когда тебя терзает угнетающая тоска, – продолжил я, – тебе необходимо что-то изменить, к такому приходишь не сразу, только через ряд сомнений.
Жена воскликнула, отпрянув от меня: «Что ты собрался сделать?»
Я не спешил с ответом. Поймёт ли она? У неё непростой путь со своим ребёнком. Сможет ли правильно оценить моё решение – этого я не мог предвидеть.
– Давай завтра обсудим всё, – я вышел из комнаты на балкон, оставив мою супругу одну.
Ночное небо звенело отражённым гулом эстакады. Звёзды мерцали, словно блики на чёрной воде. Мир будто перевернулся. А если восстановить моё отчество? Отказаться от усыновлённости. Это напрягло мои раздумья о жене. Как она воспримет такое? Мне стало холодно. Войдя в тёмную комнату, я почувствовал, что не смогу решиться на такой разворот в судьбе. Удивительная тишина окружила меня. Жена спала в зале у дочурки. На диване, в моём телефоне светилась смс-ка от жены: «Решай, как знаешь, только об одном прошу: не меняй отчество».
На другой день я проснулся в тягостном состоянии. Всю ночь мне мерещились какие-то вопросы в странных образах. Я листал сон, как книгу, где яркие картинки гласили о чём-то. Вспомнилось только одно – для чего мне понадобилось менять отчество? Чтобы уже не ощущать в моём возрасте себя? Стать другим человеком? Зачем? Во сне я знал ответ, а проснувшись – нет.
В некой параллельной реальности катили волной думы об усадьбе. В итоге-то она разрушилась. Как дом мог запомнить своего автора? Он же только зарождался. А второй автор, достроивший его, всё-таки не признал своим детищем, если не упоминал о нём нигде и никогда. И только посторонние люди, решившие найти родителя, присвоили дому фамилию, но чужую... Но это же казнь судьбы всей усадьбы. Дом, дворец, усадьба, род – не важно, что это или кто, нельзя ничего менять в предначертанном зарождении чьей-то жизни...
Утром со смутными раздумьями я вышел из квартиры, захлопнув дверь. Хотелось идти и идти, не возвращаясь. Жена с дочкой уже в школе. Странное ощущение – одному легче. Сейчас только бы не видеть никого. И я отправился в Петровское. Не терпелось прикоснуться к тайне. Свой единственный отгул я проведу в том незабываемом месте – в Княжищево.
После московской слякоти осенний день в Петровском казался сказкой. Пахло дождиком, грибами и лесной тишиной. Мне не хватало именно этого дня. Миновав больничную территорию, я снова стоял перед руинами усадьбы. Ей более 250 лет. Её вроде бы нет уже. И в то же время я вижу её. Вот же пирамиды ворот, покрытые налётом безжалостного времени. Они уже перестали ждать хозяев и сиротливо стоят у дороги. Всё заросло травой. Где-то здесь серебрился красивый пруд с чугунным мостиком. Его давно нет. Как-то непривычно видеть пустой двор, который почему-то не наполнился деревьями за два с половиной столетия. Хотя причина известна. Вековые липы парка и лес не пустили свои корни во дворе усадьбы. На дворец я не мог смотреть. Моё сердце обжигало отчаяние. За что этому дому такая коварная участь? Передо мной витал призрак разрушенной истории, ушедшей старины, слёзы которой переполняли меня теперь.
Отчество, Отечество, судьбы людей... Сколько же всего исчезло. Эти руины – колонны дворца с остатками стен – когда-то тоже пропадут совсем. Их не останется в памяти чьей-то, ведь нет же потомков у них. От этой дурной мысли мне стало ещё хуже, и я прошёл дальше по улице, в библиотеку посёлка Петровское. Я намеревался взять там книгу воспоминаний княжны Екатерины Мещерской. Мне необходимо найти в ней нечто, какую-нибудь зацепку за идеи той маленькой Китти, запомнившей в мельчайших деталях своё детство в этом дворце. Она так трепетно и трогательно рассказала о нём в мемуарах. Пожалуй, только она и смогла увековечить память об усадьбе в своей книге. Получается, книга сможет прожить очень долго, возможно, она сильнее архитектуры. Книга не разрушится и не останется в руинах: она вечна! Её мысли осядут в умах людей и не испарятся.
С этой идеей я подошёл к дверям библиотеки и увидел, что она заперта. «Библиотека закрыта на ремонт», – расстроила меня краткая информация на маленьком листке, прилепленном к верхнему краю двери под козырьком. Вот и всё, что я успел сегодня посмотреть в Петровском.
Домой не хотелось. И я провёл остаток дня в безлюдном Петровском. Стоя у разрушенных ворот усадьбы, вспоминал строки мемуаров княжны. Фантазия юной Китти пронесла через роковой рубеж атмосферу дореволюционной жизни. Мемуары Китти представляются единой картиной большой истории. Ощущаешь себя её участником. Появляется интерес к каждому персонажу. Открываешь для себя множество новых фактов царского времени. Меня заинтересовала история рождения самой Китти. Кто же её отец? Мистическое совпадение? Разница в датах ухода князя Мещерского и рождения его дочери? Кто чего напутал? Зачем?
Про автора усадьбы Китти не говорила. Знала ли? Всё это почему-то волнует меня. Я прислонился к одному из обелисков и стал смотреть на дворец и сквозь него, вдаль. И отчётливо увидел ещё одну усадьбу, соседнюю – в Крёкшино. Мне вспомнилось, что усадьба в Крёкшино повторила судьбу усадьбы Княжищево. Она тоже руинирована. Её теперь нет. Нет той прежней, нарядной и большой. Как и нет, увы, установленного имени её создателя. Почему же так?
Я всё ещё смотрел вдаль, в сторону Крёкшино, отчётливо представляя усадьбу, в которой гостил великий Л. Н. Толстой. В какой-то момент обе усадьбы слились воедино и, невольно сравнивая участь двух архитектурных ансамблей, я постиг всю трагедию произошедшего. Мне стало невыносимо больно за всё, что произошло, и за всех тех людей: они ведь делали очень много для процветания...
Этот таинственный багаж уничтоженной архитектуры неизвестных авторов словно сундук, полный загадок, закрылся навсегда, захлопнув в нём и мою душу. И я уже не могу найти ключа к моей тайне. Нет ответов, хотя бы верных предположений об авторах, о времени, которое так коварно расправилось с ними. От этого ещё грустнее, ведь проходит уже другое время, оттесняя предыдущее. Дальше наступит забвение или совсем другая придуманная история уже в новейшем времени. Почему? Зачем эти тайны?
Усадьбу Крёкшино описывала мемуаристка Софья Могилевская в рассказе «Лето в Крёкшине». Вспоминала она, в отличие от княжны Мещерской, уже иначе. Своеобразно, но тоже непередаваемо трепетно...
Я представил утраченную историю и видел, как все они – владельцы усадеб, их потомки – общаются, ходят, думают, смотрят сюда через какой-то туман времени и не могут ничего уже сделать. Я вижу их, они видят меня. И всё. Об авторах они сказать мне не могут, так же и я не спрошу их об этом. Как-то я раскис от того, что мы не знаем ничего про самих себя...Следующий выходной проведу в Крёкшино...
Я сочинил письмо, прочтите его сейчас. И пусть оно идёт сквозь время для всех поколений. Читайте!
Как же много ещё на русской земле разрушенного старинного архитектурного величия. Небольшие, одинокие обелиски истории, оставшиеся нам в наследство как память об ушедших столетиях. Я пишу именно о руинированных. О тех, которые, похоже, уже никогда никем не будут восстановлены. Вот и ещё один. Стою рядом, читаю новенькую табличку, пронзающую островок земли и души: «Памятник истории и культуры. В этом доме в имении Пашковых «Крёкшино» великий русский писатель Л. Н. Толстой гостил у В. Г. Черткова в октябре 1887 года... Охраняется государством».
Своеобразное, наполненное духом того времени уникальное двухэтажное строение, навсегда разваленное, аккуратно размещено у дороги. Рядом, по новенькому асфальту, не спеша, проезжают современные автомобили. Резвятся дети на велосипедах и роликах. А ведь сто лет назад это была другая жизнь. И территория, теперь отрезанная столетием, принадлежала достойнейшим лицам, сохранявшим и оберегавшим её.
От былого архитектурного великолепия на самом верху дома осталось несколько фрагментов крыши, на одном из которых уцелел кусочек деревянного покрытия с шестью обрывками досок, прикреплённых к боковине стены из красного кирпича, каким-то чудом дошедшей до наших дней. На первом этаже над двумя оконными колоннами рядом с замурованной дверью-входом свисает оторванная временем деревянная доска. Хочется поправить её, как это ни странно. Вокруг нет никакого ограждения. Яркий солнечный день, нет даже малейшего ветерка, без пения птиц, всё замерло, лишь гул машин доносится издалека. Видимо, природа тоже скорбит с печальной участью самого здания.
Такие очерки я пишу с волнением, мне пронзительно жаль всё устаревшее, никому не нужное, уничтоженное равнодушием.
Услышьте меня! Берегите всё оставшееся от русской старины, ведь такого нигде больше нет и уже никогда не будет. Почему все едут за рубеж любоваться иностранными красотами? Почему не сохраняем свою неповторимую память?
Помню мгновения из моего раннего детства. Я рос в маленьком приволжском городке. Там стояли старинные деревянные дома и избы. Они восхищали меня своей необычностью, чем-то неведомым, какой-то тайной. Проходя мимо них, я подолгу рассматривал ту необычайность фасадов, окон в ажурных наличниках, мощь замысловатых заборов, а также причудливые кроны деревьев, сказочно прячущих под собой такие строения. Большинство из тех домов не сохранилось. Люди, проживавшие в них, наверное, не берегли их. В основном дома погибали от пожаров.
Время рушит, а память восстанавливает утраченное. Мне никогда не забыть той красоты, которой я восхищался в моём детстве. Но молодое поколение, наши потомки, что они будут видеть из той старины, которая уже в далёком прошлом? А ведь ещё не поздно вернуть часть утраченного. Уцелевшие крепкие стены и фундамент, закладывавшийся на многие века, возможно ещё отреставрировать. Разрушенная старина ждёт возрождения.
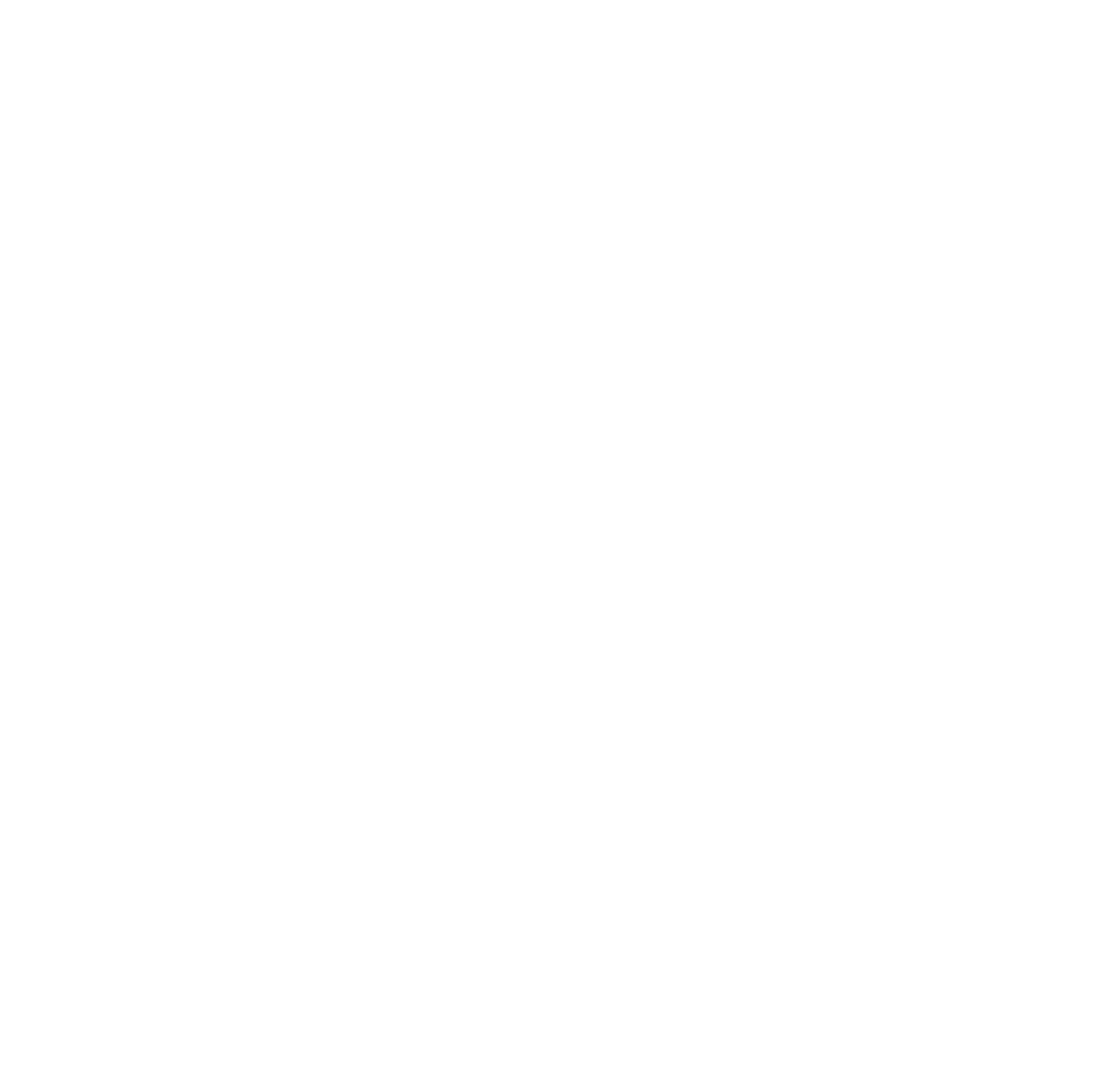
Евгения МАРЦИШЕВСКАЯ
Врач, имеет научную степень кандидата медицинских наук, работает врачом-педиатром и инфекционистом. Пишет увлекательные, познавательные сказки и рассказы для детей и их родителей. Первая книга «Никины сказки, или Почти правдивые истории» вышла в 2021 году в издательстве ИТРК. В 2022 году в издательстве ИТРК издана вторая книга для детей «В гостях у Бабы Яги». В литературном журнале «Рассказки» в 2022 году опубликовано 4 коротких произведения: «Новогодний сыр», «Мотя и бабочка», «Домик в лесу», «В цирке»; в 2023 году – «Белки». В октябре 2022 г. в издательстве ИТРК издана третья книга «Сказки новогодних игрушек». Регулярно проводит встречи с читателями в детских библиотеках, частных и государственных общеобразовательных школах с презентациями книг. Победитель Всероссийского конкурса, посвященного детским сказкам «Мы со сказкой неразлучны!» (Диплом 1 степени). Победитель Всероссийского творческого конкурса «Четыре времени у года: Зима» (Диплом 1 степени). Победитель литературного конкурса «Зимнее вдохновение» (1 место) и других литературных конкурсов.
Врач, имеет научную степень кандидата медицинских наук, работает врачом-педиатром и инфекционистом. Пишет увлекательные, познавательные сказки и рассказы для детей и их родителей. Первая книга «Никины сказки, или Почти правдивые истории» вышла в 2021 году в издательстве ИТРК. В 2022 году в издательстве ИТРК издана вторая книга для детей «В гостях у Бабы Яги». В литературном журнале «Рассказки» в 2022 году опубликовано 4 коротких произведения: «Новогодний сыр», «Мотя и бабочка», «Домик в лесу», «В цирке»; в 2023 году – «Белки». В октябре 2022 г. в издательстве ИТРК издана третья книга «Сказки новогодних игрушек». Регулярно проводит встречи с читателями в детских библиотеках, частных и государственных общеобразовательных школах с презентациями книг. Победитель Всероссийского конкурса, посвященного детским сказкам «Мы со сказкой неразлучны!» (Диплом 1 степени). Победитель Всероссийского творческого конкурса «Четыре времени у года: Зима» (Диплом 1 степени). Победитель литературного конкурса «Зимнее вдохновение» (1 место) и других литературных конкурсов.
ДОМИК В ЛЕСУ
В лесу одиноко стоял заброшенный дом. Здесь долгие годы жил старый лесничий. Но прошлым летом к нему в гости приехал взрослый сын и, решив, что нельзя оставлять старика одного в лесу, увёз с собой в город. Из вещей забрали только самое необходимое. Закрыли дверь на щеколду и уехали.
С тех пор в доме никто не жил, и он понемногу приходил в запустение. Лишь ветер стучал в закрытую дверь и завывал в трубе, да иногда к домику приходили лесные звери. Они ещё помнили, что добрый лесничий подкармливал их: зайчиков – морковкой с грядки, белочек – орешками, а птичек – зёрнами и хлебными крошками.
Прошло лето, за ним – осень. Наступила зима. Снега выпало видимо-невидимо. Домик завалило большими сугробами. Всё реже приходили к нему лесные жители – поняли, что никто не ждёт их здесь…
…Митя и Катя вместе с родителями приехали на дачу утром 31 декабря. Ребятам не очень нравилась эта затея взрослых: встречать Новый год не дома – в городе, у телевизора, а на даче среди сугробов. Но пришлось смириться, ведь с родителями не поспоришь. Когда же они вышли из машины в дачном посёлке, то настроение у них заметно улучшилось. Погода была замечательной: под яркими лучами солнца искрился разноцветными блёстками снег, ветра не было, небольшой мороз слегка щекотал щёки. Дети помогли родителям разобрать вещи. Папа включил отопление и предложил, пока дом прогревается, сходить на лыжную прогулку. Все с радостью поддержали эту идею.
Лыжня была хорошо накатана и манила в лес. Лыжники, наслаждаясь зимними пейзажами, весело покатили по ней. Они не первый раз ходили на лыжах по этому лесу. Но в этот предновогодний день их маршрут оказался намного длиннее. Не заметив, они оказались довольно далеко в лесу. И уже хотели развернуться и пойти по той же лыжне домой, но погода резко начала портиться. Откуда-то набежали тучи, закрыв солнце, и пошёл снег. Сразу стало темно, как будто наступил вечер. Подул сильный ветер. И лыжники с ужасом обнаружили, что они не видят лыжни: снег и ветер сровняли её с окружающим пейзажем.
Папа пытался проложить новую лыжню, как ему казалось, в направлении к дачному посёлку, но только ещё больше запутывался. Мобильные телефоны, которые лежали в карманах пуховиков, на морозе давно разрядились. И невозможно было ни найти дорогу домой, ни вызвать к себе спасателей – связи не было.
Через некоторое время ветер стих так же внезапно, как и начался. Постепенно перестал идти снег. Но небо по-прежнему оставалось затянутым тучами.
Бедные лыжники, пытаясь найти дорогу, совсем заблудились, замёрзли и проголодались. Начало смеркаться. Взрослые понимали, что помощи ждать неоткуда, но старались держаться, чтобы не испугать ещё больше детей. И тут, когда они почти отчаялись, папа увидел, что между ёлок виднеется небольшой домик.
– Смотрите, домик в лесу! – воскликнул он обрадованно. – Пойдёмте к нему скорее, там же должны быть люди!
И лыжники поспешили к домику. Но, подъехав ближе, они с ужасом поняли, что здесь давно не ступала нога человека: столько вокруг было нетронутого снега.
– В доме, видимо, давно никто не живёт, – разочарованно сказал папа.
– Но всё же в доме, мне кажется, будет лучше, чем в лесу, – сказала мама, – давайте раскопаем дверь и посмотрим, что там внутри.
Вчетвером, с помощью лыж и лыжных палок, они довольно быстро очистили подход к двери, притоптали ногами снег. Увидев, что дверь не заперта, а только закрыта на щеколду, осторожно вошли внутрь.
Словно сжалившись над ними, тучи на небе раздвинулись, и взошла луна. Лунный свет через окно осветил комнату. И замёрзшие лыжники увидели посреди комнаты печь, около неё – стол. На столе стоял массивный подсвечник со свечами.
– А как включить свет? – спросил Митя. – Я не вижу выключателя.
– Похоже, что его здесь и нет, – отозвался папа, пытаясь отогреть свою зажигалку и зажечь свечи.
Скоро ему это удалось. И все облегчённо вздохнули.
– Смотрите, на столе какое-то письмо лежит, – сказала наблюдательная Катя.
Мама развернула сложенный пополам лист и прочитала: «Хозяин дома уехал навсегда в город. Вы можете пользоваться всем, что вам окажется нужным. Только не забудьте открыть трубу, когда будете топить печь. В подполе есть кое-какие продукты. Угощайтесь».
– Это прям домик доброго волшебника! – обрадовался Митя.
– Раз нам хозяин разрешил здесь погостить, давайте сначала растопим печь и осмотрим дом, – сказал папа.
Около печки лежала аккуратная поленница дров. Родители, поколдовав над печкой, наконец затопили её. В комнате стало ещё светлее. Осмотревшись, они увидели два шкафа: один с посудой и кухонной утварью, а второй с какими-то коробками. В одной из коробок лежали свечи и спички, в других – много разных вещей, которые гости пока не стали рассматривать. За печкой оказалась кровать, а отогнув прикроватный коврик, папа обнаружил дверцу от подпола. Взяв со стола подсвечник, он полез по ступенькам вниз. За ним сразу поспешили дети. В подполе на полках они обнаружили несколько банок тушёнки и сгущённого молока, в стеклянных банках – макаронные рожки, муку, крупу, сушёные ягоды и яблоки, чай, соль и даже немного сахара. На полу стояло три небольших ящика: в одном (с картинкой белки на боку) были орехи, во втором (с картинкой зайца) лежали морковки, а в третьем (с картинкой птицы) – зерно.
– Что значат эти ящики с картинками? – спросила Катя.
– Я не понимаю, – отозвался папа, – давайте поднимем наверх продукты, чтоб приготовить нам что-нибудь покушать.
Пока папа с Митей перетаскивали банки из подпола, Катя, стараясь понять, что бы могли значить эти три ящика, вдруг в стороне увидела ещё одну коробку. Ей стало очень интересно, что же лежит там. Открыв коробку, девочка с восторгом захлопала в ладоши:
– Мама, папа, я нашла ёлочные игрушки!
– Так ведь сегодня же наступит Новый год, – отозвался брат, – а мы совсем о нём забыли из-за наших приключений.
– Дети, не будем унывать, – сказала мама, – мы ещё успеем подготовиться.
– Это будет самый необычный Новый год, – согласился папа.
Печь хорошо разогрелась. В доме стало совсем тепло. Настроение у всех заметно улучшилось. Вчетвером они стали разбирать продукты и обдумывать, что бы из них приготовить.
– Но у нас совсем нет воды. Как же мы заварим чай и сварим макароны? – забеспокоился Митя.
– А мы сейчас натопим воды из снега, – отозвался папа. – Посмотрите, сколько снега за окном!
И все дружно посмотрели в окно. Но за окном они увидели не снег, а… несколько пар любопытных глаз и расплющенных о стекло носов.
– Ой, кто это там за нами наблюдает?
Каково же было их удивление, когда, выглянув из приоткрытой двери, они увидели, что в окошко заглядывают несколько зайчиков, белочек и птичек.
– Так вот для кого стоят эти ящики в подполе! – догадалась Катя. – Значит, эти зверюшки тут частые гости.
И действительно, лесные звери, увидев в окошке домика свет, поспешили по старой памяти туда за угощением. Но когда из приоткрытой двери на улицу вышли незнакомые люди, животные, испугавшись, попрятались за деревья, а птицы разлетелись в разные стороны. Но увидели, что никто за ними не гонится, и любопытство взяло верх. Сначала птички вернулись к домику и сели на ветках деревьев, чтобы вести наблюдение. Потом по одному стали возвращаться белки и зайцы.
– Значит, эти зайчики и белочки пришли к нам в гости встречать Новый год! – обрадовался Митя.
– А может, это мы к ним в гости пришли? – рассмеялась в ответ сестра.
– Смотрите, какая красивая ёлка растёт прямо перед домом, – показал папа рукой на полянку.
– Ёлочные игрушки как раз для неё, – согласилась мама.
И закипела работа. Папа с Митей расчистили полянку перед домом и украсили ёлку новогодними игрушками. Мама с Катей натопили на печке в кастрюле снег и занялись приготовлением еды. А потом они достали из ящиков в подполе угощения для лесных гостей и разложили их под ёлкой. И белочки, а потом и боязливые зайчишки подошли к ёлке. Видя, что эти незнакомые люди так же, как старый лесничий, угощают их любимыми лакомствами, перестали бояться и уже никуда не разбегались.
До новогодней полночи оставалось ещё немного времени. Снег стал хорошо лепиться, и ребята слепили снеговиков около новогодней ёлки. На небе ярко светила луна, и её свет хорошо освещал гостеприимный домик и полянку. После снеговиков дети вместе с папой, который пришёл им на подмогу, вылепили Деда Мороза с посохом и большим мешком. И тут как раз мама позвала всех в дом на новогодний ужин. И эта простая еда, приготовленная на настоящей печке, показалась им самой вкусной на свете. А когда они попили чай с яблочно-ягодным пирогом, который приготовила мама из найденных в подполе запасов, все пошли на улицу, где их ждали лесные друзья. Митя расчистил снег с большого пня, стоящего неподалёку. А Катя положила на него остатки пирога. Получился отличный праздничный стол для птиц и зверей.
Нагулявшись, брат и сестра крепко уснули на единственной кровати за печкой. А родители сидели до самого утра за столом, вспоминая забавные истории из своей жизни.
– Мне кажется, что в этом доме есть ещё интересные сюрпризы, – шёпотом сказал папа и принялся изучать содержимое коробок в шкафу.
Вскоре в одной из коробок он обнаружил старый компас и карту. Расстелив карту на столе, родители нашли на ней и свой дачный посёлок, и дорогу, и домик лесника в лесу, который приютил их в новогоднюю ночь.
– Это ещё один подарок нам от хозяина! Теперь мы не заблудимся в лесу, а быстро дойдём на лыжах до дачи, – обрадовался папа.
Когда наступило утро, позавтракав манной кашей на сгущённом молоке и наведя порядок в домике, лыжники встали на лыжи и, ориентируясь по карте и компасу, пошли друг за другом к даче, прокладывая новую лыжню по свежему снегу.
В лесу одиноко стоял заброшенный дом. Здесь долгие годы жил старый лесничий. Но прошлым летом к нему в гости приехал взрослый сын и, решив, что нельзя оставлять старика одного в лесу, увёз с собой в город. Из вещей забрали только самое необходимое. Закрыли дверь на щеколду и уехали.
С тех пор в доме никто не жил, и он понемногу приходил в запустение. Лишь ветер стучал в закрытую дверь и завывал в трубе, да иногда к домику приходили лесные звери. Они ещё помнили, что добрый лесничий подкармливал их: зайчиков – морковкой с грядки, белочек – орешками, а птичек – зёрнами и хлебными крошками.
Прошло лето, за ним – осень. Наступила зима. Снега выпало видимо-невидимо. Домик завалило большими сугробами. Всё реже приходили к нему лесные жители – поняли, что никто не ждёт их здесь…
…Митя и Катя вместе с родителями приехали на дачу утром 31 декабря. Ребятам не очень нравилась эта затея взрослых: встречать Новый год не дома – в городе, у телевизора, а на даче среди сугробов. Но пришлось смириться, ведь с родителями не поспоришь. Когда же они вышли из машины в дачном посёлке, то настроение у них заметно улучшилось. Погода была замечательной: под яркими лучами солнца искрился разноцветными блёстками снег, ветра не было, небольшой мороз слегка щекотал щёки. Дети помогли родителям разобрать вещи. Папа включил отопление и предложил, пока дом прогревается, сходить на лыжную прогулку. Все с радостью поддержали эту идею.
Лыжня была хорошо накатана и манила в лес. Лыжники, наслаждаясь зимними пейзажами, весело покатили по ней. Они не первый раз ходили на лыжах по этому лесу. Но в этот предновогодний день их маршрут оказался намного длиннее. Не заметив, они оказались довольно далеко в лесу. И уже хотели развернуться и пойти по той же лыжне домой, но погода резко начала портиться. Откуда-то набежали тучи, закрыв солнце, и пошёл снег. Сразу стало темно, как будто наступил вечер. Подул сильный ветер. И лыжники с ужасом обнаружили, что они не видят лыжни: снег и ветер сровняли её с окружающим пейзажем.
Папа пытался проложить новую лыжню, как ему казалось, в направлении к дачному посёлку, но только ещё больше запутывался. Мобильные телефоны, которые лежали в карманах пуховиков, на морозе давно разрядились. И невозможно было ни найти дорогу домой, ни вызвать к себе спасателей – связи не было.
Через некоторое время ветер стих так же внезапно, как и начался. Постепенно перестал идти снег. Но небо по-прежнему оставалось затянутым тучами.
Бедные лыжники, пытаясь найти дорогу, совсем заблудились, замёрзли и проголодались. Начало смеркаться. Взрослые понимали, что помощи ждать неоткуда, но старались держаться, чтобы не испугать ещё больше детей. И тут, когда они почти отчаялись, папа увидел, что между ёлок виднеется небольшой домик.
– Смотрите, домик в лесу! – воскликнул он обрадованно. – Пойдёмте к нему скорее, там же должны быть люди!
И лыжники поспешили к домику. Но, подъехав ближе, они с ужасом поняли, что здесь давно не ступала нога человека: столько вокруг было нетронутого снега.
– В доме, видимо, давно никто не живёт, – разочарованно сказал папа.
– Но всё же в доме, мне кажется, будет лучше, чем в лесу, – сказала мама, – давайте раскопаем дверь и посмотрим, что там внутри.
Вчетвером, с помощью лыж и лыжных палок, они довольно быстро очистили подход к двери, притоптали ногами снег. Увидев, что дверь не заперта, а только закрыта на щеколду, осторожно вошли внутрь.
Словно сжалившись над ними, тучи на небе раздвинулись, и взошла луна. Лунный свет через окно осветил комнату. И замёрзшие лыжники увидели посреди комнаты печь, около неё – стол. На столе стоял массивный подсвечник со свечами.
– А как включить свет? – спросил Митя. – Я не вижу выключателя.
– Похоже, что его здесь и нет, – отозвался папа, пытаясь отогреть свою зажигалку и зажечь свечи.
Скоро ему это удалось. И все облегчённо вздохнули.
– Смотрите, на столе какое-то письмо лежит, – сказала наблюдательная Катя.
Мама развернула сложенный пополам лист и прочитала: «Хозяин дома уехал навсегда в город. Вы можете пользоваться всем, что вам окажется нужным. Только не забудьте открыть трубу, когда будете топить печь. В подполе есть кое-какие продукты. Угощайтесь».
– Это прям домик доброго волшебника! – обрадовался Митя.
– Раз нам хозяин разрешил здесь погостить, давайте сначала растопим печь и осмотрим дом, – сказал папа.
Около печки лежала аккуратная поленница дров. Родители, поколдовав над печкой, наконец затопили её. В комнате стало ещё светлее. Осмотревшись, они увидели два шкафа: один с посудой и кухонной утварью, а второй с какими-то коробками. В одной из коробок лежали свечи и спички, в других – много разных вещей, которые гости пока не стали рассматривать. За печкой оказалась кровать, а отогнув прикроватный коврик, папа обнаружил дверцу от подпола. Взяв со стола подсвечник, он полез по ступенькам вниз. За ним сразу поспешили дети. В подполе на полках они обнаружили несколько банок тушёнки и сгущённого молока, в стеклянных банках – макаронные рожки, муку, крупу, сушёные ягоды и яблоки, чай, соль и даже немного сахара. На полу стояло три небольших ящика: в одном (с картинкой белки на боку) были орехи, во втором (с картинкой зайца) лежали морковки, а в третьем (с картинкой птицы) – зерно.
– Что значат эти ящики с картинками? – спросила Катя.
– Я не понимаю, – отозвался папа, – давайте поднимем наверх продукты, чтоб приготовить нам что-нибудь покушать.
Пока папа с Митей перетаскивали банки из подпола, Катя, стараясь понять, что бы могли значить эти три ящика, вдруг в стороне увидела ещё одну коробку. Ей стало очень интересно, что же лежит там. Открыв коробку, девочка с восторгом захлопала в ладоши:
– Мама, папа, я нашла ёлочные игрушки!
– Так ведь сегодня же наступит Новый год, – отозвался брат, – а мы совсем о нём забыли из-за наших приключений.
– Дети, не будем унывать, – сказала мама, – мы ещё успеем подготовиться.
– Это будет самый необычный Новый год, – согласился папа.
Печь хорошо разогрелась. В доме стало совсем тепло. Настроение у всех заметно улучшилось. Вчетвером они стали разбирать продукты и обдумывать, что бы из них приготовить.
– Но у нас совсем нет воды. Как же мы заварим чай и сварим макароны? – забеспокоился Митя.
– А мы сейчас натопим воды из снега, – отозвался папа. – Посмотрите, сколько снега за окном!
И все дружно посмотрели в окно. Но за окном они увидели не снег, а… несколько пар любопытных глаз и расплющенных о стекло носов.
– Ой, кто это там за нами наблюдает?
Каково же было их удивление, когда, выглянув из приоткрытой двери, они увидели, что в окошко заглядывают несколько зайчиков, белочек и птичек.
– Так вот для кого стоят эти ящики в подполе! – догадалась Катя. – Значит, эти зверюшки тут частые гости.
И действительно, лесные звери, увидев в окошке домика свет, поспешили по старой памяти туда за угощением. Но когда из приоткрытой двери на улицу вышли незнакомые люди, животные, испугавшись, попрятались за деревья, а птицы разлетелись в разные стороны. Но увидели, что никто за ними не гонится, и любопытство взяло верх. Сначала птички вернулись к домику и сели на ветках деревьев, чтобы вести наблюдение. Потом по одному стали возвращаться белки и зайцы.
– Значит, эти зайчики и белочки пришли к нам в гости встречать Новый год! – обрадовался Митя.
– А может, это мы к ним в гости пришли? – рассмеялась в ответ сестра.
– Смотрите, какая красивая ёлка растёт прямо перед домом, – показал папа рукой на полянку.
– Ёлочные игрушки как раз для неё, – согласилась мама.
И закипела работа. Папа с Митей расчистили полянку перед домом и украсили ёлку новогодними игрушками. Мама с Катей натопили на печке в кастрюле снег и занялись приготовлением еды. А потом они достали из ящиков в подполе угощения для лесных гостей и разложили их под ёлкой. И белочки, а потом и боязливые зайчишки подошли к ёлке. Видя, что эти незнакомые люди так же, как старый лесничий, угощают их любимыми лакомствами, перестали бояться и уже никуда не разбегались.
До новогодней полночи оставалось ещё немного времени. Снег стал хорошо лепиться, и ребята слепили снеговиков около новогодней ёлки. На небе ярко светила луна, и её свет хорошо освещал гостеприимный домик и полянку. После снеговиков дети вместе с папой, который пришёл им на подмогу, вылепили Деда Мороза с посохом и большим мешком. И тут как раз мама позвала всех в дом на новогодний ужин. И эта простая еда, приготовленная на настоящей печке, показалась им самой вкусной на свете. А когда они попили чай с яблочно-ягодным пирогом, который приготовила мама из найденных в подполе запасов, все пошли на улицу, где их ждали лесные друзья. Митя расчистил снег с большого пня, стоящего неподалёку. А Катя положила на него остатки пирога. Получился отличный праздничный стол для птиц и зверей.
Нагулявшись, брат и сестра крепко уснули на единственной кровати за печкой. А родители сидели до самого утра за столом, вспоминая забавные истории из своей жизни.
– Мне кажется, что в этом доме есть ещё интересные сюрпризы, – шёпотом сказал папа и принялся изучать содержимое коробок в шкафу.
Вскоре в одной из коробок он обнаружил старый компас и карту. Расстелив карту на столе, родители нашли на ней и свой дачный посёлок, и дорогу, и домик лесника в лесу, который приютил их в новогоднюю ночь.
– Это ещё один подарок нам от хозяина! Теперь мы не заблудимся в лесу, а быстро дойдём на лыжах до дачи, – обрадовался папа.
Когда наступило утро, позавтракав манной кашей на сгущённом молоке и наведя порядок в домике, лыжники встали на лыжи и, ориентируясь по карте и компасу, пошли друг за другом к даче, прокладывая новую лыжню по свежему снегу.
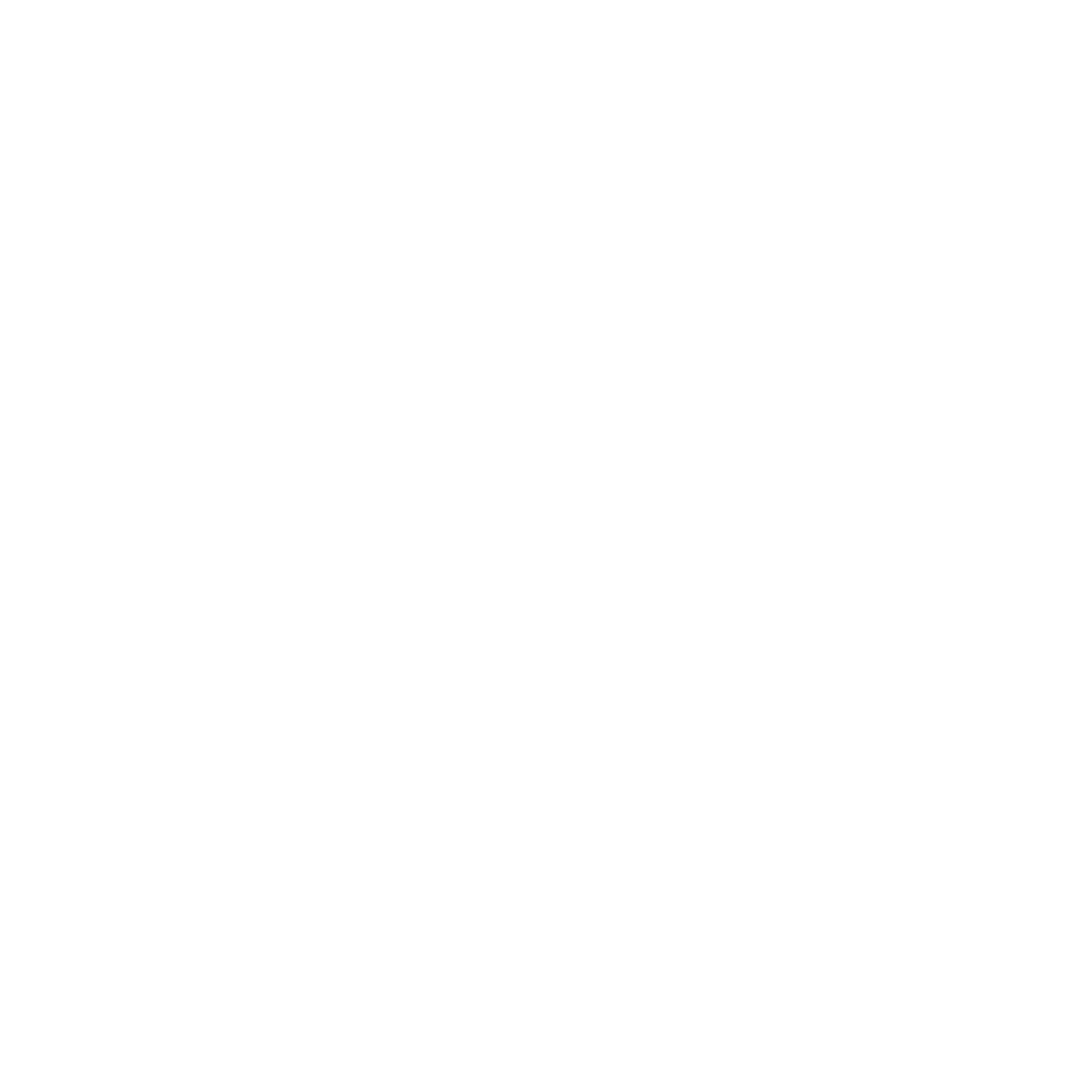
Наталья ШЕСТАКОВА
Родилась в 1975 году в г. Магнитогорске (на сегодняшний момент имеет гражданство РФ и Швейцарии). Окончила художественно-графический факультет Магнитогорского государственного университета. Занимается живописью, графикой, литературным творчеством (проза, поэзия). Литературные произведения публиковались в региональных периодических изданиях, а также в периодических изданиях Русского литературного центра (Москва).
Родилась в 1975 году в г. Магнитогорске (на сегодняшний момент имеет гражданство РФ и Швейцарии). Окончила художественно-графический факультет Магнитогорского государственного университета. Занимается живописью, графикой, литературным творчеством (проза, поэзия). Литературные произведения публиковались в региональных периодических изданиях, а также в периодических изданиях Русского литературного центра (Москва).
НАВАЖДЕНИЕ
Миша медленно подошёл к хорошо знакомой двери. Тяжёлая, почерневшая от времени, с налипшими комочками конского навоза, приставшими клочьями сухой травы дощатая дверь со скрипом приоткрылась, внутри было темно. Миша сделал шаг вперёд. Глаза привыкли к темноте, и проявились пересекающие прохладную конюшню тонкие, рассеивающиеся золотые лучи, в свете которых мелькали сухие былинки и труха сыплющегося сверху сена. Посреди конюшни стояла рослая, голова под потолок, баба. В белой, длинной, как в старину, рубахе. Её толстая светлая коса была перекинута через плечо вперёд, а большими руками она крепко держала края провисшего под тяжестью подола. В подоле были ягоды. Баба пристально смотрела на Мишу, он разглядел её водянистые навыкате глаза. Миша оторопел и некоторое время неподвижно стоял молча, но потом понял, что нужно кричать. Он набрал в грудь воздуха, но крик никак не мог вырваться… Дышать тоже стало тяжело. Миша заметался и проснулся.
В окно уже вовсю пробивалось молодое весеннее солнце. После пробуждения Миша даже обрадовался, что ничего не случилось, всё как обычно. Но ему было немного не по себе и как-то стыдно, что он, взрослый парень, испугался бабы в конюшне. Он встал, накинул фуфайку, вышел во двор, по-хозяйски обошёл пристройки, подошёл к конюшне, подправил петлю на двери. В конюшню уже ворвалось солнце. Там ждал его Стёклышко. Увидев хозяина, Стёклышко бодро замотал головой. Миша с грустью тихонько похлопал его по холке.
Стёклышко был беспородным, своенравным и плохо воспитанным жеребцом. Он ни за что не стал бы стоять привязанным к забору; размахивая головой, он срывал привязь и уносился, куда ему вздумается. Работать он не умел, да и был невелик ростом. В общении с людьми он признавал только дружбу с Мишей и то на своих условиях, но деревенских детей катал. Стёклышком назвал его маленький Миша, потому что левый глаз у коня был затянут полупрозрачной голубоватой плёнкой. Девять счастливых лет провели они вместе, носились по бархатистым горам, и вот теперь со Стёклышком нужно было расставаться.
Талые сугробы превратились в мокрую кашу. Солнце прогрело деревенские крыши, тяжёлый снег с шумом бухался вниз. На Мишу навалились весенние заботы. Старший брат давно уехал в город, и теперь была Мишина очередь помочь отцу отремонтировать технику, поправить покосившиеся за зиму ворота, просушить погреба; если рано вода сойдёт, надо будет заменить нижний венец бани, подгнившие опоры забора. Нужно было сделать всё быстро. Дело в том, что Миша собрался жениться.
Все говорили: рано. Зачем жениться в девятнадцать лет? Еще и призыв на носу. Придёшь из армии – женись. Если серьёзно – дождётся. И чего ей в город этот приспичило? Жили бы в деревне, здесь все свои. Миша и сам чувствовал, что что-то не то; вроде бы и радостно, но подмешивалась тревога, снились сны какие-то странные. Но решил так решил. Не отказываться же теперь.
Миша достал рабочие инструменты, разложил у ворот. Ещё сырой деревянный настил во дворе прогрелся под солнцем и испускал светлый пар. В галошах вышла мать. Накинув тёплый платок на плечи, постояла молча, глядя на Мишу, погружённая в какие-то свои раздумья. Не хотелось, но нужно было собираться в амбулаторию на другом конце деревни ставить капельницу. Мать болела.
Миша работал долотом и так увлёкся, что ему даже стало жарко. Скоро мать вышла снова, уже в плаще и ботинках.
– Когда уже ты уведёшь его? – проходя мимо Миши, заговорила она. – Уедешь в город, нам с отцом обузу не оставляй. Я болею, отцу некогда. Кто будет за ним смотреть? Толку от него никакого, а ест сколько! Скоро нас самих съест.
– Да договорился уже… – откликнулся Миша.
Мать вышла за ворота и обычным решительным своим шагом направилась по полной воды грунтовой дороге прочь от дома. Хорошей цены за Стёклышко никто не давал. Мелкий, без документов… Лишь бы не на мясо… А разве он на что-то годен? Кому он нужен такой?
В тот же день Мише позвонили. Сказали, Баймурат возьмёт коня, если ещё скинуть цену. А иначе никак. Некоторое время Миша походил по двору, ища себе дело, потом вывел Стёклышко, привычными движениями закрепил седло, вспрыгнул на коня и тихим шагом поехал по направлению к соседнему селу вниз по реке. Иначе никак.
Сырой лес гудел вокруг; совсем не проснувшись, он замер в нерешительном ожидании. Недавно ещё ссохшиеся, заиндевелые скелеты берёз изменились; их красноватые ветви оттаяли, стали упругими и уже готовы были брызнуть жизнью из набухших почек. Но было рано, не все метели отбушевали, и лес это чувствовал. Стёклышко осторожно, но невозмутимо ступал по краю дороги, нисколько не обращая внимания на изредка проносящиеся рядом автомобили. Понимает или нет? Мишу отчаянно грызло чувство, что он делает что-то нехорошее. «Просто конь, – старался думать Миша. – Захотел – купил, захотел – продал». Он вспомнил свою тётку, которая, по выражению матери, «слезьми изошла» из-за своей любимой рыжей коровы, которую пришлось отвести на бойню из-за старости. Стоило ли того… Теперь уже другую корову привезли. Главное, что Миша сам так решил. Сам владел, сам и распорядился. От этой мысли Миша даже почувствовал удовлетворение. Потому что самым страшным для него было бы ощущение собственного бессилия. Такое, которое он испытал, когда держал на руках умирающего деда. Да и как можно сравнивать… Миша в задумчивости стал перебирать в памяти далёкие отрывочные воспоминания о разговорах с дедом, о его внезапной кончине. Почему-то вспомнились дощатые мостки в камышах, банка с червями… Теперь казалось, что всё это было как будто и не наяву. Зато чувство Миша запомнил хорошо… Не испытывает ли он сейчас нечто подобное? Мысли его вернулись в настоящее. Впереди торчали мохнатые уши Стёклышка. Нет, это было совершенно осознанное решение. Нужно было избавить родителей, прежде всего, мать от лишних тягот. И вообще, ничего страшного не произошло.
Баймурат молча, медленно осмотрел у коня ноги, спину, зубы. Миша передал вожжи, взял деньги, сунул в карман. Письменного договора составлено не было.
Пешком Миша дошел до автобусной остановки. Стоял долго. Заморосил дождь, который быстро перешёл в колючий снег. На Мишиных плечах, воротнике, бровях образовались маленькие сугробы снега. Из-за белой пелены случайно проходивший мимо человек крикнул:
– Автобусы не ходят, давно уже.
Миша огляделся, сам не зная зачем, и пошел пешком по трассе. Ветер усилился, снег уже не таял, свежий покров вновь заволакивал проталины и обочины дороги. Миша накинул капюшон, сунул руки в карманы и старался не сбавлять скорости. Через полчаса послышался шум позади. По трассе тащился лесовоз, гружённый свежими рыжими брёвнами. Миша махнул рукой и скоро запрыгнул в тёплую душную кабину. Разговоры, куда-откуда, весёлое радио. Повезло. Дорога впереди извивалась чёрной лентой, подскакивала вверх, уходила вниз. Мокрый лес по краям покрывался свежими снежными шапками. Небо стало серым, снег повалил совсем густо, залеплял стекло по краям. Надолго. Нескоро вода сойдёт.
Водитель высадил Мишу у края деревни. По свежему снегу Миша побрёл вверх по склону, но не пошёл сразу к себе домой, а свернул в сторону, к одному из домов. Человек, живший здесь, мог привезти тракторную резину из города. Нужно было дать часть денег вперёд. Коротко поговорили у ворот, Миша сунул руку в карман.
Денег в кармане не было.
* * *
Миша снова стоял перед знакомой дверью. Он протянул руку, взялся за рукоятку, медленно потянул. Дверь распахнулась, и перед Мишей зазиял чёрный проём. Он шагнул в темноту. Через некоторое время в тусклом голубоватом свете он различил перед собой высокую фигуру. Босая рослая баба в длинной белой рубахе стояла посреди конюшни, придерживая руками провисший подол. Слегка склонённая голова её упиралась в потолок, светлые прозрачные глаза пристально смотрели на Мишу. «Опять она здесь», – Миша почувствовал досаду. Поколебавшись, он отступил назад. В этот момент баба разжала руки и отпустила край; подол упал, ягоды кучей обрушились и с глухим стуком покатились по полу в разные стороны. Миша почувствовал, что наступать нельзя, и испугался, что наступит. Он хотел закричать, но не мог вдохнуть. Сделав усилие, набрал в грудь воздуха и отчаянно выдавил из себя крик.
Проснулся Миша в полной тишине. Солнца не было, небо заволокло, и в окно заглядывали ранние синие сумерки. Лежать не хотелось. Миша тихо поднялся. Мать ещё спала, отец уже ушёл. Миша вышел из дома, заглянул за ворота. Свежий снег был взрыхлён рядом отцовских следов. Миша взял в сарае фанерную лопату, начал чистить крыльцо, двор, дорожку за воротами. От работы он согрелся и повеселел. Мало-помалу кривовато расчищенная дорожка приближалась к основной дороге. Вдруг Миша услышал сзади приближающийся лошадиный топот. Он быстро оглянулся. Это был Стёклышко, он проскочил мимо, убежал недалеко вперед и остановился. Миша, не торопясь, подошёл, обнял коня за шею, погладил.
– Хулиган ты, безобразник… Что теперь с тобой делать?
Стёклышко оживлённо мотал головой и радостно фыркал.
Миша не знал, что теперь делать с конём, но вместо досады он испытывал какое-то праздничное чувство. Как будто его простили. Хотя он об этом даже не просил.
Эх ты, продавец, сказали Мише. Некоторые советовали коня несколько раз продать, только уж за деньгами-то лучше смотреть. А кто-то сказал: вот, и с женитьбой то же будет…
Мать отдыхала на диване. После капельницы ей становилось лучше, к тому же это было время, когда ей просто необходимо было лежать и ничего не делать: так велел врач. И тогда её усталая суровость проходила, и даже в доме становилось спокойнее.
– Мишань, – негромко позвала она. – А какие у этой бабы ягоды-то были? Чёрные или красные? Если чёрные, то это нехорошо, а красные-то – к радости.
– Да чёрт её знает, не помню я…
Миша и в самом деле старался вспомнить, какие у бабы были ягоды. Но ему вспоминались только её полные, крепкие, красивые босые ноги.
Миша медленно подошёл к хорошо знакомой двери. Тяжёлая, почерневшая от времени, с налипшими комочками конского навоза, приставшими клочьями сухой травы дощатая дверь со скрипом приоткрылась, внутри было темно. Миша сделал шаг вперёд. Глаза привыкли к темноте, и проявились пересекающие прохладную конюшню тонкие, рассеивающиеся золотые лучи, в свете которых мелькали сухие былинки и труха сыплющегося сверху сена. Посреди конюшни стояла рослая, голова под потолок, баба. В белой, длинной, как в старину, рубахе. Её толстая светлая коса была перекинута через плечо вперёд, а большими руками она крепко держала края провисшего под тяжестью подола. В подоле были ягоды. Баба пристально смотрела на Мишу, он разглядел её водянистые навыкате глаза. Миша оторопел и некоторое время неподвижно стоял молча, но потом понял, что нужно кричать. Он набрал в грудь воздуха, но крик никак не мог вырваться… Дышать тоже стало тяжело. Миша заметался и проснулся.
В окно уже вовсю пробивалось молодое весеннее солнце. После пробуждения Миша даже обрадовался, что ничего не случилось, всё как обычно. Но ему было немного не по себе и как-то стыдно, что он, взрослый парень, испугался бабы в конюшне. Он встал, накинул фуфайку, вышел во двор, по-хозяйски обошёл пристройки, подошёл к конюшне, подправил петлю на двери. В конюшню уже ворвалось солнце. Там ждал его Стёклышко. Увидев хозяина, Стёклышко бодро замотал головой. Миша с грустью тихонько похлопал его по холке.
Стёклышко был беспородным, своенравным и плохо воспитанным жеребцом. Он ни за что не стал бы стоять привязанным к забору; размахивая головой, он срывал привязь и уносился, куда ему вздумается. Работать он не умел, да и был невелик ростом. В общении с людьми он признавал только дружбу с Мишей и то на своих условиях, но деревенских детей катал. Стёклышком назвал его маленький Миша, потому что левый глаз у коня был затянут полупрозрачной голубоватой плёнкой. Девять счастливых лет провели они вместе, носились по бархатистым горам, и вот теперь со Стёклышком нужно было расставаться.
Талые сугробы превратились в мокрую кашу. Солнце прогрело деревенские крыши, тяжёлый снег с шумом бухался вниз. На Мишу навалились весенние заботы. Старший брат давно уехал в город, и теперь была Мишина очередь помочь отцу отремонтировать технику, поправить покосившиеся за зиму ворота, просушить погреба; если рано вода сойдёт, надо будет заменить нижний венец бани, подгнившие опоры забора. Нужно было сделать всё быстро. Дело в том, что Миша собрался жениться.
Все говорили: рано. Зачем жениться в девятнадцать лет? Еще и призыв на носу. Придёшь из армии – женись. Если серьёзно – дождётся. И чего ей в город этот приспичило? Жили бы в деревне, здесь все свои. Миша и сам чувствовал, что что-то не то; вроде бы и радостно, но подмешивалась тревога, снились сны какие-то странные. Но решил так решил. Не отказываться же теперь.
Миша достал рабочие инструменты, разложил у ворот. Ещё сырой деревянный настил во дворе прогрелся под солнцем и испускал светлый пар. В галошах вышла мать. Накинув тёплый платок на плечи, постояла молча, глядя на Мишу, погружённая в какие-то свои раздумья. Не хотелось, но нужно было собираться в амбулаторию на другом конце деревни ставить капельницу. Мать болела.
Миша работал долотом и так увлёкся, что ему даже стало жарко. Скоро мать вышла снова, уже в плаще и ботинках.
– Когда уже ты уведёшь его? – проходя мимо Миши, заговорила она. – Уедешь в город, нам с отцом обузу не оставляй. Я болею, отцу некогда. Кто будет за ним смотреть? Толку от него никакого, а ест сколько! Скоро нас самих съест.
– Да договорился уже… – откликнулся Миша.
Мать вышла за ворота и обычным решительным своим шагом направилась по полной воды грунтовой дороге прочь от дома. Хорошей цены за Стёклышко никто не давал. Мелкий, без документов… Лишь бы не на мясо… А разве он на что-то годен? Кому он нужен такой?
В тот же день Мише позвонили. Сказали, Баймурат возьмёт коня, если ещё скинуть цену. А иначе никак. Некоторое время Миша походил по двору, ища себе дело, потом вывел Стёклышко, привычными движениями закрепил седло, вспрыгнул на коня и тихим шагом поехал по направлению к соседнему селу вниз по реке. Иначе никак.
Сырой лес гудел вокруг; совсем не проснувшись, он замер в нерешительном ожидании. Недавно ещё ссохшиеся, заиндевелые скелеты берёз изменились; их красноватые ветви оттаяли, стали упругими и уже готовы были брызнуть жизнью из набухших почек. Но было рано, не все метели отбушевали, и лес это чувствовал. Стёклышко осторожно, но невозмутимо ступал по краю дороги, нисколько не обращая внимания на изредка проносящиеся рядом автомобили. Понимает или нет? Мишу отчаянно грызло чувство, что он делает что-то нехорошее. «Просто конь, – старался думать Миша. – Захотел – купил, захотел – продал». Он вспомнил свою тётку, которая, по выражению матери, «слезьми изошла» из-за своей любимой рыжей коровы, которую пришлось отвести на бойню из-за старости. Стоило ли того… Теперь уже другую корову привезли. Главное, что Миша сам так решил. Сам владел, сам и распорядился. От этой мысли Миша даже почувствовал удовлетворение. Потому что самым страшным для него было бы ощущение собственного бессилия. Такое, которое он испытал, когда держал на руках умирающего деда. Да и как можно сравнивать… Миша в задумчивости стал перебирать в памяти далёкие отрывочные воспоминания о разговорах с дедом, о его внезапной кончине. Почему-то вспомнились дощатые мостки в камышах, банка с червями… Теперь казалось, что всё это было как будто и не наяву. Зато чувство Миша запомнил хорошо… Не испытывает ли он сейчас нечто подобное? Мысли его вернулись в настоящее. Впереди торчали мохнатые уши Стёклышка. Нет, это было совершенно осознанное решение. Нужно было избавить родителей, прежде всего, мать от лишних тягот. И вообще, ничего страшного не произошло.
Баймурат молча, медленно осмотрел у коня ноги, спину, зубы. Миша передал вожжи, взял деньги, сунул в карман. Письменного договора составлено не было.
Пешком Миша дошел до автобусной остановки. Стоял долго. Заморосил дождь, который быстро перешёл в колючий снег. На Мишиных плечах, воротнике, бровях образовались маленькие сугробы снега. Из-за белой пелены случайно проходивший мимо человек крикнул:
– Автобусы не ходят, давно уже.
Миша огляделся, сам не зная зачем, и пошел пешком по трассе. Ветер усилился, снег уже не таял, свежий покров вновь заволакивал проталины и обочины дороги. Миша накинул капюшон, сунул руки в карманы и старался не сбавлять скорости. Через полчаса послышался шум позади. По трассе тащился лесовоз, гружённый свежими рыжими брёвнами. Миша махнул рукой и скоро запрыгнул в тёплую душную кабину. Разговоры, куда-откуда, весёлое радио. Повезло. Дорога впереди извивалась чёрной лентой, подскакивала вверх, уходила вниз. Мокрый лес по краям покрывался свежими снежными шапками. Небо стало серым, снег повалил совсем густо, залеплял стекло по краям. Надолго. Нескоро вода сойдёт.
Водитель высадил Мишу у края деревни. По свежему снегу Миша побрёл вверх по склону, но не пошёл сразу к себе домой, а свернул в сторону, к одному из домов. Человек, живший здесь, мог привезти тракторную резину из города. Нужно было дать часть денег вперёд. Коротко поговорили у ворот, Миша сунул руку в карман.
Денег в кармане не было.
* * *
Миша снова стоял перед знакомой дверью. Он протянул руку, взялся за рукоятку, медленно потянул. Дверь распахнулась, и перед Мишей зазиял чёрный проём. Он шагнул в темноту. Через некоторое время в тусклом голубоватом свете он различил перед собой высокую фигуру. Босая рослая баба в длинной белой рубахе стояла посреди конюшни, придерживая руками провисший подол. Слегка склонённая голова её упиралась в потолок, светлые прозрачные глаза пристально смотрели на Мишу. «Опять она здесь», – Миша почувствовал досаду. Поколебавшись, он отступил назад. В этот момент баба разжала руки и отпустила край; подол упал, ягоды кучей обрушились и с глухим стуком покатились по полу в разные стороны. Миша почувствовал, что наступать нельзя, и испугался, что наступит. Он хотел закричать, но не мог вдохнуть. Сделав усилие, набрал в грудь воздуха и отчаянно выдавил из себя крик.
Проснулся Миша в полной тишине. Солнца не было, небо заволокло, и в окно заглядывали ранние синие сумерки. Лежать не хотелось. Миша тихо поднялся. Мать ещё спала, отец уже ушёл. Миша вышел из дома, заглянул за ворота. Свежий снег был взрыхлён рядом отцовских следов. Миша взял в сарае фанерную лопату, начал чистить крыльцо, двор, дорожку за воротами. От работы он согрелся и повеселел. Мало-помалу кривовато расчищенная дорожка приближалась к основной дороге. Вдруг Миша услышал сзади приближающийся лошадиный топот. Он быстро оглянулся. Это был Стёклышко, он проскочил мимо, убежал недалеко вперед и остановился. Миша, не торопясь, подошёл, обнял коня за шею, погладил.
– Хулиган ты, безобразник… Что теперь с тобой делать?
Стёклышко оживлённо мотал головой и радостно фыркал.
Миша не знал, что теперь делать с конём, но вместо досады он испытывал какое-то праздничное чувство. Как будто его простили. Хотя он об этом даже не просил.
Эх ты, продавец, сказали Мише. Некоторые советовали коня несколько раз продать, только уж за деньгами-то лучше смотреть. А кто-то сказал: вот, и с женитьбой то же будет…
Мать отдыхала на диване. После капельницы ей становилось лучше, к тому же это было время, когда ей просто необходимо было лежать и ничего не делать: так велел врач. И тогда её усталая суровость проходила, и даже в доме становилось спокойнее.
– Мишань, – негромко позвала она. – А какие у этой бабы ягоды-то были? Чёрные или красные? Если чёрные, то это нехорошо, а красные-то – к радости.
– Да чёрт её знает, не помню я…
Миша и в самом деле старался вспомнить, какие у бабы были ягоды. Но ему вспоминались только её полные, крепкие, красивые босые ноги.
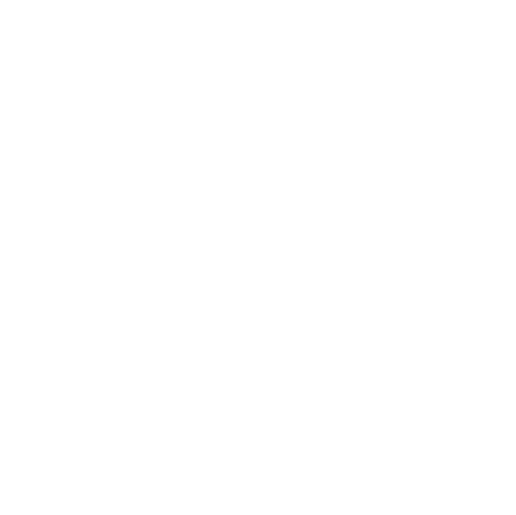
Галина СМЕЦКАЯ
Родилась в 1961 году, в Куйбышеве. Членства в писательских творческих союзах не имею, в литературных объединениях не состою. Публикации: 1. Сборник «Несерьезная литература», издательство «Перископ-Волга», г.Волгоград, 2022 г. (рассказ «Незапланированная экскурсия») 2. Сборник «Формула смеха», издательство «Перископ-Волга», г.Волгоград, 2022 г. (рассказ «Почтовый ключик»)
Родилась в 1961 году, в Куйбышеве. Членства в писательских творческих союзах не имею, в литературных объединениях не состою. Публикации: 1. Сборник «Несерьезная литература», издательство «Перископ-Волга», г.Волгоград, 2022 г. (рассказ «Незапланированная экскурсия») 2. Сборник «Формула смеха», издательство «Перископ-Волга», г.Волгоград, 2022 г. (рассказ «Почтовый ключик»)
ПИРОЖКИ С ВИШНЯМИ, ИЛИ КУДА ЕХАТЬ ЗА ЖЕНСКИМ СЧАСТЬЕМ
Я вытянула счастливый билет. Двадцать лет назад.
Тогда, двадцать лет назад, я очень страдала от недостатка мужского внимания. В нашем конструкторском бюро, куда я была распределена после окончания техникума, все незамужние подруги встречались с парнями, а меня на свидание в последний раз пригласили в восьмом классе. Как сейчас помню, самый красивый мальчик в школе прислал записку, где предлагал подойти к детской площадке, что находилась в соседнем дворе. Я не пришла, я прилетела, и он, в обмен на поцелуй, попросил приглядеть за его младшей сестрой, всего полчаса, пока он поиграет в футбол. Прошло более шести часов, пролетевших для меня в ожидании поцелуя, как один миг. Но вместо моего вожделенного принца пришла его мать и отругала меня за то, что ребенок в мокрых колготках сидит на железной скамье. Поцелуя я, как можно уже догадаться, так и не дождалась.
Правда, Петр, мой коллега, последние несколько недель мило мне улыбался, подмигивал и с удовольствием уплетал мои печенюшки. А в последнюю неделю перед моим отпуском и вовсе подробно выспросил меня про мои отпускные планы, многозначительно намекая, что у него за переработки есть несколько дней, которые он мечтает провести в хорошей компании. Я, не веря своей удаче, накупила красивого белья и дорогого алкоголя. Петр же в обнимку с Ниночкой, обладавшей единственным и неоспоримым достоинством в виде груди пятого размера, укатил в Сочи. А я, рыдая, рванула в маленький городок на Волге к старшей сестре Томе, у которой еще ни разу не гостила. Городок маленький, но с ресторанами, кинотеатрами, музеем краеведения, несметным количеством салонов красоты и, конечно, услугами такси.
Я не стала сообщать сестре о своем приезде, не хотела ей рассказывать наспех о своих «несчастиях» и очень хотела увидеть искреннюю радость от своего внезапного появления. Мой поезд прибыл в 04.30 утра, и я взяла такси на привокзальной площади. Таксист, мой ровесник, выглядел измученным, но какое мое дело до вида какого-то неизвестного паренька, тем более, я не в культурной столице, чтобы требовать от работника такси свежего и опрятного внешнего вида. Да и не до мужского пола мне тогда было. После поступка Петра все мужчины мира в одночасье оказались в числе лгунов и прохвостов, недостойных моего внимания.
От эмоций, переживаний и непрекращающихся всю дорогу рыданий, разговаривать с таксистом у меня не было ни желания, ни сил. Я достала из сумочки конверт последнего Томиного письма с ее обратным адресом и сунула его водителю под нос, тем самым давая ему понять, что ко мне ни с какими вопросами лучше не обращаться. Водитель взял конверт, взглянул на адрес, кивнул, и мы поехали. После утренней прохлады привокзальной площади в теплом салоне меня разморило, я откинулась на мягкую спинку сиденья, прикрыла глаза и отключилась.
Проснулась я от странных звуков: тихое посапывание перебивалось звонким петушиным криком. Я по-прежнему сидела в такси, вцепившись в свою сумочку, автомобиль стоял во дворе добротного деревянного дома, на веранде которого бесцеремонно горланил отливающийся всеми цветами радуги крупный петух.
Где я? Где водитель? Может, я еще сплю? Я потерла затекшую шею и попыталась выйти из машины, но как только я открыла дверцу, ко мне с грозным лаем бросилась огромная лохматая псина. Я взвизгнула, захлопнула дверь и тут же услышала шорох на сиденье водителя, а потом увидела, как поднимается и поворачивается в мою сторону огромная кудлатая голова. Я от страха закрыла глаза и заверещала еще громче.
– Эй, – услышала я голос, – вы кто? Вы чего так орете?
– Я кто? – изумилась я. – Я – ваша пассажирка, вы должны были меня отвезти к моей сестре, помните?
Я со страхом вглядывалась в заспанное лицо водителя, пытаясь отыскать там следы алкогольной или наркотической зависимости, но кроме недоумения, удивления и смущения ничего не увидела.
– А разве я вас не высадил у адреса?
– Так если я еще нахожусь в вашей машине, значит, не высадили! – недружелюбно откликнулась я. – Может, вы все же отвезете меня к сестре?
Водитель часто заморгал, вынул из недр бардачка мой конверт с адресом, долго его изучал и наконец вымолвил:
– Так приехали, вот дом-то. Ты Зойкина сестра, стало быть? Так давай знакомиться, меня Дима зовут, я сосед ваш. Выходите, сейчас только Аззу на цепь посажу. Да она ласковая, на вид страшная только.
Дима вышел из машины и, поймав лохматую собаку, повел ее к будке, а я осталась сидеть в недоумении. Меня смущало несколько обстоятельств. Во-первых, Тома никогда не писала о своих соседях. Более того, никогда не упоминала о том, что дом ее мужа, в который он увез Тому после свадьбы, был на две семьи. Во-вторых, она ни разу не поведала нам о звонко поющем петухе. А где есть петух, то, как говорится, должны быть и куры, а к приусадебному хозяйству, по выражению моей Томы, у них с мужем не было никакого пристрастия. В-третьих, как водится, на лай собаки всегда откликается хозяин, но на крыльцо так никто и не вышел. И потом, кто есть Зойка?
Тем временем водитель открыл дверцу машины, показывая мне, что путь свободен, но я лишь вжалась в сиденье.
– Я не выйду! Вы куда меня привезли?
– Как куда? Вы что, не Зойкина сестра? А кто? – водитель озадачено почесал затылок. – Вот же у вас четко написано: «Угловой переулок, 22».
Одной рукой новый знакомый тыкал моим конвертом мне в лицо, другую руку простилал куда-то поверх небольшого куста, видимо, указывал на табличку, прибитую к стене дома.
– Сами вы «угловой»! – я выдернула конверт из его руки. – Где написано «Угловой»? Вы что, читать не умеете? Здесь же четко написано: «Луговой»! И не 22, а 2/2. Вы что, ненормальный? Или прикидываетесь? Может, у вас какие планы криминального характера? Так знайте, я занимаюсь в секции самообороны, смогу постоять за себя!
Меня трясло крупной дрожью, и я готова была разрыдаться. Потому как про секцию самообороны была выдумка от первого до последнего слова, я не то что постоять за себя не могла, – я не могла даже как следует обматерить своего обидчика. Но водитель сам был в шоке. Он внимательно принялся изучать конверт.
– Никогда бы не подумал, что это «Луговой» переулок, вот ведь умудрились накарябать.
Он сел за руль, посмотрел в мою сторону. Но уже не выглядел сонным и растерянным, ну, если только немного виноватым.
– Ладно, не переживайте так, отвезу вас сейчас в Луговой переулок.
Я увидела в зеркало заднего вида его лучезарную улыбку и не смогла сдержать свою улыбку в ответ.
– Вы простите меня, я вчера так устал и так обрадовался, что вы к Зойке едете, ведь я же тоже живу в этом доме. Дом-то на две квартиры у нас. Я знаю, что Зойка уехала в областной центр по своим делам дня на два, но думал, и вы знаете об этом. А когда подъехали к дому, вы так сладко спали, что я не стал вас будить. Но и оставить вас одну в машине я не осмелился, мало ли что; и тоже заснул.
Повествование водителя было логичным, да и сам он при дневном свете выглядел куда симпатичнее, но я все же до конца ему не верила. Зойку какую-то приплел, ишь, как улыбается любезно. Наверное, ограбить хотел, да не получилось, думала я про себя, не переставая улыбаться в ответ. Я так и не поняла, что это был за маневр, нелепая случайность или неудавшийся план ограбления.
Наконец водитель остановился на перекрестке двух уютных улочек у небольшого домика с резными ставнями. На калитке четкими буквами от руки было выведено: «Луговой пер. 2/2».
– Приехали, – заулыбался водитель. – Давайте я вам сумку помогу донести.
– Нет, нет, не надо, я сама. Вы поезжайте, я сама.
Водитель пожал плечами, сел в машину, но не уехал, а стоял и чего-то ждал. Я заволновалась и нервно стала жать на кнопку звонка. Никто не откликнулся. Черт! Тома с мужем на работу уже ушли! Так и есть, часы показывали половину восьмого. Я опоздала на какие-то десять минут!
Мои ноги подкосились. Так мне, любительнице сюрпризов, и надо. Ну почему я не сообщила о своем приезде? Теперь придется сидеть на скамейке у калитки до вечера. Почему мне никогда не приходило в голову расспросить Тому, где она работает?
Я села на скамью и увидела, что Дима смотрит в мою сторону.
– Что? Никого нет? – крикнул он.
Я кивнула.
– Ну, так садитесь в машину, побудете у меня до вечера.
Я отрицательно головой помотала.
– Да не бойтесь меня, не съем! – Дима подошел к скамье. – Что сидеть целый день на солнцепеке, умаетесь.
Я по-прежнему упрямо не хотела идти на диалог.
– Может, знакомые какие есть? Я отвезу, – продолжал принимать участие в моей судьбе водитель.
Я промолчала.
– А хотите, я вам пирожков привезу, мне вчера бабушка напекла. С малиной и со щавелем. Какие больше любите? А хотите, я все привезу?
– Да оставьте меня в покое!
Водитель пожал плечами, нехотя отошел к машине, немного помешкал, косясь в мою сторону, а потом сел и уехал.
Вот тут меня и накрыла волна отчаяния. Почему, какое решение ни приму, оно всегда неправильное, вопрошала я небеса. Почему я не приняла помощь этого славного паренька? Невооруженным глазом же было видно, что человек хороший. Добрый, отзывчивый, неравнодушный. И довольно-таки симпатичный. Я ничего умного не придумала, как разрыдаться.
– Анечка, милая моя, это ты? – сквозь слезы услышала я родной голос. – Что случилось, рыбка моя?
В объятьях сестры я разревелась, как маленькая.
На мое счастье Тома забыла ключ от сейфа и вернулась домой.
Я гостила у сестры три дня. Но про Петра ей не рассказала. Его образ был навсегда вытеснен тем таксистом Димой. Про Диму я думала целыми днями, да и ночами тоже. Подбегала к окну при каждом звуке проезжающего мимо автомобиля. Даже хотела сходить по адресу «Угловой переулок, 22», но не решилась. Отказалась от предложения Томиного мужа отвезти меня на вокзал и вызвала такси. Но приехал вовсе не Дима.
Я опять плакала всю дорогу. Но дома, приняв ванну, я смирилась с участью неудачницы. И тут прозвенел дверной звонок. На пороге стоял Дима.
– Извините, мне ваш адрес дала Тамара Романовна, сестра ваша. Я все же решил привезти вам пирожки, – дрожащим голосом произнес Дима, – только не с малиной, а с вишней. Вы любите с вишней?
Вот уже двадцать лет пирожки с вишней – мои самые любимые.
Я вытянула счастливый билет. Двадцать лет назад.
Тогда, двадцать лет назад, я очень страдала от недостатка мужского внимания. В нашем конструкторском бюро, куда я была распределена после окончания техникума, все незамужние подруги встречались с парнями, а меня на свидание в последний раз пригласили в восьмом классе. Как сейчас помню, самый красивый мальчик в школе прислал записку, где предлагал подойти к детской площадке, что находилась в соседнем дворе. Я не пришла, я прилетела, и он, в обмен на поцелуй, попросил приглядеть за его младшей сестрой, всего полчаса, пока он поиграет в футбол. Прошло более шести часов, пролетевших для меня в ожидании поцелуя, как один миг. Но вместо моего вожделенного принца пришла его мать и отругала меня за то, что ребенок в мокрых колготках сидит на железной скамье. Поцелуя я, как можно уже догадаться, так и не дождалась.
Правда, Петр, мой коллега, последние несколько недель мило мне улыбался, подмигивал и с удовольствием уплетал мои печенюшки. А в последнюю неделю перед моим отпуском и вовсе подробно выспросил меня про мои отпускные планы, многозначительно намекая, что у него за переработки есть несколько дней, которые он мечтает провести в хорошей компании. Я, не веря своей удаче, накупила красивого белья и дорогого алкоголя. Петр же в обнимку с Ниночкой, обладавшей единственным и неоспоримым достоинством в виде груди пятого размера, укатил в Сочи. А я, рыдая, рванула в маленький городок на Волге к старшей сестре Томе, у которой еще ни разу не гостила. Городок маленький, но с ресторанами, кинотеатрами, музеем краеведения, несметным количеством салонов красоты и, конечно, услугами такси.
Я не стала сообщать сестре о своем приезде, не хотела ей рассказывать наспех о своих «несчастиях» и очень хотела увидеть искреннюю радость от своего внезапного появления. Мой поезд прибыл в 04.30 утра, и я взяла такси на привокзальной площади. Таксист, мой ровесник, выглядел измученным, но какое мое дело до вида какого-то неизвестного паренька, тем более, я не в культурной столице, чтобы требовать от работника такси свежего и опрятного внешнего вида. Да и не до мужского пола мне тогда было. После поступка Петра все мужчины мира в одночасье оказались в числе лгунов и прохвостов, недостойных моего внимания.
От эмоций, переживаний и непрекращающихся всю дорогу рыданий, разговаривать с таксистом у меня не было ни желания, ни сил. Я достала из сумочки конверт последнего Томиного письма с ее обратным адресом и сунула его водителю под нос, тем самым давая ему понять, что ко мне ни с какими вопросами лучше не обращаться. Водитель взял конверт, взглянул на адрес, кивнул, и мы поехали. После утренней прохлады привокзальной площади в теплом салоне меня разморило, я откинулась на мягкую спинку сиденья, прикрыла глаза и отключилась.
Проснулась я от странных звуков: тихое посапывание перебивалось звонким петушиным криком. Я по-прежнему сидела в такси, вцепившись в свою сумочку, автомобиль стоял во дворе добротного деревянного дома, на веранде которого бесцеремонно горланил отливающийся всеми цветами радуги крупный петух.
Где я? Где водитель? Может, я еще сплю? Я потерла затекшую шею и попыталась выйти из машины, но как только я открыла дверцу, ко мне с грозным лаем бросилась огромная лохматая псина. Я взвизгнула, захлопнула дверь и тут же услышала шорох на сиденье водителя, а потом увидела, как поднимается и поворачивается в мою сторону огромная кудлатая голова. Я от страха закрыла глаза и заверещала еще громче.
– Эй, – услышала я голос, – вы кто? Вы чего так орете?
– Я кто? – изумилась я. – Я – ваша пассажирка, вы должны были меня отвезти к моей сестре, помните?
Я со страхом вглядывалась в заспанное лицо водителя, пытаясь отыскать там следы алкогольной или наркотической зависимости, но кроме недоумения, удивления и смущения ничего не увидела.
– А разве я вас не высадил у адреса?
– Так если я еще нахожусь в вашей машине, значит, не высадили! – недружелюбно откликнулась я. – Может, вы все же отвезете меня к сестре?
Водитель часто заморгал, вынул из недр бардачка мой конверт с адресом, долго его изучал и наконец вымолвил:
– Так приехали, вот дом-то. Ты Зойкина сестра, стало быть? Так давай знакомиться, меня Дима зовут, я сосед ваш. Выходите, сейчас только Аззу на цепь посажу. Да она ласковая, на вид страшная только.
Дима вышел из машины и, поймав лохматую собаку, повел ее к будке, а я осталась сидеть в недоумении. Меня смущало несколько обстоятельств. Во-первых, Тома никогда не писала о своих соседях. Более того, никогда не упоминала о том, что дом ее мужа, в который он увез Тому после свадьбы, был на две семьи. Во-вторых, она ни разу не поведала нам о звонко поющем петухе. А где есть петух, то, как говорится, должны быть и куры, а к приусадебному хозяйству, по выражению моей Томы, у них с мужем не было никакого пристрастия. В-третьих, как водится, на лай собаки всегда откликается хозяин, но на крыльцо так никто и не вышел. И потом, кто есть Зойка?
Тем временем водитель открыл дверцу машины, показывая мне, что путь свободен, но я лишь вжалась в сиденье.
– Я не выйду! Вы куда меня привезли?
– Как куда? Вы что, не Зойкина сестра? А кто? – водитель озадачено почесал затылок. – Вот же у вас четко написано: «Угловой переулок, 22».
Одной рукой новый знакомый тыкал моим конвертом мне в лицо, другую руку простилал куда-то поверх небольшого куста, видимо, указывал на табличку, прибитую к стене дома.
– Сами вы «угловой»! – я выдернула конверт из его руки. – Где написано «Угловой»? Вы что, читать не умеете? Здесь же четко написано: «Луговой»! И не 22, а 2/2. Вы что, ненормальный? Или прикидываетесь? Может, у вас какие планы криминального характера? Так знайте, я занимаюсь в секции самообороны, смогу постоять за себя!
Меня трясло крупной дрожью, и я готова была разрыдаться. Потому как про секцию самообороны была выдумка от первого до последнего слова, я не то что постоять за себя не могла, – я не могла даже как следует обматерить своего обидчика. Но водитель сам был в шоке. Он внимательно принялся изучать конверт.
– Никогда бы не подумал, что это «Луговой» переулок, вот ведь умудрились накарябать.
Он сел за руль, посмотрел в мою сторону. Но уже не выглядел сонным и растерянным, ну, если только немного виноватым.
– Ладно, не переживайте так, отвезу вас сейчас в Луговой переулок.
Я увидела в зеркало заднего вида его лучезарную улыбку и не смогла сдержать свою улыбку в ответ.
– Вы простите меня, я вчера так устал и так обрадовался, что вы к Зойке едете, ведь я же тоже живу в этом доме. Дом-то на две квартиры у нас. Я знаю, что Зойка уехала в областной центр по своим делам дня на два, но думал, и вы знаете об этом. А когда подъехали к дому, вы так сладко спали, что я не стал вас будить. Но и оставить вас одну в машине я не осмелился, мало ли что; и тоже заснул.
Повествование водителя было логичным, да и сам он при дневном свете выглядел куда симпатичнее, но я все же до конца ему не верила. Зойку какую-то приплел, ишь, как улыбается любезно. Наверное, ограбить хотел, да не получилось, думала я про себя, не переставая улыбаться в ответ. Я так и не поняла, что это был за маневр, нелепая случайность или неудавшийся план ограбления.
Наконец водитель остановился на перекрестке двух уютных улочек у небольшого домика с резными ставнями. На калитке четкими буквами от руки было выведено: «Луговой пер. 2/2».
– Приехали, – заулыбался водитель. – Давайте я вам сумку помогу донести.
– Нет, нет, не надо, я сама. Вы поезжайте, я сама.
Водитель пожал плечами, сел в машину, но не уехал, а стоял и чего-то ждал. Я заволновалась и нервно стала жать на кнопку звонка. Никто не откликнулся. Черт! Тома с мужем на работу уже ушли! Так и есть, часы показывали половину восьмого. Я опоздала на какие-то десять минут!
Мои ноги подкосились. Так мне, любительнице сюрпризов, и надо. Ну почему я не сообщила о своем приезде? Теперь придется сидеть на скамейке у калитки до вечера. Почему мне никогда не приходило в голову расспросить Тому, где она работает?
Я села на скамью и увидела, что Дима смотрит в мою сторону.
– Что? Никого нет? – крикнул он.
Я кивнула.
– Ну, так садитесь в машину, побудете у меня до вечера.
Я отрицательно головой помотала.
– Да не бойтесь меня, не съем! – Дима подошел к скамье. – Что сидеть целый день на солнцепеке, умаетесь.
Я по-прежнему упрямо не хотела идти на диалог.
– Может, знакомые какие есть? Я отвезу, – продолжал принимать участие в моей судьбе водитель.
Я промолчала.
– А хотите, я вам пирожков привезу, мне вчера бабушка напекла. С малиной и со щавелем. Какие больше любите? А хотите, я все привезу?
– Да оставьте меня в покое!
Водитель пожал плечами, нехотя отошел к машине, немного помешкал, косясь в мою сторону, а потом сел и уехал.
Вот тут меня и накрыла волна отчаяния. Почему, какое решение ни приму, оно всегда неправильное, вопрошала я небеса. Почему я не приняла помощь этого славного паренька? Невооруженным глазом же было видно, что человек хороший. Добрый, отзывчивый, неравнодушный. И довольно-таки симпатичный. Я ничего умного не придумала, как разрыдаться.
– Анечка, милая моя, это ты? – сквозь слезы услышала я родной голос. – Что случилось, рыбка моя?
В объятьях сестры я разревелась, как маленькая.
На мое счастье Тома забыла ключ от сейфа и вернулась домой.
Я гостила у сестры три дня. Но про Петра ей не рассказала. Его образ был навсегда вытеснен тем таксистом Димой. Про Диму я думала целыми днями, да и ночами тоже. Подбегала к окну при каждом звуке проезжающего мимо автомобиля. Даже хотела сходить по адресу «Угловой переулок, 22», но не решилась. Отказалась от предложения Томиного мужа отвезти меня на вокзал и вызвала такси. Но приехал вовсе не Дима.
Я опять плакала всю дорогу. Но дома, приняв ванну, я смирилась с участью неудачницы. И тут прозвенел дверной звонок. На пороге стоял Дима.
– Извините, мне ваш адрес дала Тамара Романовна, сестра ваша. Я все же решил привезти вам пирожки, – дрожащим голосом произнес Дима, – только не с малиной, а с вишней. Вы любите с вишней?
Вот уже двадцать лет пирожки с вишней – мои самые любимые.
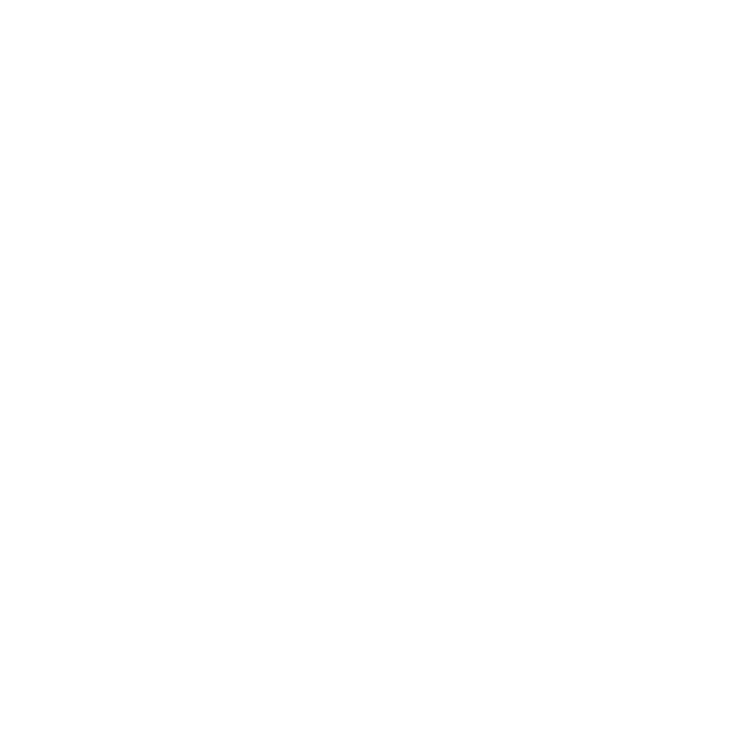
Наталья ГОШЕВА
Родилась в 1967 году. Работаю учителем начальных классов. Мне интересны люди и их судьбы. Дети – особая тема творчества. Мои произведения – стихи и рассказы, школьные сценарии – можно прочитать на страницах литературного пространства Проза.ру. Мой публичный литературный путь – небольшой. Рассказы печатались в журнале «Нана». Отдельная любимая тематика – мир животных.
Родилась в 1967 году. Работаю учителем начальных классов. Мне интересны люди и их судьбы. Дети – особая тема творчества. Мои произведения – стихи и рассказы, школьные сценарии – можно прочитать на страницах литературного пространства Проза.ру. Мой публичный литературный путь – небольшой. Рассказы печатались в журнале «Нана». Отдельная любимая тематика – мир животных.
УМКА
Давайте простим друг друга –
только тогда мы будем жить в мире.
Л.Н. Толстой
Очередной летний счастливый день привычно и неспешно шел к закату. Еще не последние, но уже не такие жаркие лучи большого чуда с названием «солнце» ласково освещали тропинки, уходящие к горным вершинам. Лучи скользили по летним пахучим лугам, сельской дороге, касались людей. И даже камни ручья, похожие на пирожки, – овальные, круглые – были обласканы солнцем. Они стали такими округлыми и ровными, потому что растаяли от горячих лучей. А однажды совсем сотрутся и превратятся в мелкий блестящий песок. Но песок, что привез дядя Асад, не сделан из волшебных пирожков, еще раньше он появился из большого голубого моря. В море песка много – белого и теплого. Умка пытался представить море и поднял высоко голову. Оно – как небо, только под ногами. И мокрое, как их река. И в нем столько же любви, как в небе, потому что и в море есть солнце. И, если не зажмуриться, солнце будет светить у тебя в глазах. А там, где солнце, там – любовь. Это Умка знал точно. И даже не потому что его звала бабушка «мое солнце, моя любовь», а потому что оно доброе, к нему все тянется – и трава, и деревья, летят птицы. А еще люди растут к солнцу, и он растет, и мир, в котором живет он, Умка, – светлый, солнечный и полный любви. Мир его предгорного села, где все любят друг друга, улыбаются и всегда просят маму дать погулять с ним. Потому что он – солнце, как говорит бабушка.
– Вот, видишь? Там нет столько простора. Там дома, как коробочки, и в них живут люди.
Мальчик удивленно опустил голову, чтобы рассмотреть песочную картинку. Дядя Асад механично рисовал на белом песке много-много домов маленькой деревянной палочкой. Это его подарок Умке – небольшая плоская подставка с блестящим песком, на которой можно рисовать животных, дома, людей, а потом, разгладив теплый песок и сделав из него море, опять создавать волшебные рисунки. Это увлекательно, волшебно. Так на бумаге не получается, ведь Умке трудно держать тонкие карандаши, а палочкой рисовать удобно и главное – полезно, как сказал доктор.
Сейчас дядя рассказывал про города, где живут люди. Он это сам видел, потому что у дяди такая работа – видеть много разных мест. Люди живут везде. Представить мир большим было сложно. Куда уж больше мира, знакомого ему, маленькому мальчику, может быть? Его большой мир – это теплый уютный дом с его собственной светлой комнаткой, любимый двор и село. И еще рынок, куда каждое утро ходит бабушка, чтобы раздавать добрым людям свой урожай. Неужели еще где-то есть дома и рынки? В это верилось с трудом, но дядя сам видел других детей, коров, машины, деревни, над которыми тоже светило солнце. Неужели оно и там тоже светит? Этого понять Умка не мог, как и того, что люди живут в коробочках с дырочками. Но дяде он верил. По тревожному голосу того малыш чувствовал, что города дяде не нравятся. Мальчик насупил бровки и строго посмотрел на песочный город:
– Пахие года, пахие!
Асад весело рассмеялся:
– Не сердись так! Они не плохие. Это вещь нужная, сынок! Страна наша большая, все люди, все человеки хотят жить! Ведь людей в мире много. Да, да... Им надо где-то жить. Да… Суета, работа. А что делать? Но вот смотри, вот тут, – он начертил подобие квадрата, – в этой коробочке живу я! – и нарисовал на песке усы с глазами.
Умка облегченно засмеялся. Дядя обнял малыша, больно прижав к себе:
– Но дома лучше. Дома я счастлив.
Асад прикусил нижнюю губу, сморщил нос, пытаясь развеселить ребенка. Пышные красивые усы увеличились, смешно растопырив тугие волоски, и даже стали двигаться. Умка улыбнулся, потрогал свою губу. Нет, у него усы не выросли. Вздохнул и тут же задумался: «И правда, как можно быть счастливым, если все живут в коробочках там, где нет лугов и гор, и солнцу некуда опускать свои лучи?» Вот ведь и на песке не осталось места для солнца.
Во дворе скрипнула калитка. Это шла мама мальчика. Умка вырвался из рук дяди, чуть не обронив доску с песком, и неуклюже бросился бежать ей навстречу. Пыхтя и волнуясь от радости, помогая себе болтающимися крупными руками, он громко дышал, вытягивая короткую шею. Его пухлые красные губы сделались трубочкой, готовясь к сладкому поцелую. Мама не ускорила шаг, лицо ее незаметно нервно дернулось, и она жестко предупредительно крикнула:
– Спокойно, не спеши!
Она не торопилась навстречу сыну, чтобы не нагнетать волнение родного ребенка, такого легковозбудимого косолапого неуклюжего медвежонка.
* * *
Когда Борз сказал матери, что его жена беременна, он надеялся на чудо – в их доме наступит долгожданное перемирие. Нет, мать с невесткой не ругались, не спорили, но между ними не было того тепла, на которое Борз рассчитывал. А без этого тепла он не мог жить спокойной жизнью, наполненной простыми делами, работой, общением с друзьями, петь песни и весело танцевать на праздниках. Все его молитвы последние три года уже были только об одном: чтобы изменилось это неприятие двух дорогих его сердцу женщин, чтобы они полюбили и поняли друг друга так, как он любил их. Потому что без их света он не мог быть счастливым.
Он помнил, как был легок, как соколом его душа парила в облаках, и будущая жизнь казалась бесконечным счастливым солнечным днем. Ночами он погружался в воспоминания, прокручивая свою жизнь с того момента, как полюбил. Где допустил он ошибку, когда стал виноватым в том, что эти дни не сложились в единую картину радости? Он вспоминал, как три года назад, уезжая по делам в Ставрополье безнадежным холостяком, уже через месяц с нетерпением возвращался самым счастливым человеком на свете. Помнил, как вбежал во двор, крепко обняв мать, прокричал: «Ты не поверишь! Огромные глаза и вот такая коса!» Он подхватывал мать на руки, смеялся и не стеснялся своей откровенности. Высокий, статный, он звенел, как струна, в своей радости: «А имя-то какое! Настя! Можно и по-нашему – Ася! Как тебе нравится? Да не сгорит твой холтмаш! Ну, что ты там приготовила? Неси, неси, скорее! Курица, с молоком? Моя любимая! Да ты моя любимая! Курочка ты моя! У! Как пахнет! Ах, мама, какие Настя печет пироги… Вот и перестал твой сын быть одиноким волком! Рррр! Да не дурачусь я! Ты же мечтала о внуках! Жаль, отец не дожил…Ну, что ты суетишься, сядь со мной, улыбнись, мама. Жить будем вместе, я не оставлю тебя. Пусть Асад сидит в своем городе, жует консервы! Лев в клетке! Надо ему позвонить, вот удивится! Ах, какие у нее глаза. И коса. Ты бы видела… какая у неё коса…»
Их в доме было два брата. Борз и Асад. Мама гордилась сыновьями, они были ее опорой, ее миром, ее жизнью. Отца давно не стало, но память о нем бережно хранили в их доме. Они жили в селе, хотя отец был человеком городским. До войны он выучился на педагога, а потом работал в техникуме, учил грозненских детей ремеслам. Он сам попросился на фронт, дошел до Берлина и был приставлен к награде – «Герой Советского Союза». Но награду так и не получил, как и многие чеченские солдаты. Пройдя тяжелый путь войны и страшных испытаний послевоенных сталинских репрессий, он выжил в далеком Казахстане и жил ради мечты: домой! Домой! На землю своих предков! Он верил, что рано или поздно вернется и продолжит главное дело своей жизни – обучение детей. На земле, невольно ставшей для его народа вторым домом, он встретил красавицу Айшат: любовь, друга, опору. Она придала ему сил в вере в справедливое будущее. И этот день настал. Долгожданный. Выстраданный. Как день Победы – светлый и горький, со слезами на глазах.
И все было так, как он мечтал. Дом, сельская школа, хозяйство. Все – сначала по крупицам, с первой доски до последнего гвоздя. Было тяжело. Но он никогда не роптал на судьбу… Воздавал хвалу Всевышнему за возможность жить на родной земле, дышать ее воздухом. Не получив наград на войне, он не чувствовал себя обиженным. Скромный и добрый человек, любящий природу, свой край, учивший детей дорожить жизнью и миром, от жизни он получил большее – Айшат родила ему двух сыновей, которых назвали Борз и Асад. Волк и Лев. Отцу нравилось такое сравнение, сочетание. Он любил людей, животных и мечтал, что его дети вырастут настоящими мужчинами. Но увидеть этого ему не пришлось. Он умер внезапно, в классе, держа в одной руке линейку, в другой – брусок дерева. Он учил детей ремеслу и умер, как на фронте, в борьбе против безграмотности детей вайнахского народа. Так их дом осиротел. Братья были еще подростками, и детей Айшат поднимала одна. Второй раз замуж выходить она не захотела.
Три года судьба не давала детей Насте и Борзу. «Не будет сына – не будет и крова». Кров был, вроде все было у них. Но крыша их дома скрывала невидимую печаль, противостояние и непонимание. Женское непонимание. Гордая и молчаливая Настя была хорошей хозяйкой, но их отношения с матерью как-то не заладились. Борз не знал, как это должно было произойти у них, у женщин. Как и когда они должны были стать рядом, плечо к плечу у домашнего очага и жить, как все. Понятно и просто. Откуда взялась эта сложность, куда девалась женская мудрость? Ведь она есть, была… И разве можно теперь что-то изменить? Как? Так неспокойно жил он. А ночами, вдыхая запах волос жены, погружаясь в омут ее глаз, он понимал, что жить не сможет без нее, пропадет, исчезнет с лица земли. Борз злился и тихо молился, молился, надеясь на чудо. На ребенка. Время шло, а детей не было. У брата уже родились мальчишки-сорванцы. А соседи то и дело заглядывали за ворота, невольно бросая взгляды на живот Насти. Она же с особой старательностью погружалась в дела. Лишь бы не смотреть в глаза ему, матери и всем живущим в чужом селе людям, которые становились для нее врагами только потому, что спрашивали о наследниках. Простое человеческое любопытство приносило ей нестерпимую боль. Муж жалел её, старался быть рядом и чувствовал взгляды мамы, которая, как казалось ему, упрекала невестку.
И вот наступил тот день, когда огромные глаза, как синие озера, вдруг засветились радостью долгожданного известия: у них будет ребенок. Только звонких дней не наступило. Жена еще больше замкнулась в себе. Бес, что ли, попутал? Она, боясь сглаза, избегала лишних взглядов, разговоров, отстранилась ото всех и, оберегая свою плоть, замкнулась в себе окончательно. Обнимая живот, как люльку, Настя часто уходила в луга, напевая песни своего края. Печальные и красивые. Она была счастлива одна.
Давайте простим друг друга –
только тогда мы будем жить в мире.
Л.Н. Толстой
Очередной летний счастливый день привычно и неспешно шел к закату. Еще не последние, но уже не такие жаркие лучи большого чуда с названием «солнце» ласково освещали тропинки, уходящие к горным вершинам. Лучи скользили по летним пахучим лугам, сельской дороге, касались людей. И даже камни ручья, похожие на пирожки, – овальные, круглые – были обласканы солнцем. Они стали такими округлыми и ровными, потому что растаяли от горячих лучей. А однажды совсем сотрутся и превратятся в мелкий блестящий песок. Но песок, что привез дядя Асад, не сделан из волшебных пирожков, еще раньше он появился из большого голубого моря. В море песка много – белого и теплого. Умка пытался представить море и поднял высоко голову. Оно – как небо, только под ногами. И мокрое, как их река. И в нем столько же любви, как в небе, потому что и в море есть солнце. И, если не зажмуриться, солнце будет светить у тебя в глазах. А там, где солнце, там – любовь. Это Умка знал точно. И даже не потому что его звала бабушка «мое солнце, моя любовь», а потому что оно доброе, к нему все тянется – и трава, и деревья, летят птицы. А еще люди растут к солнцу, и он растет, и мир, в котором живет он, Умка, – светлый, солнечный и полный любви. Мир его предгорного села, где все любят друг друга, улыбаются и всегда просят маму дать погулять с ним. Потому что он – солнце, как говорит бабушка.
– Вот, видишь? Там нет столько простора. Там дома, как коробочки, и в них живут люди.
Мальчик удивленно опустил голову, чтобы рассмотреть песочную картинку. Дядя Асад механично рисовал на белом песке много-много домов маленькой деревянной палочкой. Это его подарок Умке – небольшая плоская подставка с блестящим песком, на которой можно рисовать животных, дома, людей, а потом, разгладив теплый песок и сделав из него море, опять создавать волшебные рисунки. Это увлекательно, волшебно. Так на бумаге не получается, ведь Умке трудно держать тонкие карандаши, а палочкой рисовать удобно и главное – полезно, как сказал доктор.
Сейчас дядя рассказывал про города, где живут люди. Он это сам видел, потому что у дяди такая работа – видеть много разных мест. Люди живут везде. Представить мир большим было сложно. Куда уж больше мира, знакомого ему, маленькому мальчику, может быть? Его большой мир – это теплый уютный дом с его собственной светлой комнаткой, любимый двор и село. И еще рынок, куда каждое утро ходит бабушка, чтобы раздавать добрым людям свой урожай. Неужели еще где-то есть дома и рынки? В это верилось с трудом, но дядя сам видел других детей, коров, машины, деревни, над которыми тоже светило солнце. Неужели оно и там тоже светит? Этого понять Умка не мог, как и того, что люди живут в коробочках с дырочками. Но дяде он верил. По тревожному голосу того малыш чувствовал, что города дяде не нравятся. Мальчик насупил бровки и строго посмотрел на песочный город:
– Пахие года, пахие!
Асад весело рассмеялся:
– Не сердись так! Они не плохие. Это вещь нужная, сынок! Страна наша большая, все люди, все человеки хотят жить! Ведь людей в мире много. Да, да... Им надо где-то жить. Да… Суета, работа. А что делать? Но вот смотри, вот тут, – он начертил подобие квадрата, – в этой коробочке живу я! – и нарисовал на песке усы с глазами.
Умка облегченно засмеялся. Дядя обнял малыша, больно прижав к себе:
– Но дома лучше. Дома я счастлив.
Асад прикусил нижнюю губу, сморщил нос, пытаясь развеселить ребенка. Пышные красивые усы увеличились, смешно растопырив тугие волоски, и даже стали двигаться. Умка улыбнулся, потрогал свою губу. Нет, у него усы не выросли. Вздохнул и тут же задумался: «И правда, как можно быть счастливым, если все живут в коробочках там, где нет лугов и гор, и солнцу некуда опускать свои лучи?» Вот ведь и на песке не осталось места для солнца.
Во дворе скрипнула калитка. Это шла мама мальчика. Умка вырвался из рук дяди, чуть не обронив доску с песком, и неуклюже бросился бежать ей навстречу. Пыхтя и волнуясь от радости, помогая себе болтающимися крупными руками, он громко дышал, вытягивая короткую шею. Его пухлые красные губы сделались трубочкой, готовясь к сладкому поцелую. Мама не ускорила шаг, лицо ее незаметно нервно дернулось, и она жестко предупредительно крикнула:
– Спокойно, не спеши!
Она не торопилась навстречу сыну, чтобы не нагнетать волнение родного ребенка, такого легковозбудимого косолапого неуклюжего медвежонка.
* * *
Когда Борз сказал матери, что его жена беременна, он надеялся на чудо – в их доме наступит долгожданное перемирие. Нет, мать с невесткой не ругались, не спорили, но между ними не было того тепла, на которое Борз рассчитывал. А без этого тепла он не мог жить спокойной жизнью, наполненной простыми делами, работой, общением с друзьями, петь песни и весело танцевать на праздниках. Все его молитвы последние три года уже были только об одном: чтобы изменилось это неприятие двух дорогих его сердцу женщин, чтобы они полюбили и поняли друг друга так, как он любил их. Потому что без их света он не мог быть счастливым.
Он помнил, как был легок, как соколом его душа парила в облаках, и будущая жизнь казалась бесконечным счастливым солнечным днем. Ночами он погружался в воспоминания, прокручивая свою жизнь с того момента, как полюбил. Где допустил он ошибку, когда стал виноватым в том, что эти дни не сложились в единую картину радости? Он вспоминал, как три года назад, уезжая по делам в Ставрополье безнадежным холостяком, уже через месяц с нетерпением возвращался самым счастливым человеком на свете. Помнил, как вбежал во двор, крепко обняв мать, прокричал: «Ты не поверишь! Огромные глаза и вот такая коса!» Он подхватывал мать на руки, смеялся и не стеснялся своей откровенности. Высокий, статный, он звенел, как струна, в своей радости: «А имя-то какое! Настя! Можно и по-нашему – Ася! Как тебе нравится? Да не сгорит твой холтмаш! Ну, что ты там приготовила? Неси, неси, скорее! Курица, с молоком? Моя любимая! Да ты моя любимая! Курочка ты моя! У! Как пахнет! Ах, мама, какие Настя печет пироги… Вот и перестал твой сын быть одиноким волком! Рррр! Да не дурачусь я! Ты же мечтала о внуках! Жаль, отец не дожил…Ну, что ты суетишься, сядь со мной, улыбнись, мама. Жить будем вместе, я не оставлю тебя. Пусть Асад сидит в своем городе, жует консервы! Лев в клетке! Надо ему позвонить, вот удивится! Ах, какие у нее глаза. И коса. Ты бы видела… какая у неё коса…»
Их в доме было два брата. Борз и Асад. Мама гордилась сыновьями, они были ее опорой, ее миром, ее жизнью. Отца давно не стало, но память о нем бережно хранили в их доме. Они жили в селе, хотя отец был человеком городским. До войны он выучился на педагога, а потом работал в техникуме, учил грозненских детей ремеслам. Он сам попросился на фронт, дошел до Берлина и был приставлен к награде – «Герой Советского Союза». Но награду так и не получил, как и многие чеченские солдаты. Пройдя тяжелый путь войны и страшных испытаний послевоенных сталинских репрессий, он выжил в далеком Казахстане и жил ради мечты: домой! Домой! На землю своих предков! Он верил, что рано или поздно вернется и продолжит главное дело своей жизни – обучение детей. На земле, невольно ставшей для его народа вторым домом, он встретил красавицу Айшат: любовь, друга, опору. Она придала ему сил в вере в справедливое будущее. И этот день настал. Долгожданный. Выстраданный. Как день Победы – светлый и горький, со слезами на глазах.
И все было так, как он мечтал. Дом, сельская школа, хозяйство. Все – сначала по крупицам, с первой доски до последнего гвоздя. Было тяжело. Но он никогда не роптал на судьбу… Воздавал хвалу Всевышнему за возможность жить на родной земле, дышать ее воздухом. Не получив наград на войне, он не чувствовал себя обиженным. Скромный и добрый человек, любящий природу, свой край, учивший детей дорожить жизнью и миром, от жизни он получил большее – Айшат родила ему двух сыновей, которых назвали Борз и Асад. Волк и Лев. Отцу нравилось такое сравнение, сочетание. Он любил людей, животных и мечтал, что его дети вырастут настоящими мужчинами. Но увидеть этого ему не пришлось. Он умер внезапно, в классе, держа в одной руке линейку, в другой – брусок дерева. Он учил детей ремеслу и умер, как на фронте, в борьбе против безграмотности детей вайнахского народа. Так их дом осиротел. Братья были еще подростками, и детей Айшат поднимала одна. Второй раз замуж выходить она не захотела.
Три года судьба не давала детей Насте и Борзу. «Не будет сына – не будет и крова». Кров был, вроде все было у них. Но крыша их дома скрывала невидимую печаль, противостояние и непонимание. Женское непонимание. Гордая и молчаливая Настя была хорошей хозяйкой, но их отношения с матерью как-то не заладились. Борз не знал, как это должно было произойти у них, у женщин. Как и когда они должны были стать рядом, плечо к плечу у домашнего очага и жить, как все. Понятно и просто. Откуда взялась эта сложность, куда девалась женская мудрость? Ведь она есть, была… И разве можно теперь что-то изменить? Как? Так неспокойно жил он. А ночами, вдыхая запах волос жены, погружаясь в омут ее глаз, он понимал, что жить не сможет без нее, пропадет, исчезнет с лица земли. Борз злился и тихо молился, молился, надеясь на чудо. На ребенка. Время шло, а детей не было. У брата уже родились мальчишки-сорванцы. А соседи то и дело заглядывали за ворота, невольно бросая взгляды на живот Насти. Она же с особой старательностью погружалась в дела. Лишь бы не смотреть в глаза ему, матери и всем живущим в чужом селе людям, которые становились для нее врагами только потому, что спрашивали о наследниках. Простое человеческое любопытство приносило ей нестерпимую боль. Муж жалел её, старался быть рядом и чувствовал взгляды мамы, которая, как казалось ему, упрекала невестку.
И вот наступил тот день, когда огромные глаза, как синие озера, вдруг засветились радостью долгожданного известия: у них будет ребенок. Только звонких дней не наступило. Жена еще больше замкнулась в себе. Бес, что ли, попутал? Она, боясь сглаза, избегала лишних взглядов, разговоров, отстранилась ото всех и, оберегая свою плоть, замкнулась в себе окончательно. Обнимая живот, как люльку, Настя часто уходила в луга, напевая песни своего края. Печальные и красивые. Она была счастлива одна.
А летом Борз стал отцом. У них родился сын! Сын! Сын! Наследник! Ах, какой животик, попка! Ножки, глазки! Съел бы! Зацеловал бы! Большой, голубоглазый богатырь! Имя выбирала Настя. Она сказала, что личико его, что Луна – круглое и светлое, и выбрала имя, похожее на луну, – Умар. Они же хотели, как отца, – Мансур. И тут упрямство жены не уступило, перекрыло путь к надежде, что станут камни – небом. Настя настояла на своем. Но что об этом думать, если случилось главное – новая жизнь, как росток в пустыне, прорвалась на свет и озарила потемневшие от тоски лица. Сам, как блинчик, вкусный и кругленький, малыш напоминал пирожок... Да Бог с ним, с именем, со всем на свете! Лишь бы слышать лопотание этого ангела! А он и точно ангел! Умарчик не плакал, постоянно улыбался, был счастлив за всех них, взрослых, много ел и рос не по дням, а по часам. Его мать, став бабушкой, хозяйничала в доме, бегала на рынок и в те минуты, когда подходила к внуку, чувствовала напряженный взгляд невестки.
Первый тревогу забил Асад. Точнее, его жена, Кати. Асад боялся и слово сказать о делах брата. Кати, Катя – женщина городская, образованная, бойкая и напористая (с другим характером и не вырастишь ее сорванцов). Она работала в детском саду и была уверена, что знает все о детях. И после первого дня рождения Умара высказала свои тревоги. Она знала, что станет врагом, что прожжет ее Настя глазами до дыр, что затаит ненависть и будет ночью мужу стальным шепотом на ухо, как муха: ззззззз… Ну и пусть! Ей неважно. Она со всеми такая прямая: и дома, и на работе. А что время тянуть, тесто мять, ходить вокруг да около? Что скрывать? С мальчиком что-то не так! Сами не видите? Сидите тут, из ненависти стену построили, закрылись, замуровались тут, в своей деревне! Отец был образованный человек, а вы в кого? И ей, Кати, надоело смотреть на это! И не одергивай меня, тоже мне, муж называется! Стоит в стороне, как не родной! Ты со мной или нет? Или я все одна должна говорить? Тут о ребенке речь, о его здоровье! Так что дай слово сказать. Да уже сказала! И не смотри так на меня, не одергивай! Мама! Нана! Что там на кухне горит? Не злись, Ася, я ведь добра желаю. Могу из города доктора хорошего привезти. Давай?
Как бы Настя ни плакала потом мужу в плечо, ни стонала от тяжести принятия решения, этот день настал. Забили барашка, накрыли на стол, брат привез доктора. Маленький сухой старичок напомнил Айшат мужа. Она доверилась ему, поняла – он не обманет. Они с Кати сразу стали ухаживать за доктором, проявляя уважение, пытаясь угодить гостю. Кати суетилась возле матери, и было слышно, как она тяжело вздыхала. Волновалась. Муса, так звали доктора, только из уважения к дому присел за стол, но много не ел, лишь внимательно поглядывал из-под больших очков на Настю с малышом на руках. Она же молча выходила из дома, опять возвращалась и смотрела на доктора враждебно и подозрительно. На него и на мать. Вон, бегает как вокруг него!
Доктор не настаивал на скором осмотре, ел лапшу и что-то говорил о горной природе. Муса давал молодой маме время привыкнуть. А Борз тихо сидел, словно ждал приговора. Он устал, и ему казалось, что никогда не кончатся все эти испытания на его голову. Может, права была Настя – не надо было звать доктора? Что там еще будет дальше?
А потом они ушли в детскую комнату. Втроем. Доктор и они, молодые родители. Надо же, молодые! И события, как сани, покатились с горы. Доктор занимался с малышом, делал какие-то движения, доставал игрушки и незнакомые им предметы. Показывал малышу, их мальчику, который сдавал первый свой жизненный экзамен. И ничего нельзя было ему подсказать, как сделать правильно, как отреагировать, чтобы этот доктор Айболит поверил в то, что он самый лучший малыш на свете! Потом доктор говорил правду, без лишних слов, почти не жалея их родительскую душу. Так им казалось. Настя прижалась к стене, высоко подняв голову, избегая взгляда старика. А Борз кипел от негодования. Как можно было такое говорить о его ребенке? Что значит – болен! Да как посмел этот старик омрачить его радость? Вынести такую боль мужчина не мог, и Борз бросился вон из дома.
Они делали вид, что хозяйничают во дворе, напряженно ожидая заключения доктора. Женщины – вокруг стола, Асад копался в машине. Так, для виду. Всё равно думал об ином. Вдруг дверь дома резко открылась, из неё выбежал его брат. «Э! Борз! Куда ты?» Скоро показался и сам доктор, извинился, что ему надо ехать. «Ох, а как же обед?» Но к столу пройти доктор отказался, опустив низко глаза, он спешил домой. И Асад засобирался в дорогу, обратно в город. Кати теребила платье и не понимала, что нужно делать ей, которая все знает, которая заварила эту кашу и теперь совершенно не готова была действовать дальше. Машина загудела. Кати бросилась прочь: «Стой! Асад! Подожди! Я с вами!»
Айшат осталась во дворе одна. Она стояла растерянно, ничего не понимая, не зная, у кого спросить, узнать, что же там произошло? А потом вдруг вспомнила про Настю: «Господи, что же это я!» Айшат бросилась в дом, туда, где у стены стояла ее невестка – «Большие глаза, и вот такая коса!» Настя была каменной, отвернув голову от нее, от всего мира. Было тихо, но как-то холодно и тяжело. Умарчик мирно спал, чмокая во сне пухлыми губами. Они с Настей стояли одни. Во всем мире одни. Они никогда не стояли так, рядом в одной комнате, наедине друг с другом. Долю секунды старая женщина смотрела, нет, рассматривала невестку, как бы желая найти – что же ее сын разглядел в этой полноватой, смуглой казачке? Стоит, как каменная. Где же эти глаза? «Настя…» – прошептала она, словно пытаясь удостовериться, что та жива. Настя вздрогнула, повернув голову в ее сторону. Бездонные, пустые глаза. Измотанная, уставшая душа смотрела куда-то вдаль. Что же они сделали со своей жизнью? Боль в сердце разрывала Айшат: что? Что? Что сказал этот старик? Страшные домыслы пугали Айшат. Настя обреченно посмотрела на сына, на неё, и вдруг произнесла: «Простите… Простите… мама…»
И тут что-то произошло, подхватило Айшат, ее тело оторвалось от пола, и она сама не успела понять, как подлетела к этой глупой маленькой девчонке. Сухими ладонями обхватила она ее лицо и посмотрела в эти пустынные глаза: «Дочка, что ты? Дочка! Родная моя! Да ты ни в чем не виновата! Да он ангел, ты родила ангела!» Настя уронила голову ей на плечо, оказалось, она не такая высокая, эта Ася. «Я за все….простите…» – «Глупая, посмотри в глаза… За что? За все? Да ничего и не было!.. Это глупости, ерунда, все хорошо и будет хорошо! Смотри, смотри на меня! Дыши, дыши! Вдох, Настя, вдох! Дыши, девочка, дыши! Смотри на меня, смотри… Ах, Настя… какие у тебя огромные глаза!»
Ледник таял, и в огромных озерах поднималась светлая голубая вода. Чистая и живая. Настя горько плакала на плече Айшат: «Мама… мама… Умар…»
А Борз пропал. Как волк, он ушел в неведомую даль, и никто поначалу не понял, что он исчез. Потом его искали всем селом, и через неделю нашли местные охотники. Притащили во двор обросшего, голодного, облезлого зверя. Совершенно уставшего, измотанного горем. Поставили на ноги и попрятались за изгородью, ожидая конца истории.
Этот вечер был самым туманным и самым значительным в его жизни. Голова была ватной, но не от выпитого вина. Вина было мало. И глотка хватило, чтобы провалиться в бездонную печаль, и никак теперь не выбраться из ее глубокого дна. Он очнулся во дворе своего дома. В ушах звенело. Усталые глаза видели, как к нему бегут мать с Настей. Вот сейчас придется все объяснять, произнести все, что проговаривал сотни раз горам, дереву, небу, камням... Да, он ушёл, сбежал, он не вынес, не смог… Он не каменный, и сердце его живое… И нет у него больше сил терпеть все это, это вы во всем виноваты! За что вы с ним так? Чего не поделили? И за что Всевышний наказал ребенка?
Еще много слов, сотни раз проговорённых, выжигающих его мозг и сердце, хотел Борз выплеснуть, чтобы оправдаться, объяснить… Избавиться от боли. Чтобы облегчить душу, найти покой... Но его оправдания никто не слышал. Может, потому что он молчал, не находя сил на слова? Он не спал несколько ночей, голова – базальт, тяжелая и глухая. Или потому что женщины кричали громче его мыслей? Он видел их перед собой, но не слышал. Потряс головой. Нет, слух не вернулся. Борз даже обрадовался тому. Женских криков он не выносил. И так видно: они в гневе, их слышит всё село. Но что-то было не так, непривычно глазу. Что произошло, пока скрывался он в норе, как загнанный зверь, пока выл на луну, предаваясь печали? Туманная голова, думай, думай! Они ругались, это понятно. Испугались, потеряли его, искали. Так вам и надо, а что хотели? Получите теперь! Орите хоть век в одно горло! Узнаете, какую боль пережил он. Урок впредь вам двоим!.. Стоп! Да они вместе! Вот что изменилось! Мама и жена, обрушивая на поседевшую голову мужчины камнепад гневных слов, стояли единой стеной! Когда уже не надеешься, и вот… Как же здорово, когда женщины кричат… вместе! Борз протянул руку, чтобы прикоснуться, убедиться… Не во сне ли это? Чуть не упал. Женщины еще сильнее замахали руками. Вах! Двуглавая орлица! А как горели их глаза... Фурии, ей Богу, фурии! И создал же Всевышний женщину! Но главное – случилось, неважно, как и когда: они теперь – единое целое! Ах, как теперь легко и хорошо! Родные мои! И он хотел улыбнуться – не получилась. Лицо подвело – оно глупо скривилось и пьяно хихикнуло. И вдруг его матушка, любимая мама, сделала то, чего не делала никогда. Замолчав на секунду, она резко вскрикнула и разгневанно взмахнула сильной жилистой рукой. А потом со всей своей силы ударила сына в ухо. На секунду слух вернулся к Борзу, и в этот момент он услышал звонкое: «Отойдите, мама!»
«Мама? Она сказала – мама?» Борз на миг сфокусировал взгляд. Настя бежала с большим ведром воды. «Эээ…» – прохрипел удивленный муж, но не успел сказать, даже придумать слова, чтобы остановить жену. Настя с гневом и криком обрушила на голову мужа студеную, обжигающую воду. Он не просветлел, усталость подкосила его. Или обрушившаяся неожиданно радость оказалась слишком тяжелой? Это было уже неважно. Борз отключился. Закрыл усталые глаза и упал наземь с удивленной улыбкой на лице.
Так первый раз за эти годы он уснул легким безмятежным сном.
А утром, потирая больную голову, битый «волк» с усмешкой подумал о том, что обращаться ко Всевышнему с просьбами надо осторожнее, ведь молитвы могут исполняться. С тех пор он всегда держал отчет хозяйкам: куда и зачем идет. И был тому рад.
* * *
Айшат ходила на могилу мужа и долго рассказывала ему про то, как они теперь хорошо живут. Первое время любимая невестка Асенька волновалась, даже стыдилась того, что ее ребенок никогда не будет таким, как все. Но это быстро прошло. Конечно, старшие внуки тоже любимые, но Умарчик – особенный, необыкновенный. И люди это сразу поняли, стали заглядывать в их дом, чтобы только прикоснуться к их ангелочку. Божий ребенок, что и говорить… Однажды она поведала, как Умарчик сделал первые неуклюжие шаги, и как кто-то назвал его, неуклюжего милого медвежонка, ласково – Умкой. А, может, еще и так, потому что он, хоть и обделен этим даром, все равно для них самый умный и любимый. И они с Асенькой были счастливы такому обращению. Вот уж поистине имя, которое всем пришлось по сердцу. Оно бы и тебе, дорогой, понравилось. И теперь Умара, нашего с тобой внучка, зовут не иначе, как Умка. И что самое удивительное, к нему приезжали недавно из соседних сел! Зачем? Эх, ты… Да просили дотронуться до него, поиграть во дворе. А уж погулять с ангелочком – так это уже она, строгая бабушка, не каждому разрешает. Только близким соседям. Вот, к примеру, твоему другу Магомеду... Ах, какие у тебя друзья заботливые, дорогой, никогда не оставят, помнят и любят нас… В беде и тяготах не оставят. Вот Магомед… Что ни попросишь, сделает. И дом подправить, и в огороде... Он всегда рядом. И твоя Айшат доверяет ему с внучком гулять! По твоим любимым местам. Вроде как с тобой внучек наш. Вроде как ты с ним гуляешь. Магомед сам так говорит. И мы с этим согласны. Водит он его в лес, на твою скамеечку. И цветы они собирают, букетики, кору деревьев. Но больше всего наш внук любит ходить на речку. Как ты, дорогой. Может часами смотреть на воду. Весь в тебя наш мальчик. И везде солнце ищет. Как отражается оно, любит… Зайчиков солнечных. Он сам – как солнечный зайчик. Все говорят… А Борз научил его камешки кидать в речку, фигурки из них делать, горы складывать. Борз – самый счастливый отец. Конечно, такой внук у него... у нас… Борз обещал его свозить на море. Умка морем грезит. Асад привез журнал красивый, заграничный. Там фотографии моря не нашего, заграничного. Красивые такие картинки. Ох, как ему понравилось! Он теперь море часто рисует, рыбок в воде… Борз обещал его отвезти, показать следующим летом. Правда, Настя против, волнуется. Выход нашла: воды в тазик ему наливает, вроде как это море. Ты бы видел, как Умка купается в тазике! И говорит так смешно: «моле, моле». Ручками по воде: ух! Плюх! И смеется! Настоящий капитан! И волны дует: ффффф… Так получается славно! И всегда смеется! Веселится, кораблики пускает! Ему Кати из бумаги делает. Не поверишь, как настоящие! Они в детском саду такие детишкам тоже… А Асад настоящий привез. Такая игрушка! Ездил в командировку в Москву. Он уважаемый человек у нас. В самую Москву, столицу приглашали нашего сына! Вот какой он умный! И так Умку любит, балует. Игрушку с Кати придумали: поднос с песочком. Такая забава! Рисует с ним на песке! И учитель молодой приходит тоже… Гуляет с ним, занимается. Нас никто не оставляет... Хорошо мы живем… Без тебя… так плохо… Так что волноваться тебе незачем! Все, как ты хотел. Сыновья, внуки, дом полон... Все счастливы. Да, Асад машину починил, покрасил! Стала как новая! А его мальчишки… Такие проказники! Люблю их, хулиганов, так бы и отшлепала! И Умарчика любят... Братишку своего. Хорошие ребята…
Так она рассказывала все, что можно было поведать родному человеку, не упуская ничего, никаких мелочей жизни их большой семьи. Все, только вот…
Айшат не говорила главного мужу. Молчала она об истинной силе своей любви к младшему внуку. Боялась, что осудит ее муж за то, что важнее этой любви не было в ее жизни ничего. Ее чувства были так безграничны, что замечала она только своего Умку, обожала его до исступления, не видела большего смысла, как быть рядом с ним, кормить, ухаживать. Настя уже не ревновала и позволила ее уставшему от слез сердцу полностью отдаваться этому счастью – любить бедного больного ребенка. По пятницам невестка собирала сына к ней на рынок, переодевала малыша, словно готовились они к великому празднику. А праздник назывался просто – встретить бабушку после торговли, где она раздавала людям вкусные травы и плоды. Для ребенка это было не просто событие – это был ритуал их с бабушкой любви. Он ждал этого дня, выходя из дому, волновался, капризничал и торопил маму на дороге, топая ножками: скорее, скорее! А старая Айшат, завидев красавицу невестку с внуком еще издалека, бежала им навстречу. Оставляя весь товар на прилавке, не думая ни о чём, кроме объятий с родным ангелочком. Летела она лебедем, ослепленная счастьем, протягивая длинные худые руки, словно крылья, оставляя за собой клубы дорожной пыли. Летела навстречу ребенку, весело, почти взахлеб смеющемуся, вытягивающему свои пухлые сахарные губки для долгих и крепких поцелуев. И падала Айшат на колени к ногам внука, и целовала эти косолапые ножки, что так весело бежали к ней навстречу. А Настя стояла в стороне и только переживала, что ребенок уж очень волнуется и потом долго не сможет успокоиться перед сном. Стояла и молчала, не мешая их большому человеческому счастью.
* * *
Умку действительно любили все. А как же иначе? Ребенок, светящийся от любви, улыбающийся всем и всегда, почти никогда не плакал. Благодарный за внимание и подарки, он часто повторял «сбо... сбо…». Так получалось у него его, малышовое «спасибо». Он хлопал черными ресницами и смущенно опускал голову вниз. Чаще всего смешное «сбо» слышал дядя Асад. Год назад он подарил мальчику настоящего теленка, уверяя всех, что живое существо благотворно влияет на развитие детей. Как сказала Кати. Потом был котенок Васька, ставший неожиданно беременной кошкой (совсем там, в городе, сдурели, кота от кошки отличить не могут). И как бы ни ворчала иногда Настя по поводу выбора подарков (целого живого теленка привезли!), она была счастлива. Только один подарок вырвала Настя из рук Асада – деревянный автомат. На оружие она не соглашалась ни в каком виде. А вот кораблик – это здорово! На нем можно уплыть, как тучка плывет по небу. Далеко-далеко! Вон, как та, похожая на гору. Да! И гора поплыла! А море шумит «Шшшш». А теперь подуй, как ветер! Ффффф… Ах, как у тебя получается! Слышишь, как речка шумит? Скажи: речка. Ррррр. Нет, не лллл… Повтори еще раз: рррр. Ах, как хорошо у тебя получается говорить! Ты теперь капитан корабля, Умка!
Умке нравилось быть капитаном. Он дул в небо, и его тучки плыли туда, где есть еще люди, дома, города, и лишь солнце оставалось на месте. Оно Умку никогда не покидало.
Дети Кати были и вправду сорванцами. Они были дружны и неразлучны. «Брат без брата – сокол без крыла». Они любили приезжать в село, где для них папа с дядей построили на дереве двора большое гнездо. Места на земле мальчишкам не хватало. Подвижные, задорные, они были обыкновенными подростками, любящими играть в войну, в салочки, мешающими отцу копаться в машине. Вездесущие, эти соколята умудрялись попадать в истории, бить до крови коленки, лбы, ломать руки… И хоть Кати и знала, как воспитывать детей, ей приходилось нелегко с этой неуемной подростковой энергией. Они приезжали всей семьей на выходные навещать бабушку, помогать ей по хозяйству. Но ни разу день не проходил спокойно – хоть немного, но парни обязательно набедокурят. Дети есть дети. Их любили, воспитывали, потакали их прихотям, но братья всегда знали: главный в доме – это Умка.
* * *
В тот день все собрались в родительском доме. В большой семье всегда есть повод для праздника. Женщины готовили вкусные блюда, бабушка торговала на рынке. Мужчины занимались домом. Весна выдалась дождливая, протекала крыша. Все были заняты, и братьям велели следить за малышом. Была обычная весенняя пятница.
Горная речка вышла из берегов, ее полноводное русло бурлило холодной пенящейся водой. Идея игры пришла как-то само собой. Конечно, в пиратов! Смастерили флаг, натянули повязки на глаза и долго спорили, кто же из них станет пиратским капитаном. Умка играл во дворе, восхищенно рассматривая высокое дерево, любимых братьев, так ловко и смело взбирающихся на самую вершину. Ему, Умке, так было не дано уметь. Зато у него был настоящий кораблик, что подарил дядя Асад. Умка с удовольствием играл в кораблик, рассекая рукой прозрачный весенний воздух. Просто налить ему море в тазик как-то забыли. Был он капитаном, только без моря. А какой капитан без настоящей воды? И братья во-о-он как высоко, без него играют.
Кати с тетей Настей следили за ребятами, отрываясь от хозяйских дел. Не шумите так, мальчишки! И следите за братом! Эх, никак не давали увлечься игрой своими вопросами об Умке.
Не один раз Настя выкрикивала в окно дома:
– Умка с вами?
– Да! – отвечали мальчишки, и женщины продолжали свое привычное хозяйское дело. Мужчины уехали искать какие-то материалы, вечно они найдут повод оторваться от жен хоть на час. Наступало время идти за бабушкой. Настя умыла лицо, привычно крикнув в окно: «Умка с вами?» Но что-то уж слишком быстро ребята ответили ей «да». Она видела, что и головы никто не опустил вниз. Странно это все. Настя тревожно посмотрела на Кати. И быстро вышла во двор.
– Где Умка? – напряженно и строго спросила она. – Где Умка?!
Тяжелым эхом вопрос повторялся еще не раз, рассекая весенний воздух и заставляя каждого, кто его услышал, содрогнуться. Где Умка? Где Умка? Где? Где? Все сильнее и сильнее, громом и грохотом стучал этот вопрос в ушах, в висках. Сердце отбивало жесткий ритм: где? Где? Где? Застревали комом в горле, камнепадом катились короткие два слова, не находящие ответ. «Где Умка? Где же он? Где?» Передавались из уст в уста, молнией долетели они до рынка. «Умка пропал! Где Умка?»
Словно меч, острый безжалостный вражий меч-вопрос полоснул горло Айшат. Вскинула она руки и закричала всем горлом, большой зияющей раной: «Вода! Вода! Ищите в воде!» И бросилась бежать так, словно точно знала, где искать ее ненаглядного Умку.
«Вода! Вода!» – секретное слово долетело до села быстрее ветра. Слово-разгадка, надежда, объяснение. И быстро, как из-под земли, выросли богатыри с машинами, тракторами, преграждая путь подлой коварной реке. «Отдай ребенка!» – требовал разум человеческий. «Найди…» – насмехалась стихия. «Верни, верни его…» – молилось сердце. «Мое! Прочь с дороги!» – угрожала река, обрушивая на людей обжигающие потоки.
Айшат стояла возле реки, ища прозрачными глазами хоть тень знакомого тела. Все, что нашли – маленький кораблик, капитаном которого был ее лучезарный Умка. Она крепко сжимала его в руке, еще надеясь – игрушка поможет ей найти ребенка. Но разум точно знал – этого никогда не будет. Уже никогда не поцелует она его ножки, не прижмет к себе его круглое личико, не поцелует пухлые сахарные губы. Солнце мое, разве это возможно? Айшат подняла голову высоко в небо. Солнце… Оно ударило по ослепшим от горя глазам. И увидела обезумевшая от горя старуха, как плывет по небу ее Умка. Светлый и счастливый. Нет, он не косолапил, но он еще непривычно для себя, ровно и несмело передвигался по морю-небу. Он светился и был счастлив. С белым, как луна, лицом. «Куда ты, Умка? Куда плывешь? Подожди… Глупый, подожди меня, это я, твоя бабушка!..» Айшат засмеялась, удивленно разводя руками: «Да подожди ты! Ишь, как скоро научился ходить! И не догонишь!» Она радовалась за него и все же несколько удивлялась, почему малыш не подождет ее, куда так спешит? «Подожди…» Она протягивала руки, и только облака, как пыль из-под ног, плавно отплывали от нее. «Надо же, как непросто бежать по небу… Смотри, Умка, а вот облачко-гора… Узнаешь? Ну, что ты все смеешься? Подожди… Озорник…» Она шла за ним легко и радостно, только никак не могла догнать. И каждый раз, как только приближалась к родному ребенку, он отдалялся от нее и ждал. «Умка, а я так испугалась. Разве так можно? Как тут хорошо у тебя!» А он улыбался, он уже стоял на ровных ножках и смотрел на бабушку голубыми умными глазами. И вот когда мимо них проплыла тучка-гора, он протянул к ней свои нежные белые ручки: «Пойдем со мной, бабушка!» «Вот и хорошо…» – вздохнула она, и они растворились в лучах чуда под названием солнце. И уже никто не мешал их большой нечеловеческой любви.
Когда доставали ее тело, вдруг случайно обнаружили и его. Он… его тело зацепилось за корягу, и вряд ли ребенка смогли бы скоро найти. Только когда бы ушла вода. А весна в тот год была полноводная.
Дети стояли за дверью, внимательно вслушиваясь во взрослый разговор. Только разговором назвать это было сложно. Настя сидела молча у окна, Кати не было. Она лежала в городской больнице. Мужчины стояли за спиной Насти, и так продолжалось уже не один час.
– Прости… – лишь изредка шептал муж.
– Прости их… – вторил его брат.
Мальчишки не видели лица Насти, а потому так и не поняли – простила ли их эта гордая казачка. Только вот себя простить они так и не смогли.
* * *
Жизнь продолжалась. Не та, не так, наполненная простыми делами и необходимостью просто жить. Жить и помнить. Отдаляясь от счастливых лет прошлого, находя маленькие радости в настоящем. Дни шли своим чередом. До того декабря, когда солнца вдруг не стало. Наступило смутное, тяжелое, страшное время. Огненное небо смешало землю, небо, людей, правду и ложь. Это были девяностые годы. Годы долгой войны.
Первыми оружие взяли сыновья Кати. И никто не знает, кто из них куда пошел, в какую сторону. Потому что вырастали они уже молчаливыми людьми. Быстро повзрослев, братья замкнулись в себе и уже мало говорили о том, что творится у них на душе. Их детство закончилось сразу и навсегда, когда не стало Умки. И у каждого было свое время, свой миг. Последний миг, когда, падая на землю, они не закрывали глаза, а с облегчением смотрели в небо. Туда, где когда-то светило солнце.
А потом был убит их отец, добрый и благородный лев Асад. Просто не доехал до дома. Его старенькую машину, на которой он пробирался с друзьями к родному брату, обнаружили на окраине села. Пустую, с открытыми дверями, на пустой песчаной дороге. Так закончился путь сына «Героя Советского Союза». Тело Асада так и не нашли.
Через четыре года Настя, седая и постаревшая, похоронила любимого мужа. Не смирившись с тяжелой утратой, находила успокоение в долгих беседах у могильного камня: «...Вот и я, любовь моя… Как ты без меня? Я стараюсь, держусь. Ничего, люди у нас хорошие, в беде не оставят. Помогают. Домой не уеду, не проси даже. Тут мой дом. Тут моё место… Рядом с тобой. Знаешь, вот мулла дал разрешение, такой хороший человек… и я каждый день радуюсь этому, так счастлива... Буду рядом с тобой лежать. С вами. Куда я без тебя? И без мальчика нашего. Сердце моё... Сан дог… Потерпи только. Катю нельзя мне бросать. Болеет она часто. Нужна я ей. И еще... Чурт тебе новый хочу, как у сыночка... Не спорь даже, красивый мечтаю, с месяцем. Не успокоюсь, пока не сделаю. Но это уж после войны, ладно? Подождешь? Меня... С Умкой. Как он там, ангелочек наш?» Все эти годы она часто думала о сыне, о том, что ее малыш сейчас не понял бы, куда делось его любимое солнце. И что он, инвалид, не смог бы спастись, пережить эти многочисленные зачистки, а она не защитила бы его от боли. Теперь она благодарила небеса за то, что они уберегли ее мальчика от мучительной жизни. Настя не могла понять, кто в ответе за все, что сейчас происходит, и какому Богу молиться. Она отчаянно и почти отчаявшись, обращалась ко всем святым. Целуя свой деревянный крестик, она крепко прижимала к сердцу амулет мужа, надеясь, что и он отведет беду стороной. Вот только мужа однажды защитить он не сумел. Никогда не расставаясь с амулетом, она боялась потерять невидимую нить – связь с любимым человеком. Настя ходила туда, где лежали ее муж и сын, дорогая Айшат, и долго сидела возле их могил, крепко сжимая в ладонях крестик и полумесяц со звездочкой. Она молилась за всех людей, живущих на земле, за всех матерей и сыновей, веря в силу материнской любви. Её сердце знало – дети услышат своих матерей, материнские молитвы остановят это безумие. А потому однажды, положив на могилку Умки игрушечный кораблик, вдруг перестала бояться и успокаивала односельчан своей уверенностью: скоро всё будет хорошо, её Умка их не оставит.
* * *
А время шло, независимо ни от чего. Таково его предназначение – вести свой отсчет. И солнце ожило. Не сразу, постепенно его лучи нащупывали землю, как бы вспоминая, как же это было раньше? Горные вершины подставляли замерзшие бока и пики свету, желая первыми ощутить радость мирной тихой жизни. Земля стряхивала с себя память о страшных годах, прятала под свои камни боль и ужас, детский плач и стоны женщин. Горные реки и водопады, как вены и артерии, наполняли жизнью Кавказский край. Мирной, хоть еще иногда тревожной жизнью.
Настя с Кати сидели у могил своих родных, старательно приводя их в порядок. Это все, что они могли сделать для тех, кого любили. Нет, продолжали любить до сих пор. Вдруг стали вспоминать все хорошее, что было с ними. «Ой, Кати, забавная ты! Детей учила… учишь, а с животными такое! Теленка купила! Удивительно, но он после войны жив остался. Надо же… А беременная кошка по имени Васька! Как ты кота от кошки не смогла отличить? Ну и что, что тебе сказали – кот! Что? Морда показалась кота?! Так ты бы, дурочка, туда посмотрела! Ну и что, что шерсти много! Так ты бы шерсть рукой… Почему не посмотрела? Стеснялась?! Ой, смешно! Ну и что, что морда! Ой, хохотушка ты! – Да? А сама-то! Себя вспомни! Пойдем, говорит! Я тут все места знаю, как родные! И заблудилась, у до-ро-ги! – А ты! – Что? – А помнишь, как твои дети в тесто... конфеты! Вместо начинки…»
А вокруг было тихо и спокойно, словно небо всегда было голубым и бездонным.
– Настя… скажи…– вдруг перестав смеяться, побледнев, словно и дышать тоже перестала, спросила Кати.
– Что…
– Ты простила их? – вопрос-мольба застал Настю врасплох.
Ася перестала смеяться и замолчала. Но лицо осталось светлым и спокойным. Она подняла к небу большие синие глаза. Маленькая тучка-гора тихо проплывала над ее головой. Лучи яркого солнца, хитро выглядывая из-за ее краев, освещали голубое небо.
– Умка… – прошептала она.
– Что?
Настя нежно улыбнулась, и морщинки на ее лице превратились в острые лучики.
– Простила, родная, всех простила…
Кати вскрикнула, но как-то тихо, боясь спугнуть решение Аси простить ее сыновей, обхватила ноги подруги и тихо заплакала.
– Все хорошо, все будет хорошо… Словно ничего и не было… – повторила Ася слова Айшат, гладя ее голову, – какие у тебя волосы… седые…
А маленький мальчик оттуда, с небес, лукаво смотрел на маму, на тетю Кати, на всю Землю, которая виделась ему с высоты непостижимо большой и необъятной. Он видел, как строятся города – новые, красивые, где люди будут жить в просторных коробочках, с дырочками для усов и глаз. Он видел новые села, машины, горы и реки. А главное – большие моря. Мама, мама! Ты не поверишь: море, оно – как небо, безграничное и синее. И такое же мокрое, как слезы. Но он, Умка, никогда больше не позволит морю залить глаза мамочки. И все тучки, смотри, он сдует далеко-далеко. Слышишь, как у него хорошо получается: «Шшшшш…рррррр…» Он все тучки сдует за горизонт, подальше от нашего села. Он может! Ведь он теперь капитан тут, на небесах. И будет над миром ЛЮБОВЬ, потому что любовь – это солнце, а оно светит надо всей Землей.
Это Умка знал уже совершенно точно.
Первый тревогу забил Асад. Точнее, его жена, Кати. Асад боялся и слово сказать о делах брата. Кати, Катя – женщина городская, образованная, бойкая и напористая (с другим характером и не вырастишь ее сорванцов). Она работала в детском саду и была уверена, что знает все о детях. И после первого дня рождения Умара высказала свои тревоги. Она знала, что станет врагом, что прожжет ее Настя глазами до дыр, что затаит ненависть и будет ночью мужу стальным шепотом на ухо, как муха: ззззззз… Ну и пусть! Ей неважно. Она со всеми такая прямая: и дома, и на работе. А что время тянуть, тесто мять, ходить вокруг да около? Что скрывать? С мальчиком что-то не так! Сами не видите? Сидите тут, из ненависти стену построили, закрылись, замуровались тут, в своей деревне! Отец был образованный человек, а вы в кого? И ей, Кати, надоело смотреть на это! И не одергивай меня, тоже мне, муж называется! Стоит в стороне, как не родной! Ты со мной или нет? Или я все одна должна говорить? Тут о ребенке речь, о его здоровье! Так что дай слово сказать. Да уже сказала! И не смотри так на меня, не одергивай! Мама! Нана! Что там на кухне горит? Не злись, Ася, я ведь добра желаю. Могу из города доктора хорошего привезти. Давай?
Как бы Настя ни плакала потом мужу в плечо, ни стонала от тяжести принятия решения, этот день настал. Забили барашка, накрыли на стол, брат привез доктора. Маленький сухой старичок напомнил Айшат мужа. Она доверилась ему, поняла – он не обманет. Они с Кати сразу стали ухаживать за доктором, проявляя уважение, пытаясь угодить гостю. Кати суетилась возле матери, и было слышно, как она тяжело вздыхала. Волновалась. Муса, так звали доктора, только из уважения к дому присел за стол, но много не ел, лишь внимательно поглядывал из-под больших очков на Настю с малышом на руках. Она же молча выходила из дома, опять возвращалась и смотрела на доктора враждебно и подозрительно. На него и на мать. Вон, бегает как вокруг него!
Доктор не настаивал на скором осмотре, ел лапшу и что-то говорил о горной природе. Муса давал молодой маме время привыкнуть. А Борз тихо сидел, словно ждал приговора. Он устал, и ему казалось, что никогда не кончатся все эти испытания на его голову. Может, права была Настя – не надо было звать доктора? Что там еще будет дальше?
А потом они ушли в детскую комнату. Втроем. Доктор и они, молодые родители. Надо же, молодые! И события, как сани, покатились с горы. Доктор занимался с малышом, делал какие-то движения, доставал игрушки и незнакомые им предметы. Показывал малышу, их мальчику, который сдавал первый свой жизненный экзамен. И ничего нельзя было ему подсказать, как сделать правильно, как отреагировать, чтобы этот доктор Айболит поверил в то, что он самый лучший малыш на свете! Потом доктор говорил правду, без лишних слов, почти не жалея их родительскую душу. Так им казалось. Настя прижалась к стене, высоко подняв голову, избегая взгляда старика. А Борз кипел от негодования. Как можно было такое говорить о его ребенке? Что значит – болен! Да как посмел этот старик омрачить его радость? Вынести такую боль мужчина не мог, и Борз бросился вон из дома.
Они делали вид, что хозяйничают во дворе, напряженно ожидая заключения доктора. Женщины – вокруг стола, Асад копался в машине. Так, для виду. Всё равно думал об ином. Вдруг дверь дома резко открылась, из неё выбежал его брат. «Э! Борз! Куда ты?» Скоро показался и сам доктор, извинился, что ему надо ехать. «Ох, а как же обед?» Но к столу пройти доктор отказался, опустив низко глаза, он спешил домой. И Асад засобирался в дорогу, обратно в город. Кати теребила платье и не понимала, что нужно делать ей, которая все знает, которая заварила эту кашу и теперь совершенно не готова была действовать дальше. Машина загудела. Кати бросилась прочь: «Стой! Асад! Подожди! Я с вами!»
Айшат осталась во дворе одна. Она стояла растерянно, ничего не понимая, не зная, у кого спросить, узнать, что же там произошло? А потом вдруг вспомнила про Настю: «Господи, что же это я!» Айшат бросилась в дом, туда, где у стены стояла ее невестка – «Большие глаза, и вот такая коса!» Настя была каменной, отвернув голову от нее, от всего мира. Было тихо, но как-то холодно и тяжело. Умарчик мирно спал, чмокая во сне пухлыми губами. Они с Настей стояли одни. Во всем мире одни. Они никогда не стояли так, рядом в одной комнате, наедине друг с другом. Долю секунды старая женщина смотрела, нет, рассматривала невестку, как бы желая найти – что же ее сын разглядел в этой полноватой, смуглой казачке? Стоит, как каменная. Где же эти глаза? «Настя…» – прошептала она, словно пытаясь удостовериться, что та жива. Настя вздрогнула, повернув голову в ее сторону. Бездонные, пустые глаза. Измотанная, уставшая душа смотрела куда-то вдаль. Что же они сделали со своей жизнью? Боль в сердце разрывала Айшат: что? Что? Что сказал этот старик? Страшные домыслы пугали Айшат. Настя обреченно посмотрела на сына, на неё, и вдруг произнесла: «Простите… Простите… мама…»
И тут что-то произошло, подхватило Айшат, ее тело оторвалось от пола, и она сама не успела понять, как подлетела к этой глупой маленькой девчонке. Сухими ладонями обхватила она ее лицо и посмотрела в эти пустынные глаза: «Дочка, что ты? Дочка! Родная моя! Да ты ни в чем не виновата! Да он ангел, ты родила ангела!» Настя уронила голову ей на плечо, оказалось, она не такая высокая, эта Ася. «Я за все….простите…» – «Глупая, посмотри в глаза… За что? За все? Да ничего и не было!.. Это глупости, ерунда, все хорошо и будет хорошо! Смотри, смотри на меня! Дыши, дыши! Вдох, Настя, вдох! Дыши, девочка, дыши! Смотри на меня, смотри… Ах, Настя… какие у тебя огромные глаза!»
Ледник таял, и в огромных озерах поднималась светлая голубая вода. Чистая и живая. Настя горько плакала на плече Айшат: «Мама… мама… Умар…»
А Борз пропал. Как волк, он ушел в неведомую даль, и никто поначалу не понял, что он исчез. Потом его искали всем селом, и через неделю нашли местные охотники. Притащили во двор обросшего, голодного, облезлого зверя. Совершенно уставшего, измотанного горем. Поставили на ноги и попрятались за изгородью, ожидая конца истории.
Этот вечер был самым туманным и самым значительным в его жизни. Голова была ватной, но не от выпитого вина. Вина было мало. И глотка хватило, чтобы провалиться в бездонную печаль, и никак теперь не выбраться из ее глубокого дна. Он очнулся во дворе своего дома. В ушах звенело. Усталые глаза видели, как к нему бегут мать с Настей. Вот сейчас придется все объяснять, произнести все, что проговаривал сотни раз горам, дереву, небу, камням... Да, он ушёл, сбежал, он не вынес, не смог… Он не каменный, и сердце его живое… И нет у него больше сил терпеть все это, это вы во всем виноваты! За что вы с ним так? Чего не поделили? И за что Всевышний наказал ребенка?
Еще много слов, сотни раз проговорённых, выжигающих его мозг и сердце, хотел Борз выплеснуть, чтобы оправдаться, объяснить… Избавиться от боли. Чтобы облегчить душу, найти покой... Но его оправдания никто не слышал. Может, потому что он молчал, не находя сил на слова? Он не спал несколько ночей, голова – базальт, тяжелая и глухая. Или потому что женщины кричали громче его мыслей? Он видел их перед собой, но не слышал. Потряс головой. Нет, слух не вернулся. Борз даже обрадовался тому. Женских криков он не выносил. И так видно: они в гневе, их слышит всё село. Но что-то было не так, непривычно глазу. Что произошло, пока скрывался он в норе, как загнанный зверь, пока выл на луну, предаваясь печали? Туманная голова, думай, думай! Они ругались, это понятно. Испугались, потеряли его, искали. Так вам и надо, а что хотели? Получите теперь! Орите хоть век в одно горло! Узнаете, какую боль пережил он. Урок впредь вам двоим!.. Стоп! Да они вместе! Вот что изменилось! Мама и жена, обрушивая на поседевшую голову мужчины камнепад гневных слов, стояли единой стеной! Когда уже не надеешься, и вот… Как же здорово, когда женщины кричат… вместе! Борз протянул руку, чтобы прикоснуться, убедиться… Не во сне ли это? Чуть не упал. Женщины еще сильнее замахали руками. Вах! Двуглавая орлица! А как горели их глаза... Фурии, ей Богу, фурии! И создал же Всевышний женщину! Но главное – случилось, неважно, как и когда: они теперь – единое целое! Ах, как теперь легко и хорошо! Родные мои! И он хотел улыбнуться – не получилась. Лицо подвело – оно глупо скривилось и пьяно хихикнуло. И вдруг его матушка, любимая мама, сделала то, чего не делала никогда. Замолчав на секунду, она резко вскрикнула и разгневанно взмахнула сильной жилистой рукой. А потом со всей своей силы ударила сына в ухо. На секунду слух вернулся к Борзу, и в этот момент он услышал звонкое: «Отойдите, мама!»
«Мама? Она сказала – мама?» Борз на миг сфокусировал взгляд. Настя бежала с большим ведром воды. «Эээ…» – прохрипел удивленный муж, но не успел сказать, даже придумать слова, чтобы остановить жену. Настя с гневом и криком обрушила на голову мужа студеную, обжигающую воду. Он не просветлел, усталость подкосила его. Или обрушившаяся неожиданно радость оказалась слишком тяжелой? Это было уже неважно. Борз отключился. Закрыл усталые глаза и упал наземь с удивленной улыбкой на лице.
Так первый раз за эти годы он уснул легким безмятежным сном.
А утром, потирая больную голову, битый «волк» с усмешкой подумал о том, что обращаться ко Всевышнему с просьбами надо осторожнее, ведь молитвы могут исполняться. С тех пор он всегда держал отчет хозяйкам: куда и зачем идет. И был тому рад.
* * *
Айшат ходила на могилу мужа и долго рассказывала ему про то, как они теперь хорошо живут. Первое время любимая невестка Асенька волновалась, даже стыдилась того, что ее ребенок никогда не будет таким, как все. Но это быстро прошло. Конечно, старшие внуки тоже любимые, но Умарчик – особенный, необыкновенный. И люди это сразу поняли, стали заглядывать в их дом, чтобы только прикоснуться к их ангелочку. Божий ребенок, что и говорить… Однажды она поведала, как Умарчик сделал первые неуклюжие шаги, и как кто-то назвал его, неуклюжего милого медвежонка, ласково – Умкой. А, может, еще и так, потому что он, хоть и обделен этим даром, все равно для них самый умный и любимый. И они с Асенькой были счастливы такому обращению. Вот уж поистине имя, которое всем пришлось по сердцу. Оно бы и тебе, дорогой, понравилось. И теперь Умара, нашего с тобой внучка, зовут не иначе, как Умка. И что самое удивительное, к нему приезжали недавно из соседних сел! Зачем? Эх, ты… Да просили дотронуться до него, поиграть во дворе. А уж погулять с ангелочком – так это уже она, строгая бабушка, не каждому разрешает. Только близким соседям. Вот, к примеру, твоему другу Магомеду... Ах, какие у тебя друзья заботливые, дорогой, никогда не оставят, помнят и любят нас… В беде и тяготах не оставят. Вот Магомед… Что ни попросишь, сделает. И дом подправить, и в огороде... Он всегда рядом. И твоя Айшат доверяет ему с внучком гулять! По твоим любимым местам. Вроде как с тобой внучек наш. Вроде как ты с ним гуляешь. Магомед сам так говорит. И мы с этим согласны. Водит он его в лес, на твою скамеечку. И цветы они собирают, букетики, кору деревьев. Но больше всего наш внук любит ходить на речку. Как ты, дорогой. Может часами смотреть на воду. Весь в тебя наш мальчик. И везде солнце ищет. Как отражается оно, любит… Зайчиков солнечных. Он сам – как солнечный зайчик. Все говорят… А Борз научил его камешки кидать в речку, фигурки из них делать, горы складывать. Борз – самый счастливый отец. Конечно, такой внук у него... у нас… Борз обещал его свозить на море. Умка морем грезит. Асад привез журнал красивый, заграничный. Там фотографии моря не нашего, заграничного. Красивые такие картинки. Ох, как ему понравилось! Он теперь море часто рисует, рыбок в воде… Борз обещал его отвезти, показать следующим летом. Правда, Настя против, волнуется. Выход нашла: воды в тазик ему наливает, вроде как это море. Ты бы видел, как Умка купается в тазике! И говорит так смешно: «моле, моле». Ручками по воде: ух! Плюх! И смеется! Настоящий капитан! И волны дует: ффффф… Так получается славно! И всегда смеется! Веселится, кораблики пускает! Ему Кати из бумаги делает. Не поверишь, как настоящие! Они в детском саду такие детишкам тоже… А Асад настоящий привез. Такая игрушка! Ездил в командировку в Москву. Он уважаемый человек у нас. В самую Москву, столицу приглашали нашего сына! Вот какой он умный! И так Умку любит, балует. Игрушку с Кати придумали: поднос с песочком. Такая забава! Рисует с ним на песке! И учитель молодой приходит тоже… Гуляет с ним, занимается. Нас никто не оставляет... Хорошо мы живем… Без тебя… так плохо… Так что волноваться тебе незачем! Все, как ты хотел. Сыновья, внуки, дом полон... Все счастливы. Да, Асад машину починил, покрасил! Стала как новая! А его мальчишки… Такие проказники! Люблю их, хулиганов, так бы и отшлепала! И Умарчика любят... Братишку своего. Хорошие ребята…
Так она рассказывала все, что можно было поведать родному человеку, не упуская ничего, никаких мелочей жизни их большой семьи. Все, только вот…
Айшат не говорила главного мужу. Молчала она об истинной силе своей любви к младшему внуку. Боялась, что осудит ее муж за то, что важнее этой любви не было в ее жизни ничего. Ее чувства были так безграничны, что замечала она только своего Умку, обожала его до исступления, не видела большего смысла, как быть рядом с ним, кормить, ухаживать. Настя уже не ревновала и позволила ее уставшему от слез сердцу полностью отдаваться этому счастью – любить бедного больного ребенка. По пятницам невестка собирала сына к ней на рынок, переодевала малыша, словно готовились они к великому празднику. А праздник назывался просто – встретить бабушку после торговли, где она раздавала людям вкусные травы и плоды. Для ребенка это было не просто событие – это был ритуал их с бабушкой любви. Он ждал этого дня, выходя из дому, волновался, капризничал и торопил маму на дороге, топая ножками: скорее, скорее! А старая Айшат, завидев красавицу невестку с внуком еще издалека, бежала им навстречу. Оставляя весь товар на прилавке, не думая ни о чём, кроме объятий с родным ангелочком. Летела она лебедем, ослепленная счастьем, протягивая длинные худые руки, словно крылья, оставляя за собой клубы дорожной пыли. Летела навстречу ребенку, весело, почти взахлеб смеющемуся, вытягивающему свои пухлые сахарные губки для долгих и крепких поцелуев. И падала Айшат на колени к ногам внука, и целовала эти косолапые ножки, что так весело бежали к ней навстречу. А Настя стояла в стороне и только переживала, что ребенок уж очень волнуется и потом долго не сможет успокоиться перед сном. Стояла и молчала, не мешая их большому человеческому счастью.
* * *
Умку действительно любили все. А как же иначе? Ребенок, светящийся от любви, улыбающийся всем и всегда, почти никогда не плакал. Благодарный за внимание и подарки, он часто повторял «сбо... сбо…». Так получалось у него его, малышовое «спасибо». Он хлопал черными ресницами и смущенно опускал голову вниз. Чаще всего смешное «сбо» слышал дядя Асад. Год назад он подарил мальчику настоящего теленка, уверяя всех, что живое существо благотворно влияет на развитие детей. Как сказала Кати. Потом был котенок Васька, ставший неожиданно беременной кошкой (совсем там, в городе, сдурели, кота от кошки отличить не могут). И как бы ни ворчала иногда Настя по поводу выбора подарков (целого живого теленка привезли!), она была счастлива. Только один подарок вырвала Настя из рук Асада – деревянный автомат. На оружие она не соглашалась ни в каком виде. А вот кораблик – это здорово! На нем можно уплыть, как тучка плывет по небу. Далеко-далеко! Вон, как та, похожая на гору. Да! И гора поплыла! А море шумит «Шшшш». А теперь подуй, как ветер! Ффффф… Ах, как у тебя получается! Слышишь, как речка шумит? Скажи: речка. Ррррр. Нет, не лллл… Повтори еще раз: рррр. Ах, как хорошо у тебя получается говорить! Ты теперь капитан корабля, Умка!
Умке нравилось быть капитаном. Он дул в небо, и его тучки плыли туда, где есть еще люди, дома, города, и лишь солнце оставалось на месте. Оно Умку никогда не покидало.
Дети Кати были и вправду сорванцами. Они были дружны и неразлучны. «Брат без брата – сокол без крыла». Они любили приезжать в село, где для них папа с дядей построили на дереве двора большое гнездо. Места на земле мальчишкам не хватало. Подвижные, задорные, они были обыкновенными подростками, любящими играть в войну, в салочки, мешающими отцу копаться в машине. Вездесущие, эти соколята умудрялись попадать в истории, бить до крови коленки, лбы, ломать руки… И хоть Кати и знала, как воспитывать детей, ей приходилось нелегко с этой неуемной подростковой энергией. Они приезжали всей семьей на выходные навещать бабушку, помогать ей по хозяйству. Но ни разу день не проходил спокойно – хоть немного, но парни обязательно набедокурят. Дети есть дети. Их любили, воспитывали, потакали их прихотям, но братья всегда знали: главный в доме – это Умка.
* * *
В тот день все собрались в родительском доме. В большой семье всегда есть повод для праздника. Женщины готовили вкусные блюда, бабушка торговала на рынке. Мужчины занимались домом. Весна выдалась дождливая, протекала крыша. Все были заняты, и братьям велели следить за малышом. Была обычная весенняя пятница.
Горная речка вышла из берегов, ее полноводное русло бурлило холодной пенящейся водой. Идея игры пришла как-то само собой. Конечно, в пиратов! Смастерили флаг, натянули повязки на глаза и долго спорили, кто же из них станет пиратским капитаном. Умка играл во дворе, восхищенно рассматривая высокое дерево, любимых братьев, так ловко и смело взбирающихся на самую вершину. Ему, Умке, так было не дано уметь. Зато у него был настоящий кораблик, что подарил дядя Асад. Умка с удовольствием играл в кораблик, рассекая рукой прозрачный весенний воздух. Просто налить ему море в тазик как-то забыли. Был он капитаном, только без моря. А какой капитан без настоящей воды? И братья во-о-он как высоко, без него играют.
Кати с тетей Настей следили за ребятами, отрываясь от хозяйских дел. Не шумите так, мальчишки! И следите за братом! Эх, никак не давали увлечься игрой своими вопросами об Умке.
Не один раз Настя выкрикивала в окно дома:
– Умка с вами?
– Да! – отвечали мальчишки, и женщины продолжали свое привычное хозяйское дело. Мужчины уехали искать какие-то материалы, вечно они найдут повод оторваться от жен хоть на час. Наступало время идти за бабушкой. Настя умыла лицо, привычно крикнув в окно: «Умка с вами?» Но что-то уж слишком быстро ребята ответили ей «да». Она видела, что и головы никто не опустил вниз. Странно это все. Настя тревожно посмотрела на Кати. И быстро вышла во двор.
– Где Умка? – напряженно и строго спросила она. – Где Умка?!
Тяжелым эхом вопрос повторялся еще не раз, рассекая весенний воздух и заставляя каждого, кто его услышал, содрогнуться. Где Умка? Где Умка? Где? Где? Все сильнее и сильнее, громом и грохотом стучал этот вопрос в ушах, в висках. Сердце отбивало жесткий ритм: где? Где? Где? Застревали комом в горле, камнепадом катились короткие два слова, не находящие ответ. «Где Умка? Где же он? Где?» Передавались из уст в уста, молнией долетели они до рынка. «Умка пропал! Где Умка?»
Словно меч, острый безжалостный вражий меч-вопрос полоснул горло Айшат. Вскинула она руки и закричала всем горлом, большой зияющей раной: «Вода! Вода! Ищите в воде!» И бросилась бежать так, словно точно знала, где искать ее ненаглядного Умку.
«Вода! Вода!» – секретное слово долетело до села быстрее ветра. Слово-разгадка, надежда, объяснение. И быстро, как из-под земли, выросли богатыри с машинами, тракторами, преграждая путь подлой коварной реке. «Отдай ребенка!» – требовал разум человеческий. «Найди…» – насмехалась стихия. «Верни, верни его…» – молилось сердце. «Мое! Прочь с дороги!» – угрожала река, обрушивая на людей обжигающие потоки.
Айшат стояла возле реки, ища прозрачными глазами хоть тень знакомого тела. Все, что нашли – маленький кораблик, капитаном которого был ее лучезарный Умка. Она крепко сжимала его в руке, еще надеясь – игрушка поможет ей найти ребенка. Но разум точно знал – этого никогда не будет. Уже никогда не поцелует она его ножки, не прижмет к себе его круглое личико, не поцелует пухлые сахарные губы. Солнце мое, разве это возможно? Айшат подняла голову высоко в небо. Солнце… Оно ударило по ослепшим от горя глазам. И увидела обезумевшая от горя старуха, как плывет по небу ее Умка. Светлый и счастливый. Нет, он не косолапил, но он еще непривычно для себя, ровно и несмело передвигался по морю-небу. Он светился и был счастлив. С белым, как луна, лицом. «Куда ты, Умка? Куда плывешь? Подожди… Глупый, подожди меня, это я, твоя бабушка!..» Айшат засмеялась, удивленно разводя руками: «Да подожди ты! Ишь, как скоро научился ходить! И не догонишь!» Она радовалась за него и все же несколько удивлялась, почему малыш не подождет ее, куда так спешит? «Подожди…» Она протягивала руки, и только облака, как пыль из-под ног, плавно отплывали от нее. «Надо же, как непросто бежать по небу… Смотри, Умка, а вот облачко-гора… Узнаешь? Ну, что ты все смеешься? Подожди… Озорник…» Она шла за ним легко и радостно, только никак не могла догнать. И каждый раз, как только приближалась к родному ребенку, он отдалялся от нее и ждал. «Умка, а я так испугалась. Разве так можно? Как тут хорошо у тебя!» А он улыбался, он уже стоял на ровных ножках и смотрел на бабушку голубыми умными глазами. И вот когда мимо них проплыла тучка-гора, он протянул к ней свои нежные белые ручки: «Пойдем со мной, бабушка!» «Вот и хорошо…» – вздохнула она, и они растворились в лучах чуда под названием солнце. И уже никто не мешал их большой нечеловеческой любви.
Когда доставали ее тело, вдруг случайно обнаружили и его. Он… его тело зацепилось за корягу, и вряд ли ребенка смогли бы скоро найти. Только когда бы ушла вода. А весна в тот год была полноводная.
Дети стояли за дверью, внимательно вслушиваясь во взрослый разговор. Только разговором назвать это было сложно. Настя сидела молча у окна, Кати не было. Она лежала в городской больнице. Мужчины стояли за спиной Насти, и так продолжалось уже не один час.
– Прости… – лишь изредка шептал муж.
– Прости их… – вторил его брат.
Мальчишки не видели лица Насти, а потому так и не поняли – простила ли их эта гордая казачка. Только вот себя простить они так и не смогли.
* * *
Жизнь продолжалась. Не та, не так, наполненная простыми делами и необходимостью просто жить. Жить и помнить. Отдаляясь от счастливых лет прошлого, находя маленькие радости в настоящем. Дни шли своим чередом. До того декабря, когда солнца вдруг не стало. Наступило смутное, тяжелое, страшное время. Огненное небо смешало землю, небо, людей, правду и ложь. Это были девяностые годы. Годы долгой войны.
Первыми оружие взяли сыновья Кати. И никто не знает, кто из них куда пошел, в какую сторону. Потому что вырастали они уже молчаливыми людьми. Быстро повзрослев, братья замкнулись в себе и уже мало говорили о том, что творится у них на душе. Их детство закончилось сразу и навсегда, когда не стало Умки. И у каждого было свое время, свой миг. Последний миг, когда, падая на землю, они не закрывали глаза, а с облегчением смотрели в небо. Туда, где когда-то светило солнце.
А потом был убит их отец, добрый и благородный лев Асад. Просто не доехал до дома. Его старенькую машину, на которой он пробирался с друзьями к родному брату, обнаружили на окраине села. Пустую, с открытыми дверями, на пустой песчаной дороге. Так закончился путь сына «Героя Советского Союза». Тело Асада так и не нашли.
Через четыре года Настя, седая и постаревшая, похоронила любимого мужа. Не смирившись с тяжелой утратой, находила успокоение в долгих беседах у могильного камня: «...Вот и я, любовь моя… Как ты без меня? Я стараюсь, держусь. Ничего, люди у нас хорошие, в беде не оставят. Помогают. Домой не уеду, не проси даже. Тут мой дом. Тут моё место… Рядом с тобой. Знаешь, вот мулла дал разрешение, такой хороший человек… и я каждый день радуюсь этому, так счастлива... Буду рядом с тобой лежать. С вами. Куда я без тебя? И без мальчика нашего. Сердце моё... Сан дог… Потерпи только. Катю нельзя мне бросать. Болеет она часто. Нужна я ей. И еще... Чурт тебе новый хочу, как у сыночка... Не спорь даже, красивый мечтаю, с месяцем. Не успокоюсь, пока не сделаю. Но это уж после войны, ладно? Подождешь? Меня... С Умкой. Как он там, ангелочек наш?» Все эти годы она часто думала о сыне, о том, что ее малыш сейчас не понял бы, куда делось его любимое солнце. И что он, инвалид, не смог бы спастись, пережить эти многочисленные зачистки, а она не защитила бы его от боли. Теперь она благодарила небеса за то, что они уберегли ее мальчика от мучительной жизни. Настя не могла понять, кто в ответе за все, что сейчас происходит, и какому Богу молиться. Она отчаянно и почти отчаявшись, обращалась ко всем святым. Целуя свой деревянный крестик, она крепко прижимала к сердцу амулет мужа, надеясь, что и он отведет беду стороной. Вот только мужа однажды защитить он не сумел. Никогда не расставаясь с амулетом, она боялась потерять невидимую нить – связь с любимым человеком. Настя ходила туда, где лежали ее муж и сын, дорогая Айшат, и долго сидела возле их могил, крепко сжимая в ладонях крестик и полумесяц со звездочкой. Она молилась за всех людей, живущих на земле, за всех матерей и сыновей, веря в силу материнской любви. Её сердце знало – дети услышат своих матерей, материнские молитвы остановят это безумие. А потому однажды, положив на могилку Умки игрушечный кораблик, вдруг перестала бояться и успокаивала односельчан своей уверенностью: скоро всё будет хорошо, её Умка их не оставит.
* * *
А время шло, независимо ни от чего. Таково его предназначение – вести свой отсчет. И солнце ожило. Не сразу, постепенно его лучи нащупывали землю, как бы вспоминая, как же это было раньше? Горные вершины подставляли замерзшие бока и пики свету, желая первыми ощутить радость мирной тихой жизни. Земля стряхивала с себя память о страшных годах, прятала под свои камни боль и ужас, детский плач и стоны женщин. Горные реки и водопады, как вены и артерии, наполняли жизнью Кавказский край. Мирной, хоть еще иногда тревожной жизнью.
Настя с Кати сидели у могил своих родных, старательно приводя их в порядок. Это все, что они могли сделать для тех, кого любили. Нет, продолжали любить до сих пор. Вдруг стали вспоминать все хорошее, что было с ними. «Ой, Кати, забавная ты! Детей учила… учишь, а с животными такое! Теленка купила! Удивительно, но он после войны жив остался. Надо же… А беременная кошка по имени Васька! Как ты кота от кошки не смогла отличить? Ну и что, что тебе сказали – кот! Что? Морда показалась кота?! Так ты бы, дурочка, туда посмотрела! Ну и что, что шерсти много! Так ты бы шерсть рукой… Почему не посмотрела? Стеснялась?! Ой, смешно! Ну и что, что морда! Ой, хохотушка ты! – Да? А сама-то! Себя вспомни! Пойдем, говорит! Я тут все места знаю, как родные! И заблудилась, у до-ро-ги! – А ты! – Что? – А помнишь, как твои дети в тесто... конфеты! Вместо начинки…»
А вокруг было тихо и спокойно, словно небо всегда было голубым и бездонным.
– Настя… скажи…– вдруг перестав смеяться, побледнев, словно и дышать тоже перестала, спросила Кати.
– Что…
– Ты простила их? – вопрос-мольба застал Настю врасплох.
Ася перестала смеяться и замолчала. Но лицо осталось светлым и спокойным. Она подняла к небу большие синие глаза. Маленькая тучка-гора тихо проплывала над ее головой. Лучи яркого солнца, хитро выглядывая из-за ее краев, освещали голубое небо.
– Умка… – прошептала она.
– Что?
Настя нежно улыбнулась, и морщинки на ее лице превратились в острые лучики.
– Простила, родная, всех простила…
Кати вскрикнула, но как-то тихо, боясь спугнуть решение Аси простить ее сыновей, обхватила ноги подруги и тихо заплакала.
– Все хорошо, все будет хорошо… Словно ничего и не было… – повторила Ася слова Айшат, гладя ее голову, – какие у тебя волосы… седые…
А маленький мальчик оттуда, с небес, лукаво смотрел на маму, на тетю Кати, на всю Землю, которая виделась ему с высоты непостижимо большой и необъятной. Он видел, как строятся города – новые, красивые, где люди будут жить в просторных коробочках, с дырочками для усов и глаз. Он видел новые села, машины, горы и реки. А главное – большие моря. Мама, мама! Ты не поверишь: море, оно – как небо, безграничное и синее. И такое же мокрое, как слезы. Но он, Умка, никогда больше не позволит морю залить глаза мамочки. И все тучки, смотри, он сдует далеко-далеко. Слышишь, как у него хорошо получается: «Шшшшш…рррррр…» Он все тучки сдует за горизонт, подальше от нашего села. Он может! Ведь он теперь капитан тут, на небесах. И будет над миром ЛЮБОВЬ, потому что любовь – это солнце, а оно светит надо всей Землей.
Это Умка знал уже совершенно точно.
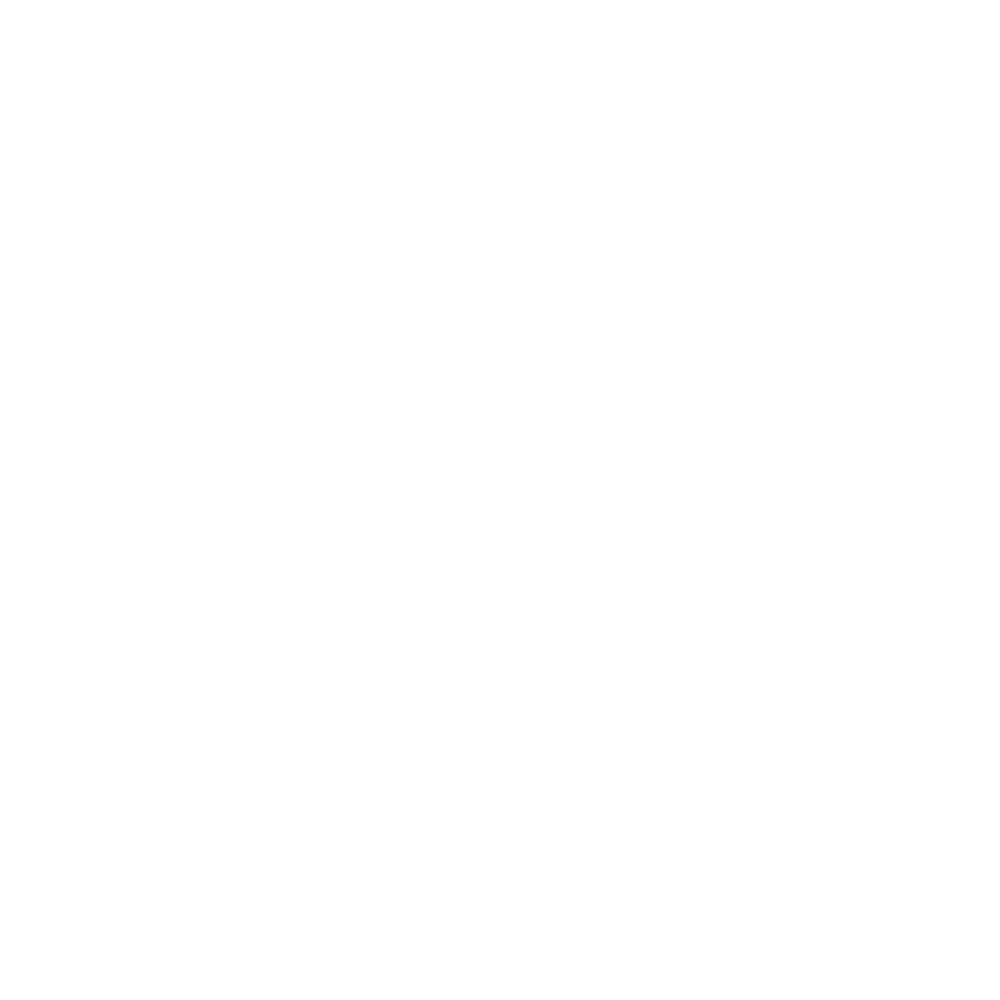
Сергей САФОНОВ
Родился в 1957 году. Детство провел на Сахалине. После окончания Дипломатической академии работал на внешнеполитическом поприще. Недавно стал пенсионером.
Рассказ «Замкнутый квадрат» – уже второй литературный опыт автора, первый рассказ был напечатан в альманахе «Новое Слово» в 2023 году.
Родился в 1957 году. Детство провел на Сахалине. После окончания Дипломатической академии работал на внешнеполитическом поприще. Недавно стал пенсионером.
Рассказ «Замкнутый квадрат» – уже второй литературный опыт автора, первый рассказ был напечатан в альманахе «Новое Слово» в 2023 году.
ЗАМКНУТЫЙ КВАДРАТ
В те июньские дни самого конца семидесятых в городе стояла изнуряющая жара. В безветренную погоду после полудня воздух так накалялся, что, казалось, начинал звенеть, и все живое в поисках прохлады пряталось в спасительную тень. Представлялось, что в этом пекле в тогда безлюдной чаше Донского монастыря кто-то невидимый вот-вот зава-рит тополиную кашу, и невесомые хлопья, поднимаясь вверх, зависая и кружась, придадут всему происходящему на безмятежных улицах бывшей слободы какой-то особый, минорный оттенок.
Но в то раннее утро у молодого человека, шагавшего вдоль ограды «Красного пролетария» с потертым портфелем и дерматиновым тубусом в руке, было совсем другое настроение. Он бодро шел на защиту своего дипломного проекта. Евгений – так звали будущего инженера – давно ждал этого дня, подводившего черту под годами учебы и открывавшего новый этап жизни – как раз той, к которой он стремился.
Пять лет назад после службы в армии Женя стоял перед выбором своей дальнейшей судьбы. Тогда он смог вновь взяться за учебники и поступить в хоть и не самый престижный, но все-таки столичный вуз. Заглянув после зачисления в свой небольшой провинциальный город, парень сразу же отметил, с какой гордостью говорят о нем родители, и почувствовал тот оттенок уважительного отношения их друзей и соседей, с которым люди обычно общаются с более статусными земляками. Ощущения, возникшие тогда у новоиспеченного студента, оказались той «живительной брагой», потребность в которой со временем только росла.
Через год-полтора он понял, что по окончании института уже не сможет вернуться к родителям, поскольку распределение на местную фабрику прочило ему не более чем должность «командира» двух десятков по большей части пьющих слесарей и превращение в глазах окружающих в самую заурядную личность. В этот момент кто-то рассказал еще не определившемуся второкурснику о возможности остаться на профильной кафедре, после чего молодой человек решил всерьез взяться за учебу. Его старания заметили, и к концу года он был назначен старостой группы, что позволило Евгению наладить отношения с деканом, который и поспособствовал реализации перспективных жизненных планов честолюбивого студента.
Теперь на этом пути предстояло сделать последний, как он думал, формальный шаг: на «отлично» защитить дипломный проект. И пока ясным летним утром Евгений шел в институт, восторженное ощущение того, что ему все же удастся остаться на кафедре, не покидало его. В исходе предстоящего экзамена дипломник не сомневался: он делал работу сам, хорошо знал материал да и на потоке защищался первым. «Какой смысл кому-то меня заваливать, когда обо всем уже договорено?» – без тени сомнения спрашивал он сам себя. Однако эти самоувещевания все же не могли полностью заглушить, казалось бы, ниоткуда возникшее внутреннее напряжение, интуитивное стремление ослабить которое делало обычно размеренную походку Евгения более энергичной.
Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как подошел к покосившимся от времени воротам, открывавшим доступ на территорию института. Тысячу раз проходил Евгений через эти обычно распахнутые настежь железные створки, порою даже не замечая их. Но сегодня все изъяны видавшей виды конструкции вдруг бросились ему в глаза: и старые, замазанные уже огрубевшей серой краской проплешины, и ржавчина вокруг свежей вмятины, и прогнувшиеся от многолетней напряженной работы петли. Пошатнувшаяся было правая стойка держалась только благодаря двум приваренным к ней толстым металлическим накладкам, крепившимся к побуревшей от времени кирпичной кладке лабораторного корпуса массивными болтами. «Как живая... Как я, цепляется за институт», – подумал дипломник.
«Было бы у меня побольше художественного таланта, – отвлекся он от своих рассуждений, – я писал бы вот такие ворота, вся непростая жизнь которых видна как на ладони. Да, совершенно разные: красные, желтые, зеленые, синие или черные, как квадрат Малевича, в солнечную погоду и в дождь, летом и зимой...» Евгений хотел было развить эту мысль, но, внутренне ощутив всю ее несуразность, ругнулся и решительно двинулся вперед.
В аудитории его уже ждала Александра Ивановна, курировавшая подготовку дипломного проекта. Это была средних лет грузная женщина с крашенными в медь короткими волосами и крупными чертами лица, облик которой дополняли очки в массивной роговой оправе. Непривлекательная внешность наставницы Евгения резко контрастировала с живостью ее натуры, которая помогала ей с легкой непринужденностью общаться со студентами. Пока они вместе, в четыре руки, закрепляли на доске чертежи, и волновавшаяся не меньше подопечного Александра Ивановна завела было успокоительный, как ей казалось, разговор о предстоящей защите, начали подходить члены комиссии.
Последним появился корифей кафедры – «старик Турищев», как его звали студенты. Перед тем как сесть за широкий, покрытый зеленым сукном стол, Сергей Васильевич подошел к доске и, внимательно рассматривая чертежи, зачем-то поскреб ногтем мизинца по ватману, словно проверяя, как лег на бумагу графит.
Вскоре началась защита. Все шло именно так, как представлял себе Евгений. Он объяснил цель и содержание проделанной им работы, подчеркнул, как ему рекомендовали, ее практическую значимость, затем довольно подробно ответил на несколько уточняющих вопросов, после чего понял, что сценарий этого действа подходит к концу.
Декан, как бы подводя черту, поинтересовался, имеются ли у членов комиссии еще вопросы, и посмотрел на Турищева, который все это время молчал, не проявляя к работе молодого человека сколько-нибудь заметного интереса. Все поняли, что за ним остается заключительная реплика, и профессор задал, по сути, самый простой, но в данной обстановке, как оказалось, довольно каверзный вопрос: «Чему равен угол в квадрате?»
От неожиданности Евгений растерялся. Дипломник сходу мог рассказать, что такое энтропия, определить точку росы, он вдруг вспомнил, чему равен интеграл по замкнутому контуру, но как возвести угол в степень – так Евгений воспринял вопрос лауреата Сталинской премии – он не знал. Его голова, настроенная на сложные доказательства, заковыристые эмпирические формулы и нетривиальные вычисления, не смогла правильно воспринять этот простой вопрос. Вероятно, он попал в «петлю абсурда», когда ответ был столь очевиден, что вроде бы делал бессмысленным сам вопрос, неадекватность которого ситуации затмевала лежащий на поверхности ответ.
Возникшая пауза затянулась, и Евгений хотел было сказать, что угол в квадрат не возводится, но тут Александра Ивановна, откинувшись на спинку стула, стала что-то показывать ему на пальцах. Дипломник понял, что правильный ответ существует, но так и не смог что-либо уловить по движению рук своего куратора и почувствовал, как у него между лопаток начал проступать липкий пот и тонкой струйкой стекать по спине.
Разрядить обстановку решил было сам Турищев.
– Вы, молодой человек, куда планируете распределяться?
– На кафедру, – ответил удрученный студент.
– На кафедру? – удивился профессор, вероятно, не посвященный в планы руководства. – Ну, знаете, кафедра – это не ананасы в шампанском, – с некоторой иронией заметил Турищев.
Евгений не пробовал ананасов, но понял, что его защита может закончиться провалом.
Исправить ситуацию взялся декан. Он доходчиво объяснил, какую большую работу проделал дипломник, отметил высокий уровень его знаний и даже общественную активность. Возникшую только что заминку он объяснил волнением и все той же жарой. В заключение предложил дать представленной работе самую высокую оценку. Турищев, однако, выразил альтернативную точку зрения, настаивая на «четверке». Профессор был готов и дальше отстаивать свою позицию, но вопрос поставили на голосование, и он оказался в меньшинстве.
Теперь, по прошествии многих лет, уже можно определенно сказать, что научная карьера у Евгения Валентиновича не сложилась, да и не в ней, в общем-то, было дело. Впрочем, на прошлой неделе он начал посещать художественные курсы. Наверное, вовремя – в институте планируют взяться за благоустройство территории, и кто знает, сколько еще простоят старые железные ворота.
В те июньские дни самого конца семидесятых в городе стояла изнуряющая жара. В безветренную погоду после полудня воздух так накалялся, что, казалось, начинал звенеть, и все живое в поисках прохлады пряталось в спасительную тень. Представлялось, что в этом пекле в тогда безлюдной чаше Донского монастыря кто-то невидимый вот-вот зава-рит тополиную кашу, и невесомые хлопья, поднимаясь вверх, зависая и кружась, придадут всему происходящему на безмятежных улицах бывшей слободы какой-то особый, минорный оттенок.
Но в то раннее утро у молодого человека, шагавшего вдоль ограды «Красного пролетария» с потертым портфелем и дерматиновым тубусом в руке, было совсем другое настроение. Он бодро шел на защиту своего дипломного проекта. Евгений – так звали будущего инженера – давно ждал этого дня, подводившего черту под годами учебы и открывавшего новый этап жизни – как раз той, к которой он стремился.
Пять лет назад после службы в армии Женя стоял перед выбором своей дальнейшей судьбы. Тогда он смог вновь взяться за учебники и поступить в хоть и не самый престижный, но все-таки столичный вуз. Заглянув после зачисления в свой небольшой провинциальный город, парень сразу же отметил, с какой гордостью говорят о нем родители, и почувствовал тот оттенок уважительного отношения их друзей и соседей, с которым люди обычно общаются с более статусными земляками. Ощущения, возникшие тогда у новоиспеченного студента, оказались той «живительной брагой», потребность в которой со временем только росла.
Через год-полтора он понял, что по окончании института уже не сможет вернуться к родителям, поскольку распределение на местную фабрику прочило ему не более чем должность «командира» двух десятков по большей части пьющих слесарей и превращение в глазах окружающих в самую заурядную личность. В этот момент кто-то рассказал еще не определившемуся второкурснику о возможности остаться на профильной кафедре, после чего молодой человек решил всерьез взяться за учебу. Его старания заметили, и к концу года он был назначен старостой группы, что позволило Евгению наладить отношения с деканом, который и поспособствовал реализации перспективных жизненных планов честолюбивого студента.
Теперь на этом пути предстояло сделать последний, как он думал, формальный шаг: на «отлично» защитить дипломный проект. И пока ясным летним утром Евгений шел в институт, восторженное ощущение того, что ему все же удастся остаться на кафедре, не покидало его. В исходе предстоящего экзамена дипломник не сомневался: он делал работу сам, хорошо знал материал да и на потоке защищался первым. «Какой смысл кому-то меня заваливать, когда обо всем уже договорено?» – без тени сомнения спрашивал он сам себя. Однако эти самоувещевания все же не могли полностью заглушить, казалось бы, ниоткуда возникшее внутреннее напряжение, интуитивное стремление ослабить которое делало обычно размеренную походку Евгения более энергичной.
Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как подошел к покосившимся от времени воротам, открывавшим доступ на территорию института. Тысячу раз проходил Евгений через эти обычно распахнутые настежь железные створки, порою даже не замечая их. Но сегодня все изъяны видавшей виды конструкции вдруг бросились ему в глаза: и старые, замазанные уже огрубевшей серой краской проплешины, и ржавчина вокруг свежей вмятины, и прогнувшиеся от многолетней напряженной работы петли. Пошатнувшаяся было правая стойка держалась только благодаря двум приваренным к ней толстым металлическим накладкам, крепившимся к побуревшей от времени кирпичной кладке лабораторного корпуса массивными болтами. «Как живая... Как я, цепляется за институт», – подумал дипломник.
«Было бы у меня побольше художественного таланта, – отвлекся он от своих рассуждений, – я писал бы вот такие ворота, вся непростая жизнь которых видна как на ладони. Да, совершенно разные: красные, желтые, зеленые, синие или черные, как квадрат Малевича, в солнечную погоду и в дождь, летом и зимой...» Евгений хотел было развить эту мысль, но, внутренне ощутив всю ее несуразность, ругнулся и решительно двинулся вперед.
В аудитории его уже ждала Александра Ивановна, курировавшая подготовку дипломного проекта. Это была средних лет грузная женщина с крашенными в медь короткими волосами и крупными чертами лица, облик которой дополняли очки в массивной роговой оправе. Непривлекательная внешность наставницы Евгения резко контрастировала с живостью ее натуры, которая помогала ей с легкой непринужденностью общаться со студентами. Пока они вместе, в четыре руки, закрепляли на доске чертежи, и волновавшаяся не меньше подопечного Александра Ивановна завела было успокоительный, как ей казалось, разговор о предстоящей защите, начали подходить члены комиссии.
Последним появился корифей кафедры – «старик Турищев», как его звали студенты. Перед тем как сесть за широкий, покрытый зеленым сукном стол, Сергей Васильевич подошел к доске и, внимательно рассматривая чертежи, зачем-то поскреб ногтем мизинца по ватману, словно проверяя, как лег на бумагу графит.
Вскоре началась защита. Все шло именно так, как представлял себе Евгений. Он объяснил цель и содержание проделанной им работы, подчеркнул, как ему рекомендовали, ее практическую значимость, затем довольно подробно ответил на несколько уточняющих вопросов, после чего понял, что сценарий этого действа подходит к концу.
Декан, как бы подводя черту, поинтересовался, имеются ли у членов комиссии еще вопросы, и посмотрел на Турищева, который все это время молчал, не проявляя к работе молодого человека сколько-нибудь заметного интереса. Все поняли, что за ним остается заключительная реплика, и профессор задал, по сути, самый простой, но в данной обстановке, как оказалось, довольно каверзный вопрос: «Чему равен угол в квадрате?»
От неожиданности Евгений растерялся. Дипломник сходу мог рассказать, что такое энтропия, определить точку росы, он вдруг вспомнил, чему равен интеграл по замкнутому контуру, но как возвести угол в степень – так Евгений воспринял вопрос лауреата Сталинской премии – он не знал. Его голова, настроенная на сложные доказательства, заковыристые эмпирические формулы и нетривиальные вычисления, не смогла правильно воспринять этот простой вопрос. Вероятно, он попал в «петлю абсурда», когда ответ был столь очевиден, что вроде бы делал бессмысленным сам вопрос, неадекватность которого ситуации затмевала лежащий на поверхности ответ.
Возникшая пауза затянулась, и Евгений хотел было сказать, что угол в квадрат не возводится, но тут Александра Ивановна, откинувшись на спинку стула, стала что-то показывать ему на пальцах. Дипломник понял, что правильный ответ существует, но так и не смог что-либо уловить по движению рук своего куратора и почувствовал, как у него между лопаток начал проступать липкий пот и тонкой струйкой стекать по спине.
Разрядить обстановку решил было сам Турищев.
– Вы, молодой человек, куда планируете распределяться?
– На кафедру, – ответил удрученный студент.
– На кафедру? – удивился профессор, вероятно, не посвященный в планы руководства. – Ну, знаете, кафедра – это не ананасы в шампанском, – с некоторой иронией заметил Турищев.
Евгений не пробовал ананасов, но понял, что его защита может закончиться провалом.
Исправить ситуацию взялся декан. Он доходчиво объяснил, какую большую работу проделал дипломник, отметил высокий уровень его знаний и даже общественную активность. Возникшую только что заминку он объяснил волнением и все той же жарой. В заключение предложил дать представленной работе самую высокую оценку. Турищев, однако, выразил альтернативную точку зрения, настаивая на «четверке». Профессор был готов и дальше отстаивать свою позицию, но вопрос поставили на голосование, и он оказался в меньшинстве.
Теперь, по прошествии многих лет, уже можно определенно сказать, что научная карьера у Евгения Валентиновича не сложилась, да и не в ней, в общем-то, было дело. Впрочем, на прошлой неделе он начал посещать художественные курсы. Наверное, вовремя – в институте планируют взяться за благоустройство территории, и кто знает, сколько еще простоят старые железные ворота.
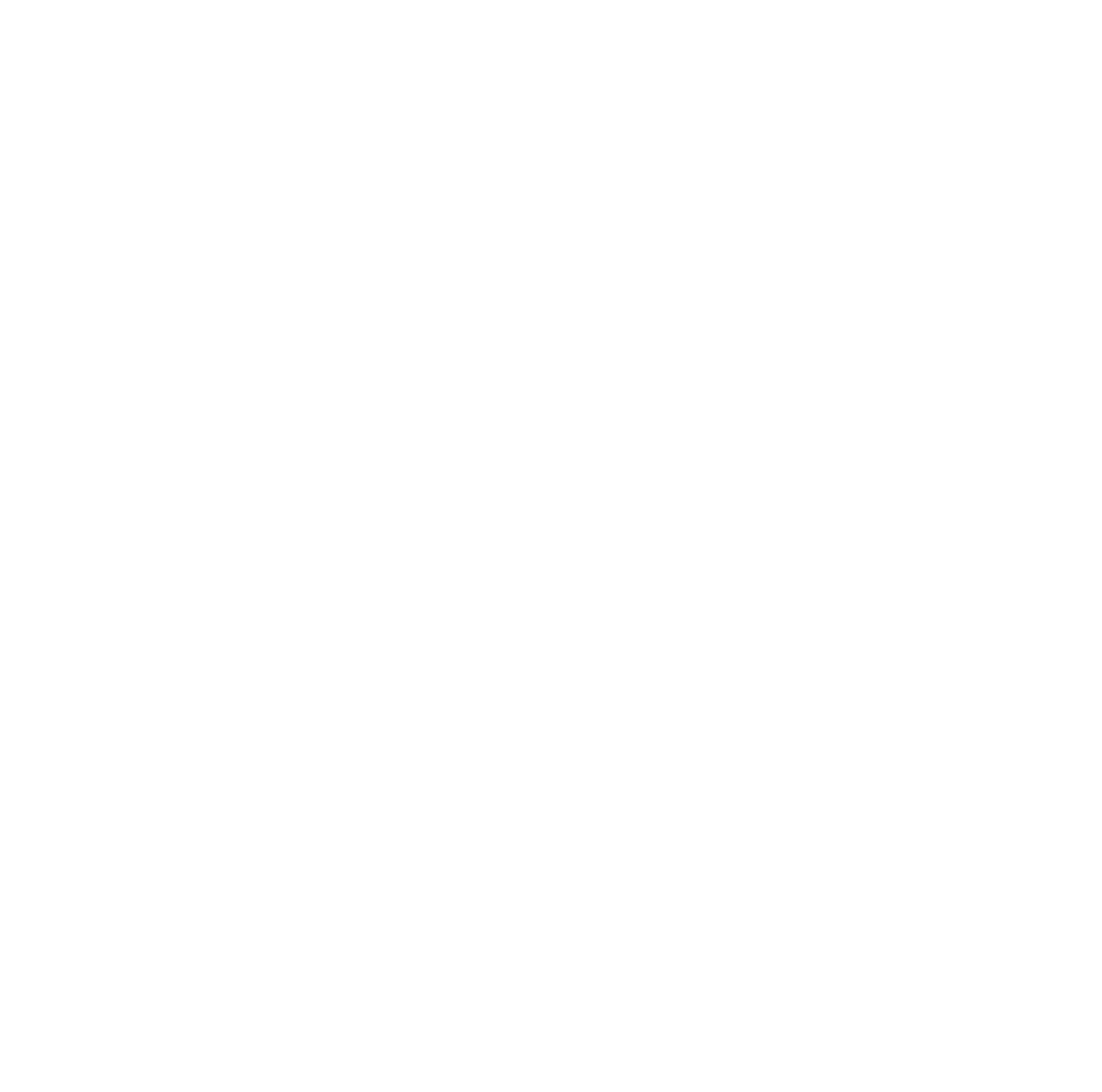
Максим ЛАЗАРЕВ
Родился в 1966 г. в Москве. Изданные произведения: «Хроники карантина 2020», «Волны забытого лета», «Маша». Публикации в альманахах и сборниках : «Славянское слово» (2022 г.), «Юмор лечит» (2022 г.), «Яблочный Спас» (2022 г.), «Под знаком Кирилла и Мефодия». Автор года 2023. Награды и премии: Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское Слово» (2022 г.), Лауреат Всероссийского Литературного конкурса «Герои Великой Победы» (2022 г.), Лауреат Всероссийского Литературного Конкурса «Яблочный Спас» (2022 г.), Лауреат Литературного конкурса «Юмор лечит» (2022 г.).
Родился в 1966 г. в Москве. Изданные произведения: «Хроники карантина 2020», «Волны забытого лета», «Маша». Публикации в альманахах и сборниках : «Славянское слово» (2022 г.), «Юмор лечит» (2022 г.), «Яблочный Спас» (2022 г.), «Под знаком Кирилла и Мефодия». Автор года 2023. Награды и премии: Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское Слово» (2022 г.), Лауреат Всероссийского Литературного конкурса «Герои Великой Победы» (2022 г.), Лауреат Всероссийского Литературного Конкурса «Яблочный Спас» (2022 г.), Лауреат Литературного конкурса «Юмор лечит» (2022 г.).
ПЕРВОМАЙ ИЗ ДЕТСТВА
Чуда не произошло. Весна не пришла и в Первомай. С утра совсем ненадолго выглянуло солнышко, резануло по привыкшим к серости глазам, звонкими лучами даря надежду. Блеснул щемящей радостью осколок голубого, ещё холодного, но всё-таки весеннего неба. Даже попытался запеть, радуясь таким переменам, соловей, выдав переливчатую трель. И будто вторя ему, надсадно прогудел большой, всклокоченный и голодный шмель. Но через полчаса опять набежали совсем не майские тяжёлые тучи, и пошёл мелкий, противно-заунывный дождь.
Максим сидел на крыльце в наброшенной на плечи телогрейке и курил. После натопленного и уютного дома на улице было совсем не комфортно. И дело не в нудном осеннем дожде и отсутствии солнца. Скорее, дело было в другом… В беспросветности. Сколько же можно?! Когда же, наконец, весна?!
Казалось, что почему-то остановились часы и календарь, и весна уже не придёт никогда. А её так хочется! Весну. За долгую жизнь были совершенно разные по погоде Первомаи. Были и жаркие, и холодные, и дождливые, и даже с мокрым снегом. Но не было на его памяти такой беспросветности…
Он опять закурил и стал выпускать дым кольцами. Он так делал всегда, когда хотел, чтобы вернулись давно забытые моменты. Ему почему-то казалось, и это он сам выдумал очень давно, что каждое колечко – это такое «закольцованное» воспоминание. Вот оно, чёткое, конкретное, возвращает тебя в прошлое и вот рассеивается уже в воздухе, опять отправляясь в глубины сознания, чтобы замереть там до момента, когда снова будет востребовано.
Первое же колечко вернуло из дальних пыльных запасников мозга залитое ослепительным солнцем воспоминание из детства… Он маленький… Лет пять. Или четыре… Неважно. Он совсем ещё маленький. В синем матросском костюмчике и в бескозырке сидит на широких плечах молодого и красивого деда и сжимает в руках огромную бумажную гвоздику. Рядом бабушка, тоже ещё молодая и тоже очень красивая. Но она – там, внизу, а он – тут, на такой высоте!
И все люди ниже его. Но их так много! Целое море людей! И впереди, и сзади, и со всех сторон! И все с флагами, с цветами, почти такими же красивыми, как и у него. Все весёлые, все поют и смеются! Потому что сегодня праздник! Здоровский праздник Первомай! И они идут на демонстрацию!
На Красную площадь!
Вся страна идёт!
Весь великий советский народ-победитель!
…Потекло, заструилось воспоминание, как всё это было, как его пришла будить бабушка ещё в темноте, а он уже не спал – сам проснулся от нетерпения, опасаясь, что его забудут, не возьмут на демонстрацию и уйдут без него. Как они одевались во всё очень красивое, как звенели медали на груди деда, а бабушка отказывалась повесить свои медали на красивое синее платье, и дед её так и не заставил.
Потом они шли по предрассветной улице к заводу, где работал дед, а там уже толпилось много людей, очень много – весь завод. А потом всем раздавали флаги и портреты, а ему дед принёс откуда-то эту огромную прекрасную гвоздику. А потом их поставили в самый первый ряд рядом с директором, потому что дед – фронтовик и ветеран!
Заиграла гармошка, кто-то запел «Утро красит нежным цветом…», и они пошли по улице. А он сверху, словно с мачты корабля, смотрел, крутя головой по сторонам, и вот уже впереди – такая же огромная туча народа. И тоже с флагами! Почему? А мы?! Как же мы?!
– Деда, деда! А это кто? Они тоже на Красную площадь пойдут? – закричал он. Ему показалось, что эти, другие, опередят их, и он не попадёт на Красную площадь.
– Это мясокомбинат. Видишь, написано: «ОМПК». И девятый хладокомбинат с ними. Они, Максим, с нами пойдут. Мы же в одной колоне пойдём. Кировский район Москвы!
Две колонны встретились. Раздались крики приветствия, смех, поздравления, и новая людская речка влилась в их «главную», как он считал, речку. И уже большая речка потекла дальше. И уже не одна гармошка, а несколько играли сзади, и песня стала громче и ярче. Здорово!
– Деда! Ещё люди! Много! Это кто, деда?
– Молочный комбинат. За ними – завод бараночных изделий. Справа, вон, завод фруктовых вод подходит, хлебокомбинат, двадцать третья автобаза, тринадцатый таксомоторный парк, за ним – одиннадцатый. А там уже большие идут – КТС, Станколит, «Знамя Труда», «Правда». За ними, вон, троллейбусный парк, трамвайное депо, Савёловская железная дорога, авиационный завод Румянцева. Стекольный завод. Бетонный. И это только наши – Кировский район. И так со всех сторон города сейчас! Идёт трудовая Москва, внучок! Смотри, какая силища, Максим! Какая красота! Американцы из космоса смотрят и за голову хватаются! Как такое победить? Да никак! И правда!
Справа, насколько хватало глаз, к ним двигалась длинная река с точно такими же красивыми красными флагами. И как только дед их всех запомнил!
– А вон, дальше – бабушкин завод стоит, нас ждёт. Завод цветных металлов. Там наша бабушка работает. Ей там орден вручили, а она надевать не хочет, – перекрикивая всё сильнее нарастающий гул, весело прокричал дед.
– Ба! А ты с нами останешься или со своим заводом пойдёшь? – теребя по голове бабулю, спросил Максим.
Бабушка рассмеялась и ответила:
– Куда же я от вас?! С вами пойду! И, Петь, хватит уже про ордена. Было б холодно, как в прошлом году, то пиджак бы надела с орденом. А на платье цеплять не хочу. Нам и твоих хватит.
Она рассмеялась.
Максим чуть опустил гвоздику и покрутил головой. Ручейки сливались в речки, речки – в одну огромную, широченную и, казалось, бесконечную реку. «Самая большая река – Волга! Интересно, она больше нашей, человеческой, или меньше?» – подумалось ему, и он уже хотел спросить деда, но тут кто-то громко, на всю улицу сказал:
– Слава трудовым коллективам Кировского района!
И все вокруг громко закричали: «Ура!» Это было неведомое ему раньше чувство. Такое прекрасное и звонкое. И он тоже что есть силы закричал:
– Ура!
Заиграла громко музыка, торжественная и тоже громкая. Такая, как в кино, и даже лучше! Они шли уже долго. Река, казалось, вышла из берегов. А яркое солнце, чистое голубое небо и волны красных трепещущих флагов над рекой с переизбытком наполняли его ещё такую маленькую голову эмоциями и радостью. Вот кто-то выпустил в небо стаю белых голубей, а за ней чуть поодаль взмыла вверх вторая. И опять полилось над бурлящей рекой громогласное «Ура-а-а-а-а-а…»
– Зин, сейчас на Трубной будет остановка. Перед Садовым кольцом. Ты там всё взяла, что надо? – дед подмигнул, обращаясь к бабушке.
У поворота на Садовое кольцо их колонна остановилась. Люди перестали махать флагами, петь и кричать «ура». Все стали группироваться кучками. Кто-то достал термосы. Красивые, в цветах и канарейках китайские термосы. На стоящих на тротуаре лавочках расстелились скатерти-самобранки. На них вмиг, как по мановению волшебной палочки, возникали горки пирожков, раскладывались бутерброды с колбасой и сыром, варёные яйца, зелёный лук, печенье и развалы всевозможных конфет.
Никто не спрашивал, где чьё и, тем более, не кричал «это моё». Люди смеялись, наливали друг другу чай, кофе и модное какао. Кто-то доставал и кое-что покрепче и, не афишируя громко, но и не прячась, с достоинством прикладывался к плоской бутылочке коньяка или разливал водку в маленькие складные стаканчики.
Бабушка раскрыла висящую на плече сумку и тоже достала свёрток с бутербродами и кулёк с конфетами. Дед ловко снял внука со своего загривка и бережно опустил перед собой. Потом достал из внутреннего кармана пиджака четвертинку водки, покопался секунду в карманах брюк и присовокупил к ней трофейный металлический складной стаканчик.
– Зин, а Максимке ты попить не взяла, что ли, ничего?
– Так ты же сказал сумку не брать. Я Рае звонила, она должна была термос взять. Вы пока кушайте, я её сейчас найду, – и она исчезла в толпе.
– Деда! А бабушка нас найдёт, не потеряет?
– Да никуда не денется твоя бабушка! На вот, лучше возьми бутерброд с колбаской.
Дед рассмеялся и, покрутив головой, выкрикнул кому-то в толпу:
– Семёныч! Иди сюда! Да быстрее давай! Потом наговоришься.
Подошедший мужик небольшого роста с портретом Ворошилова, тоже с медалями на пиджаке, присел перед Максимом, жующим бутерброд, и протянул ему конфету «Мишка на Севере». Дед налил полный стаканчик и протянул мужику:
– Давай, Семёныч. С праздником! С нашим рабочим праздником!
– Спасибо, Петро. Будь здоров! – мужик выпил, крякнул и занюхал конфетой, даже не разворачивая фантика.
– Ты давай, вон, бутерброд возьми! Чего жмёшься. Да поставь ты товарища Ворошилова. Вон, туда, к урне поставь его пока. Никуда он не денется.
Дед рассмеялся, ещё раз наполнил стаканчик, взял в другую руку перо зелёного лука, макнул им в спичечный коробок с солью, задумался на секунду и уже серьёзно сказал:
– За страну нашу СССР, за мир, с праздником! – опрокинул стопку, подмигнул внуку и захрустел луком.
– Деда, а когда баба придёт? – смотря снизу вверх, задрав голову, спросил Максим, разворачивая подаренную конфету. – Она точно нас найдёт?
– Да сейчас придёт.
Дед посмотрел на часы, чуть нахмурился, покрутил головой по сторонам, выискивая цепким взглядом, и добавил:
– Сейчас придёт. Куда денется. Ты, наверно, пить хочешь.
Максим кивнул и стал жевать конфету. Дед опять посмотрел по сторонам и выкрикнул:
– Андрей! У тебя что в термосе? Чай? Налей стаканчик внуку. А то моя куда-то пропала.
Через минуту ему протянули алюминиевый стакан-крышку от термоса с исходящим ароматным паром чаем. Дед присел на корточки, отхлебнул и передал внуку.
– На. Только потихоньку. Горячий ещё.
Дед поднялся, налил остатки водки в стакан, повторил процедуру с луком, опять подмигнул, улыбаясь, Максиму и залпом опрокинул содержимое стаканчика в рот. В этот момент подошла запыхавшаяся, раскрасневшаяся и от того ещё более красивая и обаятельная бабушка. Она несла в руках бутылку газировки и стопку серых бумажных стаканчиков.
– Не нашла Райку. Народу – туча. Куда она подевалась, ума не приложу. Когда наши пристраивались, я её видела. А сейчас не нашла. Народу – уйма. Вот, сбегала в магазин, купила лимонад. Будешь, мой родной, «Буратино»? – она сняла лёгкий шифоновый платок и присела перед внуком на корточки. – А чего ты пьёшь? И, смотри, как конфетой вымазался. Петь, это ты ему шоколадку дал? Ну, хоть бы смотрел тогда, вместо того, чтобы водку пить. Он, вон, весь в шоколаде вымазался.
И она стала носовым платком вытирать измазюканные щёки внука. Сняла с его головы бескозырку и стала раскладывать белые кудрявые волосы любимого Максимки. Через минуту громкоговоритель хрипло прокричал команду строиться в колонну и приготовиться к шествию. Шествие продолжилось. Максим занял своё законное и уже привычное место на загривке, гвоздику-великана отдал бабушке и, всё время крутя головой, пребывал в полном восторге от происходящего.
Оказалось, что всё, что он называл рекой, была ещё не большая река, не Волга. Самая настоящая Волга началась сейчас. Вперёд и назад, насколько хватало глаз, как и вправо, и влево, во всю ширину Садового кольца текла, переливаясь алыми знамёнами, воздушными шарами, цветами и транспарантами, та его «самая-самая большая в мире река». Его «Волга». Река из людей. А он, словно капитан ледокола «Ленин», книжку про который читала ему недавно мама, плыл по этой реке на плечах своего деда.
Они всё шли и шли. Играла музыка, всё так же кричали вокруг «ура» и пели песни. Песни были красивые, из кино. Многие он уже знал. Ему было жаль, что почему-то не пели его любимую песню, пластинку с которой он заставлял дедушку включать каждый день и слова которой выучил наизусть, песню про «чёрного кота, которому не везёт». Потом он понял, почему. Да просто, наверно, у них нет пластинки такой! И они её не слышали никогда! Он уже хотел было запеть её сам, но в этот самый момент дед громко сказал, почти прокричал:
– Максим, впереди Красная площадь! Видишь Кремль? Мы там с тобой были. Помнишь? Царь-пушка, Царь-колокол. Нас ещё милиционер отругал, когда ты на Царь-пушку залез. Можно подумать, ребёнок мог её сломать. Помнишь? Зин! Ты давай, не отставай. А то там, на выходе будут колонну разделять на два потока. Потеряемся. Встань передо мной. Чтоб я тебя видел. Если же потеряемся, то встань где-то на месте и повыше подними цветок. Я тебя найду.
Река текла между красивыми, словно из сказки, домами. Их высокие, похожие на колпачки крыши устремлялись вверх. Дед указывал рукой, показывая ему на дома:
– Вон – красный дом, видишь? Это музей Ленина. Мы в него сходим обязательно, когда подрастёшь. А это исторический. А там – Вечный огонь. И вот теперь мы, Максимка, на Красной площади. Смотри, видишь Мавзолей? Вот сейчас мимо него пойдём! Как пойдём мимо него, ты помаши рукой вождям!
Максим стал смотреть на Мавзолей. Но он ему не понравился. Такое он и сам может построить из кубиков! Ему нравились высокие, до неба башни! Красивые, с красными звёздами высоко-высоко в небе. Он уже видел их на картинке в книжке, но тут они были огромные и ещё красивее. У него даже закружилась голова, и он вцепился деду в шею, чтобы не упасть. Дед мягко разжал его маленькую ручку и перецепил её за воротник пиджака.
– Смотри, Максим! Вон Брежнев! Вон Ворошилов! Громыко! Маршал Малиновский! Косыгин! Всё Политбюро! Это самые главные люди в нашей стране. Помаши им рукой!
Максим посмотрел на стоящих в ряд на доме из кубиков со смешным названием «Мавзолей». Он не знал, кто эти взрослые дяди. В фуражках – командиры. Это он знал. А просто в одежде, как у всех, – вожди. Это он тоже знал. Но кто там кто, он не знал, и ему это было совсем не интересно.
Нет, всё же одного дядю он знал. Дядя Брежнев. Он – самый главный! Главнее всех! Он видел его много раз по телевизору после «Спокойной ночи, малыши». И не любил. Потому что, когда появлялся после Степашки и Хрюши этот дядя Брежнев, его заставляли идти спать. Но сейчас дядя улыбался и махал рукой. Дядя был добрый. Максим это чувствовал. И даже чем-то похож на его любимого деда. Максим помахал ему рукой и вместе со всеми громко закричал: «Ура!» Дядя Брежнев заулыбался и помахал рукой Максиму в ответ.
– Деда, баба! Дядя Брежнев мне помахал рукой тоже!
Дед, бабушка рассмеялись, и их звонкий смех подхватили все вокруг.
Стал хохотать и сам Максим, он снова начал махать рукой. Всё было так здоровски, так красиво и весело, что хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Но спустя совсем недолгое время, дед снял его со своих плеч и поставил на землю с едва пробивающейся нежно-зелёной весенней травой. Вокруг скручивали флаги улыбающееся люди, кто-то опять жевал бутерброды. Дед с бабушкой обсуждали, как им лучше добираться до дому. Песни прекратились, только был слышен доносившийся густой гул, и долетали редкие нотки оставшейся далеко позади музыки.
Максим понял, что сказка кончилась, и заплакал. Горячие слёзы текли по пухлым щекам. Он плакал, как уже плакал однажды, когда разбилась вдребезги его любимая ёлочная игрушка «Космонавт Гагарин». Плакал от внутреннего осознания, что этот день больше уже никогда не вернётся. Маленький ум не мог ещё понять смысл этого осознания, но такое же маленькое сердечко заставляло литься эти, такие горячие, слёзы.
– Ты чего, мой маленький?! Ты чего плачешь? – бабушка взяла его на руки. – Ну, что с тобой? Что-то болит? Писать хочешь?
К встревоженной бабушке присоединился дед. Он снял с него бескозырку, потрепал по белокурой голове и тоже спросил:
– Ну, Максим? Что стряслось?
Давясь слезами, Максим пролепетал:
– Не хочу, чтобы кончилась! Хочу дальше, чтобы праздник, чтобы дальше идти на Красную площадь!
Дед и бабушка рассмеялись, а бабушка стала ещё и целовать его в щёки.
– Ну вот тоже мне! Выдумал! Какое горе! Нашёл, с чего плакать! Сколько ещё будет у тебя этих демонстраций! На следующий год пойдём, если захочешь. А сейчас надо ехать домой. Там тебя мама твоя заждалась, соскучилась. Сидит и плачет: «Где мой Максимка?» Будем праздник отмечать, я вон пирогов напекла. Твоих любимых, с яблоками! А завтра – воскресенье. Выходной. Пойдём в парк. На каруселях будешь кататься. Гамак возьмём, в мячик будем играть, на лодке покатаемся. Будем на лодке кататься или нет? А сегодня – мультики по телевизору.
Максим закивал. Слёзы переставали течь. Мама его ждёт… Пироги… На лодке завтра будем кататься… Мультики… Ладно! Не так всё и плохо. И, уже перестав плакать, но ещё шмыгая носом, он всё-таки спросил:
– Деда, а мы точно ещё пойдём на праздник на Красную площадь, как сегодня?
Дед опять рассмеялся и ответил:
– Конечно, пойдём! Сто раз ещё пойдём! – он подкинул его вверх и опять усадил себе на плечи. – Давай, Максим, запевай! Свою любимую, про кота!
Максим тоже заливисто рассмеялся и громко запел:
– Жил да был во дворе чёрный кот…
Люди вокруг расхохотались, стали аплодировать, и кто-то даже выкрикнул:
– Давай, малой, жарь!
И стал подыгрывать на гармошке.
Он пел, стараясь как можно громче и чётче произносить слова. Смеялся, когда его подбадривали, подпевали или совали в руку конфеты. Ощущение праздника вернулось. Он опять был счастлив. А скоро будет любимая мама, карусели и мультики! Какой всё-таки сегодня здоровский день! Пер-во-май!
…Очнулся от собственного голоса. Оказалось, что последнюю фразу он сказал вслух. Сигарета давно догорела. Протёр влажные от слёз глаза.
– Надо же, как нахлынуло!
Максим посмотрел на небо. Ветер разорвал серую пелену и безжалостно разгонял тучи, открывая миру высокую голубую бесконечность. Появилось и солнце, ещё заспанное, но начинающее наконец свою весеннюю работу. Он встряхнул головой, освобождаясь окончательно от морока воспоминаний, грустно улыбнулся самыми краешками губ, потянулся до хруста и встал.
– Ну что, перетащил солнце из детства, Максим Викторович? – уже уверенно и громко спросил он вслух у себя самого, рассмеялся и добавил. – Ну, давай тогда и праздник отмечать, как в детстве, весело и с песнями! Где там моё сонное царство? Эй, семья! Серёжа! Танюша! Вы где? Что вы там в доме засели?! Смотрите, какое солнце вышло! Идите на улицу! Весна! Первомай! Праздник! Будем шашлык жарить, вино пить и песни петь!
Задумался на секунду и вдруг запел:
– Жил да был во дворе чёрный кот…
ДЕНЬ ОДУВАНЧИКА
– Максим, давай камин, что ли, затопим, а то как-то сыро в доме, сумрачно и зябко, – жена отложила в сторону спицы и нечто непонятное ярко-красного цвета, что должно было со временем материализоваться в очередной шедевр вязального искусства.
– Да уж. Так и хочется сказать «не май месяц», хотя на самом деле он самый и есть. Причём середина мая. А ощущение – словно октябрь. И на градуснике всего одиннадцать. Даже выходить не хочется, – Максим тоже поёжился и стал собирать в камине пирамидку из дров.
Через минуту выпустив в пространство ароматное облако горящей бересты, дрова весело затрещали, возвращая дому заблудившийся в серости уют.
– Слушай, Танюш, а, может, и баню затопить? Ты как, любимая, по поводу бани? Когда ещё париться, как не в такую погоду?
– Точно! Давай баню. Я ещё вчера хотела тебе сказать да закрутилась. А где Серёжка? Он спит, что ли, опять?
– Я не сплю! – прокричал из своей комнаты сын. – Я – за баню!
– Пап, тут опять фото прислали мне с твоими стихами на футболке. Сейчас покажу.
– Вот засранцы! Те, первые, хоть с указанием автора печатали. А эти даже не заморачиваются, – ухмыльнулся Максим, глядя в экран ноутбука.
На фотографии, сделанной кем-то из друзей сына, на Арбате среди всевозможных футболок с многочисленными изображениями известных лиц от Сталина до Путина и всевозможных «типа смешных мемов» и маразматических выражений вроде «я люблю любовь» или «мы свободны от свободы», действительно висела белая футболка с его четверостишьем, написанным весной 2014 года, после Крыма и всего, что началось потом. И посвящённое всей пятой колонне, которая дружными рядами вдруг вынырнула из мути, принявшись истошно верещать голосами актрисы Ахеджаковой и музыканта Макаревича. Надпись, выполненная чётким чёрным шрифтом, гласила:
Мы любить Россию не просили.
Ваша нелюбовь к нам – не беда.
Если вам не нравится Россия,
Есть дорога на ..., господа!
– Ну, что тут скажешь, сынок?! Наверно, это и есть слава. Точнее, не слава, а признание. Народное признание. Самая верхняя ступень признания. Только для меня оно очень грустное. Я написал около ста стихов, а известным стало вот это одно четверостишье. Кто-то перепостил его в Одноклассниках, размножил, и оно пошло гулять по стране. Мы с мамой просто обалдели, когда в Крыму, в том же 2014-м году, увидели его на задних стёклах очень многих автомобилей. С одной стороны – гордость. А с другой – хотелось всем встречным объяснять (да что там объяснять, орать хотелось!): «Люди, это же Я написал! Я!»
И не деньги тут главное, за такое денег не берут – западло. Просто хочется, чтобы подошли, пожали руку, сказали спасибо. Хотя понятно, что я не первый в такой ситуации, и всё это старо, как мир. Вот поём мы песни. Музыка «народная», слова типа тоже «народные», это как? Ну, про музыку ещё как-то возможно. Один сыграл на гармошке, второй переделал, третий добавил проигрыш, четвёртый придумал припев повторять и проигрывать. Кто пограмотней и похитрей, на различные инструменты разложил. Допустим, возможно. Хотя я и тут считаю, что один был, кто подобрал и положил слова на музыку. А с текстом-то вообще ерунда получается! Это как понять – «слова народные»?! Народ собрался всем гуртом на лугу на вече и стал слова сочинять? Или я строчку придумал, за мной – ты, потом Ваня с соседней улицы, потом Прокоп с Васей из другого города строку добавили.
Так что ли? Бред! Понятно, что был конкретный автор, который написал стихи. Но никто его не знает. Песня живёт. Может, и не одну уже сотню лет живёт, а автора никто не знает. А раз поют до сих пор, то великий же был поэт! Думаешь, ему не обидно было при жизни? Думаю, обидно. Но что тут сделаешь?! Россия. Мы же не пиндосы. Это у них Шекспира знают с шестнадцатого века. А у нас спел на свадьбе или в кабаке, порадовал людей, доставил удовольствие – поднесли стакан, спасибо сказали, ну и здорово.
– И что, пап? Неужели тебе никогда не хотелось славы? Это же твоя и только твоя интеллектуальная собственность! Твоё сердце, твоя душа, твой талант!
Максим подбросил ещё пару поленьев в жерло разогревающегося камина, задумался на пару секунд, уставившись на пляшущие языки пламени, и ответил:
– Ну почему же не хотелось? Ещё как хотелось! Да и сейчас хочется. Но с годами я понял, что не это главное. Абсолютно не главное! Я молодой был, всем подряд свои стихи читал. И дарил с автографом. Ну, а как?! Друзья же! А потом сколько моих виршей в стихах известных поэтов-песенников вдруг оказалось! Кто-то ведь из тех самых «друзей» и сдал их. А, может, и продал. Я тебе рассказывал про всё это. Не хочу повторяться. Меня в молодости не это бесило. Меня корёжило, почему меня не печатают.
Приношу в «Современник», мне говорят: «Стихи хорошие, но они не подходят нашему журналу, они очень демократические. Против нашего красного патриотического журнала». Несу в «Огонёк» или «Юность», а там – противоположенное: «Ваши стихи интересные, но они явно красно-коричневые! И идут в разрез с делом демократии». Хотя та же «Юность» мне второе место отдала в конкурсе молодых поэтов. Но только лирику хотели печатать, а я хотел другого. По телевизору же даже показали в числе пяти самых лучших молодых поэтов страны. И что? Думаешь, кто-нибудь взял печатать? Хрена лысого! Это сейчас иди, заплати деньги, и тебя напечатают, хоть ты напиши инструкцию, как Кремль взорвать или голову человеку отрезать. И чем больше будет мата, грязи и секса, тем быстрее напечатают. Главное, чтобы продать побыстрее и бабла срубить побольше. И я бросил писать. Просто сам взял и бросил. Так же и с живописью. Я писал картины на историческую тему. Но это никому не нужно! Мне так и говорили в салонах: «У вас хорошая техника, цвет, композиция. Мастерство на уровне. Но вы поймите, это никто не купит. Вы приносите пейзажи, лес, море или голых баб. Это покупают. А кто повесит у себя в гостиной вашего Ивана Грозного? Это же страшно! Вон какие у него глазища! Ночью ребёнок увидит и заикой останется!»
А зачем мне писать то, что мне не хочется? Ради денег? Так я же всегда работал, деньги неплохие зарабатывал. Иногда и большие. Тогда зачем мне делать то, что я не люблю? Ради того, чтобы стать модным салонным художником? И писать по сто раз «мишек в сосновом бору» или «куртизанок в гареме султана»?
Или стать этим, как его… «поэтом-песенником». Автором для какого-нибудь Киркорова или Стаса Михайлова? Я не хочу. Для меня искусство – это искусство, а ремесло – это ремесло. И это две вещи для меня несовместимые. Люди живут этим, ну и дай им Бог, я ни в коей мере не осуждаю! Пусть косят бабло за свои «моря-якоря» и «пальто-полупальто». Просто я не хочу, никогда не хотел и, надеюсь, уже не захочу этого делать. Для меня всегда была примером жизнь Грибоедова. По мне, так самый талантливый после Пушкина человек, погиб на государевой службе, отстаивая интересы России. Я с огромным уважением отношусь к Денису Давыдову, к Льву Николаевичу Толстому, которые Родине служили. И просто презираю до желания застрелить, например, того же Солженицына, обливавшего помоями свою Родину. Ведь слова о том, что «поэт в России – больше, чем поэт», для меня абсолютно правильные слова. Аксиома. Помнишь, как у Тарковского в «Андрее Рублёве»? Когда в самом конце Солоницын говорит Бурляеву: «Вот и пойдём мы с тобой по Руси. Ты – колокола лить, я – иконы писать. Людям счастье и радость дарить».
Для меня любой – художник. Я имею ввиду, в большом смысле художник. Это человек, который заставляет человека задуматься, дарит людям радость, заставляет плакать или смеяться. То есть бередит душу и сердце. Входит к ним в каждую клеточку их сознания и остаётся там навсегда, делая человека чище и лучше. Хоть на грамм, хоть на йоту, хоть на капельку малюсенькую, но лучше. А всё остальное – это не искусство, это то, что у пиндосов обозначается словом «дизайн». Есть модерн гениального Шехтеля, а есть «дизайн в стиле модерн» телепередачи «Дачный ответ». И это две большие разницы. И поэтому есть художник Шолохов, а есть «дизайнер» Солженицын. Есть Бунин и Куприн, а есть Акунин. И если у меня не получилось стать художником, то дизайнером я уж точно быть не хочу.
– Ну вот, опять ты всё грустно закончил, пап! Лучше бы я тебе и не показывал ничего. Ты чего? Вот напечатаешь свою повесть и дальше будешь писать. Я думаю, что всё будет хорошо. Должно быть хорошо. Повесть-то реально классная! Правда, мам?
– Да не слушай ты его. Это на него погода так действует. Когда такая погода, он всегда впадает в депрессию. Сейчас махнёт пару рюмок и станет весёлым.
Максим грустно улыбнулся.
– Наверно, ты права. Но если в баню решили идти, какая может быть рюмка?! Вот после бани – сам Бог велел. Как говаривал Александр Васильевич Суворов, «после бани хоть последние портки продай, а водки выпей!» Пойдём, сын, баню затопим.
Максим встал и, накинув кофту, пошёл к выходу. Вдруг он резко остановился, сделал пару шагов назад и, посмотрев пристально на отрывной календарь, звонко расхохотался.
– Вы посмотрите, какой сегодня праздник! Сегодня, оказывается, у нас «День Одуванчика»! А ведь это так символично, сынок! Мы с тобой тут о славе и творчестве разговаривали. Так вот, слушай, что я скажу в заключение. Ставя, так сказать, красивую точку в этих своих долгих рассуждениях. Слава – это как одуванчик. Вот есть она у человека, эта слава. И, кажется, что она большая, пышная и чистая. Как шапка одуванчика. А подует ветер, и слетит эта корона с его головы. И стоит он, голый и беззащитный. Потому что не было у него ничего, кроме этой дутой славы. И тут самое главное то, куда разлетятся все эти невесомые семена - зонтики, уносимые безжалостным ветром. Попадут ли они в хорошую почву и поднимутся новыми всходами весной, радуя человеческий глаз и лаская душу ярким золотым ковром, или так и засохнут, бесполезные, где-нибудь в грязи дороги, без всяких шансов на продолжение жизни. Обалденный праздник! Философский и трогательный одновременно! Буду его теперь каждый год отмечать!
Максим опять рассмеялся. Но теперь уже совсем по-другому – весело и задорно.
– Всё будет хорошо, сынок! Я знаю!
Чуда не произошло. Весна не пришла и в Первомай. С утра совсем ненадолго выглянуло солнышко, резануло по привыкшим к серости глазам, звонкими лучами даря надежду. Блеснул щемящей радостью осколок голубого, ещё холодного, но всё-таки весеннего неба. Даже попытался запеть, радуясь таким переменам, соловей, выдав переливчатую трель. И будто вторя ему, надсадно прогудел большой, всклокоченный и голодный шмель. Но через полчаса опять набежали совсем не майские тяжёлые тучи, и пошёл мелкий, противно-заунывный дождь.
Максим сидел на крыльце в наброшенной на плечи телогрейке и курил. После натопленного и уютного дома на улице было совсем не комфортно. И дело не в нудном осеннем дожде и отсутствии солнца. Скорее, дело было в другом… В беспросветности. Сколько же можно?! Когда же, наконец, весна?!
Казалось, что почему-то остановились часы и календарь, и весна уже не придёт никогда. А её так хочется! Весну. За долгую жизнь были совершенно разные по погоде Первомаи. Были и жаркие, и холодные, и дождливые, и даже с мокрым снегом. Но не было на его памяти такой беспросветности…
Он опять закурил и стал выпускать дым кольцами. Он так делал всегда, когда хотел, чтобы вернулись давно забытые моменты. Ему почему-то казалось, и это он сам выдумал очень давно, что каждое колечко – это такое «закольцованное» воспоминание. Вот оно, чёткое, конкретное, возвращает тебя в прошлое и вот рассеивается уже в воздухе, опять отправляясь в глубины сознания, чтобы замереть там до момента, когда снова будет востребовано.
Первое же колечко вернуло из дальних пыльных запасников мозга залитое ослепительным солнцем воспоминание из детства… Он маленький… Лет пять. Или четыре… Неважно. Он совсем ещё маленький. В синем матросском костюмчике и в бескозырке сидит на широких плечах молодого и красивого деда и сжимает в руках огромную бумажную гвоздику. Рядом бабушка, тоже ещё молодая и тоже очень красивая. Но она – там, внизу, а он – тут, на такой высоте!
И все люди ниже его. Но их так много! Целое море людей! И впереди, и сзади, и со всех сторон! И все с флагами, с цветами, почти такими же красивыми, как и у него. Все весёлые, все поют и смеются! Потому что сегодня праздник! Здоровский праздник Первомай! И они идут на демонстрацию!
На Красную площадь!
Вся страна идёт!
Весь великий советский народ-победитель!
…Потекло, заструилось воспоминание, как всё это было, как его пришла будить бабушка ещё в темноте, а он уже не спал – сам проснулся от нетерпения, опасаясь, что его забудут, не возьмут на демонстрацию и уйдут без него. Как они одевались во всё очень красивое, как звенели медали на груди деда, а бабушка отказывалась повесить свои медали на красивое синее платье, и дед её так и не заставил.
Потом они шли по предрассветной улице к заводу, где работал дед, а там уже толпилось много людей, очень много – весь завод. А потом всем раздавали флаги и портреты, а ему дед принёс откуда-то эту огромную прекрасную гвоздику. А потом их поставили в самый первый ряд рядом с директором, потому что дед – фронтовик и ветеран!
Заиграла гармошка, кто-то запел «Утро красит нежным цветом…», и они пошли по улице. А он сверху, словно с мачты корабля, смотрел, крутя головой по сторонам, и вот уже впереди – такая же огромная туча народа. И тоже с флагами! Почему? А мы?! Как же мы?!
– Деда, деда! А это кто? Они тоже на Красную площадь пойдут? – закричал он. Ему показалось, что эти, другие, опередят их, и он не попадёт на Красную площадь.
– Это мясокомбинат. Видишь, написано: «ОМПК». И девятый хладокомбинат с ними. Они, Максим, с нами пойдут. Мы же в одной колоне пойдём. Кировский район Москвы!
Две колонны встретились. Раздались крики приветствия, смех, поздравления, и новая людская речка влилась в их «главную», как он считал, речку. И уже большая речка потекла дальше. И уже не одна гармошка, а несколько играли сзади, и песня стала громче и ярче. Здорово!
– Деда! Ещё люди! Много! Это кто, деда?
– Молочный комбинат. За ними – завод бараночных изделий. Справа, вон, завод фруктовых вод подходит, хлебокомбинат, двадцать третья автобаза, тринадцатый таксомоторный парк, за ним – одиннадцатый. А там уже большие идут – КТС, Станколит, «Знамя Труда», «Правда». За ними, вон, троллейбусный парк, трамвайное депо, Савёловская железная дорога, авиационный завод Румянцева. Стекольный завод. Бетонный. И это только наши – Кировский район. И так со всех сторон города сейчас! Идёт трудовая Москва, внучок! Смотри, какая силища, Максим! Какая красота! Американцы из космоса смотрят и за голову хватаются! Как такое победить? Да никак! И правда!
Справа, насколько хватало глаз, к ним двигалась длинная река с точно такими же красивыми красными флагами. И как только дед их всех запомнил!
– А вон, дальше – бабушкин завод стоит, нас ждёт. Завод цветных металлов. Там наша бабушка работает. Ей там орден вручили, а она надевать не хочет, – перекрикивая всё сильнее нарастающий гул, весело прокричал дед.
– Ба! А ты с нами останешься или со своим заводом пойдёшь? – теребя по голове бабулю, спросил Максим.
Бабушка рассмеялась и ответила:
– Куда же я от вас?! С вами пойду! И, Петь, хватит уже про ордена. Было б холодно, как в прошлом году, то пиджак бы надела с орденом. А на платье цеплять не хочу. Нам и твоих хватит.
Она рассмеялась.
Максим чуть опустил гвоздику и покрутил головой. Ручейки сливались в речки, речки – в одну огромную, широченную и, казалось, бесконечную реку. «Самая большая река – Волга! Интересно, она больше нашей, человеческой, или меньше?» – подумалось ему, и он уже хотел спросить деда, но тут кто-то громко, на всю улицу сказал:
– Слава трудовым коллективам Кировского района!
И все вокруг громко закричали: «Ура!» Это было неведомое ему раньше чувство. Такое прекрасное и звонкое. И он тоже что есть силы закричал:
– Ура!
Заиграла громко музыка, торжественная и тоже громкая. Такая, как в кино, и даже лучше! Они шли уже долго. Река, казалось, вышла из берегов. А яркое солнце, чистое голубое небо и волны красных трепещущих флагов над рекой с переизбытком наполняли его ещё такую маленькую голову эмоциями и радостью. Вот кто-то выпустил в небо стаю белых голубей, а за ней чуть поодаль взмыла вверх вторая. И опять полилось над бурлящей рекой громогласное «Ура-а-а-а-а-а…»
– Зин, сейчас на Трубной будет остановка. Перед Садовым кольцом. Ты там всё взяла, что надо? – дед подмигнул, обращаясь к бабушке.
У поворота на Садовое кольцо их колонна остановилась. Люди перестали махать флагами, петь и кричать «ура». Все стали группироваться кучками. Кто-то достал термосы. Красивые, в цветах и канарейках китайские термосы. На стоящих на тротуаре лавочках расстелились скатерти-самобранки. На них вмиг, как по мановению волшебной палочки, возникали горки пирожков, раскладывались бутерброды с колбасой и сыром, варёные яйца, зелёный лук, печенье и развалы всевозможных конфет.
Никто не спрашивал, где чьё и, тем более, не кричал «это моё». Люди смеялись, наливали друг другу чай, кофе и модное какао. Кто-то доставал и кое-что покрепче и, не афишируя громко, но и не прячась, с достоинством прикладывался к плоской бутылочке коньяка или разливал водку в маленькие складные стаканчики.
Бабушка раскрыла висящую на плече сумку и тоже достала свёрток с бутербродами и кулёк с конфетами. Дед ловко снял внука со своего загривка и бережно опустил перед собой. Потом достал из внутреннего кармана пиджака четвертинку водки, покопался секунду в карманах брюк и присовокупил к ней трофейный металлический складной стаканчик.
– Зин, а Максимке ты попить не взяла, что ли, ничего?
– Так ты же сказал сумку не брать. Я Рае звонила, она должна была термос взять. Вы пока кушайте, я её сейчас найду, – и она исчезла в толпе.
– Деда! А бабушка нас найдёт, не потеряет?
– Да никуда не денется твоя бабушка! На вот, лучше возьми бутерброд с колбаской.
Дед рассмеялся и, покрутив головой, выкрикнул кому-то в толпу:
– Семёныч! Иди сюда! Да быстрее давай! Потом наговоришься.
Подошедший мужик небольшого роста с портретом Ворошилова, тоже с медалями на пиджаке, присел перед Максимом, жующим бутерброд, и протянул ему конфету «Мишка на Севере». Дед налил полный стаканчик и протянул мужику:
– Давай, Семёныч. С праздником! С нашим рабочим праздником!
– Спасибо, Петро. Будь здоров! – мужик выпил, крякнул и занюхал конфетой, даже не разворачивая фантика.
– Ты давай, вон, бутерброд возьми! Чего жмёшься. Да поставь ты товарища Ворошилова. Вон, туда, к урне поставь его пока. Никуда он не денется.
Дед рассмеялся, ещё раз наполнил стаканчик, взял в другую руку перо зелёного лука, макнул им в спичечный коробок с солью, задумался на секунду и уже серьёзно сказал:
– За страну нашу СССР, за мир, с праздником! – опрокинул стопку, подмигнул внуку и захрустел луком.
– Деда, а когда баба придёт? – смотря снизу вверх, задрав голову, спросил Максим, разворачивая подаренную конфету. – Она точно нас найдёт?
– Да сейчас придёт.
Дед посмотрел на часы, чуть нахмурился, покрутил головой по сторонам, выискивая цепким взглядом, и добавил:
– Сейчас придёт. Куда денется. Ты, наверно, пить хочешь.
Максим кивнул и стал жевать конфету. Дед опять посмотрел по сторонам и выкрикнул:
– Андрей! У тебя что в термосе? Чай? Налей стаканчик внуку. А то моя куда-то пропала.
Через минуту ему протянули алюминиевый стакан-крышку от термоса с исходящим ароматным паром чаем. Дед присел на корточки, отхлебнул и передал внуку.
– На. Только потихоньку. Горячий ещё.
Дед поднялся, налил остатки водки в стакан, повторил процедуру с луком, опять подмигнул, улыбаясь, Максиму и залпом опрокинул содержимое стаканчика в рот. В этот момент подошла запыхавшаяся, раскрасневшаяся и от того ещё более красивая и обаятельная бабушка. Она несла в руках бутылку газировки и стопку серых бумажных стаканчиков.
– Не нашла Райку. Народу – туча. Куда она подевалась, ума не приложу. Когда наши пристраивались, я её видела. А сейчас не нашла. Народу – уйма. Вот, сбегала в магазин, купила лимонад. Будешь, мой родной, «Буратино»? – она сняла лёгкий шифоновый платок и присела перед внуком на корточки. – А чего ты пьёшь? И, смотри, как конфетой вымазался. Петь, это ты ему шоколадку дал? Ну, хоть бы смотрел тогда, вместо того, чтобы водку пить. Он, вон, весь в шоколаде вымазался.
И она стала носовым платком вытирать измазюканные щёки внука. Сняла с его головы бескозырку и стала раскладывать белые кудрявые волосы любимого Максимки. Через минуту громкоговоритель хрипло прокричал команду строиться в колонну и приготовиться к шествию. Шествие продолжилось. Максим занял своё законное и уже привычное место на загривке, гвоздику-великана отдал бабушке и, всё время крутя головой, пребывал в полном восторге от происходящего.
Оказалось, что всё, что он называл рекой, была ещё не большая река, не Волга. Самая настоящая Волга началась сейчас. Вперёд и назад, насколько хватало глаз, как и вправо, и влево, во всю ширину Садового кольца текла, переливаясь алыми знамёнами, воздушными шарами, цветами и транспарантами, та его «самая-самая большая в мире река». Его «Волга». Река из людей. А он, словно капитан ледокола «Ленин», книжку про который читала ему недавно мама, плыл по этой реке на плечах своего деда.
Они всё шли и шли. Играла музыка, всё так же кричали вокруг «ура» и пели песни. Песни были красивые, из кино. Многие он уже знал. Ему было жаль, что почему-то не пели его любимую песню, пластинку с которой он заставлял дедушку включать каждый день и слова которой выучил наизусть, песню про «чёрного кота, которому не везёт». Потом он понял, почему. Да просто, наверно, у них нет пластинки такой! И они её не слышали никогда! Он уже хотел было запеть её сам, но в этот самый момент дед громко сказал, почти прокричал:
– Максим, впереди Красная площадь! Видишь Кремль? Мы там с тобой были. Помнишь? Царь-пушка, Царь-колокол. Нас ещё милиционер отругал, когда ты на Царь-пушку залез. Можно подумать, ребёнок мог её сломать. Помнишь? Зин! Ты давай, не отставай. А то там, на выходе будут колонну разделять на два потока. Потеряемся. Встань передо мной. Чтоб я тебя видел. Если же потеряемся, то встань где-то на месте и повыше подними цветок. Я тебя найду.
Река текла между красивыми, словно из сказки, домами. Их высокие, похожие на колпачки крыши устремлялись вверх. Дед указывал рукой, показывая ему на дома:
– Вон – красный дом, видишь? Это музей Ленина. Мы в него сходим обязательно, когда подрастёшь. А это исторический. А там – Вечный огонь. И вот теперь мы, Максимка, на Красной площади. Смотри, видишь Мавзолей? Вот сейчас мимо него пойдём! Как пойдём мимо него, ты помаши рукой вождям!
Максим стал смотреть на Мавзолей. Но он ему не понравился. Такое он и сам может построить из кубиков! Ему нравились высокие, до неба башни! Красивые, с красными звёздами высоко-высоко в небе. Он уже видел их на картинке в книжке, но тут они были огромные и ещё красивее. У него даже закружилась голова, и он вцепился деду в шею, чтобы не упасть. Дед мягко разжал его маленькую ручку и перецепил её за воротник пиджака.
– Смотри, Максим! Вон Брежнев! Вон Ворошилов! Громыко! Маршал Малиновский! Косыгин! Всё Политбюро! Это самые главные люди в нашей стране. Помаши им рукой!
Максим посмотрел на стоящих в ряд на доме из кубиков со смешным названием «Мавзолей». Он не знал, кто эти взрослые дяди. В фуражках – командиры. Это он знал. А просто в одежде, как у всех, – вожди. Это он тоже знал. Но кто там кто, он не знал, и ему это было совсем не интересно.
Нет, всё же одного дядю он знал. Дядя Брежнев. Он – самый главный! Главнее всех! Он видел его много раз по телевизору после «Спокойной ночи, малыши». И не любил. Потому что, когда появлялся после Степашки и Хрюши этот дядя Брежнев, его заставляли идти спать. Но сейчас дядя улыбался и махал рукой. Дядя был добрый. Максим это чувствовал. И даже чем-то похож на его любимого деда. Максим помахал ему рукой и вместе со всеми громко закричал: «Ура!» Дядя Брежнев заулыбался и помахал рукой Максиму в ответ.
– Деда, баба! Дядя Брежнев мне помахал рукой тоже!
Дед, бабушка рассмеялись, и их звонкий смех подхватили все вокруг.
Стал хохотать и сам Максим, он снова начал махать рукой. Всё было так здоровски, так красиво и весело, что хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Но спустя совсем недолгое время, дед снял его со своих плеч и поставил на землю с едва пробивающейся нежно-зелёной весенней травой. Вокруг скручивали флаги улыбающееся люди, кто-то опять жевал бутерброды. Дед с бабушкой обсуждали, как им лучше добираться до дому. Песни прекратились, только был слышен доносившийся густой гул, и долетали редкие нотки оставшейся далеко позади музыки.
Максим понял, что сказка кончилась, и заплакал. Горячие слёзы текли по пухлым щекам. Он плакал, как уже плакал однажды, когда разбилась вдребезги его любимая ёлочная игрушка «Космонавт Гагарин». Плакал от внутреннего осознания, что этот день больше уже никогда не вернётся. Маленький ум не мог ещё понять смысл этого осознания, но такое же маленькое сердечко заставляло литься эти, такие горячие, слёзы.
– Ты чего, мой маленький?! Ты чего плачешь? – бабушка взяла его на руки. – Ну, что с тобой? Что-то болит? Писать хочешь?
К встревоженной бабушке присоединился дед. Он снял с него бескозырку, потрепал по белокурой голове и тоже спросил:
– Ну, Максим? Что стряслось?
Давясь слезами, Максим пролепетал:
– Не хочу, чтобы кончилась! Хочу дальше, чтобы праздник, чтобы дальше идти на Красную площадь!
Дед и бабушка рассмеялись, а бабушка стала ещё и целовать его в щёки.
– Ну вот тоже мне! Выдумал! Какое горе! Нашёл, с чего плакать! Сколько ещё будет у тебя этих демонстраций! На следующий год пойдём, если захочешь. А сейчас надо ехать домой. Там тебя мама твоя заждалась, соскучилась. Сидит и плачет: «Где мой Максимка?» Будем праздник отмечать, я вон пирогов напекла. Твоих любимых, с яблоками! А завтра – воскресенье. Выходной. Пойдём в парк. На каруселях будешь кататься. Гамак возьмём, в мячик будем играть, на лодке покатаемся. Будем на лодке кататься или нет? А сегодня – мультики по телевизору.
Максим закивал. Слёзы переставали течь. Мама его ждёт… Пироги… На лодке завтра будем кататься… Мультики… Ладно! Не так всё и плохо. И, уже перестав плакать, но ещё шмыгая носом, он всё-таки спросил:
– Деда, а мы точно ещё пойдём на праздник на Красную площадь, как сегодня?
Дед опять рассмеялся и ответил:
– Конечно, пойдём! Сто раз ещё пойдём! – он подкинул его вверх и опять усадил себе на плечи. – Давай, Максим, запевай! Свою любимую, про кота!
Максим тоже заливисто рассмеялся и громко запел:
– Жил да был во дворе чёрный кот…
Люди вокруг расхохотались, стали аплодировать, и кто-то даже выкрикнул:
– Давай, малой, жарь!
И стал подыгрывать на гармошке.
Он пел, стараясь как можно громче и чётче произносить слова. Смеялся, когда его подбадривали, подпевали или совали в руку конфеты. Ощущение праздника вернулось. Он опять был счастлив. А скоро будет любимая мама, карусели и мультики! Какой всё-таки сегодня здоровский день! Пер-во-май!
…Очнулся от собственного голоса. Оказалось, что последнюю фразу он сказал вслух. Сигарета давно догорела. Протёр влажные от слёз глаза.
– Надо же, как нахлынуло!
Максим посмотрел на небо. Ветер разорвал серую пелену и безжалостно разгонял тучи, открывая миру высокую голубую бесконечность. Появилось и солнце, ещё заспанное, но начинающее наконец свою весеннюю работу. Он встряхнул головой, освобождаясь окончательно от морока воспоминаний, грустно улыбнулся самыми краешками губ, потянулся до хруста и встал.
– Ну что, перетащил солнце из детства, Максим Викторович? – уже уверенно и громко спросил он вслух у себя самого, рассмеялся и добавил. – Ну, давай тогда и праздник отмечать, как в детстве, весело и с песнями! Где там моё сонное царство? Эй, семья! Серёжа! Танюша! Вы где? Что вы там в доме засели?! Смотрите, какое солнце вышло! Идите на улицу! Весна! Первомай! Праздник! Будем шашлык жарить, вино пить и песни петь!
Задумался на секунду и вдруг запел:
– Жил да был во дворе чёрный кот…
ДЕНЬ ОДУВАНЧИКА
– Максим, давай камин, что ли, затопим, а то как-то сыро в доме, сумрачно и зябко, – жена отложила в сторону спицы и нечто непонятное ярко-красного цвета, что должно было со временем материализоваться в очередной шедевр вязального искусства.
– Да уж. Так и хочется сказать «не май месяц», хотя на самом деле он самый и есть. Причём середина мая. А ощущение – словно октябрь. И на градуснике всего одиннадцать. Даже выходить не хочется, – Максим тоже поёжился и стал собирать в камине пирамидку из дров.
Через минуту выпустив в пространство ароматное облако горящей бересты, дрова весело затрещали, возвращая дому заблудившийся в серости уют.
– Слушай, Танюш, а, может, и баню затопить? Ты как, любимая, по поводу бани? Когда ещё париться, как не в такую погоду?
– Точно! Давай баню. Я ещё вчера хотела тебе сказать да закрутилась. А где Серёжка? Он спит, что ли, опять?
– Я не сплю! – прокричал из своей комнаты сын. – Я – за баню!
– Пап, тут опять фото прислали мне с твоими стихами на футболке. Сейчас покажу.
– Вот засранцы! Те, первые, хоть с указанием автора печатали. А эти даже не заморачиваются, – ухмыльнулся Максим, глядя в экран ноутбука.
На фотографии, сделанной кем-то из друзей сына, на Арбате среди всевозможных футболок с многочисленными изображениями известных лиц от Сталина до Путина и всевозможных «типа смешных мемов» и маразматических выражений вроде «я люблю любовь» или «мы свободны от свободы», действительно висела белая футболка с его четверостишьем, написанным весной 2014 года, после Крыма и всего, что началось потом. И посвящённое всей пятой колонне, которая дружными рядами вдруг вынырнула из мути, принявшись истошно верещать голосами актрисы Ахеджаковой и музыканта Макаревича. Надпись, выполненная чётким чёрным шрифтом, гласила:
Мы любить Россию не просили.
Ваша нелюбовь к нам – не беда.
Если вам не нравится Россия,
Есть дорога на ..., господа!
– Ну, что тут скажешь, сынок?! Наверно, это и есть слава. Точнее, не слава, а признание. Народное признание. Самая верхняя ступень признания. Только для меня оно очень грустное. Я написал около ста стихов, а известным стало вот это одно четверостишье. Кто-то перепостил его в Одноклассниках, размножил, и оно пошло гулять по стране. Мы с мамой просто обалдели, когда в Крыму, в том же 2014-м году, увидели его на задних стёклах очень многих автомобилей. С одной стороны – гордость. А с другой – хотелось всем встречным объяснять (да что там объяснять, орать хотелось!): «Люди, это же Я написал! Я!»
И не деньги тут главное, за такое денег не берут – западло. Просто хочется, чтобы подошли, пожали руку, сказали спасибо. Хотя понятно, что я не первый в такой ситуации, и всё это старо, как мир. Вот поём мы песни. Музыка «народная», слова типа тоже «народные», это как? Ну, про музыку ещё как-то возможно. Один сыграл на гармошке, второй переделал, третий добавил проигрыш, четвёртый придумал припев повторять и проигрывать. Кто пограмотней и похитрей, на различные инструменты разложил. Допустим, возможно. Хотя я и тут считаю, что один был, кто подобрал и положил слова на музыку. А с текстом-то вообще ерунда получается! Это как понять – «слова народные»?! Народ собрался всем гуртом на лугу на вече и стал слова сочинять? Или я строчку придумал, за мной – ты, потом Ваня с соседней улицы, потом Прокоп с Васей из другого города строку добавили.
Так что ли? Бред! Понятно, что был конкретный автор, который написал стихи. Но никто его не знает. Песня живёт. Может, и не одну уже сотню лет живёт, а автора никто не знает. А раз поют до сих пор, то великий же был поэт! Думаешь, ему не обидно было при жизни? Думаю, обидно. Но что тут сделаешь?! Россия. Мы же не пиндосы. Это у них Шекспира знают с шестнадцатого века. А у нас спел на свадьбе или в кабаке, порадовал людей, доставил удовольствие – поднесли стакан, спасибо сказали, ну и здорово.
– И что, пап? Неужели тебе никогда не хотелось славы? Это же твоя и только твоя интеллектуальная собственность! Твоё сердце, твоя душа, твой талант!
Максим подбросил ещё пару поленьев в жерло разогревающегося камина, задумался на пару секунд, уставившись на пляшущие языки пламени, и ответил:
– Ну почему же не хотелось? Ещё как хотелось! Да и сейчас хочется. Но с годами я понял, что не это главное. Абсолютно не главное! Я молодой был, всем подряд свои стихи читал. И дарил с автографом. Ну, а как?! Друзья же! А потом сколько моих виршей в стихах известных поэтов-песенников вдруг оказалось! Кто-то ведь из тех самых «друзей» и сдал их. А, может, и продал. Я тебе рассказывал про всё это. Не хочу повторяться. Меня в молодости не это бесило. Меня корёжило, почему меня не печатают.
Приношу в «Современник», мне говорят: «Стихи хорошие, но они не подходят нашему журналу, они очень демократические. Против нашего красного патриотического журнала». Несу в «Огонёк» или «Юность», а там – противоположенное: «Ваши стихи интересные, но они явно красно-коричневые! И идут в разрез с делом демократии». Хотя та же «Юность» мне второе место отдала в конкурсе молодых поэтов. Но только лирику хотели печатать, а я хотел другого. По телевизору же даже показали в числе пяти самых лучших молодых поэтов страны. И что? Думаешь, кто-нибудь взял печатать? Хрена лысого! Это сейчас иди, заплати деньги, и тебя напечатают, хоть ты напиши инструкцию, как Кремль взорвать или голову человеку отрезать. И чем больше будет мата, грязи и секса, тем быстрее напечатают. Главное, чтобы продать побыстрее и бабла срубить побольше. И я бросил писать. Просто сам взял и бросил. Так же и с живописью. Я писал картины на историческую тему. Но это никому не нужно! Мне так и говорили в салонах: «У вас хорошая техника, цвет, композиция. Мастерство на уровне. Но вы поймите, это никто не купит. Вы приносите пейзажи, лес, море или голых баб. Это покупают. А кто повесит у себя в гостиной вашего Ивана Грозного? Это же страшно! Вон какие у него глазища! Ночью ребёнок увидит и заикой останется!»
А зачем мне писать то, что мне не хочется? Ради денег? Так я же всегда работал, деньги неплохие зарабатывал. Иногда и большие. Тогда зачем мне делать то, что я не люблю? Ради того, чтобы стать модным салонным художником? И писать по сто раз «мишек в сосновом бору» или «куртизанок в гареме султана»?
Или стать этим, как его… «поэтом-песенником». Автором для какого-нибудь Киркорова или Стаса Михайлова? Я не хочу. Для меня искусство – это искусство, а ремесло – это ремесло. И это две вещи для меня несовместимые. Люди живут этим, ну и дай им Бог, я ни в коей мере не осуждаю! Пусть косят бабло за свои «моря-якоря» и «пальто-полупальто». Просто я не хочу, никогда не хотел и, надеюсь, уже не захочу этого делать. Для меня всегда была примером жизнь Грибоедова. По мне, так самый талантливый после Пушкина человек, погиб на государевой службе, отстаивая интересы России. Я с огромным уважением отношусь к Денису Давыдову, к Льву Николаевичу Толстому, которые Родине служили. И просто презираю до желания застрелить, например, того же Солженицына, обливавшего помоями свою Родину. Ведь слова о том, что «поэт в России – больше, чем поэт», для меня абсолютно правильные слова. Аксиома. Помнишь, как у Тарковского в «Андрее Рублёве»? Когда в самом конце Солоницын говорит Бурляеву: «Вот и пойдём мы с тобой по Руси. Ты – колокола лить, я – иконы писать. Людям счастье и радость дарить».
Для меня любой – художник. Я имею ввиду, в большом смысле художник. Это человек, который заставляет человека задуматься, дарит людям радость, заставляет плакать или смеяться. То есть бередит душу и сердце. Входит к ним в каждую клеточку их сознания и остаётся там навсегда, делая человека чище и лучше. Хоть на грамм, хоть на йоту, хоть на капельку малюсенькую, но лучше. А всё остальное – это не искусство, это то, что у пиндосов обозначается словом «дизайн». Есть модерн гениального Шехтеля, а есть «дизайн в стиле модерн» телепередачи «Дачный ответ». И это две большие разницы. И поэтому есть художник Шолохов, а есть «дизайнер» Солженицын. Есть Бунин и Куприн, а есть Акунин. И если у меня не получилось стать художником, то дизайнером я уж точно быть не хочу.
– Ну вот, опять ты всё грустно закончил, пап! Лучше бы я тебе и не показывал ничего. Ты чего? Вот напечатаешь свою повесть и дальше будешь писать. Я думаю, что всё будет хорошо. Должно быть хорошо. Повесть-то реально классная! Правда, мам?
– Да не слушай ты его. Это на него погода так действует. Когда такая погода, он всегда впадает в депрессию. Сейчас махнёт пару рюмок и станет весёлым.
Максим грустно улыбнулся.
– Наверно, ты права. Но если в баню решили идти, какая может быть рюмка?! Вот после бани – сам Бог велел. Как говаривал Александр Васильевич Суворов, «после бани хоть последние портки продай, а водки выпей!» Пойдём, сын, баню затопим.
Максим встал и, накинув кофту, пошёл к выходу. Вдруг он резко остановился, сделал пару шагов назад и, посмотрев пристально на отрывной календарь, звонко расхохотался.
– Вы посмотрите, какой сегодня праздник! Сегодня, оказывается, у нас «День Одуванчика»! А ведь это так символично, сынок! Мы с тобой тут о славе и творчестве разговаривали. Так вот, слушай, что я скажу в заключение. Ставя, так сказать, красивую точку в этих своих долгих рассуждениях. Слава – это как одуванчик. Вот есть она у человека, эта слава. И, кажется, что она большая, пышная и чистая. Как шапка одуванчика. А подует ветер, и слетит эта корона с его головы. И стоит он, голый и беззащитный. Потому что не было у него ничего, кроме этой дутой славы. И тут самое главное то, куда разлетятся все эти невесомые семена - зонтики, уносимые безжалостным ветром. Попадут ли они в хорошую почву и поднимутся новыми всходами весной, радуя человеческий глаз и лаская душу ярким золотым ковром, или так и засохнут, бесполезные, где-нибудь в грязи дороги, без всяких шансов на продолжение жизни. Обалденный праздник! Философский и трогательный одновременно! Буду его теперь каждый год отмечать!
Максим опять рассмеялся. Но теперь уже совсем по-другому – весело и задорно.
– Всё будет хорошо, сынок! Я знаю!
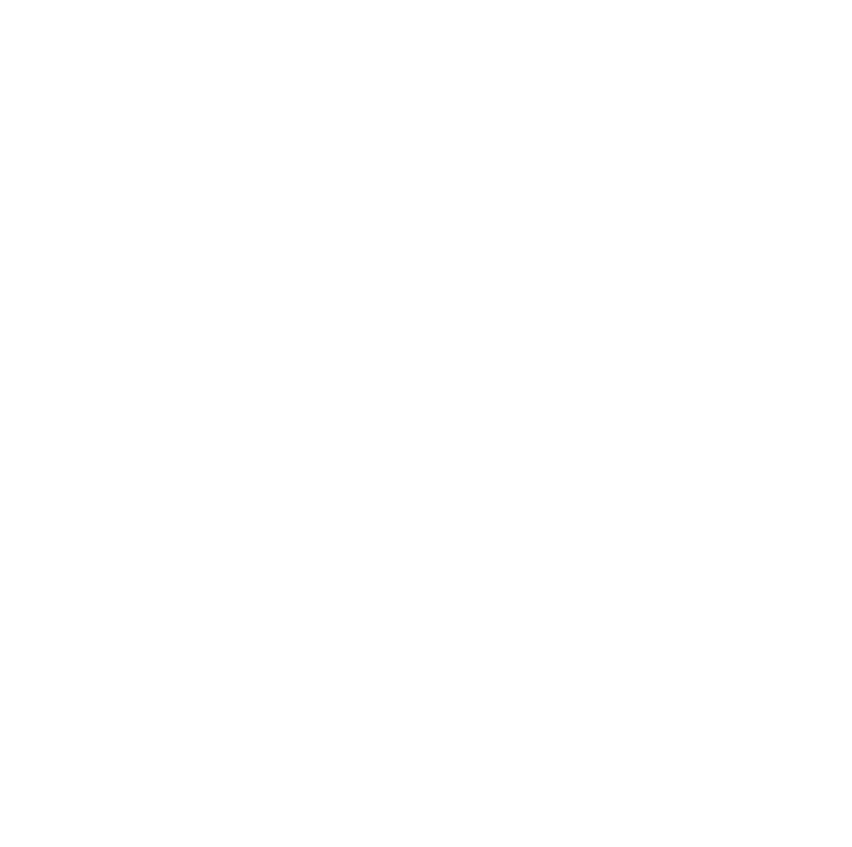
Анастасия ОМЕЛЬЧЕНКО
Родилась в 1987 году в Нижнем Тагиле Свердловской области, живу в Екатеринбурге. Своё первое стихотворение сочинила в 9 лет, писала стихи и статьи для студенческой газеты «Соц.ник» Нижнетагильской Государственной Социально-Педагогической Академии (НТГСПА). В настоящее время создаю авторские поздравления, как в стихах, так и в прозе, написано более шестисот поздравлений. Член Международного Союза Русскоязычных Писателей (МСРП). Финалист (2 место) Международного литературного проекта-конкурса «100 секретов счастья» (проза), работа опубликована в одноимённом сборнике (2022 г.).
Финалист (3 место) литературного конкурса «Любимым, близким, родным…» (поэзия), цикл стихотворений опубликован в сборнике «Любимым от души» (2023 г.).
Родилась в 1987 году в Нижнем Тагиле Свердловской области, живу в Екатеринбурге. Своё первое стихотворение сочинила в 9 лет, писала стихи и статьи для студенческой газеты «Соц.ник» Нижнетагильской Государственной Социально-Педагогической Академии (НТГСПА). В настоящее время создаю авторские поздравления, как в стихах, так и в прозе, написано более шестисот поздравлений. Член Международного Союза Русскоязычных Писателей (МСРП). Финалист (2 место) Международного литературного проекта-конкурса «100 секретов счастья» (проза), работа опубликована в одноимённом сборнике (2022 г.).
Финалист (3 место) литературного конкурса «Любимым, близким, родным…» (поэзия), цикл стихотворений опубликован в сборнике «Любимым от души» (2023 г.).
ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД
Татьяна была, как сейчас принято говорить, бизнесвумен. Хладнокровная, требовательная, улыбку на её лице, пожалуй, видело только зеркало, и то не факт; симбиоз настоящей львицы и акулы в одном человеке. В сердце – ежедневник, в голове – калькулятор, схемы, графики, таблицы… Весь её образ кричал и подчеркивал этот набор. Всегда строгие деловые костюмы, белоснежные рубашки, начищенные туфли и очки для пущей солидности, а ещё портфель с тонной мега-важных бумаг. К Татьяниным сорока годам на такую «завидную» невесту принцев не нашлось, а к детям и домашним животным она относилась, как к смертоносному фактору её идеально спланированной и четко расписанной деловой жизни. Друзья и приятели как-то не вписывались в её плотный график, и Татьяну, точнее, Татьяну Николаевну смело можно было назвать «волком-одиночкой». Она засыпала с ноутбуком в руках и просыпалась с планшетом. Ей казалось, что её жизнь удалась, и для счастья больше ничего не нужно.
Но однажды на очередном тренинге по «успешному успеху», которые Татьяна Николаевна регулярно посещала, к ней, словно липкий репей к брюкам, прицепилась одна дама. Между ними завязалась дискуссия на тему детей и материнства. Ольга, так звали «репей», убеждала Татьяну, что ей просто жизненно необходимо поехать с ней в детский дом, который та курирует, чтобы пообщаться с детками и изменить свое пренебрежительное отношение к ним. Татьяна искреннего желания не испытывала к подобному мероприятию, но решила, что это будет «плюсик к карме», и согласилась.
25 декабря, проехав практически 200 километров до Богом забытой деревушки, в назначенное время Татьяна припарковалась у ворот учреждения с полной машиной подарков. Она думала, что сейчас они как спонсоры раздадут детям гостинцы и быстро уедут, потому что далее весь оставшийся день был расписан по минутам, если не по секундам.
Тут Ольга подошла и весело объявила, что сейчас они и ещё несколько волонтёров будут проводить ребятам мастер-класс по лепке пельменей. Разбег эмоций внутри Татьяны был от лютой ярости до нечеловеческого гнева.
– В смысле – мастер-класс? Какая еще лепка пельменей??? Как это возможно??? Мы так не договаривались!!! – на языке у нашей «акулы» вертелось ещё с десяток яростных реплик, но тут налетела ребятня. Все стали лезть обниматься к женщинам, хохотать, расталкивать друг дружку, с любопытством заглядывая в пакеты, тут же растаскивая сладости по карманам.
Татьяна от увиденного пришла в ужас. Вокруг неё всегда царит тишина, ни в офисе, ни дома она даже радио фоном не включает, её окружает спокойная атмосфера и чёткие действия, а этот хаос, который устроили дети, просто выбил её из привычной, ровной колеи.
Применив на практике все изученные ею техники, Татьяна сделала вдох-выдох, посчитала до десяти, нажала на нужные точки у висков, практически пришла в норму и отправилась со всеми в помещение. Отведя Ольгу в сторону, она призналась, что сама не лепила пельмени с детства и не помнит, как это делать. Тут Ольга рассмеялась, чем ещё больше разозлила Татьяну Николаевну. Никто и никогда не вёл себя с ней так фамильярно.
Тут же развернулась кипучая деятельность: все стали дружно сдвигать столы, с одного края чистили лук, с другого – месили тесто. Откуда ни возьмись, достали советские мясорубки, которые Татьяна лет тридцать не видела, килограммы мяса стали превращаться в фарш. Кругом – галдёж, шум, гам, вдруг дети начали бросаться тестом, мукой и всем, что попадало к ним в руки. Пара таких «снарядов» прилетела прямо в Татьяну, испачкав её безупречно чистый и выглаженный костюм. Ей казалось, что это какой-то дурацкий и страшный сон, она сильно зажмурилась, ей хотелось скорее проснуться, но когда Татьяна открыла глаза, картина не изменилась. Раздражение нарастало, как снежный ком, она уже дошла до точки кипения и была готова взорваться.
Неожиданно к ней со спины подошел мальчик лет шести и крепко прижался, уткнувшись носом в пиджак. Он был похож на одуванчик, его удивительно белые, густые кудряшки создавали на голове объемную куполообразную шапку, на которую так и хотелось дунуть, чтобы они разлетелись. «Боже, он меня сейчас еще и соплями испачкает, бррррр», – пронеслось у Татьяны в голове. «Ты знаешь, а я же здесь ненадолго, скоро придёт моя бабушка, заберёт меня, и Новый год мы будем встречать дома, она испечёт мой любимый яблочный пирог и достанет малиновое варенье», – сказал малыш, сглатывая слюну.
Татьяна равнодушно погладила Егорку по голове (так звали этого мальчика) и постаралась быстрее отойти от него в сторону. Он же убежал в угол кухни, на которой происходил этот балаган, присел на корточки и с завистью смотрел, как все остальные развлекались. Его синие, как васильки, глаза были полны грусти и отчаянья.
Воспитательница рассказала Татьяне, что родители мальчика несколько лет назад трагически погибли, а бабушка – его единственный близкий человек и опекун – заболела, мальчика временно определили сюда; тем временем бабушка скончалась. Никто не решался сообщить об этом Егорке и лишить его надежды вернуться домой. Он был замкнутым ребёнком, и ребята не брали его с собой играть, он постоянно ходил сам по себе и практически ни с кем не разговаривал. Придумывал какие-то занятия и с важным видом то что-то писал, то мастерил. Татьяне он напомнил её саму.
Татьяна и сама не поняла, как так вышло, что 30 декабря она была уже Снегурочкой на елке в этом детском доме. Она весело рассказывала стишок, в конце которого задавала вопрос: «Детишки, вы меня узнали?»
– Даааааа, Сне-гу-роч-ка! – хором кричали дети, и лишь Егорка ответил: «Да, Татьяна Николаевна!»
И в этот самый момент что-то резко оборвалось внутри неё и вдребезги разбилось. Слёзы сами собой, словно ручейки, покатились по щекам. Мальчик бросился к ней, Татьяна присела, и его маленькие ручки так нежно обвились вокруг её шеи, что ежедневник в её сердце разорвался на мелкие клочки и превратился в пепел, она не хотела больше ни на минуту расставаться с Егоркой.
Комната была наполнена головокружительными ароматами мандаринов и свежеиспеченного имбирного печенья, практически до потолка возвышалась пышная живая ель, по всему полу были разбросаны игрушки, мишура, фонарики, из колонки доносились новогодние детские песенки. Татьяна с Егоркой весело играли в догонялки, всё сметая на своем пути и устраивая ещё больший беспорядок. Тут же развешивали гирлянды, стряпали яблочный пирог, щекотали друг дружку, бросались снежками из теста и муки, вымазались с ног до головы в малиновом варенье… Казалось, такой счастливой и непосредственной Татьяна не была никогда в жизни.
Ближе к одиннадцати часам, когда Егорка, радостный, распаковывал подарки, найденные под ёлкой, раздался звонок в дверь. На пороге стоял Дед Мороз; Татьяна опешила, ведь она его не заказывала, видимо, актёр перепутал адрес. Но не успела она открыть рот, чтобы объясниться, Дедушка бойко вошёл в квартиру, Егорка завизжал от счастья, и они принялись читать стихи, водить хоровод и играть, вовлекая в свои забавы Татьяну.
Когда Деду Морозу позвонили разозлённые настоящие заказчики, они наконец разобрались, что произошла ошибка, но время неумолимо приближалось к полуночи, и идти к «правильному» ребенку было уже поздно. Татьяна предложила Дедушке остаться с ними, чтобы он не встретил Новый год по пути к своему дому.
Ольга с Татьяной Николаевной сильно сдружились и вместе стали регулярно помогать детскому дому, устраивать праздники, водить детишек на экскурсии, в театры, привозить вещи, игрушки, книги. После очередной встречи с ребятами Татьяна торопилась домой. Через весь двор к ней бежал Егорка с милым и пухленьким мопсом на поводке по кличке Фунтик. В гостиной их уже ждал накрытый на столе ужин, к Татьяне подошёл тот самый Дед Мороз, бережно погладил её по выступающему вперед животику и сказал: «Надеюсь, у нашего Егорки будет сестричка».
«Надо же, чудеса действительно случаются под Новый год», – подумала Татьяна, и её лицо украсила блаженная, счастливая улыбка.
Татьяна была, как сейчас принято говорить, бизнесвумен. Хладнокровная, требовательная, улыбку на её лице, пожалуй, видело только зеркало, и то не факт; симбиоз настоящей львицы и акулы в одном человеке. В сердце – ежедневник, в голове – калькулятор, схемы, графики, таблицы… Весь её образ кричал и подчеркивал этот набор. Всегда строгие деловые костюмы, белоснежные рубашки, начищенные туфли и очки для пущей солидности, а ещё портфель с тонной мега-важных бумаг. К Татьяниным сорока годам на такую «завидную» невесту принцев не нашлось, а к детям и домашним животным она относилась, как к смертоносному фактору её идеально спланированной и четко расписанной деловой жизни. Друзья и приятели как-то не вписывались в её плотный график, и Татьяну, точнее, Татьяну Николаевну смело можно было назвать «волком-одиночкой». Она засыпала с ноутбуком в руках и просыпалась с планшетом. Ей казалось, что её жизнь удалась, и для счастья больше ничего не нужно.
Но однажды на очередном тренинге по «успешному успеху», которые Татьяна Николаевна регулярно посещала, к ней, словно липкий репей к брюкам, прицепилась одна дама. Между ними завязалась дискуссия на тему детей и материнства. Ольга, так звали «репей», убеждала Татьяну, что ей просто жизненно необходимо поехать с ней в детский дом, который та курирует, чтобы пообщаться с детками и изменить свое пренебрежительное отношение к ним. Татьяна искреннего желания не испытывала к подобному мероприятию, но решила, что это будет «плюсик к карме», и согласилась.
25 декабря, проехав практически 200 километров до Богом забытой деревушки, в назначенное время Татьяна припарковалась у ворот учреждения с полной машиной подарков. Она думала, что сейчас они как спонсоры раздадут детям гостинцы и быстро уедут, потому что далее весь оставшийся день был расписан по минутам, если не по секундам.
Тут Ольга подошла и весело объявила, что сейчас они и ещё несколько волонтёров будут проводить ребятам мастер-класс по лепке пельменей. Разбег эмоций внутри Татьяны был от лютой ярости до нечеловеческого гнева.
– В смысле – мастер-класс? Какая еще лепка пельменей??? Как это возможно??? Мы так не договаривались!!! – на языке у нашей «акулы» вертелось ещё с десяток яростных реплик, но тут налетела ребятня. Все стали лезть обниматься к женщинам, хохотать, расталкивать друг дружку, с любопытством заглядывая в пакеты, тут же растаскивая сладости по карманам.
Татьяна от увиденного пришла в ужас. Вокруг неё всегда царит тишина, ни в офисе, ни дома она даже радио фоном не включает, её окружает спокойная атмосфера и чёткие действия, а этот хаос, который устроили дети, просто выбил её из привычной, ровной колеи.
Применив на практике все изученные ею техники, Татьяна сделала вдох-выдох, посчитала до десяти, нажала на нужные точки у висков, практически пришла в норму и отправилась со всеми в помещение. Отведя Ольгу в сторону, она призналась, что сама не лепила пельмени с детства и не помнит, как это делать. Тут Ольга рассмеялась, чем ещё больше разозлила Татьяну Николаевну. Никто и никогда не вёл себя с ней так фамильярно.
Тут же развернулась кипучая деятельность: все стали дружно сдвигать столы, с одного края чистили лук, с другого – месили тесто. Откуда ни возьмись, достали советские мясорубки, которые Татьяна лет тридцать не видела, килограммы мяса стали превращаться в фарш. Кругом – галдёж, шум, гам, вдруг дети начали бросаться тестом, мукой и всем, что попадало к ним в руки. Пара таких «снарядов» прилетела прямо в Татьяну, испачкав её безупречно чистый и выглаженный костюм. Ей казалось, что это какой-то дурацкий и страшный сон, она сильно зажмурилась, ей хотелось скорее проснуться, но когда Татьяна открыла глаза, картина не изменилась. Раздражение нарастало, как снежный ком, она уже дошла до точки кипения и была готова взорваться.
Неожиданно к ней со спины подошел мальчик лет шести и крепко прижался, уткнувшись носом в пиджак. Он был похож на одуванчик, его удивительно белые, густые кудряшки создавали на голове объемную куполообразную шапку, на которую так и хотелось дунуть, чтобы они разлетелись. «Боже, он меня сейчас еще и соплями испачкает, бррррр», – пронеслось у Татьяны в голове. «Ты знаешь, а я же здесь ненадолго, скоро придёт моя бабушка, заберёт меня, и Новый год мы будем встречать дома, она испечёт мой любимый яблочный пирог и достанет малиновое варенье», – сказал малыш, сглатывая слюну.
Татьяна равнодушно погладила Егорку по голове (так звали этого мальчика) и постаралась быстрее отойти от него в сторону. Он же убежал в угол кухни, на которой происходил этот балаган, присел на корточки и с завистью смотрел, как все остальные развлекались. Его синие, как васильки, глаза были полны грусти и отчаянья.
Воспитательница рассказала Татьяне, что родители мальчика несколько лет назад трагически погибли, а бабушка – его единственный близкий человек и опекун – заболела, мальчика временно определили сюда; тем временем бабушка скончалась. Никто не решался сообщить об этом Егорке и лишить его надежды вернуться домой. Он был замкнутым ребёнком, и ребята не брали его с собой играть, он постоянно ходил сам по себе и практически ни с кем не разговаривал. Придумывал какие-то занятия и с важным видом то что-то писал, то мастерил. Татьяне он напомнил её саму.
Татьяна и сама не поняла, как так вышло, что 30 декабря она была уже Снегурочкой на елке в этом детском доме. Она весело рассказывала стишок, в конце которого задавала вопрос: «Детишки, вы меня узнали?»
– Даааааа, Сне-гу-роч-ка! – хором кричали дети, и лишь Егорка ответил: «Да, Татьяна Николаевна!»
И в этот самый момент что-то резко оборвалось внутри неё и вдребезги разбилось. Слёзы сами собой, словно ручейки, покатились по щекам. Мальчик бросился к ней, Татьяна присела, и его маленькие ручки так нежно обвились вокруг её шеи, что ежедневник в её сердце разорвался на мелкие клочки и превратился в пепел, она не хотела больше ни на минуту расставаться с Егоркой.
Комната была наполнена головокружительными ароматами мандаринов и свежеиспеченного имбирного печенья, практически до потолка возвышалась пышная живая ель, по всему полу были разбросаны игрушки, мишура, фонарики, из колонки доносились новогодние детские песенки. Татьяна с Егоркой весело играли в догонялки, всё сметая на своем пути и устраивая ещё больший беспорядок. Тут же развешивали гирлянды, стряпали яблочный пирог, щекотали друг дружку, бросались снежками из теста и муки, вымазались с ног до головы в малиновом варенье… Казалось, такой счастливой и непосредственной Татьяна не была никогда в жизни.
Ближе к одиннадцати часам, когда Егорка, радостный, распаковывал подарки, найденные под ёлкой, раздался звонок в дверь. На пороге стоял Дед Мороз; Татьяна опешила, ведь она его не заказывала, видимо, актёр перепутал адрес. Но не успела она открыть рот, чтобы объясниться, Дедушка бойко вошёл в квартиру, Егорка завизжал от счастья, и они принялись читать стихи, водить хоровод и играть, вовлекая в свои забавы Татьяну.
Когда Деду Морозу позвонили разозлённые настоящие заказчики, они наконец разобрались, что произошла ошибка, но время неумолимо приближалось к полуночи, и идти к «правильному» ребенку было уже поздно. Татьяна предложила Дедушке остаться с ними, чтобы он не встретил Новый год по пути к своему дому.
Ольга с Татьяной Николаевной сильно сдружились и вместе стали регулярно помогать детскому дому, устраивать праздники, водить детишек на экскурсии, в театры, привозить вещи, игрушки, книги. После очередной встречи с ребятами Татьяна торопилась домой. Через весь двор к ней бежал Егорка с милым и пухленьким мопсом на поводке по кличке Фунтик. В гостиной их уже ждал накрытый на столе ужин, к Татьяне подошёл тот самый Дед Мороз, бережно погладил её по выступающему вперед животику и сказал: «Надеюсь, у нашего Егорки будет сестричка».
«Надо же, чудеса действительно случаются под Новый год», – подумала Татьяна, и её лицо украсила блаженная, счастливая улыбка.
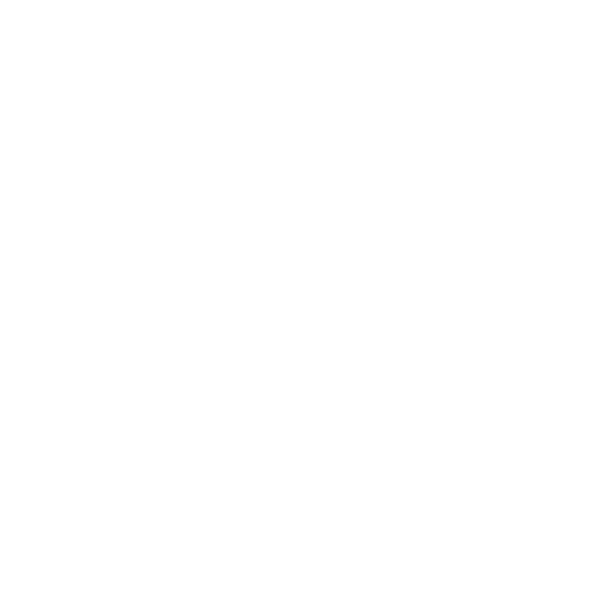
Дмитрий ЛАЗАРЕВ
Пишу рассказы, эссе, лирические миниатюры, адресованные по большей части людям близким и знакомым. С произведением «Небесная механика» пробую публиковаться впервые. К слову, произведение задумывалась как цикл из трёх объемных рассказов, не связанных сюжетом, но где под общим смыслом ненавязчиво пересекаются между собой пути отдельных персонажей. И несмотря на это, все три истории вполне готовы существовать самостоятельно.
Пишу рассказы, эссе, лирические миниатюры, адресованные по большей части людям близким и знакомым. С произведением «Небесная механика» пробую публиковаться впервые. К слову, произведение задумывалась как цикл из трёх объемных рассказов, не связанных сюжетом, но где под общим смыслом ненавязчиво пересекаются между собой пути отдельных персонажей. И несмотря на это, все три истории вполне готовы существовать самостоятельно.
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА
Степа, с плотно прижатыми к подлокотникам руками, прямой шеей, с дотошностью перфекциониста повторяя телом изящные линии фабричного литья, неподвижно сидел в своем любимом пластиковом кресле. Кресло было июньски-желтым, оно всегда стояло по центру открытой веранды, а по сути – на улице и ни при каких обстоятельствах не имело права покидать отведенную ему территорию. Зимой, летом, в дождь ли, в ураган – с кресла сметали снег, вытирали сухой тряпкой, отыскивали валявшимся кверху ножками в траве у забора, бинтовали переломы хрупкого скелета скотчем и возвращали на прежнее место. Мыслей у Степы не было. Его текущему состоянию мог позавидовать любой из соискателей буддийских практик по остановке внутреннего диалога с целью окончательного просветления, но то, что испытывал в тот момент Степа, просветлением назвать было трудно, и буддийские монахи уж точно по-другому представляли себе это состояние. Степу безвозвратно поглощала немая, бездушная даль. Непослушные облака, когда-то давным-давно поссорившись с планетой, вытянулись над горизонтом в шерстяную полоску вещества и, презирая гравитацию, кувыркались в пространстве, беспорядочно меняя оттенки. Дело шло к закату. Огромное небо, сливаясь с таким же огромным полем, являло взору угасающую кардиограмму, готовую совершить последний удар обреченного на забвение дня. Вообще, вопреки всем ожиданиям, с этим местом все стало складываться не так однозначно, как предполагалось. Четыре года назад он купил участок земли в небольшой уютной деревеньке с честно пасущимися вдоль дороги коровами и водоплавающей птицей в пруду. Место поразило его с первого взгляда. Это был некрутой склон, сдержанно сползающий к петлявшему в зеленой мякоти кустарника студеному ручью с чистейшей родниковой водой, освежившись в котором, уворачиваясь от островков и мысов пушистого леса, зритель вновь взмывал по диким полнотравным заливам лугов аж к самому горизонту. Особенно впечатляла уединенность или, скорее, невинная отстраненность участка относительно близлежащих жилых построек, и, будучи расположенным на самой окраине населенного пункта, он открывал взору трогательнейшую картину, не обремененную ни чем человеческим. Собственно, здесь и пришлось впервые столкнуться с загадочной особенностью этого места – стоило хоть на секунду задержать взгляд на необыкновенном виде или попытаться уловить скрытый в причудливых линиях и пропорциях замысел, как у наблюдателя тут же наступал когнитивный паралич. Этот феномен всегда срабатывал четко и безотказно, что подтверждали многократные эксперименты, тайно проведенные Степой на своих близких и знакомых, имевших случай заглянуть к нему в гости. С гостями происходило ровно то же самое, при этом никто и не думал оспаривать эстетическую ориентацию Степы, но, случайно зацепившись взглядом за кромку леса под синими небесами, они тут же замирали и безучастно молчали, напрочь позабыв о первоначальных целях своего визита. Тем не менее, не спеша, но не без определенных усилий через четыре года на участке вырос добротный каменный дом в полтора этажа, с флигелем в виде черного спаниеля на крыше и открытой верандой с желтым пластиковым креслом посередине. После того, как сбылась мечта о бегстве из города, Степа с надеждой ожидал осуществления другой его мечты: он предполагал списывать с себя стремительный и качественный поток самых невероятных мыслей, которые, по его мнению, неминуемо должны были посетить его забрызганную сединой голову в этом тихом уединенном месте. Но увы, как впоследствии выяснилось, все предпринятые им попытки сгенерировать из деревенской тишины наполненные глубиной и смыслом тексты при первом же взгляде в окно, расположенное в аккурат напротив письменного стола, в той самой тишине и растворялись. Впрочем, с подобным недоразумением можно было и смириться, так как завораживающие пейзажи среднерусской возвышенности с лихвой компенсировали творческие осечки Степы, включая довольно сомнительную продуктивность тезиса о свойстве природы располагать ум к художественному вдохновению, либо великие русские писатели что-то не договаривали.
И все бы ничего, но вместе с тем со Степой начали происходить поистине удивительные и в то же время пугающие вещи. Если внимательно вспомнить, началось это одновременно со сменой места жительства, характер имело эпизодический, особых хлопот не доставляло и со временем благополучно забывалось. Однако тревожила необычность и новизна этих состояний, и чем глубже он погружался в чертоги своего разума, тем чаще и изощренней были формы его проявления. Например, Степа стал периодически замечать, как во время прослушивания разговорного радио в машине внезапно рвалась связь с осознанностью информационного потока, и он попросту не узнавал великий и могучий, и вроде бы слова оставались хорошо знакомыми, но вот содержание просачивалось сквозь извилины, как вода сквозь пальцы. То же самое повторялось при просмотре телевизионных передач с вечно орущими друг на друга персонажами и прилизанными дикторами: звук был, была картинка, но вот смысл ни в какую не хотел поддаваться идентификации. Конечно, при некоторых совершенных над собой усилиях восприятие возвращалось, но сам факт хоть и краткосрочного, но все-таки исчезновения знакомой реальности требовал скорейшего объяснения.
Хочешь не хочешь, а жить как-то надо, тем более что известные альтернативы не оставляли другого выбора, и Степа как-то функционировал, стараясь приспособиться к своим новым сверхспособностям. Тем временем у сверхспособностей начал наблюдаться неприятный рецидив – он все чаще стал замечать, как в магазинах, на заправках и прочих общественных местах, предполагающих некое общение с людьми, те самые люди, со стеснением заглядывая ему в рот, по нескольку раз переспрашивали его то же самое, хотя в голове у Степы все звучало как обычно. Дошло до того, что приходилось покупать следующую пачку сигарет, не докурив предыдущую, чтобы молча показывать продавцу название марки (чему некурящие работники торговли, откровенно говоря, были только рады), а в аптеках, куда он иногда забегал за противопростудными порошками, открывать рот в принципе не имело никакого смысла. Так приобретенные за миллионы лет инструменты коммуникаций начали стремительно таять, как лед на апрельском солнце, с каждым днем повышая вероятность напрочь выбить Степу из социума.
К слову говоря, с социумом как-то сразу не заладилось. Перейдя в свое время призрачную грань между детством и ежедневной обязанностью нести ответственность за свои поступки, он в полной мере ощутил тяжесть и враждебность сей ноши, и мир вокруг стал напоминать театр военных действий, где короткие вылазки в магазин, дорога на работу в своем автомобиле и прочие передвижения по городу невольно превращались в преодоление полосы препятствий. Но как бы это странно ни звучало, наблюдались и положительные стороны пребывания в новом общественном статусе. Степа стал неимоверно чувствительным, и так называемая интуиция в определенный момент достигла нечеловеческих значений.
Однажды в выходной день, занимаясь бесконечными хозяйственными делами, Степа отчетливо услышал глубоко в груди некий позыв немедленно выйти на дорогу, как будто кто-то резкий и непослушный внутри, не дожидаясь своего владельца, выпрыгнул навстречу неким событиям, как бы стараясь предугадать их. Не придавая никакого значения природе этого сигнала, прикурив сигарету, он вышел за калитку, словно заводчик непослушного зверька, вырвавшегося на свободу. По дороге, почти не отрывая от грунтовой дороги резиновых галош, в прозрачном облачке пыли под ногами навстречу медленно плыл Пал Палыч с газетным свертком под мышкой. Пал Палыч был вполне себе бодрым стариком на восьмом десятке и добрым соседом Степы, он частенько забегал взять взаймы на пол-литра или просто обсудить последние новости. «Да мало ли на свете происходит случайностей. Чистой воды сов-падение», – подумал Степа и тут же рассмотрел видение, как из этой самой воды выпрыгнула серебристая рыбина с алыми плавниками, судорожно потрепыхалась в полете и плюхнулась обратно, окатив лицо воображаемой водяной пылью. Пал Палыч, подойдя вплотную к Степе, протянул сухую жилистую руку.
– Язь! – неожиданно для самого себя выпалил Степа Пал Палычу прямо в лицо.
Пал Палыч на мгновение растерялся, зачем-то посмотрел на Степин лоб, но все же пробормотал приготовленные по пути слова.
– К Сашке заходил, он вчера с северов приехал. На вот – копченый, за уши не оттянешь, у меня все равно зубов нет.
Степа развернул сверток – на потемневшей от жира газете лежал медно-красный копченый язь.
– Спасибо, Пал Палыч, – с трудом выговорил Степа.
Пал Палыч с сочувствием посмотрел на Степу, пожал ему руку и, подняв под собой пыльное облако, поплыл дальше. Он догадывался, что по улице давно ходит молва на предмет его юродивости, и не читать это в глазах соседей было попросту неприлично, но вместо того, чтоб хотя бы попытаться развенчать этот миф, Степа предпочитал просто не давать поводов к его развитию, тем самым все глубже увязая в собственном затворничестве.
Хорошо запомнился еще один случай. Как-то раз без всякой на то необходимости Степа решил прогуляться по лесу, а заодно набрать воды из родника, который находился в километре от деревни. И вот, шагая по узкой лесной тропинке с канистрой в руке, высматривая по пути съедобные грибы, в степенном, постном потоке размышлений он успел уловить спонтанно лязгнувшее слово «Волк!». Разумеется, Степа не придал этому никакого значения, он совершенно спокойно продолжал двигаться в заданном направлении, иногда ради собственного удовольствия постукивая канистрой по рыжим стволам сосен. И вот тут в десятке шагов перед ним на тропинку из густых зарослей можжевельника вышел самый настоящий волк. Сутулая, выгнутая горбом спина и торчавшая клоками шерсть явно указывали на серьезный жизненный опыт и преклонный возраст зверя. Волк, увидев Степу, спрятал в пасти длинный бордовый язык и чистейшим, абсолютно безучастным к чужим делам взглядом уставился на замершего от неожиданности человека с канистрой. Постояв так секунд пять, волк с нескрываемым удовольствием облизнул испачканный в запекшейся крови нос и сошел с тропы, потерявшись в плотной зелени. Степан, так и не успев опомниться, не испытывая особых эмоций, пошел своей дорогой и, только переступив порог дома, осознал истинное значение случившегося. После этих и подобных им историй, проанализировав все доступные факты, он наконец нащупал некую закономерность в своих бзиках, а именно: перед тем как, напрямую или косвенно, столкнуться с определенными событиями, касающимися непосредственно его персоны, в голове появлялись либо образы, либо определения этих образов в коротких ёмких фразах, а чаще и то, и другое вместе, и, немного додумав, можно было рассмотреть всю картину целиком. Так, завидев еще издалека Пал Палыча, Степа уже знал, что Леньку Назимого укусил клещ, и что вот-вот должны сообщить результат из лаборатории; или, встретив на улице вечно угрюмого Вениамина из зеленого дома в конце улицы, возбужденно шагающего с палкой в руке к лесу, Степа знал, что ночью во двор к Веньке проник его сутулый знакомый и задрал любимую собачку его жены, чего в этих местах отродясь не наблюдалось. Любопытно, что соседи и знакомые (некоторые из которых уже откровенно избегали общества Степы) так же заимели привычку без спроса являться в его голову, а через две-три минуты благополучно материализовываться в натуре, вынуждая ссылаться на утверждение, что голова – предмет темный и исследованию не подлежит.
Так сложилось, что к своим сорока с хвостиком обзавестись семьей так и не вышло, а, следовательно, и жаловаться было совершенно некому, в связи с чем приходилось в гордом одиночестве мужественно переносить все тяготы и невзгоды своего существования, одновременно не гнушаясь медленным растворением в иллюзии собственной самодостаточности. Были, конечно, некоторые отношения с противоположным полом, может, даже чем-то напоминавшие любовь, но он, скорее, просто позволял быть рядом с собой, нежели позволял себе полноценно участвовать в семейных союзах, и поэтому союзы эти предпочитал не затягивать – слишком уж бесцеремонное проникновение в личное пространство, как назло, полностью совпадавшее с полезной площадью его жилища, подразумевали эти союзы. Так и коротал свои дни Степа, балансируя между внутренней и внешней тишиной, и заваренный на ночь доширак продолжал испускать все тот же пьянящий запах свободы. Одним словом, беспилотник был Степа. Хотя оставались у него от двух браков две белокурые дочери, но и тех удавалось лицезреть лишь раз в год, когда он не без труда собирал их вместе на свой день рождения.
За всю свою жизнь Степа научился безупречно делать две вещи – ждать и уходить. Он ждал всегда. Вечером, засыпая один на двуспальной кровати, он ждал утра, если утром не происходило ничего значительного, уже с обеда он предвкушал наступление нового дня. Он ждал удачи, перемен, окончания различных невзгод, зарплаты, ждал, когда кто-нибудь наконец позвонит, ждал, когда закончится дождь; зимой он мечтал о лете, но уже после пары первых дней зноя задумывался о снеге. Было в этом процессе что-то философское и в то же время естественное и понятное. А еще ждать было легко. Это занятие не требовало специальных навыков и тренировок, полностью освобождало от какой-либо ответственности и всегда приносило результат, оставалось только грамотно на него среагировать. Эта мудрость пришла к нему после многолетней практики наблюдений – полноводная река жизни приносила в своих медленных водах самое необходимое прямо в руки, а трупы врагов, так и не постигших этой мудрости, беззвучно проплывали мимо, и лишь иногда, цепляясь рукавами раскисшей одежды за вросшие в ил коряги, они останавливались, виновато отмалчивались и плыли дальше. В конце концов, в запасе всегда был еще один прием мастера – в любой момент можно было просто уйти. Он уходил регулярно, внезапно и без видимых, на первый взгляд, причин. Сей акт не имел ничего общего с обидой или неприятием чего-либо, но нес некий сакральный смысл, так сказать, единовременное жертвоприношение состоянию души. В данном случае перемешивались два неиссякаемых источника удовольствий – мысленная принадлежность к чему-то более важному и демонстрация безразличия и даже безгласного презрения к происходящей здесь и сейчас ерунде. Хотя, что греха таить, второе вдохновляло намного значительнее. Данный перформанс доставлял ему почти физическое наслаждение с оттенками, отдаленно напоминающими садизм. Помните этого человека в кинотеатре, который после пяти минут просмотра фильма встает и уходит? Так вот – это был Степа.
Такой поистине безотказный способ привлечения к себе внимания Степа начал практиковать еще в раннем детстве. Как только появилась физическая возможность безнаказанно покидать область влияния родителей, он тут же стал использовать эту возможность по полной. Он уходил в чужие, неизведанные дворы и кварталы, изучил всю береговою линию городского пруда, уходил в лес, спускался на самое дно гранитного карьера за городом; он знал, как выглядят конечные остановки всех автобусных маршрутов, покорил все вершины близлежащих невысоких гор и шиханов, садился в электричку и уезжал черт знает куда, лишь бы снова испытать это перемешанное чувство страха и любопытства внизу живота, когда двери вагона с шипением разъезжаются в стороны, словно в звездолете, и ты сходишь на далекой неизведанной планете с иными мирами, населенной невиданными существами. Наверное, в тот самый период времени в его детском пятилитровом рюкзачке уже подавал первые признаки жизни невидимый, гордый и непокорный эмбрион противостояния этому миру.
Следующей была школа. Он уходил с уроков, но делал это отнюдь не из хулиганских побуждений, а именно с потребностью насладиться продуктом своей непокорности перед теми, кто сильнее и могущественнее его. И, сидя на подоконнике, как ветрянкой, усыпанным названиями зарубежных рок-групп, в театральной тишине школьных коридоров, довольно щурясь от весеннего солнца, он с упоением слушал симфонию собственной избранности. Степа убегал с продленки, принципиально не ходил в столовую со своим классом, а на мероприятия с тематикой субботников или сбора макулатуры он приходил с целью публично хлопнуть дверью, вдыхая при этом полную грудь доступного детскому пониманию счастья, ведь в этот короткий момент все почитали его смелость и независимость и, возможно, даже любили. Разумеется, не доучившись год, он бросил и саму школу, а один раз, будучи в подростковом диссонансе с внезапно навалившейся не него подлой правдой жизни, ненадолго ушел из дома. Степа взрослел, но все же оставался всецело предан растущей вместе с ним патологической зависимости к подобным выходкам. По инерции пришлось бросить строительный техникум, затем – работу на одном заводе по известным только ему одному причинам; он оставил пару-тройку строительных организаций, развелся с двумя женами и собрался было покинуть сам город, а, возможно, и сменить страну проживания, но ему не хватало на это средств. Степа внезапно уходил с дней рождений, юбилеев и празднований Нового года, сеял недоумение в сознании соседей на собраниях собственников жилья, а один раз, как ему показалось, он достиг совершенства в данном искусстве: Степа сразу не пришел на салют в честь Дня города, но не испытав при этом знакомых ощущений, решил больше так не делать.
Еще с раннего детства Степой овладела одна страсть – он самозабвенно влюбился в астрономию. Ранним морозным утром, когда его маленькую мумию, забинтованную шарфами и перевязанную резинками, везли на санках в детский сад, закинув голову и глядя в чудовищную глубину космоса с неисчислимым количеством белых точек, он впервые начал осмысливать истинные масштабы этого мира. Впечатление было настолько глубоким, что, немного повзрослев, он немедленно записался в городскую библиотеку, дабы с головой окунуться в первоисточники. Он с жадностью первооткрывателя перерисовывал себе в тетрадку звездные карты и зимними ясными вечерами подолгу сверял их с оригиналом, приводя хаотичные россыпи в геометрический порядок, соединяя яркие голубые вершины между собой, как испокон веков задумывали древние греки. Попытка собрать свой личный телескоп потерпела фиаско, как, впрочем, и попытка самостоятельно сконструировать ракету. Когда выяснилось, что пухлые линзы упорно отказываются приближать к нему таинственные сверхновые, он предпринял отчаянную попытку самому приблизиться к таинственным сверхновым. Вычитав в библиотечной энциклопедии, что метал, необходимый в строительстве корпуса космического корабля, выплавляют из недр земли, он с единомышленниками принялся усердно обжигать куски запекшейся на солнце глины, но, как это обычно и бывает, все испортили вездесущие взрослые, открыв глаза на то, что практически в каждом дворе уже стоит готовая к запуску ракета из отличной стали, выкрашенной серебрянкой, и некоторые из них даже заправлены. «А на какой модели двигателя полетите?» – спросили взрослые, тем самым окончательно опустив юных космонавтов на бренную землю.
Как умирают мечты? Они сгорают в сталелитейных домнах и покрывают тектонические плиты континентов слоем пепла. Этот пепел за десятки тысяч лет хоронит под собой целые города вместе с их строителями и архитекторами. Этот пепел несбывшихся надежд, цинично названный археологами культурным слоем, надежно хранит в себе проржавевшие насквозь фюзеляжи невзлетевших космических ракет, и лишь мелкие крупицы неприкаянных детских грез иногда умудряются вырваться с планеты и, уносимые солнечным ветром далеко-далеко в могучий звенящий космос, пропадают там навсегда, где-то между Проксимой Центавра и Магеллановыми облаками.
Когда Степа очнулся от своего безмыслия, солнце уже свалилось за холм. Приглушая громкие дневные звуки, соскребая бесполезные в темноте цвета, оно заботливо расчищало место новым обитателям неба. Захватывающая дух прозрачность растворяла в себе остатки розового, обещая полный доступ в таинственные недра. Июньская ночь невесомой поступью юной девы в прозрачной ночнушке понеслась по молодой зелени брошенных колхозных полей, еле касаясь босыми ступнями самых кончиков самых высоких травинок, раскачивая их из стороны в сторону. Никто и ничто не могло помешать провести эту ясную летнюю ночь, валяясь в траве и пялясь на свои любимые звезды, и Степа решил прогуляться, вернее, уйти из этого места в другое, в какое – он еще не знал, но на всякий случай вообразил себе аккуратную полянку подальше от редких деревенских огней на покосившихся фонарных столбах. Он на минуту зашел в дом, не разуваясь, на цыпочках прокрался к столу, смахнул с него телефон, накинул на шею наушники и нетерпеливо выскочил на свободу. Он легко и быстро зашагал по пыльной грунтовой дороге, посыпанной нежной зеленой щетиной, еще теплой от солнца. Покинув пределы деревни, он поймал волну с песнями из старых советских кинофильмов и, с удовольствием вспоминая знакомые куплеты, в полголоса подпевал. До наступления полной темноты оставался примерно час, и было решено двигаться, покуда различалась дорога под ногами, а пока Степа придумал развлечь себя, представляя некоторые, внешне особенные деревья, в образах вымышленных людей, сочиняя им имена и угадывая их нрав. Первой, кто привлекла его внимание, была склонившаяся к оврагу береза. Напитанная почвенным соком, пышущая жизнью, она пребывала в самом расцвете женских сил, а растрепанная, словно банным полотенцем, копна вьющихся до земли волос лишний раз подчеркивала ее стать. «Вот же бесстыжая баба, – подумал Степа, – в лицо бы ей посмотреть». Но Степа понимал: с какой стороны ни смотри, такие, как она, всегда оказываются спиной к таким, как он – одним словом, Анфиса. Анфиса определенно знала себе цену, она пренебрежительно разглядывала домики в низине ручья и, будучи людского племени, ни за что бы не посмотрела в его сторону. Следующим по пути показался Игорь. Игорь был корявой, страшной лиственницей. На его долю выпало нелегкое испытание – всю жизнь ему приходилось бороться с шустрыми осинами за щедрый на свет и тепло верхний ярус. Битва не останавливалась ни днем, ни ночью, и, судя по его внешнему виду, Игорь проигрывал. Но, несмотря на численное превосходство противника, он продолжал отчаянно расталкивать врагов острыми локтями, отыскивая самые замысловатые пути к солнечному свету, от этого конечности его вырастали нелепыми, ломанными, разбросанными в разные стороны. Игорь походил на огромного черного паука, и сам был злой. Отдельно стоило отметить Олега. Олег был, как говорится, корабельной сосной. Он упивался безупречностью и вертикальностью своего тела. Наружу бросалась его нарциссическая надменность к прочим лесным обитателям, из-за чего Олег был обычным мерзавцем. Он не хотел смотреть вниз. Он мечтал, что из его плоти когда-нибудь построят корабль, покроют блестящим лаком и пустят в открытое море, тогда бы его касалась лишь теплая, соленая вода, и февральский ветер не гнул бы больно ветки, и дятлы не долбили бы тонкую, нежную кожу, а иначе для чего же еще он мог существовать на свете.
Развлекая себя подобным образом, Степа незаметно добрался до старой, заросшей просеки с обесточенной высоковольткой, обошел шестиногую опору, пересек пролесок и оказался на небольшой поляне. Дальше двигаться не имело смысла, потому как стемнело. Он оглянулся. Никого вокруг не было, да и быть не могло, и он с наслаждением завалился в прохладную траву, выгнав из нее облачко мошкары.
– Вооот, – протяжно выдохнул Степа, пожирая глазами алмазные россыпи звезд. Небо, вне всяких сомнений, дышало жизнью. В самых неожиданных направлениях проносились метеоры, одинокими неспешными локомотивами ползли по небу спутники, белые огоньки, большие и совсем крошечные, перемигивались на космической морзянке, и оставалось только догадываться, какой производили шум, а ровно посередине угольного полотна текла пыльная река, рассекая население на лево- и правобережное. «Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит», – звучал бархатный, безмятежный голос в наушниках.
– Как по заказу, – Степа совсем разомлел и от удовольствия раскинул в стороны руки, приготовившись впустить в свои объятья все видимое и невидимое. Но тут он внезапно ощутил в себе некий дискомфорт, словно чей-то сверлящий, настойчивый взгляд вцепился прямо в темя.
– Нее, показалось, – попытался успокоить себя Степан, но ощущение чьего-то присутствия не проходило, а наоборот, усиливалось и осязалось вполне очевидной тревогой.
– Опять этот Сутулый что ли? – он снял наушники и стал прислушиваться и вроде как даже различил мягкие осторожные шаги, приближавшиеся прямо к нему. Он продолжал неподвижно лежать, опасаясь спугнуть призрачную надежду на некое недоразумение. Из головы посыпались различные предположения и возможные варианты развития событий.
– Нет. Не волк, – размышлял он, стараясь сохранить самообладание, – тот подкрадется – и не заметишь. Может, дурачок какой местный с топором за поясом?
В любом случае все сводилось к извечному выбору – либо ты, Степа, бей, либо – ноги в руки и беги безо всяких выяснений причин. Пока он выбирал, как ему поступить в сложившейся ситуации, звуки шагов затихли прямо за его головой. Воцарилась еще более ужасная, играющая на нервах тишина, иногда нарушаемая отрывистыми взвизгами сверчков, похожих на лязг стали, трогающей точильный камень.
– Бог в помощь! – игриво прозвучало совсем рядом.
– Спасибо. Сам справлюсь, – так же игриво ответил он в кромешную темноту. Эта незапланированная на сегодняшнюю ночь беседа сразу началась с оттенком викторины с неустановленными правилами, и Степа, не думая, вступил в состязание, показывая сопернику и себе, что он вовсе не боится.
– Надеюсь, не разбудил? – вежливо поинтересовался голос.
– Нет. Я не спал, – так же вежливо ответил Степа и почему-то вспомнил, с каким искренним счастьем виляют хвостами стаффордширские терьеры перед тем, как разорвать в клочья своего противника.
– Что, интересно? – продолжал спрашивать незнакомец.
– Что именно? – продолжал отвечать Степа.
– Слушать, как звезда с звездооою говорииит, – вторую часть вопроса голос пропел на мотив той самой песенки, которая только что звучала в плеере, а воздух рядом наполнился отчетливым кисло-сладким запахом земляники.
После очередной фразы на горизонте океана неизвестности появился спасательный плот любопытства, на борту которого находился комплект сухого анализа, и он стал рассуждать: «Голос мелодичный, даже приятный, уверенный, без фальшивых нервных нот; нет, точно не дурачок с топором». Степа опирался на одно жизненное наблюдение, указывающее на то, что любой голос имеет своё особенное звучание, что-то вроде аудиопаспорта, и при наличии хорошего слуха или органа, схожего с ним, можно определить характер, душевное состояние и, возможно, интеллект собеседника; и желательно при этом не видеть сам инструмент, ибо то, что приходит через глаза, зачастую мешает и лишь вводит в заблуждение, да и где это видано, чтобы «хомо поющий» имел при себе злые помыслы…
– А вы сами послушайте, – уверенным тоном, где-то даже дерзко произнес Степа.
– Я по ночам только этим и занимаюсь, – с легкой досадой в голосе пожаловался таинственный гость.
Степа все это время продолжал лежать на спине с широко раскрытыми глазами, как это бывает в полной темноте, и пытался угадать образ своего собеседника: и рост, и устройство фигуры, выражение лица, одежду, социальный статус; и вообще, не мешало бы прекратить этот бессмысленный разговор и увидеть, наконец, самого нарушителя покоя. Но стоило Степе подумать об этом, как тут же в его апертуру медленно вползла и заслонила половину небесной сферы огромная бесформенная голова с острой черной мордой. Блеснув бездонными зрачками, морда изобразила что-то, отдаленно напоминающее улыбку, и, оголив ряд ровных, сияющих, словно фосфор, зубов с чудовищными клыками, произнесла человеческим голосом:
– Если не ошибаюсь, вы хотели меня увидеть?
– Вы уж не обессудьте, что так получилось, – добавила морда после короткой паузы, показавшейся Степе вечностью.
Что-то внизу живота беззащитным, испуганным ребенком прижалось к позвоночнику и сообщило телу такой импульс энергии, что Степа отрикошетившим осколком вылетел из-под нависшей над ним тени и, не чувствуя под ногами земли, в несколько прыжков оказался на краю поляны. Лишь когда получилось сообразить, что метрах в пятидесяти перед ним находится дорога, ведущая в деревню, он отважился обернуться, дабы убедиться в оправданности своего столь быстрого перемещения. После увиденного им оправдывалось исключительно быстрое перемещение – посреди поляны невозмутимо сидел огромный черный медведь. Зверюга и не думал пускаться в погоню, застыв на месте неподвижной глыбой, он с любопытством наблюдал, как отчаянно спасает жизнь его случайный знакомый. Степа тем временем, не прикладывая особых усилий, приближался к первой космической скорости, пытаясь преодолеть гравитационные силы своего ужаса. Возможно, в этот самый момент самовлюбленная береза Анфиса сдалась перед натиском любопытства и впервые за много лет обернулась посмотреть, что же там такого могло случиться. Если бы очень далекие предки Степана имели возможность наблюдать, как эффективно используются приобретенные в процессе эволюции необходимые для выживания навыки, то их, предков, неминуемо обуяла бы гордость за одного из представителей своего вида, ну и, разумеется, за оставленную в наследство школу выживания в целом, а школа, что и говорить, действительно была хорошей, о чем свидетельствовал сам факт Степиного существования.
Добежав до деревни, по дороге промочив в ручье ноги и больно сломав о коленную чашечку толстую сухую ветку, обезумевший любитель астрономии ввалился в дом и впервые в жизни запер дверь на замок изнутри. Этот ночной кошмар остался где-то далеко за забором его убежища, и здесь, в полной безопасности, рассудок требовал объяснений, объяснения же, в свою очередь, требовали утра, и обессиленный, еще пока ошарашенный Степа, не раздеваясь, рухнул на кровать и еще долго лежал так, слушая перекличку скучающих деревенских псов.
Уснуть удалось лишь под утро, и уже к обеду тяжелая муха вовсю щекотала очнувшийся ото сна мозг, а две одновременно завизжавшие друг на друга в разных концах улицы газонокосилки и вовсе вынудили открыть глаза. Он по привычке потянулся к ночному столику, на котором обычно оставлял на ночь свой мобильник, и с ужасом обнаружил, что мобильника на столике не было, не было его и в карманах одежды. Бессмысленно описывать значительность этого творения в жизни современного гоминида со всеми его невидимыми связями, ничем не заменимыми контактами и прочими прелестями, и все же, несмотря на то, что траектория полета человеческой мысли, поглощенной экраном данного чуда, больше напоминала пикирование, с такой существенной частью своей жизни Степа расставаться так просто не собирался. Обстоятельства вчерашнего происшествия постепенно приобретали резкость, рассеивая туман с еще дремлющей памяти, и тут он проснулся окончательно. «Неужто вчера в лугах посеял? Этого еще не хватало, – подумал он. – Но постойте… Медведь? В километре от деревни? Постойте. Постойте. Говорящий медведь? Нет. Безумие какое-то. Может, приснилось?» Но внезапно занывшее колено тотчас убедило его в обратном. Что бы там вчера ночью ни произошло, а личное имущество необходимо было вырывать из хищных лап окружающей среды, тем более, в репертуаре имелся один нехитрый, проверенный способ. Кое-как растолковав Пал Палычу суть приема, Степа одолжил у него старый кнопочный телефон и, непрерывно набирая цифры своего номера, слегка прихрамывая на правую ногу, отправился сканировать вчерашний маршрут в надежде разобрать знакомую мелодию в траве, наполненной грохотом чужой жизни. Первая же попытка вселила уверенность в успехе операции – вызов шел. «Значит, не утонул и не разбился, уже неплохо», – утешался он, но на третьем или четвертом звонке, не успев выйти за пределы деревни, вызов внезапно сбросился. «Так. Это уже интересно», – он набрал еще раз. На той стороне опять сбросили.
– Нашли и сбрасывают. Когда успели? Бестолковые, почему бы просто не отключить.
Он остановился и огляделся по сторонам, затем вновь набрал заученные наизусть цифры. На сей раз наконец-то ответили.
– Алё, – громко сказал Степа. В трубке молчали.
– Алё. Алё, это мой телефон, я его вчера случайно выронил. Где вы находитесь?
– Добрейшего времени суток! – прозвучал в трубке вчерашний голос. – Простите, не сразу разобрался в алгоритме работы этой штуки. Как ваше колено? Не сильно ушиблись?
У Степы зашевелились волосы на голове, но собравшись с духом, хотя и не своим голосом он ответил:
– Спасибо, конечно, за беспокойство, бывало и хуже. Послушайте, кто бы вы там ни были, вы сейчас разговариваете по моему телефону. Верните его, пожалуйста. Это важно. Я отблагодарю.
– Что вы, что вы. Это я вам должен. Вы вчера с такой скоростью оставили мое общество, в чем, несомненно, исключительно моя вина. В связи с этим я хотел бы принести вам свои извинения за доставленные неудобства, и я их принес. Уверяю, я не имел на вас злого умысла, а ваше устройство лежит ровно на том же месте, на котором вы меня вчера покинули, там же, в качестве компенсации, я приготовил вам небольшой подарок. Обещаю впредь не смущать вас своим присутствием, но если вдруг когда-нибудь вы отважитесь удовлетворить своё любопытство – милости прошу, я уверен, мы быстро найдем общий язык.
На этот раз трубку бросил Степа. Абсурдность ситуации неумолимо возводилась в степень, оставляя все меньше шансов забыть ее навсегда. Отчаявшись что-либо понять, поминутно озираясь по сторонам, словно вор, он засеменил в сторону вчерашней лежанки, теша себя глупой мыслью, что очень скоро его начнут искать, так как пропадет не только он, но и единственное средство связи Пал Палыча. Добравшись до поляны, он легко узнал место не входившего в его планы контакта и стал осторожно приближаться к нему, словно к краю пропасти. В пятне примятой травы на надломанных стеблях овсяницы в относительной целости и сохранности покоился его телефон, а рядом стояла голубая пластмассовая банка из-под майонеза, с горкой наполненная мелкой лесной земляникой вперемешку с крошечными листьями.
Степа, с плотно прижатыми к подлокотникам руками, прямой шеей, с дотошностью перфекциониста повторяя телом изящные линии фабричного литья, неподвижно сидел в своем любимом пластиковом кресле. Кресло было июньски-желтым, оно всегда стояло по центру открытой веранды, а по сути – на улице и ни при каких обстоятельствах не имело права покидать отведенную ему территорию. Зимой, летом, в дождь ли, в ураган – с кресла сметали снег, вытирали сухой тряпкой, отыскивали валявшимся кверху ножками в траве у забора, бинтовали переломы хрупкого скелета скотчем и возвращали на прежнее место. Мыслей у Степы не было. Его текущему состоянию мог позавидовать любой из соискателей буддийских практик по остановке внутреннего диалога с целью окончательного просветления, но то, что испытывал в тот момент Степа, просветлением назвать было трудно, и буддийские монахи уж точно по-другому представляли себе это состояние. Степу безвозвратно поглощала немая, бездушная даль. Непослушные облака, когда-то давным-давно поссорившись с планетой, вытянулись над горизонтом в шерстяную полоску вещества и, презирая гравитацию, кувыркались в пространстве, беспорядочно меняя оттенки. Дело шло к закату. Огромное небо, сливаясь с таким же огромным полем, являло взору угасающую кардиограмму, готовую совершить последний удар обреченного на забвение дня. Вообще, вопреки всем ожиданиям, с этим местом все стало складываться не так однозначно, как предполагалось. Четыре года назад он купил участок земли в небольшой уютной деревеньке с честно пасущимися вдоль дороги коровами и водоплавающей птицей в пруду. Место поразило его с первого взгляда. Это был некрутой склон, сдержанно сползающий к петлявшему в зеленой мякоти кустарника студеному ручью с чистейшей родниковой водой, освежившись в котором, уворачиваясь от островков и мысов пушистого леса, зритель вновь взмывал по диким полнотравным заливам лугов аж к самому горизонту. Особенно впечатляла уединенность или, скорее, невинная отстраненность участка относительно близлежащих жилых построек, и, будучи расположенным на самой окраине населенного пункта, он открывал взору трогательнейшую картину, не обремененную ни чем человеческим. Собственно, здесь и пришлось впервые столкнуться с загадочной особенностью этого места – стоило хоть на секунду задержать взгляд на необыкновенном виде или попытаться уловить скрытый в причудливых линиях и пропорциях замысел, как у наблюдателя тут же наступал когнитивный паралич. Этот феномен всегда срабатывал четко и безотказно, что подтверждали многократные эксперименты, тайно проведенные Степой на своих близких и знакомых, имевших случай заглянуть к нему в гости. С гостями происходило ровно то же самое, при этом никто и не думал оспаривать эстетическую ориентацию Степы, но, случайно зацепившись взглядом за кромку леса под синими небесами, они тут же замирали и безучастно молчали, напрочь позабыв о первоначальных целях своего визита. Тем не менее, не спеша, но не без определенных усилий через четыре года на участке вырос добротный каменный дом в полтора этажа, с флигелем в виде черного спаниеля на крыше и открытой верандой с желтым пластиковым креслом посередине. После того, как сбылась мечта о бегстве из города, Степа с надеждой ожидал осуществления другой его мечты: он предполагал списывать с себя стремительный и качественный поток самых невероятных мыслей, которые, по его мнению, неминуемо должны были посетить его забрызганную сединой голову в этом тихом уединенном месте. Но увы, как впоследствии выяснилось, все предпринятые им попытки сгенерировать из деревенской тишины наполненные глубиной и смыслом тексты при первом же взгляде в окно, расположенное в аккурат напротив письменного стола, в той самой тишине и растворялись. Впрочем, с подобным недоразумением можно было и смириться, так как завораживающие пейзажи среднерусской возвышенности с лихвой компенсировали творческие осечки Степы, включая довольно сомнительную продуктивность тезиса о свойстве природы располагать ум к художественному вдохновению, либо великие русские писатели что-то не договаривали.
И все бы ничего, но вместе с тем со Степой начали происходить поистине удивительные и в то же время пугающие вещи. Если внимательно вспомнить, началось это одновременно со сменой места жительства, характер имело эпизодический, особых хлопот не доставляло и со временем благополучно забывалось. Однако тревожила необычность и новизна этих состояний, и чем глубже он погружался в чертоги своего разума, тем чаще и изощренней были формы его проявления. Например, Степа стал периодически замечать, как во время прослушивания разговорного радио в машине внезапно рвалась связь с осознанностью информационного потока, и он попросту не узнавал великий и могучий, и вроде бы слова оставались хорошо знакомыми, но вот содержание просачивалось сквозь извилины, как вода сквозь пальцы. То же самое повторялось при просмотре телевизионных передач с вечно орущими друг на друга персонажами и прилизанными дикторами: звук был, была картинка, но вот смысл ни в какую не хотел поддаваться идентификации. Конечно, при некоторых совершенных над собой усилиях восприятие возвращалось, но сам факт хоть и краткосрочного, но все-таки исчезновения знакомой реальности требовал скорейшего объяснения.
Хочешь не хочешь, а жить как-то надо, тем более что известные альтернативы не оставляли другого выбора, и Степа как-то функционировал, стараясь приспособиться к своим новым сверхспособностям. Тем временем у сверхспособностей начал наблюдаться неприятный рецидив – он все чаще стал замечать, как в магазинах, на заправках и прочих общественных местах, предполагающих некое общение с людьми, те самые люди, со стеснением заглядывая ему в рот, по нескольку раз переспрашивали его то же самое, хотя в голове у Степы все звучало как обычно. Дошло до того, что приходилось покупать следующую пачку сигарет, не докурив предыдущую, чтобы молча показывать продавцу название марки (чему некурящие работники торговли, откровенно говоря, были только рады), а в аптеках, куда он иногда забегал за противопростудными порошками, открывать рот в принципе не имело никакого смысла. Так приобретенные за миллионы лет инструменты коммуникаций начали стремительно таять, как лед на апрельском солнце, с каждым днем повышая вероятность напрочь выбить Степу из социума.
К слову говоря, с социумом как-то сразу не заладилось. Перейдя в свое время призрачную грань между детством и ежедневной обязанностью нести ответственность за свои поступки, он в полной мере ощутил тяжесть и враждебность сей ноши, и мир вокруг стал напоминать театр военных действий, где короткие вылазки в магазин, дорога на работу в своем автомобиле и прочие передвижения по городу невольно превращались в преодоление полосы препятствий. Но как бы это странно ни звучало, наблюдались и положительные стороны пребывания в новом общественном статусе. Степа стал неимоверно чувствительным, и так называемая интуиция в определенный момент достигла нечеловеческих значений.
Однажды в выходной день, занимаясь бесконечными хозяйственными делами, Степа отчетливо услышал глубоко в груди некий позыв немедленно выйти на дорогу, как будто кто-то резкий и непослушный внутри, не дожидаясь своего владельца, выпрыгнул навстречу неким событиям, как бы стараясь предугадать их. Не придавая никакого значения природе этого сигнала, прикурив сигарету, он вышел за калитку, словно заводчик непослушного зверька, вырвавшегося на свободу. По дороге, почти не отрывая от грунтовой дороги резиновых галош, в прозрачном облачке пыли под ногами навстречу медленно плыл Пал Палыч с газетным свертком под мышкой. Пал Палыч был вполне себе бодрым стариком на восьмом десятке и добрым соседом Степы, он частенько забегал взять взаймы на пол-литра или просто обсудить последние новости. «Да мало ли на свете происходит случайностей. Чистой воды сов-падение», – подумал Степа и тут же рассмотрел видение, как из этой самой воды выпрыгнула серебристая рыбина с алыми плавниками, судорожно потрепыхалась в полете и плюхнулась обратно, окатив лицо воображаемой водяной пылью. Пал Палыч, подойдя вплотную к Степе, протянул сухую жилистую руку.
– Язь! – неожиданно для самого себя выпалил Степа Пал Палычу прямо в лицо.
Пал Палыч на мгновение растерялся, зачем-то посмотрел на Степин лоб, но все же пробормотал приготовленные по пути слова.
– К Сашке заходил, он вчера с северов приехал. На вот – копченый, за уши не оттянешь, у меня все равно зубов нет.
Степа развернул сверток – на потемневшей от жира газете лежал медно-красный копченый язь.
– Спасибо, Пал Палыч, – с трудом выговорил Степа.
Пал Палыч с сочувствием посмотрел на Степу, пожал ему руку и, подняв под собой пыльное облако, поплыл дальше. Он догадывался, что по улице давно ходит молва на предмет его юродивости, и не читать это в глазах соседей было попросту неприлично, но вместо того, чтоб хотя бы попытаться развенчать этот миф, Степа предпочитал просто не давать поводов к его развитию, тем самым все глубже увязая в собственном затворничестве.
Хорошо запомнился еще один случай. Как-то раз без всякой на то необходимости Степа решил прогуляться по лесу, а заодно набрать воды из родника, который находился в километре от деревни. И вот, шагая по узкой лесной тропинке с канистрой в руке, высматривая по пути съедобные грибы, в степенном, постном потоке размышлений он успел уловить спонтанно лязгнувшее слово «Волк!». Разумеется, Степа не придал этому никакого значения, он совершенно спокойно продолжал двигаться в заданном направлении, иногда ради собственного удовольствия постукивая канистрой по рыжим стволам сосен. И вот тут в десятке шагов перед ним на тропинку из густых зарослей можжевельника вышел самый настоящий волк. Сутулая, выгнутая горбом спина и торчавшая клоками шерсть явно указывали на серьезный жизненный опыт и преклонный возраст зверя. Волк, увидев Степу, спрятал в пасти длинный бордовый язык и чистейшим, абсолютно безучастным к чужим делам взглядом уставился на замершего от неожиданности человека с канистрой. Постояв так секунд пять, волк с нескрываемым удовольствием облизнул испачканный в запекшейся крови нос и сошел с тропы, потерявшись в плотной зелени. Степан, так и не успев опомниться, не испытывая особых эмоций, пошел своей дорогой и, только переступив порог дома, осознал истинное значение случившегося. После этих и подобных им историй, проанализировав все доступные факты, он наконец нащупал некую закономерность в своих бзиках, а именно: перед тем как, напрямую или косвенно, столкнуться с определенными событиями, касающимися непосредственно его персоны, в голове появлялись либо образы, либо определения этих образов в коротких ёмких фразах, а чаще и то, и другое вместе, и, немного додумав, можно было рассмотреть всю картину целиком. Так, завидев еще издалека Пал Палыча, Степа уже знал, что Леньку Назимого укусил клещ, и что вот-вот должны сообщить результат из лаборатории; или, встретив на улице вечно угрюмого Вениамина из зеленого дома в конце улицы, возбужденно шагающего с палкой в руке к лесу, Степа знал, что ночью во двор к Веньке проник его сутулый знакомый и задрал любимую собачку его жены, чего в этих местах отродясь не наблюдалось. Любопытно, что соседи и знакомые (некоторые из которых уже откровенно избегали общества Степы) так же заимели привычку без спроса являться в его голову, а через две-три минуты благополучно материализовываться в натуре, вынуждая ссылаться на утверждение, что голова – предмет темный и исследованию не подлежит.
Так сложилось, что к своим сорока с хвостиком обзавестись семьей так и не вышло, а, следовательно, и жаловаться было совершенно некому, в связи с чем приходилось в гордом одиночестве мужественно переносить все тяготы и невзгоды своего существования, одновременно не гнушаясь медленным растворением в иллюзии собственной самодостаточности. Были, конечно, некоторые отношения с противоположным полом, может, даже чем-то напоминавшие любовь, но он, скорее, просто позволял быть рядом с собой, нежели позволял себе полноценно участвовать в семейных союзах, и поэтому союзы эти предпочитал не затягивать – слишком уж бесцеремонное проникновение в личное пространство, как назло, полностью совпадавшее с полезной площадью его жилища, подразумевали эти союзы. Так и коротал свои дни Степа, балансируя между внутренней и внешней тишиной, и заваренный на ночь доширак продолжал испускать все тот же пьянящий запах свободы. Одним словом, беспилотник был Степа. Хотя оставались у него от двух браков две белокурые дочери, но и тех удавалось лицезреть лишь раз в год, когда он не без труда собирал их вместе на свой день рождения.
За всю свою жизнь Степа научился безупречно делать две вещи – ждать и уходить. Он ждал всегда. Вечером, засыпая один на двуспальной кровати, он ждал утра, если утром не происходило ничего значительного, уже с обеда он предвкушал наступление нового дня. Он ждал удачи, перемен, окончания различных невзгод, зарплаты, ждал, когда кто-нибудь наконец позвонит, ждал, когда закончится дождь; зимой он мечтал о лете, но уже после пары первых дней зноя задумывался о снеге. Было в этом процессе что-то философское и в то же время естественное и понятное. А еще ждать было легко. Это занятие не требовало специальных навыков и тренировок, полностью освобождало от какой-либо ответственности и всегда приносило результат, оставалось только грамотно на него среагировать. Эта мудрость пришла к нему после многолетней практики наблюдений – полноводная река жизни приносила в своих медленных водах самое необходимое прямо в руки, а трупы врагов, так и не постигших этой мудрости, беззвучно проплывали мимо, и лишь иногда, цепляясь рукавами раскисшей одежды за вросшие в ил коряги, они останавливались, виновато отмалчивались и плыли дальше. В конце концов, в запасе всегда был еще один прием мастера – в любой момент можно было просто уйти. Он уходил регулярно, внезапно и без видимых, на первый взгляд, причин. Сей акт не имел ничего общего с обидой или неприятием чего-либо, но нес некий сакральный смысл, так сказать, единовременное жертвоприношение состоянию души. В данном случае перемешивались два неиссякаемых источника удовольствий – мысленная принадлежность к чему-то более важному и демонстрация безразличия и даже безгласного презрения к происходящей здесь и сейчас ерунде. Хотя, что греха таить, второе вдохновляло намного значительнее. Данный перформанс доставлял ему почти физическое наслаждение с оттенками, отдаленно напоминающими садизм. Помните этого человека в кинотеатре, который после пяти минут просмотра фильма встает и уходит? Так вот – это был Степа.
Такой поистине безотказный способ привлечения к себе внимания Степа начал практиковать еще в раннем детстве. Как только появилась физическая возможность безнаказанно покидать область влияния родителей, он тут же стал использовать эту возможность по полной. Он уходил в чужие, неизведанные дворы и кварталы, изучил всю береговою линию городского пруда, уходил в лес, спускался на самое дно гранитного карьера за городом; он знал, как выглядят конечные остановки всех автобусных маршрутов, покорил все вершины близлежащих невысоких гор и шиханов, садился в электричку и уезжал черт знает куда, лишь бы снова испытать это перемешанное чувство страха и любопытства внизу живота, когда двери вагона с шипением разъезжаются в стороны, словно в звездолете, и ты сходишь на далекой неизведанной планете с иными мирами, населенной невиданными существами. Наверное, в тот самый период времени в его детском пятилитровом рюкзачке уже подавал первые признаки жизни невидимый, гордый и непокорный эмбрион противостояния этому миру.
Следующей была школа. Он уходил с уроков, но делал это отнюдь не из хулиганских побуждений, а именно с потребностью насладиться продуктом своей непокорности перед теми, кто сильнее и могущественнее его. И, сидя на подоконнике, как ветрянкой, усыпанным названиями зарубежных рок-групп, в театральной тишине школьных коридоров, довольно щурясь от весеннего солнца, он с упоением слушал симфонию собственной избранности. Степа убегал с продленки, принципиально не ходил в столовую со своим классом, а на мероприятия с тематикой субботников или сбора макулатуры он приходил с целью публично хлопнуть дверью, вдыхая при этом полную грудь доступного детскому пониманию счастья, ведь в этот короткий момент все почитали его смелость и независимость и, возможно, даже любили. Разумеется, не доучившись год, он бросил и саму школу, а один раз, будучи в подростковом диссонансе с внезапно навалившейся не него подлой правдой жизни, ненадолго ушел из дома. Степа взрослел, но все же оставался всецело предан растущей вместе с ним патологической зависимости к подобным выходкам. По инерции пришлось бросить строительный техникум, затем – работу на одном заводе по известным только ему одному причинам; он оставил пару-тройку строительных организаций, развелся с двумя женами и собрался было покинуть сам город, а, возможно, и сменить страну проживания, но ему не хватало на это средств. Степа внезапно уходил с дней рождений, юбилеев и празднований Нового года, сеял недоумение в сознании соседей на собраниях собственников жилья, а один раз, как ему показалось, он достиг совершенства в данном искусстве: Степа сразу не пришел на салют в честь Дня города, но не испытав при этом знакомых ощущений, решил больше так не делать.
Еще с раннего детства Степой овладела одна страсть – он самозабвенно влюбился в астрономию. Ранним морозным утром, когда его маленькую мумию, забинтованную шарфами и перевязанную резинками, везли на санках в детский сад, закинув голову и глядя в чудовищную глубину космоса с неисчислимым количеством белых точек, он впервые начал осмысливать истинные масштабы этого мира. Впечатление было настолько глубоким, что, немного повзрослев, он немедленно записался в городскую библиотеку, дабы с головой окунуться в первоисточники. Он с жадностью первооткрывателя перерисовывал себе в тетрадку звездные карты и зимними ясными вечерами подолгу сверял их с оригиналом, приводя хаотичные россыпи в геометрический порядок, соединяя яркие голубые вершины между собой, как испокон веков задумывали древние греки. Попытка собрать свой личный телескоп потерпела фиаско, как, впрочем, и попытка самостоятельно сконструировать ракету. Когда выяснилось, что пухлые линзы упорно отказываются приближать к нему таинственные сверхновые, он предпринял отчаянную попытку самому приблизиться к таинственным сверхновым. Вычитав в библиотечной энциклопедии, что метал, необходимый в строительстве корпуса космического корабля, выплавляют из недр земли, он с единомышленниками принялся усердно обжигать куски запекшейся на солнце глины, но, как это обычно и бывает, все испортили вездесущие взрослые, открыв глаза на то, что практически в каждом дворе уже стоит готовая к запуску ракета из отличной стали, выкрашенной серебрянкой, и некоторые из них даже заправлены. «А на какой модели двигателя полетите?» – спросили взрослые, тем самым окончательно опустив юных космонавтов на бренную землю.
Как умирают мечты? Они сгорают в сталелитейных домнах и покрывают тектонические плиты континентов слоем пепла. Этот пепел за десятки тысяч лет хоронит под собой целые города вместе с их строителями и архитекторами. Этот пепел несбывшихся надежд, цинично названный археологами культурным слоем, надежно хранит в себе проржавевшие насквозь фюзеляжи невзлетевших космических ракет, и лишь мелкие крупицы неприкаянных детских грез иногда умудряются вырваться с планеты и, уносимые солнечным ветром далеко-далеко в могучий звенящий космос, пропадают там навсегда, где-то между Проксимой Центавра и Магеллановыми облаками.
Когда Степа очнулся от своего безмыслия, солнце уже свалилось за холм. Приглушая громкие дневные звуки, соскребая бесполезные в темноте цвета, оно заботливо расчищало место новым обитателям неба. Захватывающая дух прозрачность растворяла в себе остатки розового, обещая полный доступ в таинственные недра. Июньская ночь невесомой поступью юной девы в прозрачной ночнушке понеслась по молодой зелени брошенных колхозных полей, еле касаясь босыми ступнями самых кончиков самых высоких травинок, раскачивая их из стороны в сторону. Никто и ничто не могло помешать провести эту ясную летнюю ночь, валяясь в траве и пялясь на свои любимые звезды, и Степа решил прогуляться, вернее, уйти из этого места в другое, в какое – он еще не знал, но на всякий случай вообразил себе аккуратную полянку подальше от редких деревенских огней на покосившихся фонарных столбах. Он на минуту зашел в дом, не разуваясь, на цыпочках прокрался к столу, смахнул с него телефон, накинул на шею наушники и нетерпеливо выскочил на свободу. Он легко и быстро зашагал по пыльной грунтовой дороге, посыпанной нежной зеленой щетиной, еще теплой от солнца. Покинув пределы деревни, он поймал волну с песнями из старых советских кинофильмов и, с удовольствием вспоминая знакомые куплеты, в полголоса подпевал. До наступления полной темноты оставался примерно час, и было решено двигаться, покуда различалась дорога под ногами, а пока Степа придумал развлечь себя, представляя некоторые, внешне особенные деревья, в образах вымышленных людей, сочиняя им имена и угадывая их нрав. Первой, кто привлекла его внимание, была склонившаяся к оврагу береза. Напитанная почвенным соком, пышущая жизнью, она пребывала в самом расцвете женских сил, а растрепанная, словно банным полотенцем, копна вьющихся до земли волос лишний раз подчеркивала ее стать. «Вот же бесстыжая баба, – подумал Степа, – в лицо бы ей посмотреть». Но Степа понимал: с какой стороны ни смотри, такие, как она, всегда оказываются спиной к таким, как он – одним словом, Анфиса. Анфиса определенно знала себе цену, она пренебрежительно разглядывала домики в низине ручья и, будучи людского племени, ни за что бы не посмотрела в его сторону. Следующим по пути показался Игорь. Игорь был корявой, страшной лиственницей. На его долю выпало нелегкое испытание – всю жизнь ему приходилось бороться с шустрыми осинами за щедрый на свет и тепло верхний ярус. Битва не останавливалась ни днем, ни ночью, и, судя по его внешнему виду, Игорь проигрывал. Но, несмотря на численное превосходство противника, он продолжал отчаянно расталкивать врагов острыми локтями, отыскивая самые замысловатые пути к солнечному свету, от этого конечности его вырастали нелепыми, ломанными, разбросанными в разные стороны. Игорь походил на огромного черного паука, и сам был злой. Отдельно стоило отметить Олега. Олег был, как говорится, корабельной сосной. Он упивался безупречностью и вертикальностью своего тела. Наружу бросалась его нарциссическая надменность к прочим лесным обитателям, из-за чего Олег был обычным мерзавцем. Он не хотел смотреть вниз. Он мечтал, что из его плоти когда-нибудь построят корабль, покроют блестящим лаком и пустят в открытое море, тогда бы его касалась лишь теплая, соленая вода, и февральский ветер не гнул бы больно ветки, и дятлы не долбили бы тонкую, нежную кожу, а иначе для чего же еще он мог существовать на свете.
Развлекая себя подобным образом, Степа незаметно добрался до старой, заросшей просеки с обесточенной высоковольткой, обошел шестиногую опору, пересек пролесок и оказался на небольшой поляне. Дальше двигаться не имело смысла, потому как стемнело. Он оглянулся. Никого вокруг не было, да и быть не могло, и он с наслаждением завалился в прохладную траву, выгнав из нее облачко мошкары.
– Вооот, – протяжно выдохнул Степа, пожирая глазами алмазные россыпи звезд. Небо, вне всяких сомнений, дышало жизнью. В самых неожиданных направлениях проносились метеоры, одинокими неспешными локомотивами ползли по небу спутники, белые огоньки, большие и совсем крошечные, перемигивались на космической морзянке, и оставалось только догадываться, какой производили шум, а ровно посередине угольного полотна текла пыльная река, рассекая население на лево- и правобережное. «Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит», – звучал бархатный, безмятежный голос в наушниках.
– Как по заказу, – Степа совсем разомлел и от удовольствия раскинул в стороны руки, приготовившись впустить в свои объятья все видимое и невидимое. Но тут он внезапно ощутил в себе некий дискомфорт, словно чей-то сверлящий, настойчивый взгляд вцепился прямо в темя.
– Нее, показалось, – попытался успокоить себя Степан, но ощущение чьего-то присутствия не проходило, а наоборот, усиливалось и осязалось вполне очевидной тревогой.
– Опять этот Сутулый что ли? – он снял наушники и стал прислушиваться и вроде как даже различил мягкие осторожные шаги, приближавшиеся прямо к нему. Он продолжал неподвижно лежать, опасаясь спугнуть призрачную надежду на некое недоразумение. Из головы посыпались различные предположения и возможные варианты развития событий.
– Нет. Не волк, – размышлял он, стараясь сохранить самообладание, – тот подкрадется – и не заметишь. Может, дурачок какой местный с топором за поясом?
В любом случае все сводилось к извечному выбору – либо ты, Степа, бей, либо – ноги в руки и беги безо всяких выяснений причин. Пока он выбирал, как ему поступить в сложившейся ситуации, звуки шагов затихли прямо за его головой. Воцарилась еще более ужасная, играющая на нервах тишина, иногда нарушаемая отрывистыми взвизгами сверчков, похожих на лязг стали, трогающей точильный камень.
– Бог в помощь! – игриво прозвучало совсем рядом.
– Спасибо. Сам справлюсь, – так же игриво ответил он в кромешную темноту. Эта незапланированная на сегодняшнюю ночь беседа сразу началась с оттенком викторины с неустановленными правилами, и Степа, не думая, вступил в состязание, показывая сопернику и себе, что он вовсе не боится.
– Надеюсь, не разбудил? – вежливо поинтересовался голос.
– Нет. Я не спал, – так же вежливо ответил Степа и почему-то вспомнил, с каким искренним счастьем виляют хвостами стаффордширские терьеры перед тем, как разорвать в клочья своего противника.
– Что, интересно? – продолжал спрашивать незнакомец.
– Что именно? – продолжал отвечать Степа.
– Слушать, как звезда с звездооою говорииит, – вторую часть вопроса голос пропел на мотив той самой песенки, которая только что звучала в плеере, а воздух рядом наполнился отчетливым кисло-сладким запахом земляники.
После очередной фразы на горизонте океана неизвестности появился спасательный плот любопытства, на борту которого находился комплект сухого анализа, и он стал рассуждать: «Голос мелодичный, даже приятный, уверенный, без фальшивых нервных нот; нет, точно не дурачок с топором». Степа опирался на одно жизненное наблюдение, указывающее на то, что любой голос имеет своё особенное звучание, что-то вроде аудиопаспорта, и при наличии хорошего слуха или органа, схожего с ним, можно определить характер, душевное состояние и, возможно, интеллект собеседника; и желательно при этом не видеть сам инструмент, ибо то, что приходит через глаза, зачастую мешает и лишь вводит в заблуждение, да и где это видано, чтобы «хомо поющий» имел при себе злые помыслы…
– А вы сами послушайте, – уверенным тоном, где-то даже дерзко произнес Степа.
– Я по ночам только этим и занимаюсь, – с легкой досадой в голосе пожаловался таинственный гость.
Степа все это время продолжал лежать на спине с широко раскрытыми глазами, как это бывает в полной темноте, и пытался угадать образ своего собеседника: и рост, и устройство фигуры, выражение лица, одежду, социальный статус; и вообще, не мешало бы прекратить этот бессмысленный разговор и увидеть, наконец, самого нарушителя покоя. Но стоило Степе подумать об этом, как тут же в его апертуру медленно вползла и заслонила половину небесной сферы огромная бесформенная голова с острой черной мордой. Блеснув бездонными зрачками, морда изобразила что-то, отдаленно напоминающее улыбку, и, оголив ряд ровных, сияющих, словно фосфор, зубов с чудовищными клыками, произнесла человеческим голосом:
– Если не ошибаюсь, вы хотели меня увидеть?
– Вы уж не обессудьте, что так получилось, – добавила морда после короткой паузы, показавшейся Степе вечностью.
Что-то внизу живота беззащитным, испуганным ребенком прижалось к позвоночнику и сообщило телу такой импульс энергии, что Степа отрикошетившим осколком вылетел из-под нависшей над ним тени и, не чувствуя под ногами земли, в несколько прыжков оказался на краю поляны. Лишь когда получилось сообразить, что метрах в пятидесяти перед ним находится дорога, ведущая в деревню, он отважился обернуться, дабы убедиться в оправданности своего столь быстрого перемещения. После увиденного им оправдывалось исключительно быстрое перемещение – посреди поляны невозмутимо сидел огромный черный медведь. Зверюга и не думал пускаться в погоню, застыв на месте неподвижной глыбой, он с любопытством наблюдал, как отчаянно спасает жизнь его случайный знакомый. Степа тем временем, не прикладывая особых усилий, приближался к первой космической скорости, пытаясь преодолеть гравитационные силы своего ужаса. Возможно, в этот самый момент самовлюбленная береза Анфиса сдалась перед натиском любопытства и впервые за много лет обернулась посмотреть, что же там такого могло случиться. Если бы очень далекие предки Степана имели возможность наблюдать, как эффективно используются приобретенные в процессе эволюции необходимые для выживания навыки, то их, предков, неминуемо обуяла бы гордость за одного из представителей своего вида, ну и, разумеется, за оставленную в наследство школу выживания в целом, а школа, что и говорить, действительно была хорошей, о чем свидетельствовал сам факт Степиного существования.
Добежав до деревни, по дороге промочив в ручье ноги и больно сломав о коленную чашечку толстую сухую ветку, обезумевший любитель астрономии ввалился в дом и впервые в жизни запер дверь на замок изнутри. Этот ночной кошмар остался где-то далеко за забором его убежища, и здесь, в полной безопасности, рассудок требовал объяснений, объяснения же, в свою очередь, требовали утра, и обессиленный, еще пока ошарашенный Степа, не раздеваясь, рухнул на кровать и еще долго лежал так, слушая перекличку скучающих деревенских псов.
Уснуть удалось лишь под утро, и уже к обеду тяжелая муха вовсю щекотала очнувшийся ото сна мозг, а две одновременно завизжавшие друг на друга в разных концах улицы газонокосилки и вовсе вынудили открыть глаза. Он по привычке потянулся к ночному столику, на котором обычно оставлял на ночь свой мобильник, и с ужасом обнаружил, что мобильника на столике не было, не было его и в карманах одежды. Бессмысленно описывать значительность этого творения в жизни современного гоминида со всеми его невидимыми связями, ничем не заменимыми контактами и прочими прелестями, и все же, несмотря на то, что траектория полета человеческой мысли, поглощенной экраном данного чуда, больше напоминала пикирование, с такой существенной частью своей жизни Степа расставаться так просто не собирался. Обстоятельства вчерашнего происшествия постепенно приобретали резкость, рассеивая туман с еще дремлющей памяти, и тут он проснулся окончательно. «Неужто вчера в лугах посеял? Этого еще не хватало, – подумал он. – Но постойте… Медведь? В километре от деревни? Постойте. Постойте. Говорящий медведь? Нет. Безумие какое-то. Может, приснилось?» Но внезапно занывшее колено тотчас убедило его в обратном. Что бы там вчера ночью ни произошло, а личное имущество необходимо было вырывать из хищных лап окружающей среды, тем более, в репертуаре имелся один нехитрый, проверенный способ. Кое-как растолковав Пал Палычу суть приема, Степа одолжил у него старый кнопочный телефон и, непрерывно набирая цифры своего номера, слегка прихрамывая на правую ногу, отправился сканировать вчерашний маршрут в надежде разобрать знакомую мелодию в траве, наполненной грохотом чужой жизни. Первая же попытка вселила уверенность в успехе операции – вызов шел. «Значит, не утонул и не разбился, уже неплохо», – утешался он, но на третьем или четвертом звонке, не успев выйти за пределы деревни, вызов внезапно сбросился. «Так. Это уже интересно», – он набрал еще раз. На той стороне опять сбросили.
– Нашли и сбрасывают. Когда успели? Бестолковые, почему бы просто не отключить.
Он остановился и огляделся по сторонам, затем вновь набрал заученные наизусть цифры. На сей раз наконец-то ответили.
– Алё, – громко сказал Степа. В трубке молчали.
– Алё. Алё, это мой телефон, я его вчера случайно выронил. Где вы находитесь?
– Добрейшего времени суток! – прозвучал в трубке вчерашний голос. – Простите, не сразу разобрался в алгоритме работы этой штуки. Как ваше колено? Не сильно ушиблись?
У Степы зашевелились волосы на голове, но собравшись с духом, хотя и не своим голосом он ответил:
– Спасибо, конечно, за беспокойство, бывало и хуже. Послушайте, кто бы вы там ни были, вы сейчас разговариваете по моему телефону. Верните его, пожалуйста. Это важно. Я отблагодарю.
– Что вы, что вы. Это я вам должен. Вы вчера с такой скоростью оставили мое общество, в чем, несомненно, исключительно моя вина. В связи с этим я хотел бы принести вам свои извинения за доставленные неудобства, и я их принес. Уверяю, я не имел на вас злого умысла, а ваше устройство лежит ровно на том же месте, на котором вы меня вчера покинули, там же, в качестве компенсации, я приготовил вам небольшой подарок. Обещаю впредь не смущать вас своим присутствием, но если вдруг когда-нибудь вы отважитесь удовлетворить своё любопытство – милости прошу, я уверен, мы быстро найдем общий язык.
На этот раз трубку бросил Степа. Абсурдность ситуации неумолимо возводилась в степень, оставляя все меньше шансов забыть ее навсегда. Отчаявшись что-либо понять, поминутно озираясь по сторонам, словно вор, он засеменил в сторону вчерашней лежанки, теша себя глупой мыслью, что очень скоро его начнут искать, так как пропадет не только он, но и единственное средство связи Пал Палыча. Добравшись до поляны, он легко узнал место не входившего в его планы контакта и стал осторожно приближаться к нему, словно к краю пропасти. В пятне примятой травы на надломанных стеблях овсяницы в относительной целости и сохранности покоился его телефон, а рядом стояла голубая пластмассовая банка из-под майонеза, с горкой наполненная мелкой лесной земляникой вперемешку с крошечными листьями.
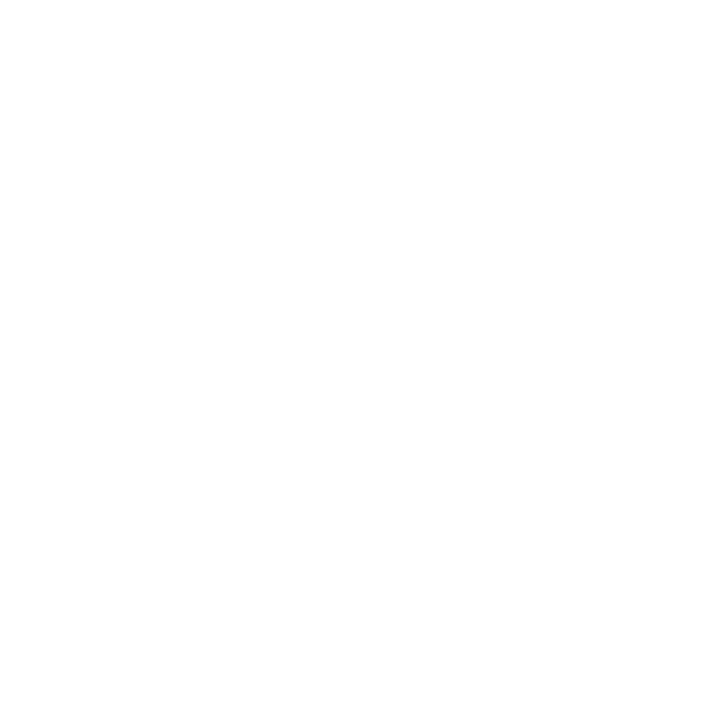
Гузель АРСЛАН
Прозу пишу давно, но только недавно решилась вынести её на суд публики. Стала лауреатом второй премии литературного конкурса «Расскажу о своём народе», который проводила газета «Литературная Россия». Получила специальную премию литературного конкурса «Лебеди над Челнами». Победитель конкурса «Славянское слово» (Болгария). Там же, в Болгарии, была выпущена первая книга. Регулярно печатаюсь в различных сборниках издательства «Петраэдр», издательства «Северо-запад» и др.
Прозу пишу давно, но только недавно решилась вынести её на суд публики. Стала лауреатом второй премии литературного конкурса «Расскажу о своём народе», который проводила газета «Литературная Россия». Получила специальную премию литературного конкурса «Лебеди над Челнами». Победитель конкурса «Славянское слово» (Болгария). Там же, в Болгарии, была выпущена первая книга. Регулярно печатаюсь в различных сборниках издательства «Петраэдр», издательства «Северо-запад» и др.
ДЮША
Жили-были в одном провинциальном городке старик со старухой. Жили себе так, поживали, как и тысячи других таких же стариков и старушек. Лукерья Ивановна была в меру ворчлива и любила поучать своего супруга по любому поводу. Она искренне считала, что муженек её, хоть и достиг уже вполне преклонного возраста, но так и остался неразумным ребёнком, с которым, даже сложно поверить, прожили они практически всю свою долгую жизнь. В первый раз они встретились в 30-е годы прошлого столетия. Вместе ходили в детский сад, вместе учились. Вместе решали, какие профессии выберут. Поженились. Только однажды им пришлось расстаться – их на целых пять лет развела война. Фёдор Иваныч ушел на фронт, дважды был ранен, дошёл до Берлина и, к счастью, вернулся домой. Лукерья Ивановна работала на заводе, вкладывая посильный труд в будущую Победу. После войны нарожали детей, которые уже давно выросли и живут отдельно. Внуки бабушку с дедушкой любят, в гости постоянно приезжают.
Вот и в этот раз все приехали – и дети, и внуки. Великое семейное торжество было связано со знаменательным событием – ровно 50 лет прошло с тех пор, как поженились Лукерья Ивановна и Фёдор Иваныч. Золотая свадьба собрала не только детей и внуков, но и многих родственников со всех уголков необъятной Родины. Только племянница Лукерьи Ивановны Настасья не смогла приехать из деревни, в которой проживала с тех пор, как её третий муж надумал заняться фермерством в начале Перестройки. «Не могу, – говорит, – тётя Луша, приехать, на кого хозяйство оставлю, но с оказией тебе отправила посылку». «Оказия» эта явилась аккурат в самый разгар подготовки к застолью в виде тщедушного мужичка. Да ладно, что мужичок! Самое удивительное было то, что он привёз в виде подарка! Настасья была в своём репертуаре – мужичок передал большой деревянный ящик с щелями, на самом верху которого красовался огромный подарочный бант, а внутри… индюк! Все, кто присутствовал в этот знаменательный момент, так и замерли.
– А что же нам делать с птицей? – ошарашенно спросил Фёдор Иваныч.
– Резать! – как топором рубанул его коллега и друг Петрович.
– А кто резать будет?
– Чей подарок, тот и будет.
– Нее… – робко ответил Фёдор Иваныч. – Я не могу…
– Да не боись, Иваныч, смогём!
Лукерья Ивановна с жалостью посмотрела на индюка и с сомнением – на мужа. Знала его как облупленного. Не сможет. Одно дело на войне во врага стрелять, другое – здесь вот невинную животину резать. Да и сама она не сможет на это смотреть.
– Только не дома!
Собралась вся мужская половина гостей и вслед за хозяином направилась на улицу. Фёдор Иваныч индюка впереди несёт, за ним – Петрович, а дальше и все остальные тянутся. Идут и рассуждают, как же им приступить к такому непривычному для них делу. Это деревенским мужикам всё запросто, а они и живую курицу-то все только издали и видели. Ну, резать точно не приходилось.
Внизу, у подъезда, положили доску, на неё – индюка. Трое держат, а Фёдор Иваныч взял в руки топор, размахнулся им и тут представил себе уже общипанного индюка, а потом увидел глаза птицы. Столько было в них страха и обреченности.
– Ты по шее его, по шее… – говорит Петрович, а сам отворачивается, тяжело и ему смотреть. И ведь каждый день едим мясо, а тут – никак.
– Нет, не могу, – ответил Фёдор Иваныч, – может, ты?
– Нее! Я не стану, я с детства крови боюсь. Сознание сразу теряю.
Ни один из мужиков не согласился. Собрались да обратно в свою квартиру поднялись. Женщины только сочувственно посмотрели.
– Ладно, – сказала Лукерья Ивановна, – утро вечера мудренее. Сейчас уж праздновать пора, а завтра решим, что делать. Федя, неси его на балкон.
Вечер прошёл весело: еды полный стол, выпивки полно. На славу отпраздновали. Улеглись спать.
И вот видит Фёдор Иванович сон. Заходит в спальню индюк, смотрит на него жалостливо и говорит:
– Не убивай меня, Фёдор Иваныч, я три твоих желания исполню.
– Да я и так тебя не смогу убить, ведь живая ж тварь. А что касается желаний, я их и сам исполняю. Для этого волшебство не нужно, только труд и упорство. Всё, что я задумал в жизни, всё исполнилось, а дворцы мне не нужны.
– Оставь меня у себя, не отдавай никому. Не пожалеешь, – молвил индюк.
Ничего не успел ответить Фёдор Иваныч и проснулся.
Сразу после завтрака притащил индюка в комнату и объявил Лукерье Ивановне своё решение.
– Будет жить с нами! Всё равно мы с тобой собираемся на дачу перебираться навсегда.
На том и порешили; через неделю вместе с индюком перебрались на дачу, индюку даже свой индивидуальный домик устроили. Стали называть его Дюшей. Фёдор Иванович изучил всю литературу о том, как за индюками ухаживать. 10 лет Дюша прожил с ними. Но что удивительно, за это время ни одной, даже самой маленькой неприятности ни с ними, ни с их детьми не произошло.
Жили-были в одном провинциальном городке старик со старухой. Жили себе так, поживали, как и тысячи других таких же стариков и старушек. Лукерья Ивановна была в меру ворчлива и любила поучать своего супруга по любому поводу. Она искренне считала, что муженек её, хоть и достиг уже вполне преклонного возраста, но так и остался неразумным ребёнком, с которым, даже сложно поверить, прожили они практически всю свою долгую жизнь. В первый раз они встретились в 30-е годы прошлого столетия. Вместе ходили в детский сад, вместе учились. Вместе решали, какие профессии выберут. Поженились. Только однажды им пришлось расстаться – их на целых пять лет развела война. Фёдор Иваныч ушел на фронт, дважды был ранен, дошёл до Берлина и, к счастью, вернулся домой. Лукерья Ивановна работала на заводе, вкладывая посильный труд в будущую Победу. После войны нарожали детей, которые уже давно выросли и живут отдельно. Внуки бабушку с дедушкой любят, в гости постоянно приезжают.
Вот и в этот раз все приехали – и дети, и внуки. Великое семейное торжество было связано со знаменательным событием – ровно 50 лет прошло с тех пор, как поженились Лукерья Ивановна и Фёдор Иваныч. Золотая свадьба собрала не только детей и внуков, но и многих родственников со всех уголков необъятной Родины. Только племянница Лукерьи Ивановны Настасья не смогла приехать из деревни, в которой проживала с тех пор, как её третий муж надумал заняться фермерством в начале Перестройки. «Не могу, – говорит, – тётя Луша, приехать, на кого хозяйство оставлю, но с оказией тебе отправила посылку». «Оказия» эта явилась аккурат в самый разгар подготовки к застолью в виде тщедушного мужичка. Да ладно, что мужичок! Самое удивительное было то, что он привёз в виде подарка! Настасья была в своём репертуаре – мужичок передал большой деревянный ящик с щелями, на самом верху которого красовался огромный подарочный бант, а внутри… индюк! Все, кто присутствовал в этот знаменательный момент, так и замерли.
– А что же нам делать с птицей? – ошарашенно спросил Фёдор Иваныч.
– Резать! – как топором рубанул его коллега и друг Петрович.
– А кто резать будет?
– Чей подарок, тот и будет.
– Нее… – робко ответил Фёдор Иваныч. – Я не могу…
– Да не боись, Иваныч, смогём!
Лукерья Ивановна с жалостью посмотрела на индюка и с сомнением – на мужа. Знала его как облупленного. Не сможет. Одно дело на войне во врага стрелять, другое – здесь вот невинную животину резать. Да и сама она не сможет на это смотреть.
– Только не дома!
Собралась вся мужская половина гостей и вслед за хозяином направилась на улицу. Фёдор Иваныч индюка впереди несёт, за ним – Петрович, а дальше и все остальные тянутся. Идут и рассуждают, как же им приступить к такому непривычному для них делу. Это деревенским мужикам всё запросто, а они и живую курицу-то все только издали и видели. Ну, резать точно не приходилось.
Внизу, у подъезда, положили доску, на неё – индюка. Трое держат, а Фёдор Иваныч взял в руки топор, размахнулся им и тут представил себе уже общипанного индюка, а потом увидел глаза птицы. Столько было в них страха и обреченности.
– Ты по шее его, по шее… – говорит Петрович, а сам отворачивается, тяжело и ему смотреть. И ведь каждый день едим мясо, а тут – никак.
– Нет, не могу, – ответил Фёдор Иваныч, – может, ты?
– Нее! Я не стану, я с детства крови боюсь. Сознание сразу теряю.
Ни один из мужиков не согласился. Собрались да обратно в свою квартиру поднялись. Женщины только сочувственно посмотрели.
– Ладно, – сказала Лукерья Ивановна, – утро вечера мудренее. Сейчас уж праздновать пора, а завтра решим, что делать. Федя, неси его на балкон.
Вечер прошёл весело: еды полный стол, выпивки полно. На славу отпраздновали. Улеглись спать.
И вот видит Фёдор Иванович сон. Заходит в спальню индюк, смотрит на него жалостливо и говорит:
– Не убивай меня, Фёдор Иваныч, я три твоих желания исполню.
– Да я и так тебя не смогу убить, ведь живая ж тварь. А что касается желаний, я их и сам исполняю. Для этого волшебство не нужно, только труд и упорство. Всё, что я задумал в жизни, всё исполнилось, а дворцы мне не нужны.
– Оставь меня у себя, не отдавай никому. Не пожалеешь, – молвил индюк.
Ничего не успел ответить Фёдор Иваныч и проснулся.
Сразу после завтрака притащил индюка в комнату и объявил Лукерье Ивановне своё решение.
– Будет жить с нами! Всё равно мы с тобой собираемся на дачу перебираться навсегда.
На том и порешили; через неделю вместе с индюком перебрались на дачу, индюку даже свой индивидуальный домик устроили. Стали называть его Дюшей. Фёдор Иванович изучил всю литературу о том, как за индюками ухаживать. 10 лет Дюша прожил с ними. Но что удивительно, за это время ни одной, даже самой маленькой неприятности ни с ними, ни с их детьми не произошло.
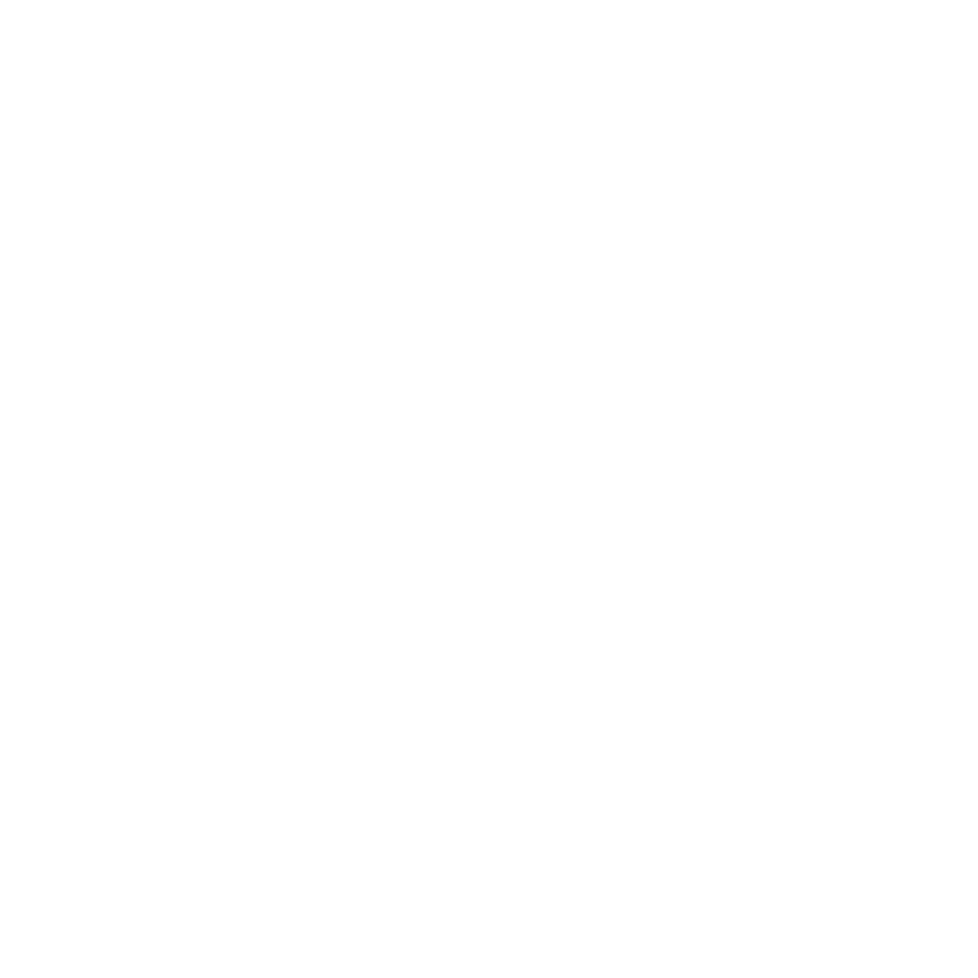
Инесса СМИРНОВА
Родилась в 1969 г. в Петрозаводске. Закончила Петрозаводский государственный университет, экономический факультет, потом получила специальность библиотекаря в Петрозаводском училище культуры. Работала более 10 лет в Петрозаводской библиотечной системе, около семи лет – в Ихальской средней школе Лахденпохского района Карелии. Также освоила профессии пчеловода, учителя русского языка и литературы, социального педагога. Писать начала несколько лет назад. Являюсь дипломантом I-ой степени литературно-музыкального конкурса «Квартал поэтов и музыкантов», победитель первого тура, итоги второго тура еще не подведены. Работаю над повестью «Банка земляники, или Повесть о несовременной женщине» и детективно-фантастической повестью для детей «Барий, или Формула любви».
Родилась в 1969 г. в Петрозаводске. Закончила Петрозаводский государственный университет, экономический факультет, потом получила специальность библиотекаря в Петрозаводском училище культуры. Работала более 10 лет в Петрозаводской библиотечной системе, около семи лет – в Ихальской средней школе Лахденпохского района Карелии. Также освоила профессии пчеловода, учителя русского языка и литературы, социального педагога. Писать начала несколько лет назад. Являюсь дипломантом I-ой степени литературно-музыкального конкурса «Квартал поэтов и музыкантов», победитель первого тура, итоги второго тура еще не подведены. Работаю над повестью «Банка земляники, или Повесть о несовременной женщине» и детективно-фантастической повестью для детей «Барий, или Формула любви».
ДОЖДЬ
Утром, лежа в кровати, я услышал методичный стук по карнизу: кап-кап-кап-кап. О, нет, только не это. Я мысленно застонал. Но это был он, собственной персоной – Дождь. Ну вот, все мои планы рухнули, накрылись медным тазом. А я так мечтал вырваться на эти два дня в деревню, в наш маленький, старенький, но такой уютный домик.
Зимними ночами частенько мне снился наш небольшой садик с яблонями и смородиновыми кустами, скамеечка рядом с крыльцом, бревенчатый дом с облезшей красно-коричневой краской на стенах, печка с лежанкой – наша гордость. Этот дом достался нам с женой после смерти моих дедушки с бабушкой. В детстве летом я часто приезжал сюда на каникулы.
А в последние годы мы стали бывать здесь редко, большей частью урывками, на пару дней; дел в городе становилось все больше и больше с каждым годом. Сейчас я вырвался в деревню один, чтобы никто мне не мешал вдоволь походить на рыбалку. Я считал себя заядлым рыбаком, отдавая дань вновь возродившейся моде на рыбную ловлю. Мне нравилось обсуждать с коллегами рыбацкие секреты и лихо жонглировать специальными словами: «воблер», «уокер», «глиссер», «даунриггер», «джиг». Я был в курсе всех новинок и старался их приобретать одним из первых.
И вот мне с большим трудом удалось оторваться ото всех дел и приехать в деревню на эти два дня. Да, я был горд собой, я легко, будто играючи, решил все текущие проблемы: жене привез запас продуктов на несколько дней; пополнил счета телефонов; с сыном провел беседу о достойном поведении, которое будет вознаграждено по моему приезду; дочери купил несколько электронных книг на Литрес; в общем, всем обеспечил беззаботную жизнь на время моего отсутствия. На работе тоже удачно отбился от текущих дел: что-то завершил, что-то подписал, что-то посмотрел, что-то отложил. И вот я здесь.
Единственной ложкой дегтя в этой идиллии являлся дождь, который никак в мои планы не входил и в мечтах не рассматривался.
Я вылез из-под одеяла и выглянул в окно – ну, так и есть, мои худшие предчувствия оправдались: небо полностью затянуто серой пеленой, нудно моросит мелкий затяжной дождик, ветер треплет мокрую листву на яблонях и кустах смородины. Похоже, что это надолго. Я пошел на кухню и поставил чайник на плиту, сел за стол и задумался. Что же делать? Ехать обратно в город? Но я знал, что там меня встретят сочувственные взгляды жены и ехидные ухмылки детей. Нет, не буду сдаваться, попробую найти выход из ситуации. Только жаль, что я не захватил с собой новый детектив, который купил на днях, но так еще и не приступил к чтению. Сейчас бы самое время его почитать.
И тут я вспомнил, что мы пару лет назад с женой выносили всякий хлам на чердак. Тогда мы еще сильно поругались, потому что я считал и считаю – глупо хранить всякое хламье. Но жена вцепилась в вещи мертвой хваткой и стояла насмерть. «Только через мой труп», – кричала она. «Это не дом, а сарай», – пытался я ее вразумить. Потом я пошел на компромисс: «Хорошо, давай еще раз взглянем на эти вещи и разумно оценим, стоит ли их хранить». Она с трудом согласилась выпустить из рук мешки с вещами.
Мы уселись поудобнее и стали вынимать одну вещь за другой. Вот пачка перевязанных ленточкой рисунков. Жена развязала тесемку и вытащила один: «Смотри, Коля, это я! Леночка с Сашей подарили мне на День матери». На рисунке был изображен головастик с круглыми голубыми глазами, с огромным красным ртом, в оранжевом платье с крупными синими горошинами по подолу и красными бусами на шее. «А вот это ты», – засмеялась жена и протянула мне следующий. Головастик, но уже в брюках и футболке, радостно улыбался и таращил черные глаза. «Это папа», – гласила надпись. Мы стали рассматривать все рисунки детей: вот семья празднует Новый год, вот мы в лесу, собираем грибы, тут мы катаемся на лыжах. Смешные человечки на бумаге явно были счастливы вместе. Да, такую память рука не поднимется выкинуть в мусор.
Потом из мешка на свет появилась маленькая шкатулочка, в ней хранились прядки волос детей, любовно завернутые в пакетики. Мы развернули обертки и потрогали волосики, такие мягкие и шелковистые, светленькие, а я и забыл, что у них были такие волосенки. Сейчас у дочки грива жестких густых темных волос, и у сына волосы потемнели и стали жестче. Шкатулочка тоже осталась. Мы также оставили чайные ложечки, которые были подарены на первые зубки детям, чашки с нашими именами и фотографиями, детские книжки. Мы долго сидели над каждой вещью, вспоминали, смеялись или грустили, и рука не поднялась выкинуть это в мусор. Жена была права. В итоге мы оставили все, а выкинули только старые счета за коммунальные платежи.
И вот сейчас, отхлебывая чай из чашки, я вспомнил, что среди прочих вещей там было несколько любимых книг моей мамы. Она их читала и перечитывала по многу раз. Она несколько раз пыталась мне рассказать о них, предлагала почитать, но мне все время было некогда, да и особого желания я не испытывал. Я увлекался детективами и все остальные жанры считал скучными. Но сейчас выбора у меня не было, и я полез на чердак. Обнаружил знакомый мешок на полке, обмахнул с него пыль и развязал веревку, которой он был перевязан. Бережно стал вынимать вещи: пачка детских рисунков, резная деревянная шкатулочка, а вот и мамины книги. Их было несколько, они были завернуты в бумагу. Я снял упаковку и достал их. Посмотрел на обложки книг, этих авторов я не знал, только одна фамилия мне была знакома: Честертон. Не тот ли это Честертон, который писал о сыщике – отце Брауне? Да, это он, Гилберт Кит Честертон. Вот эту книгу и почитаю. Я радостно потер руки: «Ну, дождь, держись!» Снова аккуратно сложил все вещи в мешок, перевязал его веревкой и убрал на полку. Взял книгу и спустился с чердака.
Мне захотелось устроить себе уютное гнездышко в кровати. Принес все пледы и одеяла, которые обнаружил в доме, собрал подушки. Из всего этого соорудил что-то наподобие мягкого ложа на своей постели. Потом пошел на кухню и стал готовить себе закуски. Я нацелился весь день провести в постели, не вставая и не отвлекаясь даже на приготовление еды. Сварил себе несколько порций крепкого кофе и залил его в литровый термос. Потом сделал гору бутербродов с сыром, колбасой, с маслом, нашел две старые пачки печенья в шкафчике. Развернул пачку, понюхал, подозрительно водя носом. Пахло, как ни странно, вкусно, я хмыкнул: «Вот что значат современные технологии». Печенье тоже прихватил с собой. Так, во всеоружии, я отправился на встречу с книгой «Человек жив» Честертона.
С первых страниц романа я понял, что это не детектив. Странный герой по имени Инносент Смит врывается с ураганным ветром в старый пансион «Маяк». И все ставит с ног на голову. Я не мог понять, нравится мне эта книга или нет, нравится мне этот герой или нет. Он был будоражащий, странный и парадоксальный. Он был так похож на ребенка. Вот что я прочитал: «Я уверен, что в его безумии есть система. Так и кажется, что он может вступить в сказочную страну, стоит ему только сделать шаг в сторону от гладкой дороги. Кто бы подумал об этом ходе на крышу? Кому бы пришло в голову, что дрянной, дешевый кларет может казаться очень вкусным здесь, на этой крыше, среди труб? Может быть, это и есть подлинный ключ к волшебному царству. Может быть, поганые, дешевые папироски Гулда надо курить только на ходулях или как-нибудь в этом роде. Может быть, холодная баранья нога, которою потчует нас миссис Дьюк, покажется очень аппетитной тому, кто сидит на вершине дерева...»
Я отложил книгу в сторону и задумался. Как точно сказано. Да, я помню это ощущение приключения и тайны. В детстве мы обожали походы – не важно куда, главное, чтобы с нами не было взрослых. Иногда летом в деревне, будучи у бабушки и дедушки на каникулах, мы уходили в дальние луга, где пасли коров. Там, на окраине луга, росли невысокие деревья ольхи, ветки которой очень легко было нам, детям, ломать. Мы строили большой, вместительный шалаш из этих веток и вдвоем или втроем забирались туда. Но самое волнующее, самое главное – кульминацией похода был пикник, время еды. Каждый из нас брал что-то съестное из дома, всю еду мы выкладывали в центре шалаша. Здесь были и бутерброды с маслом, и просто хлеб белый и черный, и свежие огурцы и редиска, и куски пирога, и колотый сахар. И бутыли с молоком. Каждый ел, что хотел. Молоко мы пили из горлышка, передавая бутылку по кругу. Вся еда казалась необыкновенно вкусной, мы ели и ели, подбирая даже упавшие крошки. Это была магия. Дома бабушке приходилось заставлять нас пить молоко, мы капризничали и говорили, что оно пахнет коровой, хлеб с маслом тоже не входил в число наших предпочтений. Но в шалаше эта обычая повседневная еда превращалась в изысканные блюда. Я и сейчас могу закрыть глаза и увидеть себя, мальчика, там, в шалаше, и ощутить вкус молока во рту.
Когда мы перестали ходить в походы? А строить шалаши? Пить молоко из бутылки? Давно. Я перебирал в памяти все места, где был с женой и друзьями, вспоминая изысканную французскую кухню, острую мексиканскую, необычную японскую. Да, непривычно, вкусно, интересно, но того детского восторга, смешанного с волшебством, я ни разу не ощутил в этих ресторанах.
Как-то постепенно и незаметно все стало обыденным, вот, например, чему я последнее время удивлялся? Я стал перебирать в памяти все события и моменты, происходящие дома и на работе. Конечно, удивлялся я много раз, но не радостно, а неприятно. Перед Новым годом, помню, очень неприятно удивился, когда узнал, что коллега получил премию гораздо больше моей, я тогда не только удивился, но и возмутился и дома метал громы и молнии.
Так… еще крайне неприятно удивился, когда обнаружил, что мой сын ростом ниже всех мальчиков в классе. Родителей пригласили на праздник в школу, и я увидел, что сын среди высоких и мощных одноклассников смотрится этаким тощеньким цыпленочком, дома я устроил жене по этому поводу скандал, почему она не следит за питанием и физическим развитием ребенка? Совсем недавно я удивился, опять же неприятно, когда мне юная школьница уступила место в автобусе. Я даже хотел ее отчитать, но потом застеснялся привлечь к себе внимание.
Да, но где же приятные удивления? Их не было или я не помню? Мне стало жутковато. Я вылез из своего гнездышка и нервно заходил по комнате. Так, так, ну как же, вот помню, как радовался совсем недавно, на работе. Тот коллега, который получил большую премию, забыл послать документы в министерство, и начальник его распекал на глазах у всех. Ох, как я радовался! Или вот другой случай, на днях я обрадовался в магазине, когда кассирша обсчиталась со сдачей и дала мне гораздо больше, чем следовало. Я не стал ей ничего говорить, сама виновата, нынешнее поколение совсем разучилось считать с этими современными технологиями.
Но это не то, совсем не то, что я хочу вспомнить. Это же иная радость, нужно вспомнить что-то светлое, невинное, доброе. Радостное удивление. Я остановился у окна и стал наблюдать за дождем, а сам отматывал и отматывал в уме годы в далекое прошлое.
Ну как же, вот я прекрасно помню случай, когда я был радостно удивлен. Мне было восемь или девять лет. Это было в деревне, летом. Я со своим другом пошел в прибрежный лесок у озера, вокруг которого и раскинулась наша деревня. Мы стали искать грибы среди могучих и старых осин на заросшей травой полянке у самой воды. Здесь всегда грибы появлялись первыми. Нам попалось несколько небольших и крепких подберезовиков и подосиновиков. И тут я случайно отошел в сторону и обнаружил в траве огромный гриб со шляпкой размером с десертную тарелку, на высокой прямой ножке. Я закричал от удивления и подозвал друга. Мы восклицали, хлопали руками, осматривали его со всех сторон. Потом я осторожно выкрутил мощную ножку гриба из земли, выкинул остальные грибы, и мы побежали к нашему дому показать взрослым этого гиганта. Я бежал, держал гриб высоко над головой и радостно смеялся от удивления.
Или помню охоту на майских жуков, опять же это было в детстве, в деревне, в начале лета. Вечером мы, ребята, собирались у старой высокой березы, терпеливо ждали, и каждый раз медленно пролетающий и низко гудящий жук вызывал у нас приступ удивления и ликования. Как приятно было бежать за ним и успеть хлопнуть ладошкой и сбить его в полете, а потом искать на земле и найти его, такого большого, светло-коричневого, с мохнатыми усиками, и усадить его в коробок из-под спичек. Затем мы весь вечер подносили к уху коробок и слушали шуршание и скрежет лапок о коробочку.
Я умел радостно удивляться! Правда, в детстве, но все же умел.
Я решительно направился в гостиную – сейчас затоплю печку и буду смотреть на огонь. Но только буду делать все по правилам, как учил меня мой дед, а не как обычно: впопыхах, торопясь и ругая печь, дрова, спички, жену и весь свет за то, что не получается быстро развести огонь.
Это целое искусство – разжечь дрова в печи при помощи только одной спички. Обычно мы, дети, да и взрослые изводили по пол-коробка спичек прежде, чем капризные дрова нехотя разгорались, и даже после этого огонь норовил потухнуть. Дедушка, когда еще был жив, смотрел на это безобразие и сердился.
И вот я стал колдовать над печью. Открыл вьюшку, проверил в зольнике. На всякий случай пошерудил там кочергой, выгребая золу из самых дальних углов. Потом неспеша, любовно рассматривая и поворачивая полено из стороны в сторону, выбрал подходящее и настругал большим длинным ножом тонкой и сухой лучины. Затем уложил лучину в центре топки и стал укладывать березовые дрова. Чтобы печь хорошо разгорелась, дрова должны быть сухими. Это основное правило. Самые лучшие дрова – березовые, они дружно горят и выделяют много тепла. Вторыми по качеству идут ольховые дрова – они тоже горят хорошо, но тепла от них немного меньше, чем от березовых поленьев. А на самом последнем месте – так называемый сухостой, это смешанные дрова, в основном сосна и елка, они дают много чада, засоряя трубу и печь черным нагаром.
У меня были самые лучшие – сухие березовые дрова. Я уложил их в печь, используя особенный секрет: дрова нужно укладывать ребром друг на друга, а не плашмя. Таким образом уложенные дрова позволяют огню зацепиться за каждое полено и ползти вверх, не потухая. Затем я прикрыл поддувало, чтобы не было сильного притока воздуха снизу, зажег спичку и поднес ее к кучке с лучинами. Лучинки вспыхнули и начали разгораться, я немного подождал, чтобы убедиться в том, что они не погаснут, закрыл дверцу топки и открыл дверцу поддувала снизу. Сразу же в печке загудело, это огонь стал набирать силу. Я, довольный тем, что у меня так ловко получилось разжечь печь, придвинул старое кресло поближе к огню, сел и стал смотреть. Язычки пламени плясали, становясь то ярко-желтыми, то оранжевыми, а иногда внутри ослепительно желтого огня мелькал голубоватый всполох, и с треском рассыпались искорки. Печка довольно гудела, потрескивала, разливая приятное тепло и аромат от дров. Я вдыхал воздух полной грудью, и голова моя слегка кружилась от этого запаха, вызывая в душе чувство счастливого блаженства.
Я долго так сидел, ни о чем не думая, желая продлить эти минуты как можно дольше. Как хорошо, когда не нужно никуда торопиться, спешить, бежать. Сейчас кажутся такими смешными и нелепыми мои склоки на работе, мои претензии к сыну и дочери, к жене, мои воображаемые радости и мои желания. Я вдруг ясно осознал, что именно сейчас я и живу полной жизнью, я наслаждаюсь каждой секундой, я чувствую и ощущаю единство с дождем, печкой, дровами, спичками, огнем, этим старым креслом, с этим запахом, что меня окружает. Это было так неожиданно и чудесно. Я хотел сохранить в себе это ощущение – да, это и есть настоящая жизнь. Я рассмеялся весело и легко. Спасибо, мама, за эту книгу! Ты вернула меня обратно в мое детство, к мальчишке по имени Колька, любознательному исследователю, который верил в чудеса.
«Теперь, друг мой Никола, мы будем всегда вместе, я тебя не забуду», – пообещал я себе, мальчику. Ну что, продолжим читать мамину книгу? Я сходил в спальню за ней, а также захватил кофе и бутерброды. Я реально ощущал в себе присутствие того, прошлого себя – мальчика из моего детства. И мне нравилось мысленно обращаться к нему.
Я погрузился в чтение. Книга позволяла вспомнить забытые истины, обратить внимание на то, что действительно важно.
«…Кит и в самом деле тут, возле дома, знайте это! – прокричал Смит, ударив кулаком по столу. – Держу пари, что вы никогда как следует и не осмотрели нашего жилья. Держу пари, что вы ни разу даже и не заглянули на задний двор. А я пошел туда сегодня утром и нашел как раз все, что, по вашим словам, растет лишь на дереве…»
«…На этом свете некогда мечтать и дремать», – отвечала молодая леди, повернувшись к нему спиной. – «Мне только что пришло в голову, – произнес Инглвуд, – что на этом свете некогда проснуться…»
«Ох, – выдохнул я и взъерошил волосы на голове, – а не пробежаться ли мне под дождем, как в детстве, а, Колька?» Мои глаза озорно заблестели, и я пошел к входным дверям, приоткрыл их и высунул нос наружу. Ветер швырнул мне в лицо охапку холодных дождевых капель. «Брр, ну и погодка, – сказал прежний ворчливый Николай, – так и простудиться недолго». «Да ну тебя, ты все ворчишь, а мы с Николашей хотим пробежаться», – ответил новый я.
Я храбро выскочил на крыльцо, постоял с минуту, потом стянул с себя рубашку и брюки, бросил их у порога, а сам босиком и в одних трусах выскочил под дождь. В первые секунды глаза мои чуть не выскочили из орбит от ледяных уколов, но вскоре студеные капли взбодрили меня, я подпрыгнул и стал неловко скакать по мокрой траве. Затем я вошел во вкус и из груди вырвался крик ликования: «Эээ -геее-гей!!!» Я бежал вокруг дома и размахивал руками. Вдруг на глаза мне попалась большая лужа, с которой я воевал уже который год, пытаясь засыпать ее песком, но она упорно не желала покориться и при первом же сильном дожде превращалась в небольшой пруд. «А что, если забраться в лужу, как в детстве?» – пришла мне в голову шальная мысль. Недолго думая, подбежал к луже и осторожно вошел в воду. Забытые с детства ощущения нахлынули на меня. Как приятно ощущать пальцами ног мягкую грязь на дне, она, как крем, обволакивала ступни. Я стоял посреди лужи и блаженно шевелил пальцами. А теперь – фейерверк! И я подпрыгнул что было сил и хлопнул ногами по луже. Ох, какой фонтан брызг разлетелся в разные стороны, выше моей головы. Снова и снова я подпрыгивал и шлепал по воде до тех пор, пока не заметил в кустах удивленное лицо соседки, которая, видно, была привлечена шумом с моего двора. Я смущенно ей подмигнул и побежал к дому.
Я взлетел на крыльцо, встряхнулся от воды, подобно собаке, и зашел в дом. Мокрые ноги оставляли следы на деревянных половицах. Доски приятно прилипали к ногам, дерево было теплое и живое. Я прошелся по комнате, подошел к печке, заглянул в топку: дрова прогорели, остались только одни черно-красные угли. Взял кочергу и стал разбивать и перемешивать их. От моих ударов разлетались искры, кое-где вспыхивал огонь, но тут же гас. Я убедился, что в печке не осталось головешек, которые могли дать угарный газ и закрыл дверцу топки, трубу и поддувало. Теперь можно забраться на лежанку и прогреть все свои косточки.
Вечерело. В комнату заползли сумерки, но я не стал зажигать лампу, а вытянулся на лежанке, и приятное тепло разлилось по всему телу. Я положил руку под голову и стал смотреть в потолок. Потолок был, как и пол, деревянный, только доски не покрашены краской, а покрыты лаком, поэтому все сучки и древесные линии складывались в причудливые узоры. Сучки казались мне глазами то ли животных, то ли людей. Я рассматривал их и слушал тиканье будильника. Будильник был еще бабушкин, старый, массивный, круглый, на небольших ножках. Циферблат был тоже большой, с крупными цифрами и длинными стрелками. Бабушка могла спать только под громкое тиканье будильника. «Тик-так-тик-так…» – равномерно стучали часы. От этого звука становилось так тихо и спокойно на душе, что я не заметил, как уснул.
Утром, еще до того момента как открыть глаза, я улыбнулся, и вчерашнее ощущение счастья вернулось ко мне снова. Я лежал с закрытыми глазами и прислушивался к шорохам: вот где-то над головой зашебуршала мышь, к этим звукам примешивался редкий стук капель, падающих с крыши, по-прежнему размеренно тикал будильник, слышалось громкое жужжание мухи на окне, по-видимому, тепло от печки заставило ее вылезти из укрытия, где она пряталась от непогоды. Все эти звуки сливались в тихую музыку умиротворения. Я долго прислушивался к ним, желая закрепить у себя привычку никуда не торопиться, а наслаждаться моментом.
Потом я открыл глаза и увидел, вернее, почувствовал по изменившемуся свету, который лился из окна, что вот-вот небо очистится от туч и выглянет солнце. Дождь уже перестал, только еще отдельные капли срывались с крыши, с веток деревьев, с листьев кустов. Я слез с лежанки и открыл дверь на веранду, чтобы вдохнуть свежий воздух. После дождя он был наполнен ароматом трав и цветов, прелых листьев и земли. Я дышал и не мог надышаться. Я впитывал его, как губка, всеми порами ощущая, как наполняется мое тело воздухом и становится как будто невесомым.
Затем я пошел завтракать, чай тоже показался мне сегодня необыкновенно ароматным и душистым, не таким как вчера, а может быть, это я стал по-новому ощущать запахи, вкусы, прикосновения? Не знаю, но это было здорово. Пока я наслаждался чаем, выглянуло солнце, и каждая травинка, листик, сучок, былинка вспыхнули яркими брызгами, как будто кто-то щедро рассыпал повсюду бриллианты…
Я снова вышел из дома и направился в сад. Я специально не стал надевать обувь, хотел ощутить ногами капли дождя. Босиком я медленно ступал по густой траве, по зарослям сныти, одуванчика. Капельки воды, сверкая, скатывались с травинок на мои босые ноги, холодили и освежали их, иногда пятку ожигала притаившаяся в траве крапива, порой я сам наступал на камешек, и он остро вонзался мне в ступню. Поэтому я осторожничал и прислушивался к своим ощущениям. Я часто останавливался и оглядывался по сторонам, пытаясь замечать мельчайшие детали.
Солнце начало пригревать землю, и отовсюду вылезли всевозможные букашки, жучки, бабочки, мухи, шмели и пчелы. Они занялись своими делами: кто-то пил воду из капелек на травинках и листиках, кто-то умывался, кто-то собирал нектар и пыльцу. Мне тоже захотелось какой-то деятельности, и я решил пойти на рыбалку, ради чего, собственно, и приехал. Я зашел в дом проверить свои рыболовные снасти, которые так и стояли в углу со времени моего приезда. Открыл сумку и вытащил эхолот, спиннинг, блесны, воблеры. Мне почему-то стало так странно видеть всю эту технику, показалось диким и неуместным то, что я хотел испробовать все эти приспособления на рыбалке.
Раньше мне всегда не давало покоя количество улова, я скрупулёзно высчитывал килограммы и граммы пойманной рыбы, я стремился поймать как можно больше, используя всевозможные хитрые способы ловли. Сейчас я вдруг понял, что это не важно. Важен сам процесс, важна гармония между озером, лодкой, удочкой, мной и рыбой.
Мне вспомнилось, что на чердаке была моя старенькая удочка с поплавком из винной пробки, с простым крючком и свинцовым грузилом.
Я запихнул все свои технические новинки обратно в сумку и полез на чердак. Там быстро обнаружил в углу удочку, отряхнул ее от пыли, осмотрел и убедился, что она была в полном порядке, слез с чердака и пошел копать червей. Сейчас очень удачное время, после дождя земля мягкая, напившаяся влаги, черви вылезают на поверхность и не прячутся глубоко в землю. Я походил в поисках места. Заметил, что в конце сада, за кустами растет лебеда, а это признак того, что земля здесь жирная, плодородная, такую землю любят черви. Там я и стал копать. Да, действительно, я не ошибся, черви попадались длинные и толстые, и я быстро набрал полбанки. Потом пошел к соседу попросить ключи от его лодки.
У меня была своя резиновая лодка, но мне хотелось порыбачить именно в настоящей, деревянной. А у соседа как раз и была такая, его дед был помором и умел хорошо делать лодки и не просто какие-нибудь плоскодонки, нет, настоящие килевые – черные от смолы, верткие, юркие, быстрые в ходу.
Сосед был дома и согласился дать мне ключи. Также он вынес мне два старых деревянных весла, и я пошел по тропинке вниз к озеру. Лодка, привязанная цепью к большому дереву на берегу, тихонько покачивалась на воде. Дождь наполнил ее водой, и я прежде всего снял полики, сделанные из деревянных реек, скользкие от ила, и стал вычерпывать воду обнаруженным в лодке детским ведерком. Потом снова уложил их на дно лодки, погрузил удочку, банку с червями, взял большой камень, обмотанный веревкой, служивший рыбакам якорем. Этим камнем пользовался любой желающий, и камень хранился на берегу, под деревом. Затем ключом открыл замок и отстегнул лодку от цепи, приподнял ее за нос и стал толкать от берега на глубину. Когда я почувствовал, что лодка свободно качается на воде и не задевает килем дно, я осторожно вскарабкался в нее. Сел на скамейку, вставил весла в уключины и медленно стал грести. Лодка легко заскользила между цветов кувшинок и лилий, сквозь густой тростник и вышла на чистую воду.
Я плыл вдоль берега, выискивая подходящее место для рыбалки. Озеро было неглубокое, сильно заросшее травой и водорослями, берега и дно илистые, и только середина оставалась чистой от травы. Мне понравилась тихая заводь, окруженная тростником. Я вытащил весла из уключин, убрал их под сиденье и тихонько опустил в воду камень. Лодка закачалась и стала медленно поворачиваться из стороны в сторону, удерживаемая якорем. Солнце уже поднялось над лесом и играло в воде множеством солнечных зайчиков.
Я неспеша размотал леску, насадил червя, отрегулировал глубину и закинул крючок в воду. Поплавок, как кукла-неваляшка, закачался на волнах. Я стал следить за ним. Он то покачивался из стороны в сторону, то останавливался на одном месте. Иногда любопытные стрекозы подлетали к поплавку, зависали над ним, трепеща крылышками, присаживались на кончик, сидели, качая брюшком вверх-вниз, и снова улетали. Рыба не клевала, но я сидел и умиротворенно смотрел на воду, слушал, как она тихонько стучит о дно лодки. Так провел я несколько часов, за все время поймав три рыбешки, две из которых я отпустил, потому что они были совершенно крохотными, а третью, плотвичку, подумав, тоже выпустил в воду, почему-то вспомнив старика из сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Довольный, я смотал удочку и поплыл домой. Затащил лодку на берег, обмотал цепь вокруг дерева, закрыл замок на ключ, взял весла и снасти. А червей высыпал на землю, пусть живут, банку же забрал с собой. И отправился вверх по тропинке к дому. Зашел к соседу, отдал ключи. На его вопрос «Ну как рыбалка?» молча поднял большой палец вверх и довольно улыбнулся. Сосед покосился на мои пустые руки и поднял брови. Я улыбнулся еще шире и, насвистывая, пошел к дому.
Дома я переоделся, выпил горячего чаю и стал собирать вещи, чтобы вернуться в город. Постоял задумчиво над своей сумкой со снастями, потом взял ее, перекинул через плечо и быстрым шагом вернулся к соседу. «Привет еще раз; слушай, посмотри, может тебе что-то пригодится из этого». Я поставил сумку к его ногам и повернулся к выходу. Сзади я услышал, как сосед удивленно присвистнул, открыв ее. Я не стал дожидаться расспросов и закрыл дверь за собой.
Дома я обошел все комнаты, проверяя, все ли в порядке, подержал в руках мамину книгу, хотел было уже сунуть ее в рюкзак, но потом передумал. Нет, пусть остается здесь, чтобы волшебство продолжалось. Выключил везде свет, закрыл дом и погрузил вещи в машину. Сел за руль, завел мотор, потом улыбнулся и выбрался наружу. Отпер дверь дома, полез на чердак, достал пачку детских рисунков, спустился и снова закрыл дом. Рядом с крыльцом собрал букет из трав, положил их на заднее сиденье рядом с рисунками, мигнул фарами и поехал в город.
Утром, лежа в кровати, я услышал методичный стук по карнизу: кап-кап-кап-кап. О, нет, только не это. Я мысленно застонал. Но это был он, собственной персоной – Дождь. Ну вот, все мои планы рухнули, накрылись медным тазом. А я так мечтал вырваться на эти два дня в деревню, в наш маленький, старенький, но такой уютный домик.
Зимними ночами частенько мне снился наш небольшой садик с яблонями и смородиновыми кустами, скамеечка рядом с крыльцом, бревенчатый дом с облезшей красно-коричневой краской на стенах, печка с лежанкой – наша гордость. Этот дом достался нам с женой после смерти моих дедушки с бабушкой. В детстве летом я часто приезжал сюда на каникулы.
А в последние годы мы стали бывать здесь редко, большей частью урывками, на пару дней; дел в городе становилось все больше и больше с каждым годом. Сейчас я вырвался в деревню один, чтобы никто мне не мешал вдоволь походить на рыбалку. Я считал себя заядлым рыбаком, отдавая дань вновь возродившейся моде на рыбную ловлю. Мне нравилось обсуждать с коллегами рыбацкие секреты и лихо жонглировать специальными словами: «воблер», «уокер», «глиссер», «даунриггер», «джиг». Я был в курсе всех новинок и старался их приобретать одним из первых.
И вот мне с большим трудом удалось оторваться ото всех дел и приехать в деревню на эти два дня. Да, я был горд собой, я легко, будто играючи, решил все текущие проблемы: жене привез запас продуктов на несколько дней; пополнил счета телефонов; с сыном провел беседу о достойном поведении, которое будет вознаграждено по моему приезду; дочери купил несколько электронных книг на Литрес; в общем, всем обеспечил беззаботную жизнь на время моего отсутствия. На работе тоже удачно отбился от текущих дел: что-то завершил, что-то подписал, что-то посмотрел, что-то отложил. И вот я здесь.
Единственной ложкой дегтя в этой идиллии являлся дождь, который никак в мои планы не входил и в мечтах не рассматривался.
Я вылез из-под одеяла и выглянул в окно – ну, так и есть, мои худшие предчувствия оправдались: небо полностью затянуто серой пеленой, нудно моросит мелкий затяжной дождик, ветер треплет мокрую листву на яблонях и кустах смородины. Похоже, что это надолго. Я пошел на кухню и поставил чайник на плиту, сел за стол и задумался. Что же делать? Ехать обратно в город? Но я знал, что там меня встретят сочувственные взгляды жены и ехидные ухмылки детей. Нет, не буду сдаваться, попробую найти выход из ситуации. Только жаль, что я не захватил с собой новый детектив, который купил на днях, но так еще и не приступил к чтению. Сейчас бы самое время его почитать.
И тут я вспомнил, что мы пару лет назад с женой выносили всякий хлам на чердак. Тогда мы еще сильно поругались, потому что я считал и считаю – глупо хранить всякое хламье. Но жена вцепилась в вещи мертвой хваткой и стояла насмерть. «Только через мой труп», – кричала она. «Это не дом, а сарай», – пытался я ее вразумить. Потом я пошел на компромисс: «Хорошо, давай еще раз взглянем на эти вещи и разумно оценим, стоит ли их хранить». Она с трудом согласилась выпустить из рук мешки с вещами.
Мы уселись поудобнее и стали вынимать одну вещь за другой. Вот пачка перевязанных ленточкой рисунков. Жена развязала тесемку и вытащила один: «Смотри, Коля, это я! Леночка с Сашей подарили мне на День матери». На рисунке был изображен головастик с круглыми голубыми глазами, с огромным красным ртом, в оранжевом платье с крупными синими горошинами по подолу и красными бусами на шее. «А вот это ты», – засмеялась жена и протянула мне следующий. Головастик, но уже в брюках и футболке, радостно улыбался и таращил черные глаза. «Это папа», – гласила надпись. Мы стали рассматривать все рисунки детей: вот семья празднует Новый год, вот мы в лесу, собираем грибы, тут мы катаемся на лыжах. Смешные человечки на бумаге явно были счастливы вместе. Да, такую память рука не поднимется выкинуть в мусор.
Потом из мешка на свет появилась маленькая шкатулочка, в ней хранились прядки волос детей, любовно завернутые в пакетики. Мы развернули обертки и потрогали волосики, такие мягкие и шелковистые, светленькие, а я и забыл, что у них были такие волосенки. Сейчас у дочки грива жестких густых темных волос, и у сына волосы потемнели и стали жестче. Шкатулочка тоже осталась. Мы также оставили чайные ложечки, которые были подарены на первые зубки детям, чашки с нашими именами и фотографиями, детские книжки. Мы долго сидели над каждой вещью, вспоминали, смеялись или грустили, и рука не поднялась выкинуть это в мусор. Жена была права. В итоге мы оставили все, а выкинули только старые счета за коммунальные платежи.
И вот сейчас, отхлебывая чай из чашки, я вспомнил, что среди прочих вещей там было несколько любимых книг моей мамы. Она их читала и перечитывала по многу раз. Она несколько раз пыталась мне рассказать о них, предлагала почитать, но мне все время было некогда, да и особого желания я не испытывал. Я увлекался детективами и все остальные жанры считал скучными. Но сейчас выбора у меня не было, и я полез на чердак. Обнаружил знакомый мешок на полке, обмахнул с него пыль и развязал веревку, которой он был перевязан. Бережно стал вынимать вещи: пачка детских рисунков, резная деревянная шкатулочка, а вот и мамины книги. Их было несколько, они были завернуты в бумагу. Я снял упаковку и достал их. Посмотрел на обложки книг, этих авторов я не знал, только одна фамилия мне была знакома: Честертон. Не тот ли это Честертон, который писал о сыщике – отце Брауне? Да, это он, Гилберт Кит Честертон. Вот эту книгу и почитаю. Я радостно потер руки: «Ну, дождь, держись!» Снова аккуратно сложил все вещи в мешок, перевязал его веревкой и убрал на полку. Взял книгу и спустился с чердака.
Мне захотелось устроить себе уютное гнездышко в кровати. Принес все пледы и одеяла, которые обнаружил в доме, собрал подушки. Из всего этого соорудил что-то наподобие мягкого ложа на своей постели. Потом пошел на кухню и стал готовить себе закуски. Я нацелился весь день провести в постели, не вставая и не отвлекаясь даже на приготовление еды. Сварил себе несколько порций крепкого кофе и залил его в литровый термос. Потом сделал гору бутербродов с сыром, колбасой, с маслом, нашел две старые пачки печенья в шкафчике. Развернул пачку, понюхал, подозрительно водя носом. Пахло, как ни странно, вкусно, я хмыкнул: «Вот что значат современные технологии». Печенье тоже прихватил с собой. Так, во всеоружии, я отправился на встречу с книгой «Человек жив» Честертона.
С первых страниц романа я понял, что это не детектив. Странный герой по имени Инносент Смит врывается с ураганным ветром в старый пансион «Маяк». И все ставит с ног на голову. Я не мог понять, нравится мне эта книга или нет, нравится мне этот герой или нет. Он был будоражащий, странный и парадоксальный. Он был так похож на ребенка. Вот что я прочитал: «Я уверен, что в его безумии есть система. Так и кажется, что он может вступить в сказочную страну, стоит ему только сделать шаг в сторону от гладкой дороги. Кто бы подумал об этом ходе на крышу? Кому бы пришло в голову, что дрянной, дешевый кларет может казаться очень вкусным здесь, на этой крыше, среди труб? Может быть, это и есть подлинный ключ к волшебному царству. Может быть, поганые, дешевые папироски Гулда надо курить только на ходулях или как-нибудь в этом роде. Может быть, холодная баранья нога, которою потчует нас миссис Дьюк, покажется очень аппетитной тому, кто сидит на вершине дерева...»
Я отложил книгу в сторону и задумался. Как точно сказано. Да, я помню это ощущение приключения и тайны. В детстве мы обожали походы – не важно куда, главное, чтобы с нами не было взрослых. Иногда летом в деревне, будучи у бабушки и дедушки на каникулах, мы уходили в дальние луга, где пасли коров. Там, на окраине луга, росли невысокие деревья ольхи, ветки которой очень легко было нам, детям, ломать. Мы строили большой, вместительный шалаш из этих веток и вдвоем или втроем забирались туда. Но самое волнующее, самое главное – кульминацией похода был пикник, время еды. Каждый из нас брал что-то съестное из дома, всю еду мы выкладывали в центре шалаша. Здесь были и бутерброды с маслом, и просто хлеб белый и черный, и свежие огурцы и редиска, и куски пирога, и колотый сахар. И бутыли с молоком. Каждый ел, что хотел. Молоко мы пили из горлышка, передавая бутылку по кругу. Вся еда казалась необыкновенно вкусной, мы ели и ели, подбирая даже упавшие крошки. Это была магия. Дома бабушке приходилось заставлять нас пить молоко, мы капризничали и говорили, что оно пахнет коровой, хлеб с маслом тоже не входил в число наших предпочтений. Но в шалаше эта обычая повседневная еда превращалась в изысканные блюда. Я и сейчас могу закрыть глаза и увидеть себя, мальчика, там, в шалаше, и ощутить вкус молока во рту.
Когда мы перестали ходить в походы? А строить шалаши? Пить молоко из бутылки? Давно. Я перебирал в памяти все места, где был с женой и друзьями, вспоминая изысканную французскую кухню, острую мексиканскую, необычную японскую. Да, непривычно, вкусно, интересно, но того детского восторга, смешанного с волшебством, я ни разу не ощутил в этих ресторанах.
Как-то постепенно и незаметно все стало обыденным, вот, например, чему я последнее время удивлялся? Я стал перебирать в памяти все события и моменты, происходящие дома и на работе. Конечно, удивлялся я много раз, но не радостно, а неприятно. Перед Новым годом, помню, очень неприятно удивился, когда узнал, что коллега получил премию гораздо больше моей, я тогда не только удивился, но и возмутился и дома метал громы и молнии.
Так… еще крайне неприятно удивился, когда обнаружил, что мой сын ростом ниже всех мальчиков в классе. Родителей пригласили на праздник в школу, и я увидел, что сын среди высоких и мощных одноклассников смотрится этаким тощеньким цыпленочком, дома я устроил жене по этому поводу скандал, почему она не следит за питанием и физическим развитием ребенка? Совсем недавно я удивился, опять же неприятно, когда мне юная школьница уступила место в автобусе. Я даже хотел ее отчитать, но потом застеснялся привлечь к себе внимание.
Да, но где же приятные удивления? Их не было или я не помню? Мне стало жутковато. Я вылез из своего гнездышка и нервно заходил по комнате. Так, так, ну как же, вот помню, как радовался совсем недавно, на работе. Тот коллега, который получил большую премию, забыл послать документы в министерство, и начальник его распекал на глазах у всех. Ох, как я радовался! Или вот другой случай, на днях я обрадовался в магазине, когда кассирша обсчиталась со сдачей и дала мне гораздо больше, чем следовало. Я не стал ей ничего говорить, сама виновата, нынешнее поколение совсем разучилось считать с этими современными технологиями.
Но это не то, совсем не то, что я хочу вспомнить. Это же иная радость, нужно вспомнить что-то светлое, невинное, доброе. Радостное удивление. Я остановился у окна и стал наблюдать за дождем, а сам отматывал и отматывал в уме годы в далекое прошлое.
Ну как же, вот я прекрасно помню случай, когда я был радостно удивлен. Мне было восемь или девять лет. Это было в деревне, летом. Я со своим другом пошел в прибрежный лесок у озера, вокруг которого и раскинулась наша деревня. Мы стали искать грибы среди могучих и старых осин на заросшей травой полянке у самой воды. Здесь всегда грибы появлялись первыми. Нам попалось несколько небольших и крепких подберезовиков и подосиновиков. И тут я случайно отошел в сторону и обнаружил в траве огромный гриб со шляпкой размером с десертную тарелку, на высокой прямой ножке. Я закричал от удивления и подозвал друга. Мы восклицали, хлопали руками, осматривали его со всех сторон. Потом я осторожно выкрутил мощную ножку гриба из земли, выкинул остальные грибы, и мы побежали к нашему дому показать взрослым этого гиганта. Я бежал, держал гриб высоко над головой и радостно смеялся от удивления.
Или помню охоту на майских жуков, опять же это было в детстве, в деревне, в начале лета. Вечером мы, ребята, собирались у старой высокой березы, терпеливо ждали, и каждый раз медленно пролетающий и низко гудящий жук вызывал у нас приступ удивления и ликования. Как приятно было бежать за ним и успеть хлопнуть ладошкой и сбить его в полете, а потом искать на земле и найти его, такого большого, светло-коричневого, с мохнатыми усиками, и усадить его в коробок из-под спичек. Затем мы весь вечер подносили к уху коробок и слушали шуршание и скрежет лапок о коробочку.
Я умел радостно удивляться! Правда, в детстве, но все же умел.
Я решительно направился в гостиную – сейчас затоплю печку и буду смотреть на огонь. Но только буду делать все по правилам, как учил меня мой дед, а не как обычно: впопыхах, торопясь и ругая печь, дрова, спички, жену и весь свет за то, что не получается быстро развести огонь.
Это целое искусство – разжечь дрова в печи при помощи только одной спички. Обычно мы, дети, да и взрослые изводили по пол-коробка спичек прежде, чем капризные дрова нехотя разгорались, и даже после этого огонь норовил потухнуть. Дедушка, когда еще был жив, смотрел на это безобразие и сердился.
И вот я стал колдовать над печью. Открыл вьюшку, проверил в зольнике. На всякий случай пошерудил там кочергой, выгребая золу из самых дальних углов. Потом неспеша, любовно рассматривая и поворачивая полено из стороны в сторону, выбрал подходящее и настругал большим длинным ножом тонкой и сухой лучины. Затем уложил лучину в центре топки и стал укладывать березовые дрова. Чтобы печь хорошо разгорелась, дрова должны быть сухими. Это основное правило. Самые лучшие дрова – березовые, они дружно горят и выделяют много тепла. Вторыми по качеству идут ольховые дрова – они тоже горят хорошо, но тепла от них немного меньше, чем от березовых поленьев. А на самом последнем месте – так называемый сухостой, это смешанные дрова, в основном сосна и елка, они дают много чада, засоряя трубу и печь черным нагаром.
У меня были самые лучшие – сухие березовые дрова. Я уложил их в печь, используя особенный секрет: дрова нужно укладывать ребром друг на друга, а не плашмя. Таким образом уложенные дрова позволяют огню зацепиться за каждое полено и ползти вверх, не потухая. Затем я прикрыл поддувало, чтобы не было сильного притока воздуха снизу, зажег спичку и поднес ее к кучке с лучинами. Лучинки вспыхнули и начали разгораться, я немного подождал, чтобы убедиться в том, что они не погаснут, закрыл дверцу топки и открыл дверцу поддувала снизу. Сразу же в печке загудело, это огонь стал набирать силу. Я, довольный тем, что у меня так ловко получилось разжечь печь, придвинул старое кресло поближе к огню, сел и стал смотреть. Язычки пламени плясали, становясь то ярко-желтыми, то оранжевыми, а иногда внутри ослепительно желтого огня мелькал голубоватый всполох, и с треском рассыпались искорки. Печка довольно гудела, потрескивала, разливая приятное тепло и аромат от дров. Я вдыхал воздух полной грудью, и голова моя слегка кружилась от этого запаха, вызывая в душе чувство счастливого блаженства.
Я долго так сидел, ни о чем не думая, желая продлить эти минуты как можно дольше. Как хорошо, когда не нужно никуда торопиться, спешить, бежать. Сейчас кажутся такими смешными и нелепыми мои склоки на работе, мои претензии к сыну и дочери, к жене, мои воображаемые радости и мои желания. Я вдруг ясно осознал, что именно сейчас я и живу полной жизнью, я наслаждаюсь каждой секундой, я чувствую и ощущаю единство с дождем, печкой, дровами, спичками, огнем, этим старым креслом, с этим запахом, что меня окружает. Это было так неожиданно и чудесно. Я хотел сохранить в себе это ощущение – да, это и есть настоящая жизнь. Я рассмеялся весело и легко. Спасибо, мама, за эту книгу! Ты вернула меня обратно в мое детство, к мальчишке по имени Колька, любознательному исследователю, который верил в чудеса.
«Теперь, друг мой Никола, мы будем всегда вместе, я тебя не забуду», – пообещал я себе, мальчику. Ну что, продолжим читать мамину книгу? Я сходил в спальню за ней, а также захватил кофе и бутерброды. Я реально ощущал в себе присутствие того, прошлого себя – мальчика из моего детства. И мне нравилось мысленно обращаться к нему.
Я погрузился в чтение. Книга позволяла вспомнить забытые истины, обратить внимание на то, что действительно важно.
«…Кит и в самом деле тут, возле дома, знайте это! – прокричал Смит, ударив кулаком по столу. – Держу пари, что вы никогда как следует и не осмотрели нашего жилья. Держу пари, что вы ни разу даже и не заглянули на задний двор. А я пошел туда сегодня утром и нашел как раз все, что, по вашим словам, растет лишь на дереве…»
«…На этом свете некогда мечтать и дремать», – отвечала молодая леди, повернувшись к нему спиной. – «Мне только что пришло в голову, – произнес Инглвуд, – что на этом свете некогда проснуться…»
«Ох, – выдохнул я и взъерошил волосы на голове, – а не пробежаться ли мне под дождем, как в детстве, а, Колька?» Мои глаза озорно заблестели, и я пошел к входным дверям, приоткрыл их и высунул нос наружу. Ветер швырнул мне в лицо охапку холодных дождевых капель. «Брр, ну и погодка, – сказал прежний ворчливый Николай, – так и простудиться недолго». «Да ну тебя, ты все ворчишь, а мы с Николашей хотим пробежаться», – ответил новый я.
Я храбро выскочил на крыльцо, постоял с минуту, потом стянул с себя рубашку и брюки, бросил их у порога, а сам босиком и в одних трусах выскочил под дождь. В первые секунды глаза мои чуть не выскочили из орбит от ледяных уколов, но вскоре студеные капли взбодрили меня, я подпрыгнул и стал неловко скакать по мокрой траве. Затем я вошел во вкус и из груди вырвался крик ликования: «Эээ -геее-гей!!!» Я бежал вокруг дома и размахивал руками. Вдруг на глаза мне попалась большая лужа, с которой я воевал уже который год, пытаясь засыпать ее песком, но она упорно не желала покориться и при первом же сильном дожде превращалась в небольшой пруд. «А что, если забраться в лужу, как в детстве?» – пришла мне в голову шальная мысль. Недолго думая, подбежал к луже и осторожно вошел в воду. Забытые с детства ощущения нахлынули на меня. Как приятно ощущать пальцами ног мягкую грязь на дне, она, как крем, обволакивала ступни. Я стоял посреди лужи и блаженно шевелил пальцами. А теперь – фейерверк! И я подпрыгнул что было сил и хлопнул ногами по луже. Ох, какой фонтан брызг разлетелся в разные стороны, выше моей головы. Снова и снова я подпрыгивал и шлепал по воде до тех пор, пока не заметил в кустах удивленное лицо соседки, которая, видно, была привлечена шумом с моего двора. Я смущенно ей подмигнул и побежал к дому.
Я взлетел на крыльцо, встряхнулся от воды, подобно собаке, и зашел в дом. Мокрые ноги оставляли следы на деревянных половицах. Доски приятно прилипали к ногам, дерево было теплое и живое. Я прошелся по комнате, подошел к печке, заглянул в топку: дрова прогорели, остались только одни черно-красные угли. Взял кочергу и стал разбивать и перемешивать их. От моих ударов разлетались искры, кое-где вспыхивал огонь, но тут же гас. Я убедился, что в печке не осталось головешек, которые могли дать угарный газ и закрыл дверцу топки, трубу и поддувало. Теперь можно забраться на лежанку и прогреть все свои косточки.
Вечерело. В комнату заползли сумерки, но я не стал зажигать лампу, а вытянулся на лежанке, и приятное тепло разлилось по всему телу. Я положил руку под голову и стал смотреть в потолок. Потолок был, как и пол, деревянный, только доски не покрашены краской, а покрыты лаком, поэтому все сучки и древесные линии складывались в причудливые узоры. Сучки казались мне глазами то ли животных, то ли людей. Я рассматривал их и слушал тиканье будильника. Будильник был еще бабушкин, старый, массивный, круглый, на небольших ножках. Циферблат был тоже большой, с крупными цифрами и длинными стрелками. Бабушка могла спать только под громкое тиканье будильника. «Тик-так-тик-так…» – равномерно стучали часы. От этого звука становилось так тихо и спокойно на душе, что я не заметил, как уснул.
Утром, еще до того момента как открыть глаза, я улыбнулся, и вчерашнее ощущение счастья вернулось ко мне снова. Я лежал с закрытыми глазами и прислушивался к шорохам: вот где-то над головой зашебуршала мышь, к этим звукам примешивался редкий стук капель, падающих с крыши, по-прежнему размеренно тикал будильник, слышалось громкое жужжание мухи на окне, по-видимому, тепло от печки заставило ее вылезти из укрытия, где она пряталась от непогоды. Все эти звуки сливались в тихую музыку умиротворения. Я долго прислушивался к ним, желая закрепить у себя привычку никуда не торопиться, а наслаждаться моментом.
Потом я открыл глаза и увидел, вернее, почувствовал по изменившемуся свету, который лился из окна, что вот-вот небо очистится от туч и выглянет солнце. Дождь уже перестал, только еще отдельные капли срывались с крыши, с веток деревьев, с листьев кустов. Я слез с лежанки и открыл дверь на веранду, чтобы вдохнуть свежий воздух. После дождя он был наполнен ароматом трав и цветов, прелых листьев и земли. Я дышал и не мог надышаться. Я впитывал его, как губка, всеми порами ощущая, как наполняется мое тело воздухом и становится как будто невесомым.
Затем я пошел завтракать, чай тоже показался мне сегодня необыкновенно ароматным и душистым, не таким как вчера, а может быть, это я стал по-новому ощущать запахи, вкусы, прикосновения? Не знаю, но это было здорово. Пока я наслаждался чаем, выглянуло солнце, и каждая травинка, листик, сучок, былинка вспыхнули яркими брызгами, как будто кто-то щедро рассыпал повсюду бриллианты…
Я снова вышел из дома и направился в сад. Я специально не стал надевать обувь, хотел ощутить ногами капли дождя. Босиком я медленно ступал по густой траве, по зарослям сныти, одуванчика. Капельки воды, сверкая, скатывались с травинок на мои босые ноги, холодили и освежали их, иногда пятку ожигала притаившаяся в траве крапива, порой я сам наступал на камешек, и он остро вонзался мне в ступню. Поэтому я осторожничал и прислушивался к своим ощущениям. Я часто останавливался и оглядывался по сторонам, пытаясь замечать мельчайшие детали.
Солнце начало пригревать землю, и отовсюду вылезли всевозможные букашки, жучки, бабочки, мухи, шмели и пчелы. Они занялись своими делами: кто-то пил воду из капелек на травинках и листиках, кто-то умывался, кто-то собирал нектар и пыльцу. Мне тоже захотелось какой-то деятельности, и я решил пойти на рыбалку, ради чего, собственно, и приехал. Я зашел в дом проверить свои рыболовные снасти, которые так и стояли в углу со времени моего приезда. Открыл сумку и вытащил эхолот, спиннинг, блесны, воблеры. Мне почему-то стало так странно видеть всю эту технику, показалось диким и неуместным то, что я хотел испробовать все эти приспособления на рыбалке.
Раньше мне всегда не давало покоя количество улова, я скрупулёзно высчитывал килограммы и граммы пойманной рыбы, я стремился поймать как можно больше, используя всевозможные хитрые способы ловли. Сейчас я вдруг понял, что это не важно. Важен сам процесс, важна гармония между озером, лодкой, удочкой, мной и рыбой.
Мне вспомнилось, что на чердаке была моя старенькая удочка с поплавком из винной пробки, с простым крючком и свинцовым грузилом.
Я запихнул все свои технические новинки обратно в сумку и полез на чердак. Там быстро обнаружил в углу удочку, отряхнул ее от пыли, осмотрел и убедился, что она была в полном порядке, слез с чердака и пошел копать червей. Сейчас очень удачное время, после дождя земля мягкая, напившаяся влаги, черви вылезают на поверхность и не прячутся глубоко в землю. Я походил в поисках места. Заметил, что в конце сада, за кустами растет лебеда, а это признак того, что земля здесь жирная, плодородная, такую землю любят черви. Там я и стал копать. Да, действительно, я не ошибся, черви попадались длинные и толстые, и я быстро набрал полбанки. Потом пошел к соседу попросить ключи от его лодки.
У меня была своя резиновая лодка, но мне хотелось порыбачить именно в настоящей, деревянной. А у соседа как раз и была такая, его дед был помором и умел хорошо делать лодки и не просто какие-нибудь плоскодонки, нет, настоящие килевые – черные от смолы, верткие, юркие, быстрые в ходу.
Сосед был дома и согласился дать мне ключи. Также он вынес мне два старых деревянных весла, и я пошел по тропинке вниз к озеру. Лодка, привязанная цепью к большому дереву на берегу, тихонько покачивалась на воде. Дождь наполнил ее водой, и я прежде всего снял полики, сделанные из деревянных реек, скользкие от ила, и стал вычерпывать воду обнаруженным в лодке детским ведерком. Потом снова уложил их на дно лодки, погрузил удочку, банку с червями, взял большой камень, обмотанный веревкой, служивший рыбакам якорем. Этим камнем пользовался любой желающий, и камень хранился на берегу, под деревом. Затем ключом открыл замок и отстегнул лодку от цепи, приподнял ее за нос и стал толкать от берега на глубину. Когда я почувствовал, что лодка свободно качается на воде и не задевает килем дно, я осторожно вскарабкался в нее. Сел на скамейку, вставил весла в уключины и медленно стал грести. Лодка легко заскользила между цветов кувшинок и лилий, сквозь густой тростник и вышла на чистую воду.
Я плыл вдоль берега, выискивая подходящее место для рыбалки. Озеро было неглубокое, сильно заросшее травой и водорослями, берега и дно илистые, и только середина оставалась чистой от травы. Мне понравилась тихая заводь, окруженная тростником. Я вытащил весла из уключин, убрал их под сиденье и тихонько опустил в воду камень. Лодка закачалась и стала медленно поворачиваться из стороны в сторону, удерживаемая якорем. Солнце уже поднялось над лесом и играло в воде множеством солнечных зайчиков.
Я неспеша размотал леску, насадил червя, отрегулировал глубину и закинул крючок в воду. Поплавок, как кукла-неваляшка, закачался на волнах. Я стал следить за ним. Он то покачивался из стороны в сторону, то останавливался на одном месте. Иногда любопытные стрекозы подлетали к поплавку, зависали над ним, трепеща крылышками, присаживались на кончик, сидели, качая брюшком вверх-вниз, и снова улетали. Рыба не клевала, но я сидел и умиротворенно смотрел на воду, слушал, как она тихонько стучит о дно лодки. Так провел я несколько часов, за все время поймав три рыбешки, две из которых я отпустил, потому что они были совершенно крохотными, а третью, плотвичку, подумав, тоже выпустил в воду, почему-то вспомнив старика из сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Довольный, я смотал удочку и поплыл домой. Затащил лодку на берег, обмотал цепь вокруг дерева, закрыл замок на ключ, взял весла и снасти. А червей высыпал на землю, пусть живут, банку же забрал с собой. И отправился вверх по тропинке к дому. Зашел к соседу, отдал ключи. На его вопрос «Ну как рыбалка?» молча поднял большой палец вверх и довольно улыбнулся. Сосед покосился на мои пустые руки и поднял брови. Я улыбнулся еще шире и, насвистывая, пошел к дому.
Дома я переоделся, выпил горячего чаю и стал собирать вещи, чтобы вернуться в город. Постоял задумчиво над своей сумкой со снастями, потом взял ее, перекинул через плечо и быстрым шагом вернулся к соседу. «Привет еще раз; слушай, посмотри, может тебе что-то пригодится из этого». Я поставил сумку к его ногам и повернулся к выходу. Сзади я услышал, как сосед удивленно присвистнул, открыв ее. Я не стал дожидаться расспросов и закрыл дверь за собой.
Дома я обошел все комнаты, проверяя, все ли в порядке, подержал в руках мамину книгу, хотел было уже сунуть ее в рюкзак, но потом передумал. Нет, пусть остается здесь, чтобы волшебство продолжалось. Выключил везде свет, закрыл дом и погрузил вещи в машину. Сел за руль, завел мотор, потом улыбнулся и выбрался наружу. Отпер дверь дома, полез на чердак, достал пачку детских рисунков, спустился и снова закрыл дом. Рядом с крыльцом собрал букет из трав, положил их на заднее сиденье рядом с рисунками, мигнул фарами и поехал в город.
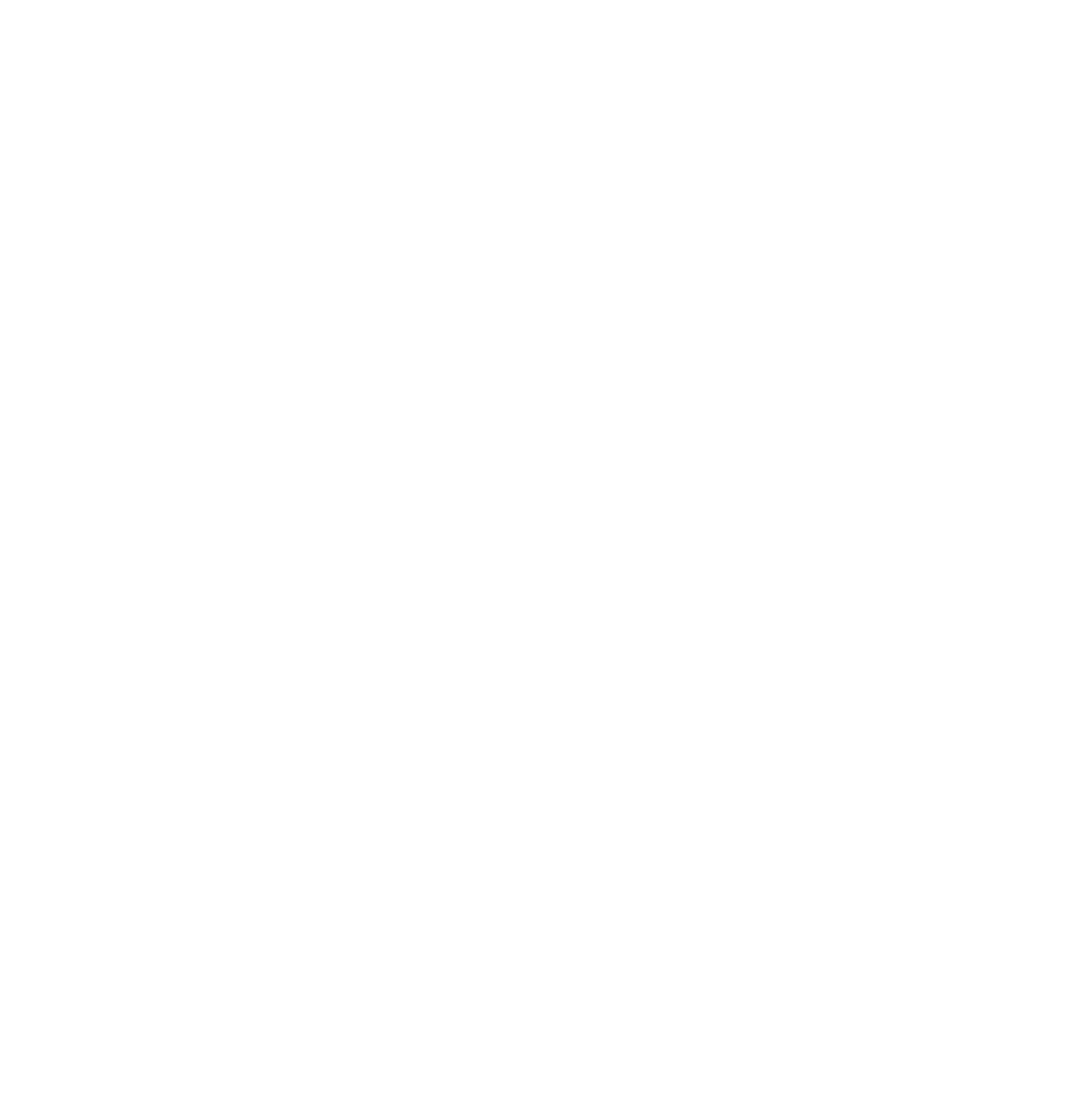
Василий МОРСКОЙ (Маслов)
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
АЛЕШКИНЫ ИСТОРИИ-2
Часть 1. Мохнатая и страшная
Семья Марковых, когда жила во Владивостоке, частенько выбиралась в ближние и дальние походы с большими и не очень родительскими компаниями вдоль побережья залива Петра Великого и на близлежащие острова. Один такой поход Алексей запомнил надолго.
Однажды летом они отправились в бухту Мелководную, однако это не в ту бухту Мелководную (их оказалось в Приморском крае несколько), которая была в Амурском заливе в получасе хода от Владивостока, а в ту дальнюю бухту Мелководную, расположенную в глухих местах Приморской тайги, куда по суше было не добраться и за неделю, где еще, по слухам, существовал рыбацкий поселок Мелководный и стояли останки заброшенного в прошлом веке небольшого рыбоперерабатывающего завода.
Туда по морю было почти восемь часов непростого морского перехода. Вот, собственно, куда всех потащил Евгений Хлуденев, закадычный друг Кирилла Маркова, собрав группу из четырех семей заводчан Владивостокского 275-го военного судоремонтного завода, всего с детьми – четырнадцать человек.
Поход начинался с погрузки на морской катер, который называли морским трамвайчиком. Алексей хорошо знал этот тип катеров, такие бегали по бухте Золотой Рог много лет, они выполняли роль основного морского транспорта, который перебрасывал людей из многочисленных бухточек и районов Владивостока в центр города. Они ходили очень часто и строго по расписанию. Когда Марковы жили на Русском острове, морские трамвайчики возили жен офицерского состава в город за покупками. В общем, это было очень удобно.
Ранним субботним утром вся компания с шутками и прибаутками грузилась на 36-м причале в такой морской трамвайчик с палатками, рюкзаками, кучей котомок, непромокаемыми баулами, где размещалась вся походная утварь и продукты. Семья Марковых была в полном составе вместе с верным Жаком, собакой неопределенной породы – как им сказали, помесь карликового пинчера с дворнягой, который вел себя соответственно моменту: суетился, погавкивал немного, но был очень рад неведомой ему прогулке.
Катер по расписанию отходил ровно в восемь утра и шел в поселок Преображение, который располагался в одноименной бухте; в пути было несколько остановок, в том числе и в бухте Мелководной. Путь был неблизкий, почти семьдесят морских миль, идти надо было почти шесть часов до Мелководной. На переходе все развлекались как могли, слонялись туда-сюда, взрослые играли в нарды, а дети – четверо мальчишек и две девчонки – то сидели на баке катера и любовались разлетающимися морскими брызгами от форштевня, то на юте, где собралось большинство пассажиров, и слушали чьи-то незамысловатые рыбацкие истории. Иногда все перекусывали бутербродами с вареной колбасой, и тогда Жак на потеху всему катеру выделывал разные фокусы «за колбасу».
Вообще, это была особенная собака. Когда мама Рита Маркина принесла его щенком домой на улицу Спортивную и спустила с рук на пол, он бодро побежал к открытому балкону и спрыгнул прямо с третьего этажа на улицу. Маркины ахнули, но, быстро опомнившись, Алексей побежал за собачкой на улицу. Песик лежал на боку, и на его черных собачьих глазах были слезы. Алексей бережно поднял его тельце и понес домой. Будучи серьезным человеческим врачом, мама Маркина осмотрела щенка, как могла. У него была травма левой задней ноги и вроде больше ничего. Оказалось, что у прошлых хозяев, которые жили в собственном доме, всегда была открыта задняя дверь на улицу, в сад, и пес ежедневно ходил таким образом гулять.
Через несколько дней Жак оклемался и начал сначала ходить, похрамывая, потом потихонечку бегать. Алексея он зауважал сразу и признал своим хозяином, наверное, за то, что он его спас на улице после падения. Он имел радикально черный с отливом окрас и гордую белую манишку, за что, наверное, и прозван был Жаком! Хвост ему прежние хозяева отрубили неудачно, и у него остался небольшой обрубок, которым он также показывал свои чувства радости и тревоги, служил, сидел и лежал по команде, был очень смышленым псом. Короче, Жак был овчаркой в миниатюре.
Наконец прибыли в бухту Мелководную. В связи с малой прибрежной глубиной, откуда и ее название, катер лег в дрейф посередине бухты и, гуднув два раза, стал ждать лодку с берега. Высаживалась только их компания из четырнадцати человек. За три захода моторка сняла с катера всех туристов с вещами, и катер, дав несколько коротких гудков, двинулся в Преображение.
Мужская часть группы, включая мальчишек, пошла искать место для размещения лагеря, а женщины пошли в прибрежный магазин докупить каких-нибудь местных продуктов.
К вечеру разбили лагерь, где размещались четыре семейные палатки и одна продуктовая, костровое место, оборудованное для приготовления пищи, сушилка и прочие хозяйственные места типа дровяного склада и т.д. Детей сразу определили собирать дрова, потому что сухие дрова являлись самым ценным материалом для приготовления пищи. Они натаскали кучу дров. Как стемнело, по лагерю дали команду ужинать. В компании, куда входила семья Марковых, было принято все делать по порядку, как у военных, хотя военных было всего двое – Кирилл, отец Алексея, и отец двух братьев Хлуденевых – Евгений; оба работали на заводе военпредами и любили покомандовать. Они были инициаторами лагерных дежурств, когда сутки дежурила пара, мужчина и женщина, а они могли себе выбрать в помощники дежурных какого-нибудь ребенка, но все должны быть из разных семейств, чтобы было интереснее и нескучно. В обязанности дежурных входило поддержание костра, приготовление пищи, мытье посуды, уборка территории лагеря.
Алексею это даже нравилось, хотелось почувствовать себя в другой семье, попробовать другие отношения. Конечно, детей надолго никто не задействовал, и они обычно были предоставлены сами себе. Они ловили рыбу на закидушку, но сначала надо было поймать, а, скорее, просто найти и вытащить мидии. В этом были специалисты Алексей и Димка Хлуденев. Они ныряли, благо, что глубина в бухте была совсем небольшая, и вытаскивали целые хвосты мидий, отрывая их от каменистого дна. Потом ракушки вскрывались ножом, и вся компания насаживала розовые внутренности и белые мускулы мидий на крючки. Леску с мощным грузилом на конце, это и была такая удочка-закидушка, забрасывали метров на сорок-пятьдесят в бухту. Камбала брала почти сразу, если наживка прилетала ей почти к носу, и потом сопротивлялась так, что, казалось, ты тащишь монстра килограммов на десять. Однако попадались прибрежные особи всего на кило-полтора, но это тоже были крупные «лапти», и они очень ценились. Обычно такая камбала вся целиком влезала на большую сковороду и тут же жарилась в масле на обед.
Попадалась и крупная красноперка, правда, реже, но, если она брала, тащить ее было легко, она почти всегда заглатывала наживку глубоко, уже не сопротивлялась и давала спокойно себя вытащить. Она шла, как правило, на уху, однако и жареная тоже была очень вкусная.
Дядя Женя Хлуденев смастерил из сетки бредень, и они с отцом Алексея сделали пробный заход метров с двадцати от берега, вдвоем протащили бредень и с трудом выволокли его прямо на берег. Оказалось, что среди кустов морской капусты, ракушек и всякого морского мусора было множество креветок, которых все называли «чилимами», они скакали с места на место, пришлось их всем скопом собирать в ведро, набралось прилично – с полведра. Дядя Женя развел костер прямо на берегу и поставил на него ведро с чилимами и морской водой. Через час с небольшим компания доставила в лагерь, ко всеобщему удовольствию, полведра красных вареных креветок.
Этот опыт выживания в родной природе Алексей запомнил на всю жизнь, хотя повторить ему это удалось всего несколько раз в жизни.
Поселок Мелководный, который располагался недалеко от бухты, был малонаселен – несколько дворов, почта, совмещенная с магазинчиком, и сельсовет. Алексей с ребятами облазили всю местность и набрели на заброшенное здание с надписью «Школа»; дальнейшее исследование привело их в школьный сад, где в сплошных зарослях крапивы и прочих сорняков висели уже спелые смородина, малина и крыжовник. На следующий день в школьный сад выдвинулась группа женщин со всеми детьми на сбор урожая, и лагерь на несколько дней был обеспечен свежей ягодой.
Так летели ночи и дни похода. Жак тоже был счастлив, как и его хозяева, носился целыми днями с Алексеем, ночами спал в ногах у Марковых у входа в палатку. Он нес свою службу строго, всегда рычал, если кто-то проходил мимо палатки, и охранял покой семьи очень чутко.
Однажды среди ночи Жак зарычал сначала громко, да так, что Кирилл с сыном проснулись, зашикали на него, мол, чего попусту шуметь, всех же разбудишь! Однако Алексей заметил, что Жак попятился на него задом, потом спрятался у Алексея под одеялом, и даже в темноте Алексей почувствовал, как трясется его маленькое тельце. Алексей сказал отцу, что псина чего-то испугалась, наверное, в темноте чего-то перепутала. Отец высунулся из палатки, покрутил головой туда-сюда.
– Посмотрю, может, кто чужой к лагерю приблизился. Да вроде никого! Давайте спать! – предложил всем снова укладываться спать.
Однако утром Алексей был разбужен громкими разговорами взрослых, вылез из палатки и увидел, как все разглядывают на земле возле костра и палаток кучу странных следов. Потом оказалось, что продовольственный склад их разграблен, выпотрошена полностью кастрюля со вчерашним вареным мясом для супа и разорван мешок с копченой колбасой, везде были следы большой лапы, почти собачьей.
Алексей спросил:
– Какая-то огромная собака, что ли, здесь похозяйничала?
Взрослые переглядывались загадочно и помалкивали. Потом папы Кирилл, Евгений и Владимир, самые старшие из мужчин, ушли в поселок, а отец Виктории, второй девчонки в их детской компании, Виктор Павлович, тихо сказал:
– Ой, ребята, боюсь, это посерьезнее будет даже медведя! Это, похоже, тигриная лапа везде отпечатана.
И тут Алексей вспомнил, как испугался чего-то или кого-то его Жак, как тряслось его тельце. Уссурийский тигр! Неужели он нами заинтересовался?! Мужчины, уходя, строго-настрого приказали никому не покидать лагерь, развести костер посильнее и ждать их возвращения!
В тот день все были очень возбуждены, график дежурств сломался, мама Алексея с Людмилой готовили еду на всех, рыбалка была отменена, отсиживались вокруг костра и тревожно обсуждали новость. Мужчины вернулись из поселка: оказалось, дня два назад тигр задрал в деревне козленка на свободном выгуле, наследил много, поэтому из района вызвали специалистов, которые порекомендовали всю живность убрать в дома и не выходить по ночам. Сказали, что тигр обычно летом не нападает на человека, еды ему хватает, однако здесь был случай неординарный. Следующий день провели в тревоге, днем прибыл катер пограничников, все собрались в поселке на собрание. Оказалось, что совсем недавно была задержана японская шхуна в территориальных водах России, в трюме был обнаружен большой уссурийский тигр. Шхуна была арестована, и на следствии было выяснено, что второго тигра они не смогли поймать и усмирить, тигр ранил японского охотника, ударил его лапой прямо в лицо, не подпускал никого к себе, а только лизал кровь и выедал лицо незадачливого японца, после чего скрылся в чащобе. Пограничники предупредили, что тигр, попробовав человечины, может напасть снова.
Среди детского коллектива моментально возникла идея поставить острые деревянные колы вокруг лагеря и дежурить по ночам, однако дядя Женя Хлуденев показал кулак и громко сказал:
– К сожалению, риск очень большой, тигр может вернуться в лагерь, будем собираться домой, завтра рейсовый катер нас заберет отсюда во Владивосток!
Ночью мужчины дежурили по двое с топорами и факелами у костра, ночь была тревожной и тягостной. Алексей с ребятами выпросили разрешение ночевать в одной палатке и не спали, обсуждали возможные варианты развития событий. Неожиданно совсем рядом, как им казалось, где-то за ближними кустами, раздался громкий выстрел, мощный звериный рык, затем второй выстрел и третий, послышался шум ломающихся веток, потом все затихло. Сашка с Димкой выскочили из палатки, снаружи оказались уже все мужчины, крикнули Алексея и Серегу. Алексей сидел с Жаком, позвал его:
– Пошли, Жак, гулять, пошли!
Однако собака сидела как вкопанная, не двигаясь с места ни на миллиметр.
Ребята примкнули к костру. Уже небо посерело, было полпятого утра. Сидели молча, пили чай с бутербродами, смотрели на огонь; медленно наступало утро, никто, конечно, не спал. Когда начало рассветать, неожиданно на тропе появились две фигуры в плащ-палатках, в одном узнали местного милиционера, а второй был незнаком, в спецодежде на ремнях и с оружием.
– Всех приветствуем! Отбой тревоге! Вот спецы работали ночью, поступило разрешение уничтожить зверя. Мы сразу к вам, предупредить, что опасность миновала, зверя уже увезли в Преображение на охотбазу познакомить собак, ну и всем охотникам показать! Так что можете спать спокойно! – местный участковый, улыбаясь, хлебнул предложенного чайку, снял фуражку и вытер пот со лба.
– Вот, знакомьтесь: Виктор, профессиональный охотник, зверобой.
Виктор молча пожал мужчинам руки, от чая отказался. Минут через пять встал, показывая всем своим видом занятость, и коротко бросил:
– Приятного отдыха; пошли, Михалыч, времени нет!
Обе фигуры почти бесшумно удалились по тропе в ближний лесок. Тут женщины наперебой начали обсуждать, что, мол, другого способа не было, обязательно убивать надо было? На что отец Алексея веско сказал: не нам судить, они специалисты, зверобои, благодаря им мы можем отдыхать дальше по расписанию еще четыре дня.
Ну какой тут отдых! Взрослые наперебой начали обсуждать варианты, однако дядя Женя Хлуденев просто сказал:
– Давайте проголосуем. Дети не считаются!
На что мальчишки хором заорали: как не считаются, они тоже будут голосовать. Вылезли из палатки две девчонки – Виктория и сестра Алексея Людмила с вопросами: что здесь происходит? Марков-старший сказал как отрезал:
– Эй, ну-ка цыц! Когда будете самостоятельно зарабатывать, тогда и голосовать будете!
В общем, конечно, проголосовали за отъезд сегодня, как и договаривался Хлуденев-старший, а это означало, что в 15:00 надо грузиться на моторную лодку от причалов поселка. Все приуныли, а потом как-то успокоились, начали собираться, ломать палатки (то есть собирать их, снимать крепления), собирать рюкзаки и баулы, сворачивать лагерь, даже Жак вдруг появился и начал скакать от радости, что пошла какая-то движуха. Как будто он понял слова участкового, что его лютый враг теперь повержен и можно выходить из укрытия.
Когда Алексей с отцом сломали их палатку, в так называемой прихожей задрался палаточный полик и на влажной земле открылся отпечаток тигриной лапы – огромной, страшной. Жак вдруг прыгнул на этот след и громко залаял, пригнув задние лапы, вздыбив шерсть на загривке. Отец Алексея громко сказал:
– Смотрите, он все-таки здесь был! Как я зверюгу эту не заметил, я же вылезал осмотреться из палатки! Фу, Жак, кончай лаять, его уже нет!
– Господи, как он только в вашу палатку не залез?! – тут же запричитали женщины, только мама Рита Маркова молчала, ее глаза, широко раскрытые, говорили сами за себя: мол, просто слов нет!
Уже на катере обстановка разрядилась, и Кирилл Константинович много шутил, собравшиеся громко смеялись, туристы угощали пассажиров вареными чилимами, которых оставалось еще много с позавчерашней ловли. Алексей сидел в кожаном кресле в салоне для пассажиров, а Жак забрался ему на колени, время от времени поднимал голову и смотрел ему прямо в глаза, как бы говоря: «Я же не очень виноват? Я очень испугался? Ну, ты видел, какая лапища отпечаталась?» Алексей гладил собаку по голове и говорил:
– Ты хороший пес, хороший, ведь ты его отпугнул своим лаем, а то бы он еще и отца нашего задрал!
Часть 2. Аут
Вообще, семья Марковых была очень спортивная, все ходили на лыжах, катались на коньках, у отца были старые беговые коньки, на которых он любил гонять на катке стадиона СКТОФ, что был совсем рядом с их домом на улице Спортивной.
Летом ходили в походы и почти каждое воскресенье, когда получалось, всей семьей – и папа, и мама Рита с Алексеем и маленькой Людмилой – играли в бадминтон на специальных спортивных площадках – кортах. Алексея научили играть почти с четырех-пяти лет, ставили на корт в пару, конечно, с отцом, который играл лучше всех. Папа Марков всем натягивал струны на ракетки, наматывал специальную кожу на рукоятки и особое внимание уделял воланам. Его воланы имели натуральное оперение, они очень ровно летали и очень ценились всеми игроками в бадминтон. Где он их доставал, было его фирменным секретом.
Играли в большой компании друзей семьи по воскресеньям на кортах пансионата «Океанский». Обычно приезжали туда рано утром на электричке на станцию Океанская, по дороге в пансионат покупали свежайшие, только-только из кипящей масляной ванны чебуреки на перекус и шли пешком на территорию пансионата. Было несколько семейных пар, приезжавших пораньше на машинах, они уже были на месте и встречали шумно. Все обнимались, как добрые друзья, перекидываясь шуточками, готовили площадки, неторопливо переодевались в спортивную форму, разминались, пили утренний чай и кофе из термосов.
Площадок-кортов для бадминтона всего было две, но сделаны они были очень качественно. Надо было только размести мусор и листья, подтянуть сетки, если было необходимо, и начиналась игра. Играли часа два-три, менялись парами, играли и одиночные партии, отец играл очень неплохо, на самом деле – лучше всех. Когда он вставал в пару с Алексеем, они всегда выигрывали. На корте ни друзей, ни сыновей уже не было, и папа Марков строго ему выговаривал, когда Алексей пропускал воланы или играл в аут. На кортах спорили до хрипоты, когда воланчик падал на линию или очень близко к ней, то есть «аут» был или «поле». Зато потом, после игры, красные и потные, долго обсуждали классные удары и промахи, свои и чужие.
Почему родителями был выбран бадминтон, Алексей не знал, но ему этот спорт нравился, и он с удовольствием познавал все тонкости этой игры. Отец иногда предлагал ему играть одиночку, однако долгое время шансов у Алексея на выигрыш у отца не было.
Отец учил его тактике, учил разным ударам. Шло время, Алексей постепенно набирался сил. Как-то, когда ему было уже двенадцать, он впервые выиграл одиночную партию у старинного друга семьи Марковых – врача-педиатра Семена Аркадьевича Пучинина, человека, которому было уже за сорок, с небольшим животиком, но очень быстрого и тонко чувствующего игру. За него всегда очень эмоционально болела его супруга, двадцатисемилетняя красавица с красивыми ногами и пухлыми губами. Алексей слышал, как его родители обсуждали его супругу Надежду за ее вздорный и ворчливый характер, что сама не играет, даже никогда не пробовала, а мужа всегда активно критикует и делает это при всех, и что такой неравный брак до добра не доведет.
Вот и тогда она кричала:
– Ну давай же, толстяк, тебя гоняет мальчишка!
Семен Аркадьевич очень расстраивался, нервничал и проигрывал подачу за подачей.
– Ты вообще играть не умеешь, что ли?! – Надежда вскакивала со скамейки и подходила близко к корту.
– Наденька, ну что ты так переживаешь, я же стараюсь! Наверное, сегодня не мой день, – извиняющимся тоном говорил Семен Аркадьевич.
Алексей ухватил в тот день свою тактику игры с Семеном и гонял его по корту из угла в угол. Пару раз получилось пробить мертвые смэши (сильный и резкий удар сверху вниз по высокому волану), которые Семен Аркадьевич даже не пытался взять. Алексей почувствовал в себе новые силы, которые, по-видимому, означали его новую форму готовности. После логичной победы он пожал руку Семену Аркадьевичу и сказал от души:
– Большое вам спасибо, извините, если что…
– Брось, Лешка, ты сегодня играл просто очень сильно! Молодец! – сказал Семен Аркадьевич, собрал вещи и быстрой походкой пошел на выход из парка. Надежда засеменила своими красивыми ножками в короткой юбке за ним, не поспевая.
– Расстроился Семен! – сказал папа Алексея.
– Да, похоже, недолго они будут вместе! – добавила мама Рита и пригласила Алексея в пару играть против отца с его коллегой по заводу Евгением Хлуденевым. Тогда они с мамой проиграли, но Алексей так выложился в партии с Семеном, что у него тряслись руки и потерялась точность.
На очередные выходные в конце августа стояла жаркая летняя погода, было, как водится во Владивостоке летом, очень влажно. Собрались опять на Океанскую в бадминтон. Когда пришли на корты, оказалось, что приехали только Хлуденевы и Марковы, Семен Аркадьевич так и не появился. Кирилл Константинович предложил всем поразмяться и поиграть турнир одиночных партий. На том и порешили. Мама Рита играть отказалась, сказала, что будет судьей. Таким образом, играли Алексей, его отец Кирилл, Хлуденев-старший и его жена Ирина. Братья Хлуденевы, Димка и Сашка, были друзьями Алексея, не играли в бадминтон и болели, конечно, за него и немного – за своего папочку.
Начали играть. Первые партии показали силу Кирилла Маркова, он вынес и дядю Женю Хлуденева, и его жену, причем довольно легко. Играли по три партии до 15 очков. По жребию Алексей первую игру играл с Хлуденевым-старшим. Он настраивался очень долго и потом, применяя тактику игры с Семеном Аркадьевичем, начал бодро выигрывать подачу за подачей. Однако Евгений Иванович не хотел сдаваться просто так и начал сопротивляться, переигрывая Алексея на своих подачах. Когда счет по партиям сравнялся и стал 1:1, начали короткую «контровую», то есть решающую партию до 11 очков. Димка с Сашкой бесновались на скамейке и орали при каждом очке и у Алексея, и у их отца. Алексей вытащил ее на кураже 11:7. Евгений Иванович сказал, пожав ему руку:
– Ну все, Лешка, ты стал настоящим бойцом! Поздравляю!
Алексей пожал протянутую руку до хруста в ладони и только кивнул: спасибо! Потом посмотрел на отца, который набивал воланчик в вертикальном полете и, казалось, не смотрел даже на корт. Дальше Алексей должен был играть с отцом, а потом – с Ириной Хлуденевой. Неожиданно Кирилл Марков предложил:
– Может, вы сыграете с Ириной не по очереди, пока я схожу в туалет в санаторный корпус?
Алексей вдруг заартачился, он, конечно, хотел сохранить силы для сражения с отцом, а Ирина поддержала:
– Ну сколько тебя не будет? Подождем, пусть Лешка отдохнет!
Мама Рита Маркова тоже высказалась за Алексея, и отец ушел. Его не было довольно долго. Дядя Женя предложил Алексею, чтобы совсем не остыть, постучать смэшем по его длинным навесным подачам, что Алексей и делал вплоть до прихода отца.
Начали играть, и Алексей проиграл первую партию 11:15. Он сильно расстроился и решил посидеть с мамой на скамейке и подышать. Она сказала ему тихим голосом:
– Успокойся, сегодня ты выиграешь.
Во второй партии Алексей вел в счете несколько раз и выиграл уже по схеме «на больше - меньше» 16:14! Пошла третья партия, и отец вдруг стал нервничать и несколько раз громко оспаривал свои удары в аут:
– Да я попал в поле, вы что, не видели?! Ну посмотрите на точку отскока! Вот же – упал в поле, мое очко!
Все собирались в месте падения воланчика и всматривались в точку отскока. Пару раз отец выспорил, а Алексей был уверен в ауте, он смотрел на точку падения волана и видел, что был аут. Иногда отец со скрипом соглашался с мнением большинства. Алексей негромко предложил: может, пусть дядя Женя Хлуденев встанет и посудит? Хлуденев согласился, отец немного поворчал, но игра продолжилась. Алексей вел в счете 9:4, ситуация накалялась, и отец спорил теперь при каждом неявном падении волана.
При счете 10:5 отец Марков подавал и выигрывал, потом давил подачу Алексея, доведя счет до 10:10. Теперь Алексей был разобран – ведь так близко был к своей первой победе над отцом и вот тебе на! Начали играть на больше - меньше, счет 11:11, потом 12:12, 13:13,14:14! При счете 15:14 в пользу Алексея ему выпало подавать, и он подал неожиданно высокую дальнюю навесную подачу. Отец вынужден был отступить несколько шагов назад и с трудом отбил ее, как в это время Алексей уже был готов и сыграл сильнейший смэш в угол. Волан упал прямо на линию (считается в поле) и отвалился в сторону. Алексей поднял ракетку вверх и заорал:
– Партия! Я выиграл!
Отец же заорал:
– Аут! Аут!
А Хлуденев спокойно произнес:
– Поле! Партия! Игра за Алексеем Марковым!
У Алексея запершило в горле, голос сразу сел, он понял, что выиграл и выиграл у кого – у самого отца!
– Был аут! Все видели! – отец апеллировал к зрителям, которые тоже занервничали и орали каждый свое. Все сбежались смотреть отметку волана на половину корта к Маркову-отцу. Алексей крикнул, что точно видел, что волан попал в площадку, а точнее, в линию, что одно и то же! Он просипел это в общем шуме, но никто на это не обратил внимания. Создалась невообразимая суматоха. Хлуденев громко сказал, что если его выбрали судьей, то обязаны его слушаться. Он считает Алексея победителем этой встречи. Но отец Марков кричал, что отметки волана нету, поэтому спорный мяч и надо переиграть подачу. Видно было, что он ни за какие коврижки не признает поражение от сына.
Алексей на переигровку не соглашался, а дядя Женя, видимо, не желая портить отношения с отцом, отказался дальше судить и сел на скамейку; отец протянул волан Алексею и коротко бросил:
– Давай подавай, ну спорный мяч же!
Алексей чуть не заплакал, заслуженная победа не получилась. Слезы брызнули из глаз. Делать нечего, пришлось подавать еще раз. Он подал, отец сразу забил в угол первым же ударом, Алексей уже не мог реагировать.
– 15:15, продолжаем на больше - меньше! – настроение у отца Маркова поднялось!
– Ребята, предлагаю записать ничью, – мама Рита пыталась сгладить конфликт.
– Нет! Играем дальше, до победного!
В голосе отца Алексей уловил знакомые стальные нотки, и у него все как-то враз расстроилось! Он не взял подачу отца и проиграл свою. Не пожимая его руки, он пошел к скамейке, у него потекли слезы ручьем, он сел, опустив голову.
– А я говорю, был аут! – Кирилл Константинович упаковал ракетки в чехол и, взяв спортивную сумку, пошел в корпус принимать душ и переодеваться. Продолжать турнир после этого уже не стали, разъехались по домам. Больше они в бадминтон не играли, а через год Алексей поступил в Суворовское училище и уехал из родительского дома насовсем.
Часть 1. Мохнатая и страшная
Семья Марковых, когда жила во Владивостоке, частенько выбиралась в ближние и дальние походы с большими и не очень родительскими компаниями вдоль побережья залива Петра Великого и на близлежащие острова. Один такой поход Алексей запомнил надолго.
Однажды летом они отправились в бухту Мелководную, однако это не в ту бухту Мелководную (их оказалось в Приморском крае несколько), которая была в Амурском заливе в получасе хода от Владивостока, а в ту дальнюю бухту Мелководную, расположенную в глухих местах Приморской тайги, куда по суше было не добраться и за неделю, где еще, по слухам, существовал рыбацкий поселок Мелководный и стояли останки заброшенного в прошлом веке небольшого рыбоперерабатывающего завода.
Туда по морю было почти восемь часов непростого морского перехода. Вот, собственно, куда всех потащил Евгений Хлуденев, закадычный друг Кирилла Маркова, собрав группу из четырех семей заводчан Владивостокского 275-го военного судоремонтного завода, всего с детьми – четырнадцать человек.
Поход начинался с погрузки на морской катер, который называли морским трамвайчиком. Алексей хорошо знал этот тип катеров, такие бегали по бухте Золотой Рог много лет, они выполняли роль основного морского транспорта, который перебрасывал людей из многочисленных бухточек и районов Владивостока в центр города. Они ходили очень часто и строго по расписанию. Когда Марковы жили на Русском острове, морские трамвайчики возили жен офицерского состава в город за покупками. В общем, это было очень удобно.
Ранним субботним утром вся компания с шутками и прибаутками грузилась на 36-м причале в такой морской трамвайчик с палатками, рюкзаками, кучей котомок, непромокаемыми баулами, где размещалась вся походная утварь и продукты. Семья Марковых была в полном составе вместе с верным Жаком, собакой неопределенной породы – как им сказали, помесь карликового пинчера с дворнягой, который вел себя соответственно моменту: суетился, погавкивал немного, но был очень рад неведомой ему прогулке.
Катер по расписанию отходил ровно в восемь утра и шел в поселок Преображение, который располагался в одноименной бухте; в пути было несколько остановок, в том числе и в бухте Мелководной. Путь был неблизкий, почти семьдесят морских миль, идти надо было почти шесть часов до Мелководной. На переходе все развлекались как могли, слонялись туда-сюда, взрослые играли в нарды, а дети – четверо мальчишек и две девчонки – то сидели на баке катера и любовались разлетающимися морскими брызгами от форштевня, то на юте, где собралось большинство пассажиров, и слушали чьи-то незамысловатые рыбацкие истории. Иногда все перекусывали бутербродами с вареной колбасой, и тогда Жак на потеху всему катеру выделывал разные фокусы «за колбасу».
Вообще, это была особенная собака. Когда мама Рита Маркина принесла его щенком домой на улицу Спортивную и спустила с рук на пол, он бодро побежал к открытому балкону и спрыгнул прямо с третьего этажа на улицу. Маркины ахнули, но, быстро опомнившись, Алексей побежал за собачкой на улицу. Песик лежал на боку, и на его черных собачьих глазах были слезы. Алексей бережно поднял его тельце и понес домой. Будучи серьезным человеческим врачом, мама Маркина осмотрела щенка, как могла. У него была травма левой задней ноги и вроде больше ничего. Оказалось, что у прошлых хозяев, которые жили в собственном доме, всегда была открыта задняя дверь на улицу, в сад, и пес ежедневно ходил таким образом гулять.
Через несколько дней Жак оклемался и начал сначала ходить, похрамывая, потом потихонечку бегать. Алексея он зауважал сразу и признал своим хозяином, наверное, за то, что он его спас на улице после падения. Он имел радикально черный с отливом окрас и гордую белую манишку, за что, наверное, и прозван был Жаком! Хвост ему прежние хозяева отрубили неудачно, и у него остался небольшой обрубок, которым он также показывал свои чувства радости и тревоги, служил, сидел и лежал по команде, был очень смышленым псом. Короче, Жак был овчаркой в миниатюре.
Наконец прибыли в бухту Мелководную. В связи с малой прибрежной глубиной, откуда и ее название, катер лег в дрейф посередине бухты и, гуднув два раза, стал ждать лодку с берега. Высаживалась только их компания из четырнадцати человек. За три захода моторка сняла с катера всех туристов с вещами, и катер, дав несколько коротких гудков, двинулся в Преображение.
Мужская часть группы, включая мальчишек, пошла искать место для размещения лагеря, а женщины пошли в прибрежный магазин докупить каких-нибудь местных продуктов.
К вечеру разбили лагерь, где размещались четыре семейные палатки и одна продуктовая, костровое место, оборудованное для приготовления пищи, сушилка и прочие хозяйственные места типа дровяного склада и т.д. Детей сразу определили собирать дрова, потому что сухие дрова являлись самым ценным материалом для приготовления пищи. Они натаскали кучу дров. Как стемнело, по лагерю дали команду ужинать. В компании, куда входила семья Марковых, было принято все делать по порядку, как у военных, хотя военных было всего двое – Кирилл, отец Алексея, и отец двух братьев Хлуденевых – Евгений; оба работали на заводе военпредами и любили покомандовать. Они были инициаторами лагерных дежурств, когда сутки дежурила пара, мужчина и женщина, а они могли себе выбрать в помощники дежурных какого-нибудь ребенка, но все должны быть из разных семейств, чтобы было интереснее и нескучно. В обязанности дежурных входило поддержание костра, приготовление пищи, мытье посуды, уборка территории лагеря.
Алексею это даже нравилось, хотелось почувствовать себя в другой семье, попробовать другие отношения. Конечно, детей надолго никто не задействовал, и они обычно были предоставлены сами себе. Они ловили рыбу на закидушку, но сначала надо было поймать, а, скорее, просто найти и вытащить мидии. В этом были специалисты Алексей и Димка Хлуденев. Они ныряли, благо, что глубина в бухте была совсем небольшая, и вытаскивали целые хвосты мидий, отрывая их от каменистого дна. Потом ракушки вскрывались ножом, и вся компания насаживала розовые внутренности и белые мускулы мидий на крючки. Леску с мощным грузилом на конце, это и была такая удочка-закидушка, забрасывали метров на сорок-пятьдесят в бухту. Камбала брала почти сразу, если наживка прилетала ей почти к носу, и потом сопротивлялась так, что, казалось, ты тащишь монстра килограммов на десять. Однако попадались прибрежные особи всего на кило-полтора, но это тоже были крупные «лапти», и они очень ценились. Обычно такая камбала вся целиком влезала на большую сковороду и тут же жарилась в масле на обед.
Попадалась и крупная красноперка, правда, реже, но, если она брала, тащить ее было легко, она почти всегда заглатывала наживку глубоко, уже не сопротивлялась и давала спокойно себя вытащить. Она шла, как правило, на уху, однако и жареная тоже была очень вкусная.
Дядя Женя Хлуденев смастерил из сетки бредень, и они с отцом Алексея сделали пробный заход метров с двадцати от берега, вдвоем протащили бредень и с трудом выволокли его прямо на берег. Оказалось, что среди кустов морской капусты, ракушек и всякого морского мусора было множество креветок, которых все называли «чилимами», они скакали с места на место, пришлось их всем скопом собирать в ведро, набралось прилично – с полведра. Дядя Женя развел костер прямо на берегу и поставил на него ведро с чилимами и морской водой. Через час с небольшим компания доставила в лагерь, ко всеобщему удовольствию, полведра красных вареных креветок.
Этот опыт выживания в родной природе Алексей запомнил на всю жизнь, хотя повторить ему это удалось всего несколько раз в жизни.
Поселок Мелководный, который располагался недалеко от бухты, был малонаселен – несколько дворов, почта, совмещенная с магазинчиком, и сельсовет. Алексей с ребятами облазили всю местность и набрели на заброшенное здание с надписью «Школа»; дальнейшее исследование привело их в школьный сад, где в сплошных зарослях крапивы и прочих сорняков висели уже спелые смородина, малина и крыжовник. На следующий день в школьный сад выдвинулась группа женщин со всеми детьми на сбор урожая, и лагерь на несколько дней был обеспечен свежей ягодой.
Так летели ночи и дни похода. Жак тоже был счастлив, как и его хозяева, носился целыми днями с Алексеем, ночами спал в ногах у Марковых у входа в палатку. Он нес свою службу строго, всегда рычал, если кто-то проходил мимо палатки, и охранял покой семьи очень чутко.
Однажды среди ночи Жак зарычал сначала громко, да так, что Кирилл с сыном проснулись, зашикали на него, мол, чего попусту шуметь, всех же разбудишь! Однако Алексей заметил, что Жак попятился на него задом, потом спрятался у Алексея под одеялом, и даже в темноте Алексей почувствовал, как трясется его маленькое тельце. Алексей сказал отцу, что псина чего-то испугалась, наверное, в темноте чего-то перепутала. Отец высунулся из палатки, покрутил головой туда-сюда.
– Посмотрю, может, кто чужой к лагерю приблизился. Да вроде никого! Давайте спать! – предложил всем снова укладываться спать.
Однако утром Алексей был разбужен громкими разговорами взрослых, вылез из палатки и увидел, как все разглядывают на земле возле костра и палаток кучу странных следов. Потом оказалось, что продовольственный склад их разграблен, выпотрошена полностью кастрюля со вчерашним вареным мясом для супа и разорван мешок с копченой колбасой, везде были следы большой лапы, почти собачьей.
Алексей спросил:
– Какая-то огромная собака, что ли, здесь похозяйничала?
Взрослые переглядывались загадочно и помалкивали. Потом папы Кирилл, Евгений и Владимир, самые старшие из мужчин, ушли в поселок, а отец Виктории, второй девчонки в их детской компании, Виктор Павлович, тихо сказал:
– Ой, ребята, боюсь, это посерьезнее будет даже медведя! Это, похоже, тигриная лапа везде отпечатана.
И тут Алексей вспомнил, как испугался чего-то или кого-то его Жак, как тряслось его тельце. Уссурийский тигр! Неужели он нами заинтересовался?! Мужчины, уходя, строго-настрого приказали никому не покидать лагерь, развести костер посильнее и ждать их возвращения!
В тот день все были очень возбуждены, график дежурств сломался, мама Алексея с Людмилой готовили еду на всех, рыбалка была отменена, отсиживались вокруг костра и тревожно обсуждали новость. Мужчины вернулись из поселка: оказалось, дня два назад тигр задрал в деревне козленка на свободном выгуле, наследил много, поэтому из района вызвали специалистов, которые порекомендовали всю живность убрать в дома и не выходить по ночам. Сказали, что тигр обычно летом не нападает на человека, еды ему хватает, однако здесь был случай неординарный. Следующий день провели в тревоге, днем прибыл катер пограничников, все собрались в поселке на собрание. Оказалось, что совсем недавно была задержана японская шхуна в территориальных водах России, в трюме был обнаружен большой уссурийский тигр. Шхуна была арестована, и на следствии было выяснено, что второго тигра они не смогли поймать и усмирить, тигр ранил японского охотника, ударил его лапой прямо в лицо, не подпускал никого к себе, а только лизал кровь и выедал лицо незадачливого японца, после чего скрылся в чащобе. Пограничники предупредили, что тигр, попробовав человечины, может напасть снова.
Среди детского коллектива моментально возникла идея поставить острые деревянные колы вокруг лагеря и дежурить по ночам, однако дядя Женя Хлуденев показал кулак и громко сказал:
– К сожалению, риск очень большой, тигр может вернуться в лагерь, будем собираться домой, завтра рейсовый катер нас заберет отсюда во Владивосток!
Ночью мужчины дежурили по двое с топорами и факелами у костра, ночь была тревожной и тягостной. Алексей с ребятами выпросили разрешение ночевать в одной палатке и не спали, обсуждали возможные варианты развития событий. Неожиданно совсем рядом, как им казалось, где-то за ближними кустами, раздался громкий выстрел, мощный звериный рык, затем второй выстрел и третий, послышался шум ломающихся веток, потом все затихло. Сашка с Димкой выскочили из палатки, снаружи оказались уже все мужчины, крикнули Алексея и Серегу. Алексей сидел с Жаком, позвал его:
– Пошли, Жак, гулять, пошли!
Однако собака сидела как вкопанная, не двигаясь с места ни на миллиметр.
Ребята примкнули к костру. Уже небо посерело, было полпятого утра. Сидели молча, пили чай с бутербродами, смотрели на огонь; медленно наступало утро, никто, конечно, не спал. Когда начало рассветать, неожиданно на тропе появились две фигуры в плащ-палатках, в одном узнали местного милиционера, а второй был незнаком, в спецодежде на ремнях и с оружием.
– Всех приветствуем! Отбой тревоге! Вот спецы работали ночью, поступило разрешение уничтожить зверя. Мы сразу к вам, предупредить, что опасность миновала, зверя уже увезли в Преображение на охотбазу познакомить собак, ну и всем охотникам показать! Так что можете спать спокойно! – местный участковый, улыбаясь, хлебнул предложенного чайку, снял фуражку и вытер пот со лба.
– Вот, знакомьтесь: Виктор, профессиональный охотник, зверобой.
Виктор молча пожал мужчинам руки, от чая отказался. Минут через пять встал, показывая всем своим видом занятость, и коротко бросил:
– Приятного отдыха; пошли, Михалыч, времени нет!
Обе фигуры почти бесшумно удалились по тропе в ближний лесок. Тут женщины наперебой начали обсуждать, что, мол, другого способа не было, обязательно убивать надо было? На что отец Алексея веско сказал: не нам судить, они специалисты, зверобои, благодаря им мы можем отдыхать дальше по расписанию еще четыре дня.
Ну какой тут отдых! Взрослые наперебой начали обсуждать варианты, однако дядя Женя Хлуденев просто сказал:
– Давайте проголосуем. Дети не считаются!
На что мальчишки хором заорали: как не считаются, они тоже будут голосовать. Вылезли из палатки две девчонки – Виктория и сестра Алексея Людмила с вопросами: что здесь происходит? Марков-старший сказал как отрезал:
– Эй, ну-ка цыц! Когда будете самостоятельно зарабатывать, тогда и голосовать будете!
В общем, конечно, проголосовали за отъезд сегодня, как и договаривался Хлуденев-старший, а это означало, что в 15:00 надо грузиться на моторную лодку от причалов поселка. Все приуныли, а потом как-то успокоились, начали собираться, ломать палатки (то есть собирать их, снимать крепления), собирать рюкзаки и баулы, сворачивать лагерь, даже Жак вдруг появился и начал скакать от радости, что пошла какая-то движуха. Как будто он понял слова участкового, что его лютый враг теперь повержен и можно выходить из укрытия.
Когда Алексей с отцом сломали их палатку, в так называемой прихожей задрался палаточный полик и на влажной земле открылся отпечаток тигриной лапы – огромной, страшной. Жак вдруг прыгнул на этот след и громко залаял, пригнув задние лапы, вздыбив шерсть на загривке. Отец Алексея громко сказал:
– Смотрите, он все-таки здесь был! Как я зверюгу эту не заметил, я же вылезал осмотреться из палатки! Фу, Жак, кончай лаять, его уже нет!
– Господи, как он только в вашу палатку не залез?! – тут же запричитали женщины, только мама Рита Маркова молчала, ее глаза, широко раскрытые, говорили сами за себя: мол, просто слов нет!
Уже на катере обстановка разрядилась, и Кирилл Константинович много шутил, собравшиеся громко смеялись, туристы угощали пассажиров вареными чилимами, которых оставалось еще много с позавчерашней ловли. Алексей сидел в кожаном кресле в салоне для пассажиров, а Жак забрался ему на колени, время от времени поднимал голову и смотрел ему прямо в глаза, как бы говоря: «Я же не очень виноват? Я очень испугался? Ну, ты видел, какая лапища отпечаталась?» Алексей гладил собаку по голове и говорил:
– Ты хороший пес, хороший, ведь ты его отпугнул своим лаем, а то бы он еще и отца нашего задрал!
Часть 2. Аут
Вообще, семья Марковых была очень спортивная, все ходили на лыжах, катались на коньках, у отца были старые беговые коньки, на которых он любил гонять на катке стадиона СКТОФ, что был совсем рядом с их домом на улице Спортивной.
Летом ходили в походы и почти каждое воскресенье, когда получалось, всей семьей – и папа, и мама Рита с Алексеем и маленькой Людмилой – играли в бадминтон на специальных спортивных площадках – кортах. Алексея научили играть почти с четырех-пяти лет, ставили на корт в пару, конечно, с отцом, который играл лучше всех. Папа Марков всем натягивал струны на ракетки, наматывал специальную кожу на рукоятки и особое внимание уделял воланам. Его воланы имели натуральное оперение, они очень ровно летали и очень ценились всеми игроками в бадминтон. Где он их доставал, было его фирменным секретом.
Играли в большой компании друзей семьи по воскресеньям на кортах пансионата «Океанский». Обычно приезжали туда рано утром на электричке на станцию Океанская, по дороге в пансионат покупали свежайшие, только-только из кипящей масляной ванны чебуреки на перекус и шли пешком на территорию пансионата. Было несколько семейных пар, приезжавших пораньше на машинах, они уже были на месте и встречали шумно. Все обнимались, как добрые друзья, перекидываясь шуточками, готовили площадки, неторопливо переодевались в спортивную форму, разминались, пили утренний чай и кофе из термосов.
Площадок-кортов для бадминтона всего было две, но сделаны они были очень качественно. Надо было только размести мусор и листья, подтянуть сетки, если было необходимо, и начиналась игра. Играли часа два-три, менялись парами, играли и одиночные партии, отец играл очень неплохо, на самом деле – лучше всех. Когда он вставал в пару с Алексеем, они всегда выигрывали. На корте ни друзей, ни сыновей уже не было, и папа Марков строго ему выговаривал, когда Алексей пропускал воланы или играл в аут. На кортах спорили до хрипоты, когда воланчик падал на линию или очень близко к ней, то есть «аут» был или «поле». Зато потом, после игры, красные и потные, долго обсуждали классные удары и промахи, свои и чужие.
Почему родителями был выбран бадминтон, Алексей не знал, но ему этот спорт нравился, и он с удовольствием познавал все тонкости этой игры. Отец иногда предлагал ему играть одиночку, однако долгое время шансов у Алексея на выигрыш у отца не было.
Отец учил его тактике, учил разным ударам. Шло время, Алексей постепенно набирался сил. Как-то, когда ему было уже двенадцать, он впервые выиграл одиночную партию у старинного друга семьи Марковых – врача-педиатра Семена Аркадьевича Пучинина, человека, которому было уже за сорок, с небольшим животиком, но очень быстрого и тонко чувствующего игру. За него всегда очень эмоционально болела его супруга, двадцатисемилетняя красавица с красивыми ногами и пухлыми губами. Алексей слышал, как его родители обсуждали его супругу Надежду за ее вздорный и ворчливый характер, что сама не играет, даже никогда не пробовала, а мужа всегда активно критикует и делает это при всех, и что такой неравный брак до добра не доведет.
Вот и тогда она кричала:
– Ну давай же, толстяк, тебя гоняет мальчишка!
Семен Аркадьевич очень расстраивался, нервничал и проигрывал подачу за подачей.
– Ты вообще играть не умеешь, что ли?! – Надежда вскакивала со скамейки и подходила близко к корту.
– Наденька, ну что ты так переживаешь, я же стараюсь! Наверное, сегодня не мой день, – извиняющимся тоном говорил Семен Аркадьевич.
Алексей ухватил в тот день свою тактику игры с Семеном и гонял его по корту из угла в угол. Пару раз получилось пробить мертвые смэши (сильный и резкий удар сверху вниз по высокому волану), которые Семен Аркадьевич даже не пытался взять. Алексей почувствовал в себе новые силы, которые, по-видимому, означали его новую форму готовности. После логичной победы он пожал руку Семену Аркадьевичу и сказал от души:
– Большое вам спасибо, извините, если что…
– Брось, Лешка, ты сегодня играл просто очень сильно! Молодец! – сказал Семен Аркадьевич, собрал вещи и быстрой походкой пошел на выход из парка. Надежда засеменила своими красивыми ножками в короткой юбке за ним, не поспевая.
– Расстроился Семен! – сказал папа Алексея.
– Да, похоже, недолго они будут вместе! – добавила мама Рита и пригласила Алексея в пару играть против отца с его коллегой по заводу Евгением Хлуденевым. Тогда они с мамой проиграли, но Алексей так выложился в партии с Семеном, что у него тряслись руки и потерялась точность.
На очередные выходные в конце августа стояла жаркая летняя погода, было, как водится во Владивостоке летом, очень влажно. Собрались опять на Океанскую в бадминтон. Когда пришли на корты, оказалось, что приехали только Хлуденевы и Марковы, Семен Аркадьевич так и не появился. Кирилл Константинович предложил всем поразмяться и поиграть турнир одиночных партий. На том и порешили. Мама Рита играть отказалась, сказала, что будет судьей. Таким образом, играли Алексей, его отец Кирилл, Хлуденев-старший и его жена Ирина. Братья Хлуденевы, Димка и Сашка, были друзьями Алексея, не играли в бадминтон и болели, конечно, за него и немного – за своего папочку.
Начали играть. Первые партии показали силу Кирилла Маркова, он вынес и дядю Женю Хлуденева, и его жену, причем довольно легко. Играли по три партии до 15 очков. По жребию Алексей первую игру играл с Хлуденевым-старшим. Он настраивался очень долго и потом, применяя тактику игры с Семеном Аркадьевичем, начал бодро выигрывать подачу за подачей. Однако Евгений Иванович не хотел сдаваться просто так и начал сопротивляться, переигрывая Алексея на своих подачах. Когда счет по партиям сравнялся и стал 1:1, начали короткую «контровую», то есть решающую партию до 11 очков. Димка с Сашкой бесновались на скамейке и орали при каждом очке и у Алексея, и у их отца. Алексей вытащил ее на кураже 11:7. Евгений Иванович сказал, пожав ему руку:
– Ну все, Лешка, ты стал настоящим бойцом! Поздравляю!
Алексей пожал протянутую руку до хруста в ладони и только кивнул: спасибо! Потом посмотрел на отца, который набивал воланчик в вертикальном полете и, казалось, не смотрел даже на корт. Дальше Алексей должен был играть с отцом, а потом – с Ириной Хлуденевой. Неожиданно Кирилл Марков предложил:
– Может, вы сыграете с Ириной не по очереди, пока я схожу в туалет в санаторный корпус?
Алексей вдруг заартачился, он, конечно, хотел сохранить силы для сражения с отцом, а Ирина поддержала:
– Ну сколько тебя не будет? Подождем, пусть Лешка отдохнет!
Мама Рита Маркова тоже высказалась за Алексея, и отец ушел. Его не было довольно долго. Дядя Женя предложил Алексею, чтобы совсем не остыть, постучать смэшем по его длинным навесным подачам, что Алексей и делал вплоть до прихода отца.
Начали играть, и Алексей проиграл первую партию 11:15. Он сильно расстроился и решил посидеть с мамой на скамейке и подышать. Она сказала ему тихим голосом:
– Успокойся, сегодня ты выиграешь.
Во второй партии Алексей вел в счете несколько раз и выиграл уже по схеме «на больше - меньше» 16:14! Пошла третья партия, и отец вдруг стал нервничать и несколько раз громко оспаривал свои удары в аут:
– Да я попал в поле, вы что, не видели?! Ну посмотрите на точку отскока! Вот же – упал в поле, мое очко!
Все собирались в месте падения воланчика и всматривались в точку отскока. Пару раз отец выспорил, а Алексей был уверен в ауте, он смотрел на точку падения волана и видел, что был аут. Иногда отец со скрипом соглашался с мнением большинства. Алексей негромко предложил: может, пусть дядя Женя Хлуденев встанет и посудит? Хлуденев согласился, отец немного поворчал, но игра продолжилась. Алексей вел в счете 9:4, ситуация накалялась, и отец спорил теперь при каждом неявном падении волана.
При счете 10:5 отец Марков подавал и выигрывал, потом давил подачу Алексея, доведя счет до 10:10. Теперь Алексей был разобран – ведь так близко был к своей первой победе над отцом и вот тебе на! Начали играть на больше - меньше, счет 11:11, потом 12:12, 13:13,14:14! При счете 15:14 в пользу Алексея ему выпало подавать, и он подал неожиданно высокую дальнюю навесную подачу. Отец вынужден был отступить несколько шагов назад и с трудом отбил ее, как в это время Алексей уже был готов и сыграл сильнейший смэш в угол. Волан упал прямо на линию (считается в поле) и отвалился в сторону. Алексей поднял ракетку вверх и заорал:
– Партия! Я выиграл!
Отец же заорал:
– Аут! Аут!
А Хлуденев спокойно произнес:
– Поле! Партия! Игра за Алексеем Марковым!
У Алексея запершило в горле, голос сразу сел, он понял, что выиграл и выиграл у кого – у самого отца!
– Был аут! Все видели! – отец апеллировал к зрителям, которые тоже занервничали и орали каждый свое. Все сбежались смотреть отметку волана на половину корта к Маркову-отцу. Алексей крикнул, что точно видел, что волан попал в площадку, а точнее, в линию, что одно и то же! Он просипел это в общем шуме, но никто на это не обратил внимания. Создалась невообразимая суматоха. Хлуденев громко сказал, что если его выбрали судьей, то обязаны его слушаться. Он считает Алексея победителем этой встречи. Но отец Марков кричал, что отметки волана нету, поэтому спорный мяч и надо переиграть подачу. Видно было, что он ни за какие коврижки не признает поражение от сына.
Алексей на переигровку не соглашался, а дядя Женя, видимо, не желая портить отношения с отцом, отказался дальше судить и сел на скамейку; отец протянул волан Алексею и коротко бросил:
– Давай подавай, ну спорный мяч же!
Алексей чуть не заплакал, заслуженная победа не получилась. Слезы брызнули из глаз. Делать нечего, пришлось подавать еще раз. Он подал, отец сразу забил в угол первым же ударом, Алексей уже не мог реагировать.
– 15:15, продолжаем на больше - меньше! – настроение у отца Маркова поднялось!
– Ребята, предлагаю записать ничью, – мама Рита пыталась сгладить конфликт.
– Нет! Играем дальше, до победного!
В голосе отца Алексей уловил знакомые стальные нотки, и у него все как-то враз расстроилось! Он не взял подачу отца и проиграл свою. Не пожимая его руки, он пошел к скамейке, у него потекли слезы ручьем, он сел, опустив голову.
– А я говорю, был аут! – Кирилл Константинович упаковал ракетки в чехол и, взяв спортивную сумку, пошел в корпус принимать душ и переодеваться. Продолжать турнир после этого уже не стали, разъехались по домам. Больше они в бадминтон не играли, а через год Алексей поступил в Суворовское училище и уехал из родительского дома насовсем.
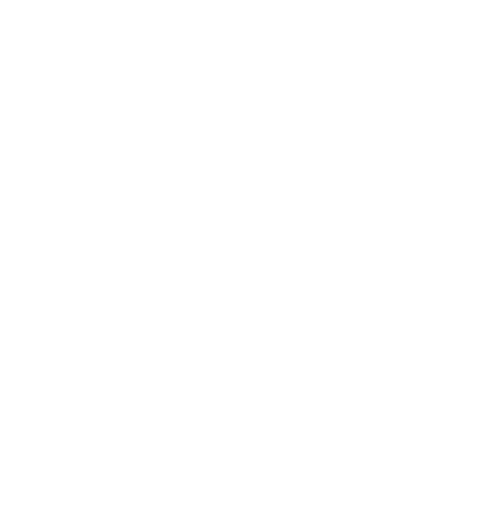
Павел КИСЕЛЕВ
Родился и всю жизнь прожил в портовом городе-герое Новороссийск. Литературным искусством увлёкся ещё в школе и, побеждая в конкурсах тематических сочинений, навсегда влюбился в писательскую деятельность. Обучается в филиале Военной Академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов Московской области, параллельно работая над авторским сборником рассказов, прозы и стихов. Призёр интеллектуального конкурса интернет-энциклопедии РУВИКИ на лучшую научную статью в направлении «философия».
Родился и всю жизнь прожил в портовом городе-герое Новороссийск. Литературным искусством увлёкся ещё в школе и, побеждая в конкурсах тематических сочинений, навсегда влюбился в писательскую деятельность. Обучается в филиале Военной Академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов Московской области, параллельно работая над авторским сборником рассказов, прозы и стихов. Призёр интеллектуального конкурса интернет-энциклопедии РУВИКИ на лучшую научную статью в направлении «философия».
НЕ ХМУРЬ БРОВЕЙ ИЗ-ЗА УДАРОВ РОКА,
УПАВШИЙ ДУХОМ ГИБНЕТ РАНЬШЕ СРОКА!
В жизни каждого человека случаются плохие события, будь то провалы при достижении какой-либо заветной цели, резкая потеря чего-то дорогого или же временные трудности в процессе бытовой рутины, как, например, пролитый кофе на штаны с утра, пробка на дороге или опоздание на работу, холодный дождь испортил настроение – абсолютно любая неприятная мелочь или громадина так или иначе добавляет в нашу, на первый взгляд, спокойную и беспечную жизнь серых, а порой даже черных красок.
Древняя китайская мудрость гласит, что всё во вселенной сбалансировано: в любом зле всегда есть частица доброты, а в хорошем всегда будет присутствовать даже капля зла, черное всегда сменяет белое, а белое – чёрное. Это принцип «Инь-Янь», повествующий о бесконечной битве добра и зла в мире. Кто бы во что ни верил, но это так. Жизнь – полосатая штука, и надо понимать, что как бы плохо ни было, как бы вам сегодня ни не везло, завтра или хотя бы в ближайшем будущем всё наладится: все проблемы уйдут, плохое забудется, удача сама непременно настигнет вас.
Лично я стараюсь придерживаться этой философии. Как минимум она помогает держаться на плаву в трудных ситуациях. Иногда бывает, что трудности, особенно непрерывно повторяющиеся, загоняют в угол, а иногда до такой степени, словно становится тесно, тяжело дышать, кажется, будто весь мир ополчился против тебя. И ведь некому даже элементарно протянуть руку помощи… Словно ты совсем один, как метеорит, летящий в бесконечном космосе, который сталкивается то с одним огромным булыжником, то с другим. В такие моменты понимаешь, что хуже уже быть не может. Согласитесь, наверняка у каждого из нас хоть раз в жизни было такое состояние.
Так вот, чтобы окончательно не упасть духом, не сгинуть в этом жестоком мире, прежде всего нужно каждый раз самому себе напоминать: «Всё будет хорошо! Нет, ты не прав, могло быть действительно хуже, ты ещё легко отделался, ну в самом деле, нечего раскисать, благодари судьбу, что ты жив и здоров». Современные психологи заявляют, что положительные аффирмации действительно работают, самоубеждение в хорошем исходе – первый залог доброй концовки.
Но практика показывает, что обычных слов мало, непременно нужно и самому себе доказывать сказанное. Чтобы черная полоса жизни наконец закончилась, нужно приближать к себе начало белой, трудиться и стараться ради себя и других, самосовершенствоваться, подобно фениксу, восставать из пепла. Самому себе показать, что тебя не сломать обычными трудностями, что ты переживёшь всё и всех, что ты – несгибаемый стержень, и у тебя всё получится, и всё будет хорошо!
Мировая история хранит в себе немало таких воодушевляющих примеров, но всегда меня вдохновлял жизненный путь моей бабушки Раисы. После смерти матери всё своё детство, вплоть до самого совершеннолетия, она провела в детском доме, и это отдельная глава в еë жизни, наполненная тяжёлыми воспоминаниями и лишь немного разбавленная детскими и юношескими радостями.
– Мама умерла от пневмонии, когда мне было всего пять лет, отца я отродясь не знала, а в послевоенное время бедность и голод, сами понимаете, сыграли свою роль. Бабушка не была в состоянии меня обеспечить в достаточной мере, и ей пришлось отдать меня в детдом, так как других родственников у меня не было. Забегая вперёд, хочу сказать, что никогда и никакому ребёнку не пожелала бы попасть в такое место… Честно говоря, я завидовала тогда тем детям, которые не знали своих родителей, а о своей маме и бабушке я думала всегда – очень не хватало той теплоты и заботы, материнской любви, которую не могла дать ни одна воспитательница, – вспоминала бабушка.
– Условия были, как в армии: провинился один – страдают все. Таков был жестокий закон, а неугодных воспитывали «своими методами». Да, было тяжело, но я всегда жила с идеей помогать другим, у меня были друзья, и они заменяли мне семью, мы держались друг за друга и верили: что бы ни случилось, всё будет хорошо. Всегда… Выпустившись из детдома, все наши девчонки пошли учиться в медучилище, и, воодушевившись, я поступила вместе с ними. Но оставаться простой медсестрой, как все остальные, я не хотела и идти на поводу стадного чувства не стала – я хотела учиться в университете на врача, это было моей мечтой. А если во что-то свято веришь, отступать нельзя! – всё больше бабушка Рая акцентировала внимание на своей тяге к жизни. – Я смотрела на тех девушек, идущих на учёбу в мединститут, со страшной завистью, как на небожителей с фонендоскопами на шее! А вспоминая своё студенчество, у меня не хватало денег даже на нормальную одежду и еду! В общежитии было страшно холодно зимой, я часто болела, голодала, ходила в чём попало… Как я в таком виде пойду в институт?..
От таких рассказов бабушки мне становилось не по себе… Я и не мог представить, как, живя в таких условиях, можно оставаться в здравом уме и так упорно идти к своей цели?
– Я подрабатывала, как могла: мыла полы в квартирах, чинила одежду, пыталась наскрести хоть немного денег просто-напросто на существование, а ведь параллельно надо было ещё и учиться, – рассказывала с тоской в груди бабушка. – Помочь было некому, все мои друзья детства разъехались кто куда, я была совсем одна, но всегда говорила себе: «Сама себе не поможешь – никто не поможет», и это заставляло меня идти вперёд. Я непременно верила: всё будет хорошо, всё плохое пройдёт, рано или поздно, и я достигну своего!
В процессе разговора с бабушкой я заметил, как лицо её потускнело, ведь ворошить своё трудное прошлое всегда больно, и на моих глазах понемногу начали скапливаться слезинки, а по телу всё чаще стали пробегать мурашки.
– Так и случилось, я устроилась поварихой в школьной столовой, зарплата там была намного выше, чем я получала до этого, и в конце концов я накопила себе на приличную одежду, купила медицинский халат, смогла обеспечить себя всем необходимым. Медучилище я закончила на «отлично», и это помогло мне без проблем поступить в мединститут. Наконец моя мечта сбылась, я – врач-фармацевт. Потом я встретила вашего дедушку, появились дети, и позже я поняла, что не зря так страдала и трудилась – счастье наступило, – закончила свой рассказ бабушка, улыбнувшись и пустив скупую слезу.
В последующем я узнал от мамы, что в будущем бабушку с дедушкой жизненные трудности не оставили в покое… Подробности мне поведала позже сама бабушка.
– 1980-е года, приближение Перестройки, инфляция, острый товарный дефицит. Я не могла даже подарки на Новый Год купить своим детям! Деду тогда предложили неплохую работу на острове Шпицберген, и мы решились оставить детей в деревне и уехать на заработки. Я очень хотела взять с собой деток, но там не было средней школы, только младшие классы. Какая это была мука – жить два года без своих детей! Ни дня не проходило без мысли о них… Условия проживания здесь были лучше, чем в любой другой провинции, и понимая, что они – там, в захолустной деревне, а мы – здесь, я не могла уснуть! Но я всегда помнила об одном – о цели, ради которой мы с дедушкой сюда приехали: получить хороший доход и обеспечить им хорошее будущее. Мы старались дать им то, чего не было у нас, не допустить, чтобы их жизнь была так же тяжела, как наша. Я молилась каждый день и верила, что все тяготы наконец-то кончатся, и всё будет замечательно, – сентиментально рассказывала бабушка, всё больше показывая трагичность ситуации.
– И вновь Господь услышал меня. Когда закончился контракт, мы приехали домой, забрав детей из деревни. Денег хватало не только, чтобы купить маленькой Юлечке игрушки, но и хороший велосипед Серёже, купить бытовую технику из-за границы, еду и сладости, которые мы обычно никогда не покупали. Вновь всё наладилось, как я и верила. Я знала, что всё будет хорошо, и хорошее настало! – поведав свою историю, снова улыбнулась бабушка.
Узнав, насколько тяжела бывает порой жизнь, ненароком задумываешься, действительно ли у нас всё так плохо, как нам кажется? Может, иногда мы просто забываем, что на самом деле является хорошей жизнью: мирное небо над головой, без войны, семейное благополучие, вполне хороший достаток, быть рядом с тем, кто не предаст, и тем, кого по-настоящему любишь? Может, наши бытовые проблемы относительно жизненных реалий, других судеб, других ситуаций и исходов – полная ерунда?
Разбилась дорогая ваза – да чёрт с ней! Главное, никто не поранился. Отругал начальник на работе? Ну и ладно, через пару дней всё забудется. Важно понимать: всё, что нас не убивает и не калечит – пустяк, сделает сильнее и опытнее. Лично я иногда сам задумываюсь, а как наши с вами прадеды, прошедшие войну, смогли вернуться в былое русло, заново отстроить страну и создать хорошие семьи? Их жизненный путь намного тернистее, чем наш… Быть психологически устойчивым к трудностям, уметь адекватно оценивать ситуацию – настоящее мастерство и мужество.
Кто бы что ни говорил, как бы ни было порой сложно, просто верьте: всё будет хорошо! А кто по-настоящему верит и трудится ради своей цели, тот хорошего и дождётся!
УПАВШИЙ ДУХОМ ГИБНЕТ РАНЬШЕ СРОКА!
В жизни каждого человека случаются плохие события, будь то провалы при достижении какой-либо заветной цели, резкая потеря чего-то дорогого или же временные трудности в процессе бытовой рутины, как, например, пролитый кофе на штаны с утра, пробка на дороге или опоздание на работу, холодный дождь испортил настроение – абсолютно любая неприятная мелочь или громадина так или иначе добавляет в нашу, на первый взгляд, спокойную и беспечную жизнь серых, а порой даже черных красок.
Древняя китайская мудрость гласит, что всё во вселенной сбалансировано: в любом зле всегда есть частица доброты, а в хорошем всегда будет присутствовать даже капля зла, черное всегда сменяет белое, а белое – чёрное. Это принцип «Инь-Янь», повествующий о бесконечной битве добра и зла в мире. Кто бы во что ни верил, но это так. Жизнь – полосатая штука, и надо понимать, что как бы плохо ни было, как бы вам сегодня ни не везло, завтра или хотя бы в ближайшем будущем всё наладится: все проблемы уйдут, плохое забудется, удача сама непременно настигнет вас.
Лично я стараюсь придерживаться этой философии. Как минимум она помогает держаться на плаву в трудных ситуациях. Иногда бывает, что трудности, особенно непрерывно повторяющиеся, загоняют в угол, а иногда до такой степени, словно становится тесно, тяжело дышать, кажется, будто весь мир ополчился против тебя. И ведь некому даже элементарно протянуть руку помощи… Словно ты совсем один, как метеорит, летящий в бесконечном космосе, который сталкивается то с одним огромным булыжником, то с другим. В такие моменты понимаешь, что хуже уже быть не может. Согласитесь, наверняка у каждого из нас хоть раз в жизни было такое состояние.
Так вот, чтобы окончательно не упасть духом, не сгинуть в этом жестоком мире, прежде всего нужно каждый раз самому себе напоминать: «Всё будет хорошо! Нет, ты не прав, могло быть действительно хуже, ты ещё легко отделался, ну в самом деле, нечего раскисать, благодари судьбу, что ты жив и здоров». Современные психологи заявляют, что положительные аффирмации действительно работают, самоубеждение в хорошем исходе – первый залог доброй концовки.
Но практика показывает, что обычных слов мало, непременно нужно и самому себе доказывать сказанное. Чтобы черная полоса жизни наконец закончилась, нужно приближать к себе начало белой, трудиться и стараться ради себя и других, самосовершенствоваться, подобно фениксу, восставать из пепла. Самому себе показать, что тебя не сломать обычными трудностями, что ты переживёшь всё и всех, что ты – несгибаемый стержень, и у тебя всё получится, и всё будет хорошо!
Мировая история хранит в себе немало таких воодушевляющих примеров, но всегда меня вдохновлял жизненный путь моей бабушки Раисы. После смерти матери всё своё детство, вплоть до самого совершеннолетия, она провела в детском доме, и это отдельная глава в еë жизни, наполненная тяжёлыми воспоминаниями и лишь немного разбавленная детскими и юношескими радостями.
– Мама умерла от пневмонии, когда мне было всего пять лет, отца я отродясь не знала, а в послевоенное время бедность и голод, сами понимаете, сыграли свою роль. Бабушка не была в состоянии меня обеспечить в достаточной мере, и ей пришлось отдать меня в детдом, так как других родственников у меня не было. Забегая вперёд, хочу сказать, что никогда и никакому ребёнку не пожелала бы попасть в такое место… Честно говоря, я завидовала тогда тем детям, которые не знали своих родителей, а о своей маме и бабушке я думала всегда – очень не хватало той теплоты и заботы, материнской любви, которую не могла дать ни одна воспитательница, – вспоминала бабушка.
– Условия были, как в армии: провинился один – страдают все. Таков был жестокий закон, а неугодных воспитывали «своими методами». Да, было тяжело, но я всегда жила с идеей помогать другим, у меня были друзья, и они заменяли мне семью, мы держались друг за друга и верили: что бы ни случилось, всё будет хорошо. Всегда… Выпустившись из детдома, все наши девчонки пошли учиться в медучилище, и, воодушевившись, я поступила вместе с ними. Но оставаться простой медсестрой, как все остальные, я не хотела и идти на поводу стадного чувства не стала – я хотела учиться в университете на врача, это было моей мечтой. А если во что-то свято веришь, отступать нельзя! – всё больше бабушка Рая акцентировала внимание на своей тяге к жизни. – Я смотрела на тех девушек, идущих на учёбу в мединститут, со страшной завистью, как на небожителей с фонендоскопами на шее! А вспоминая своё студенчество, у меня не хватало денег даже на нормальную одежду и еду! В общежитии было страшно холодно зимой, я часто болела, голодала, ходила в чём попало… Как я в таком виде пойду в институт?..
От таких рассказов бабушки мне становилось не по себе… Я и не мог представить, как, живя в таких условиях, можно оставаться в здравом уме и так упорно идти к своей цели?
– Я подрабатывала, как могла: мыла полы в квартирах, чинила одежду, пыталась наскрести хоть немного денег просто-напросто на существование, а ведь параллельно надо было ещё и учиться, – рассказывала с тоской в груди бабушка. – Помочь было некому, все мои друзья детства разъехались кто куда, я была совсем одна, но всегда говорила себе: «Сама себе не поможешь – никто не поможет», и это заставляло меня идти вперёд. Я непременно верила: всё будет хорошо, всё плохое пройдёт, рано или поздно, и я достигну своего!
В процессе разговора с бабушкой я заметил, как лицо её потускнело, ведь ворошить своё трудное прошлое всегда больно, и на моих глазах понемногу начали скапливаться слезинки, а по телу всё чаще стали пробегать мурашки.
– Так и случилось, я устроилась поварихой в школьной столовой, зарплата там была намного выше, чем я получала до этого, и в конце концов я накопила себе на приличную одежду, купила медицинский халат, смогла обеспечить себя всем необходимым. Медучилище я закончила на «отлично», и это помогло мне без проблем поступить в мединститут. Наконец моя мечта сбылась, я – врач-фармацевт. Потом я встретила вашего дедушку, появились дети, и позже я поняла, что не зря так страдала и трудилась – счастье наступило, – закончила свой рассказ бабушка, улыбнувшись и пустив скупую слезу.
В последующем я узнал от мамы, что в будущем бабушку с дедушкой жизненные трудности не оставили в покое… Подробности мне поведала позже сама бабушка.
– 1980-е года, приближение Перестройки, инфляция, острый товарный дефицит. Я не могла даже подарки на Новый Год купить своим детям! Деду тогда предложили неплохую работу на острове Шпицберген, и мы решились оставить детей в деревне и уехать на заработки. Я очень хотела взять с собой деток, но там не было средней школы, только младшие классы. Какая это была мука – жить два года без своих детей! Ни дня не проходило без мысли о них… Условия проживания здесь были лучше, чем в любой другой провинции, и понимая, что они – там, в захолустной деревне, а мы – здесь, я не могла уснуть! Но я всегда помнила об одном – о цели, ради которой мы с дедушкой сюда приехали: получить хороший доход и обеспечить им хорошее будущее. Мы старались дать им то, чего не было у нас, не допустить, чтобы их жизнь была так же тяжела, как наша. Я молилась каждый день и верила, что все тяготы наконец-то кончатся, и всё будет замечательно, – сентиментально рассказывала бабушка, всё больше показывая трагичность ситуации.
– И вновь Господь услышал меня. Когда закончился контракт, мы приехали домой, забрав детей из деревни. Денег хватало не только, чтобы купить маленькой Юлечке игрушки, но и хороший велосипед Серёже, купить бытовую технику из-за границы, еду и сладости, которые мы обычно никогда не покупали. Вновь всё наладилось, как я и верила. Я знала, что всё будет хорошо, и хорошее настало! – поведав свою историю, снова улыбнулась бабушка.
Узнав, насколько тяжела бывает порой жизнь, ненароком задумываешься, действительно ли у нас всё так плохо, как нам кажется? Может, иногда мы просто забываем, что на самом деле является хорошей жизнью: мирное небо над головой, без войны, семейное благополучие, вполне хороший достаток, быть рядом с тем, кто не предаст, и тем, кого по-настоящему любишь? Может, наши бытовые проблемы относительно жизненных реалий, других судеб, других ситуаций и исходов – полная ерунда?
Разбилась дорогая ваза – да чёрт с ней! Главное, никто не поранился. Отругал начальник на работе? Ну и ладно, через пару дней всё забудется. Важно понимать: всё, что нас не убивает и не калечит – пустяк, сделает сильнее и опытнее. Лично я иногда сам задумываюсь, а как наши с вами прадеды, прошедшие войну, смогли вернуться в былое русло, заново отстроить страну и создать хорошие семьи? Их жизненный путь намного тернистее, чем наш… Быть психологически устойчивым к трудностям, уметь адекватно оценивать ситуацию – настоящее мастерство и мужество.
Кто бы что ни говорил, как бы ни было порой сложно, просто верьте: всё будет хорошо! А кто по-настоящему верит и трудится ради своей цели, тот хорошего и дождётся!
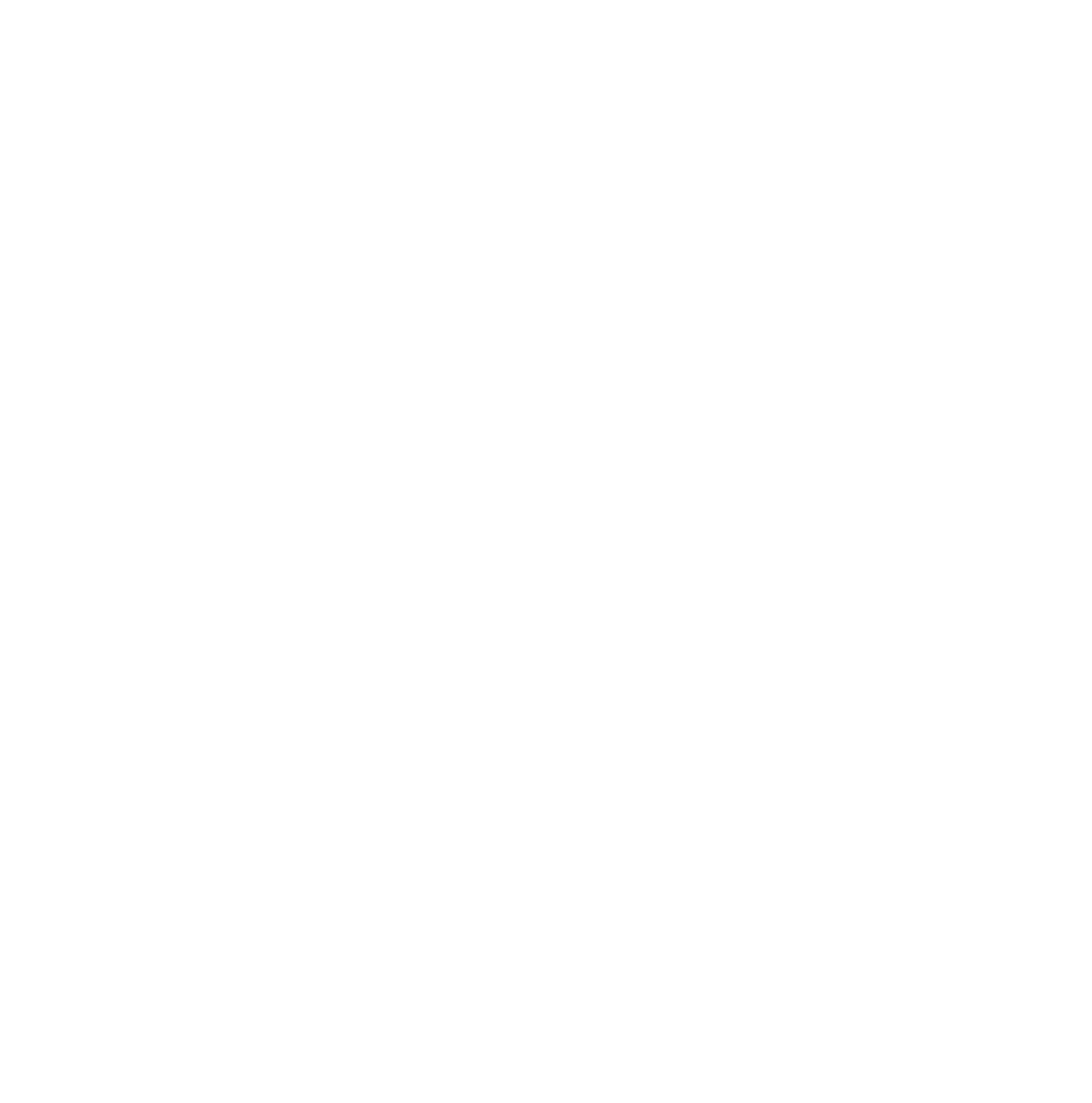
Ксения ЧИГЛАДЗЕ
Автор двух исцеляющих книг для родителей и для женщин. Лингвист, магистр педагогических наук, владеет четырьмя иностранными языками. Мама троих чудесных малышей. Творческая личность и активная участница благотворительных проектов. Познакомиться с жизнью и творчеством Ксении можно в социальных сетях: kseniya_chighladze.
Автор двух исцеляющих книг для родителей и для женщин. Лингвист, магистр педагогических наук, владеет четырьмя иностранными языками. Мама троих чудесных малышей. Творческая личность и активная участница благотворительных проектов. Познакомиться с жизнью и творчеством Ксении можно в социальных сетях: kseniya_chighladze.
СВЕТ ВНУТРИ
Стас спокойно нарезал картофель к ужину, когда Александра подошла и нежно обняла его за спину:
– А у меня есть новости… – заговорчески произнесла жена, ещё крепче обнимая своего любимого. – Я беременна.
– Правда? – уронив нож на стол, произнес Стас.
Повернувшись к жене, он нежно взял её лицо в свои ладони и прошептал:
– Все получилось, у нас все получилось, я так счастлив. Неважно, мальчик будет или девочка, мы будем ждать эту кроху вместе, я уже её люблю или его. Мы будем слышать детский смех и наполняться счастьем. Я буду брать его на свои спортивные занятия. А, может, он станет Олимпийским чемпионом!
– Или чемпионкой.
– Да, да, можно и чемпионкой.
И он весело покружил жену, подняв на руки, и поцеловал живот чуть ниже пупка.
Беременность протекала отлично. Стас все девять месяцев был нежным, внимательным и заботливым мужем. Александра хорошо себя чувствовала и выполняла все предписания своего врача.
И вот наступил долгожданный день встречи. На свет родился маленький Макар. Все прошло хорошо. Мама и малыш отлично себя чувствовали. Через семь дней вся семья воссоединилась. Стас устроил праздничный ужин в честь такого важного события в своей жизни. В доме царила атмосфера праздника и счастья, любви и взаимопонимания.
Но через пару дней в семью пришла неожиданная новость. На очередном плановом приеме у врача молодые родители услышали неутешительный диагноз:
– У вашего малыша что-то со зрением, сейчас сложно сказать сразу, что именно. Возможно, сохранилась способность видеть незначительно, но есть вероятность того, что он абсолютно незрячий… Сожалею…
Сказать, что родители потеряли дар речи – ничего не сказать.
– Понятно… – едва сдерживая слезы, произнёс Стас. – Но с этим же можно что-то сделать? Может, операции, лазерные коррекции, импланты, сейчас столько всего.
– Возможно, но в таком возрасте точно ничего. Нужно время, чтобы наблюдать, как будет развиваться зрение, ему только несколько недель. Не хочу вас беспочвенно обнадеживать, но и не хочу полностью гасить вашу надежду. Точно могу сказать, что нормального зрения у него уже не будет. А сможет ли он вообще что-то видеть, покажет время.
– Спасибо… – Александра собрала всю свою волю в кулак, взяла свой волшебный конвертик с малышом и тихо вышла из кабинета. Она поняла, что Стас очень растерян и ему сложно соображать, что нужно делать.
В полном молчании молодая пара доехала домой. Стас был настолько раздавлен этой новостью, что никак не смог собраться и ему стоило немало усилий, чтобы просто аккуратно вести машину и добраться домой. Припарковавшись у подъезда, он больше не мог сдерживаться. Мужчина просто уронил голову на руль и заплакал. Наверное, это был первый раз, когда Александра видела слёзы своего мужа.
Она и сама еле сдерживалась, но понимала, что сейчас нужно держать себя в руках, чтобы как-то поддержать Стаса.
– Милый, пойдем домой. Тут не самое подходящее место давать волю чувствам и эмоциям…
Весь оставшийся вечер Стас вспоминает, как в тумане. Он не соображал, как открыл дверь машины и взял люльку с Макаром. Как помог жене выйти из машины и проводил их домой. Как сказал, уходя:
– Мне нужно проветриться…
И, повернувшись, ушёл в никуда.
Александра сначала очень испугалась. А что, если он не вернется. Как она одна будет с Макаром? Кто поможет ей воспитать и вырастить сына, которому нужна не то что любовь и забота двоих родителей, а потребуется в два-три раза больше заботы, внимания и любви. Но она постаралась сразу отогнать от себя эти тревожные мысли и занялась малышом.
Стас стремглав выбежал на улицу и, не понимая, куда именно направляется, просто шёл туда, куда его несли ноги. Он шёл так быстро, даже местами бежал, не замечая ничего вокруг. Было ощущение, что в один миг рухнул весь его мир.
Он не понимал, как сможет воспитывать такого ребенка. Осознавал, что все мечты о сыне, да пускай и дочке, чемпионе Олимпийских игр, разрушились на тысячи кусочков. Да какая речь о чемпионе. О простом нормальном ребенке, который будет играть с соседскими мальчишками в футбол, выступать на школьных вечерах, с кем можно будет обсуждать философские вопросы в мужском кругу, когда он подрастет… Да мужики будут издеваться надо мной. Сын-инвалид. Как я им об этом расскажу…
«Но это же мой сын. Моя кровь и плоть… Почему? За что? Почему у меня? Мы же делали всё, что говорил врач. А, может, что-то когда-то случилось, а Саша не рассказала мне. Испугалась… а что теперь это уже изменит…» – мысли вихрем неслись в голове мужчины.
Стасу казалось, что он медленно сходит с ума. Когда он остановился, то обнаружил, что оказался в поле, довольно далеко от дома. Он шёл и шёл, пока не стало темнеть. И когда понял, что находится один на один со своими мыслями и терзаниями, что вокруг ни души, он просто упал на колени и горько-горько заплакал. Отдался своему горю по полной.
Он кричал неистовым криком. Криком дикого зверя, который попал в капкан. Он бросал камни, которые попадались под руку. Ему хотелось рушить, громить, крошить всё, что он видел вокруг. Спустя полчаса эмоции утихли. Мужчина просто присел на землю и поднял глаза к небу.
– Всё было слишком хорошо в моей жизни, да… Красивая жена, хорошие родители, любимая, прибыльная работа, отличная квартира. Я понял, ты решил устроить мне проверку, испытание. Ты решил познакомить меня с собой настоящим. Мол, на тебе, как сейчас ты будешь таким жизнерадостным. Посмотри, насколько ты сильный. Ты для этого устроил мне все это?!! А, знаешь, я сильный! – продолжал он, глядя в небо и обращаясь, видимо, к Богу или каким-то высшим силам, в которых верил. – Я сильный. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы мой сын был нормальным человеком, чтобы у него была крепкая семья, друзья, профессия, работа. Ты захотел проучить меня, сделал мне вызов? Так вот послушай, я принимаю этот вызов. И я справлюсь с этим уроком. Ты слышишь? Я справлюсь!!!! Это мой сын, понятно! Мой любимый сын! – прокричал он в небо.
И, просидев еще несколько минут, собрал всю свою волю в кулак и отправился домой.
– Как тут мои дорогие и любимые? – нежно произнес Стас, вернувшись домой, как ни в чём не бывало. Он заметил, как Александра расслабилась и немного выдохнула.
– Ты подумала, что я не вернусь, да? – мужчина притянул к себе жену и поцеловал её в макушку.
– Возможно…
– Куда ж я без вас, вы – моя семья, моя жизнь. Где тут наш маленький Макар? Жаль, ты недостаточно хорошо видишь своего папочку, но ты сможешь почувствовать, как сильно он тебя любит. Я всему тебя научу, а ты будешь учить меня, мы будем помогать друг другу и вместе любить нашу мамочку, правда, малыш? Начинается новый этап нашей совместной жизни. Раз уж ты выбрал нас своими родителями, постараемся оправдать твои ожидания.
В этот же вечер Стас в Интернете изучил все возможные диагнозы, связанные со зрением, пути их лечения, операции и их последствия, чудесные случаи выздоровления, а также известных людей, лишенных зрения, которые смогли добиться выдающихся результатов. Среди них были писатели, музыканты, общественные деятели, ученые, художники и даже спортсмены.
Жизнь пошла своим чередом. Стас много работал, но и старался помогать жене с Макаром. Он понимал, что ей тоже очень тяжело быть одной с незрячим сыном целыми днями, поэтому по возможности отпускал Сашу на встречи с подружками, за покупками и просто погулять, отвлечься, заняться хобби. Кстати, он заметил, что Александра увлеклась рисованием. Видимо, это был её способ отвлечься, расслабиться, набраться сил.
И самое важное – у неё очень хорошо получалось. Было в её картинах что-то необъяснимо притягательное. Они были наполнены энергией. На них хотелось смотреть и смотреть, они как будто заряжали новыми понятиями и восприятиями. Он не особо разбирался в искусстве, но для него эти картины были даже в некоторой степени целительными. Саша писала современную живопись. Это были в основном абстракции, какой-то космос и небо, каждый видел что-то своё. И даже приходящие гости, друзья да и врачи, которые были частыми гостями в их доме, всегда обращали внимание на картины.
Время шло, Макар подрастал. Он постоянно посещал курсы по реабилитации и развитию. Спортом ему пока запрещали заниматься. Так как зрение было потеряно не целиком, не нужно было создавать дополнительную нагрузку на глаза. Но отец изучал опыт физических занятий с такими детьми за границей и иногда брал сына на работу, где занимался с ним индивидуально для общего развития.
Зрение было потеряно не полностью, но и надежд на его восстановление тоже не было. Стасу сложно было представить, что именно и как видит его сын, но он старался много с ним разговаривать, рассказывать, описывать. Они очень глубоко общались. Кстати, все друзья мужчины адекватно восприняли информацию об особенностях его сына и активно участвовали в его жизни. Помогали и поддерживали Стаса.
Через несколько лет в семье появился еще один ребенок – Егор. Здоровый, крепкий малыш. Семья стала еще дружнее и сплоченнее. Стас был уверен, что братья будут опорой друг другу в жизни. Ведь они с Александрой не вечны, Егор сможет стать помощником своему старшему брату. Родители очень надеялись, что Егор будет ценить, уважать и помогать своему брату, несмотря ни на какие его особенности. Так и случилось.
Братья были не разлей вода. И несколько лет разницы в возрасте практически стерлись с годами. Когда ребята подросли, Александре и Стасу стало гораздо легче. Саша серьезно занялась искусством. Она открыла свою студию, где не только писала картины сама, но и проводила арт-терапию для всех желающих. Частыми гостями были и родители детей с особенностями. Их потребность в отвлечении и самовыражении Александра понимала и чувствовала лучше всего.
Егор поступил в медицинский университет, а Макар стал посещать курсы для массажистов. У него действительно были волшебные руки. Он не раз выручал отца после тяжелых тренировок, а его воспитанников – после соревнований. Егор обучал Макара основам медицины; это плюс чувствительность рук мальчика, неспособного видеть, но способного тонко чувствовать физиологию, творили чудеса.
Стас брал Макара с собой на соревнования, и он часто выручал не только спортсменов их команды, но и других участников соревнований. Все называли его Макар-волшебные руки. Стас нашел профессиональные курсы для незрячих массажистов, понимая, что у его сына талант и нужно его развивать.
Да, было много сложностей, которые пришлось преодолеть в самом начале пути, но их семья справилась. У каждого сейчас есть достойная жизнь, профессия, хобби, любовь. Им помогли взаимопонимание, вера в друг друга и поддержка.
На открытии семейного центра массажа и реабилитации «Свет внутри» присутствовало много друзей, гостей, журналистов. Перерезав ленточку, Стас счастливо посмотрел в небо и сказал:
– Я же говорил, что справлюсь. Кажется, я выдержал этот экзамен на «отлично». Благодарю Тебя за мою семью, за моих детей, за все уроки и за тот путь, который мы рука об руку проходим вместе…
Стас спокойно нарезал картофель к ужину, когда Александра подошла и нежно обняла его за спину:
– А у меня есть новости… – заговорчески произнесла жена, ещё крепче обнимая своего любимого. – Я беременна.
– Правда? – уронив нож на стол, произнес Стас.
Повернувшись к жене, он нежно взял её лицо в свои ладони и прошептал:
– Все получилось, у нас все получилось, я так счастлив. Неважно, мальчик будет или девочка, мы будем ждать эту кроху вместе, я уже её люблю или его. Мы будем слышать детский смех и наполняться счастьем. Я буду брать его на свои спортивные занятия. А, может, он станет Олимпийским чемпионом!
– Или чемпионкой.
– Да, да, можно и чемпионкой.
И он весело покружил жену, подняв на руки, и поцеловал живот чуть ниже пупка.
Беременность протекала отлично. Стас все девять месяцев был нежным, внимательным и заботливым мужем. Александра хорошо себя чувствовала и выполняла все предписания своего врача.
И вот наступил долгожданный день встречи. На свет родился маленький Макар. Все прошло хорошо. Мама и малыш отлично себя чувствовали. Через семь дней вся семья воссоединилась. Стас устроил праздничный ужин в честь такого важного события в своей жизни. В доме царила атмосфера праздника и счастья, любви и взаимопонимания.
Но через пару дней в семью пришла неожиданная новость. На очередном плановом приеме у врача молодые родители услышали неутешительный диагноз:
– У вашего малыша что-то со зрением, сейчас сложно сказать сразу, что именно. Возможно, сохранилась способность видеть незначительно, но есть вероятность того, что он абсолютно незрячий… Сожалею…
Сказать, что родители потеряли дар речи – ничего не сказать.
– Понятно… – едва сдерживая слезы, произнёс Стас. – Но с этим же можно что-то сделать? Может, операции, лазерные коррекции, импланты, сейчас столько всего.
– Возможно, но в таком возрасте точно ничего. Нужно время, чтобы наблюдать, как будет развиваться зрение, ему только несколько недель. Не хочу вас беспочвенно обнадеживать, но и не хочу полностью гасить вашу надежду. Точно могу сказать, что нормального зрения у него уже не будет. А сможет ли он вообще что-то видеть, покажет время.
– Спасибо… – Александра собрала всю свою волю в кулак, взяла свой волшебный конвертик с малышом и тихо вышла из кабинета. Она поняла, что Стас очень растерян и ему сложно соображать, что нужно делать.
В полном молчании молодая пара доехала домой. Стас был настолько раздавлен этой новостью, что никак не смог собраться и ему стоило немало усилий, чтобы просто аккуратно вести машину и добраться домой. Припарковавшись у подъезда, он больше не мог сдерживаться. Мужчина просто уронил голову на руль и заплакал. Наверное, это был первый раз, когда Александра видела слёзы своего мужа.
Она и сама еле сдерживалась, но понимала, что сейчас нужно держать себя в руках, чтобы как-то поддержать Стаса.
– Милый, пойдем домой. Тут не самое подходящее место давать волю чувствам и эмоциям…
Весь оставшийся вечер Стас вспоминает, как в тумане. Он не соображал, как открыл дверь машины и взял люльку с Макаром. Как помог жене выйти из машины и проводил их домой. Как сказал, уходя:
– Мне нужно проветриться…
И, повернувшись, ушёл в никуда.
Александра сначала очень испугалась. А что, если он не вернется. Как она одна будет с Макаром? Кто поможет ей воспитать и вырастить сына, которому нужна не то что любовь и забота двоих родителей, а потребуется в два-три раза больше заботы, внимания и любви. Но она постаралась сразу отогнать от себя эти тревожные мысли и занялась малышом.
Стас стремглав выбежал на улицу и, не понимая, куда именно направляется, просто шёл туда, куда его несли ноги. Он шёл так быстро, даже местами бежал, не замечая ничего вокруг. Было ощущение, что в один миг рухнул весь его мир.
Он не понимал, как сможет воспитывать такого ребенка. Осознавал, что все мечты о сыне, да пускай и дочке, чемпионе Олимпийских игр, разрушились на тысячи кусочков. Да какая речь о чемпионе. О простом нормальном ребенке, который будет играть с соседскими мальчишками в футбол, выступать на школьных вечерах, с кем можно будет обсуждать философские вопросы в мужском кругу, когда он подрастет… Да мужики будут издеваться надо мной. Сын-инвалид. Как я им об этом расскажу…
«Но это же мой сын. Моя кровь и плоть… Почему? За что? Почему у меня? Мы же делали всё, что говорил врач. А, может, что-то когда-то случилось, а Саша не рассказала мне. Испугалась… а что теперь это уже изменит…» – мысли вихрем неслись в голове мужчины.
Стасу казалось, что он медленно сходит с ума. Когда он остановился, то обнаружил, что оказался в поле, довольно далеко от дома. Он шёл и шёл, пока не стало темнеть. И когда понял, что находится один на один со своими мыслями и терзаниями, что вокруг ни души, он просто упал на колени и горько-горько заплакал. Отдался своему горю по полной.
Он кричал неистовым криком. Криком дикого зверя, который попал в капкан. Он бросал камни, которые попадались под руку. Ему хотелось рушить, громить, крошить всё, что он видел вокруг. Спустя полчаса эмоции утихли. Мужчина просто присел на землю и поднял глаза к небу.
– Всё было слишком хорошо в моей жизни, да… Красивая жена, хорошие родители, любимая, прибыльная работа, отличная квартира. Я понял, ты решил устроить мне проверку, испытание. Ты решил познакомить меня с собой настоящим. Мол, на тебе, как сейчас ты будешь таким жизнерадостным. Посмотри, насколько ты сильный. Ты для этого устроил мне все это?!! А, знаешь, я сильный! – продолжал он, глядя в небо и обращаясь, видимо, к Богу или каким-то высшим силам, в которых верил. – Я сильный. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы мой сын был нормальным человеком, чтобы у него была крепкая семья, друзья, профессия, работа. Ты захотел проучить меня, сделал мне вызов? Так вот послушай, я принимаю этот вызов. И я справлюсь с этим уроком. Ты слышишь? Я справлюсь!!!! Это мой сын, понятно! Мой любимый сын! – прокричал он в небо.
И, просидев еще несколько минут, собрал всю свою волю в кулак и отправился домой.
– Как тут мои дорогие и любимые? – нежно произнес Стас, вернувшись домой, как ни в чём не бывало. Он заметил, как Александра расслабилась и немного выдохнула.
– Ты подумала, что я не вернусь, да? – мужчина притянул к себе жену и поцеловал её в макушку.
– Возможно…
– Куда ж я без вас, вы – моя семья, моя жизнь. Где тут наш маленький Макар? Жаль, ты недостаточно хорошо видишь своего папочку, но ты сможешь почувствовать, как сильно он тебя любит. Я всему тебя научу, а ты будешь учить меня, мы будем помогать друг другу и вместе любить нашу мамочку, правда, малыш? Начинается новый этап нашей совместной жизни. Раз уж ты выбрал нас своими родителями, постараемся оправдать твои ожидания.
В этот же вечер Стас в Интернете изучил все возможные диагнозы, связанные со зрением, пути их лечения, операции и их последствия, чудесные случаи выздоровления, а также известных людей, лишенных зрения, которые смогли добиться выдающихся результатов. Среди них были писатели, музыканты, общественные деятели, ученые, художники и даже спортсмены.
Жизнь пошла своим чередом. Стас много работал, но и старался помогать жене с Макаром. Он понимал, что ей тоже очень тяжело быть одной с незрячим сыном целыми днями, поэтому по возможности отпускал Сашу на встречи с подружками, за покупками и просто погулять, отвлечься, заняться хобби. Кстати, он заметил, что Александра увлеклась рисованием. Видимо, это был её способ отвлечься, расслабиться, набраться сил.
И самое важное – у неё очень хорошо получалось. Было в её картинах что-то необъяснимо притягательное. Они были наполнены энергией. На них хотелось смотреть и смотреть, они как будто заряжали новыми понятиями и восприятиями. Он не особо разбирался в искусстве, но для него эти картины были даже в некоторой степени целительными. Саша писала современную живопись. Это были в основном абстракции, какой-то космос и небо, каждый видел что-то своё. И даже приходящие гости, друзья да и врачи, которые были частыми гостями в их доме, всегда обращали внимание на картины.
Время шло, Макар подрастал. Он постоянно посещал курсы по реабилитации и развитию. Спортом ему пока запрещали заниматься. Так как зрение было потеряно не целиком, не нужно было создавать дополнительную нагрузку на глаза. Но отец изучал опыт физических занятий с такими детьми за границей и иногда брал сына на работу, где занимался с ним индивидуально для общего развития.
Зрение было потеряно не полностью, но и надежд на его восстановление тоже не было. Стасу сложно было представить, что именно и как видит его сын, но он старался много с ним разговаривать, рассказывать, описывать. Они очень глубоко общались. Кстати, все друзья мужчины адекватно восприняли информацию об особенностях его сына и активно участвовали в его жизни. Помогали и поддерживали Стаса.
Через несколько лет в семье появился еще один ребенок – Егор. Здоровый, крепкий малыш. Семья стала еще дружнее и сплоченнее. Стас был уверен, что братья будут опорой друг другу в жизни. Ведь они с Александрой не вечны, Егор сможет стать помощником своему старшему брату. Родители очень надеялись, что Егор будет ценить, уважать и помогать своему брату, несмотря ни на какие его особенности. Так и случилось.
Братья были не разлей вода. И несколько лет разницы в возрасте практически стерлись с годами. Когда ребята подросли, Александре и Стасу стало гораздо легче. Саша серьезно занялась искусством. Она открыла свою студию, где не только писала картины сама, но и проводила арт-терапию для всех желающих. Частыми гостями были и родители детей с особенностями. Их потребность в отвлечении и самовыражении Александра понимала и чувствовала лучше всего.
Егор поступил в медицинский университет, а Макар стал посещать курсы для массажистов. У него действительно были волшебные руки. Он не раз выручал отца после тяжелых тренировок, а его воспитанников – после соревнований. Егор обучал Макара основам медицины; это плюс чувствительность рук мальчика, неспособного видеть, но способного тонко чувствовать физиологию, творили чудеса.
Стас брал Макара с собой на соревнования, и он часто выручал не только спортсменов их команды, но и других участников соревнований. Все называли его Макар-волшебные руки. Стас нашел профессиональные курсы для незрячих массажистов, понимая, что у его сына талант и нужно его развивать.
Да, было много сложностей, которые пришлось преодолеть в самом начале пути, но их семья справилась. У каждого сейчас есть достойная жизнь, профессия, хобби, любовь. Им помогли взаимопонимание, вера в друг друга и поддержка.
На открытии семейного центра массажа и реабилитации «Свет внутри» присутствовало много друзей, гостей, журналистов. Перерезав ленточку, Стас счастливо посмотрел в небо и сказал:
– Я же говорил, что справлюсь. Кажется, я выдержал этот экзамен на «отлично». Благодарю Тебя за мою семью, за моих детей, за все уроки и за тот путь, который мы рука об руку проходим вместе…
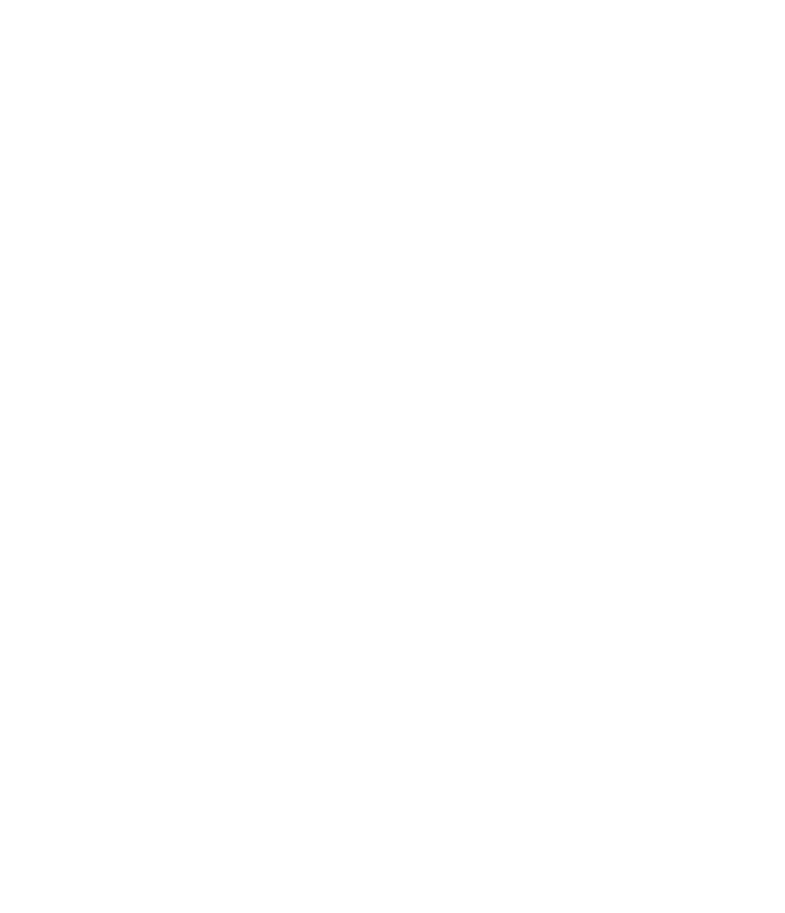
Василий ШИШКОВ
По специальности врач, хирург-онколог, окончил Днепропетровский мединститут. Долгое время работал в МНИРРИ. В 2016 году окончил литературные курсы при Литинституте им. М.Горького (семинар А.В.Воронцова), участвовал в работе некоторых ЛИТО: ЛИТО «Точки», ЛИТО «Созвучие» (при библиотеке им И.С.Тургенева), в 2022 в издательстве «Ридеро» опубликовал сборник рассказов и два сборника стихов. Публикуюсь под псевдонимом «Василий Шишков».
По специальности врач, хирург-онколог, окончил Днепропетровский мединститут. Долгое время работал в МНИРРИ. В 2016 году окончил литературные курсы при Литинституте им. М.Горького (семинар А.В.Воронцова), участвовал в работе некоторых ЛИТО: ЛИТО «Точки», ЛИТО «Созвучие» (при библиотеке им И.С.Тургенева), в 2022 в издательстве «Ридеро» опубликовал сборник рассказов и два сборника стихов. Публикуюсь под псевдонимом «Василий Шишков».
РАСЦВЕТУТ!
(Оптимистическая история)
Татьяне Владимировне Баськовой (Васильевой), Юрию Александровичу Николаеву посвящается
Лариса подала Игорю пучок засохшей травы с пурпурно-коричневыми и редкими зелеными листочками:
– Подрежь аккуратно и поставь в вазу.
– Это что, цветы?
– Да, да... Цветы! – подтвердила жена.
Игорь неуверенно взял небольшую связку травы. Он видел, как утром жена на садовом участке ходила с маленькой лопаткой и большими ножницами по клумбе и что-то там делала. Лепестки на оставшихся цветах и вся трава на клумбе пожухли, пожелтели. Стояла глубокая осень – конец октября, держалась холодная, промозглая погода. Накануне шел снег с дождем, а на завтра, в понедельник, обещали морозы ниже семи-восьми градусов.
– Это астры? – спросил он.
– Нет, что ты, это хризантемы. Подожди, я сейчас поищу, во что их поставить.
– А зачем? Зачем их в воду? Они разве расцветут? – растерянно проговорил Игорь, держа пучок засохшей травы. Он перебирал тонкие, сухие веточки, пытаясь найти завязи цветов. Ему показалось, что он нашел несколько маленьких головок нераскрывшихся цветков.
– Ты как хочешь? – спросила Лариса, протягивая ему старую вазу.
– Не знаю. Конечно, интересно…
– Интересно – да или интересно – нет?
– Я – за. За то, чтобы они попробовали расцвести.
– Тогда расцветут! – улыбнулась в ответ жена.
– Почему?
– Потому что это красиво. Наконец, потому что ты так хочешь. Ведь ты хочешь? Подрежь их, налей воды и поставь в комнату Маши на подоконник.
– Ну да. Наверное, интересно будет посмотреть.
Он пошел с вазой и подобием букета в ванную комнату, подрезал засохшие тонкие стебли, набрал воды, потом отнес вазу в комнату дочери, поставил на подоконник, как сказала жена. Он совсем не думал о хозяйских делах и уж тем более о цветах. Мысли его были поглощены последними экспериментами на работе, результаты которых были неутешительны. Он все думал о своей давнишней мечте...
Он столько сил потратил на проведение последней экспериментальной работы, но предварительный компьютерный анализ показывал, что его теоретические предположения и надежды в ходе серии экспериментов не подтверждаются. Сколько времени было потрачено на поиски литературы по аналогичным работам, на переписку с учеными, занимающимися этим вопросом! Наконец, его собственные средства, о размерах которых Лариса не знала, но только могла догадываться. Он заплатил за культуры клеток в биотехнологическом центре, заплатил из своего кармана лаборантке, чтобы та задерживалась на работе в течение предыдущей недели. Закупил недостающие в лаборатории приборы и лабораторную посуду. И вот остается еще одна, последняя неделя. Потом закончатся среды, культуры клеток, закончится терпение лаборантки – и всё!
Лет тридцать назад или около того он проводил такого рода исследования по изучению дистантных взаимодействий клеток, но тогда не было такой компьютерной техники, таких высокочувствительных датчиков, дозиметров, удобной посуды, стекла – лабораторные условия были совсем другие. Какие условия для науки или для чего-то стоящего могли быть в стране в начале 90-х? Поэтому и результат его работы получился тогда неоднозначным, а сам он считал никаким, и никто из коллег не воспринимал всерьез две его публикации на эту тему, напечатанные полулегально в зарубежном журнале.
В начале 90-х была свобода – можно было заниматься чем хочешь, только для этого не было никаких средств, да и к самому существованию средств тоже не было. Ему, тогда уже кандидату наук, приходилось подрабатывать то грузчиком, то дворником, то ездить на Старый Арбат торговать старыми побрякушками. Хорошее знание английского позволяло предлагать иностранцам домашние реликвии в конце Старого Арбата. Стоял он, замерзая, где-то недалеко от здания МИДа, торгуя за бесценок старинной домашней посудой, а сам мечтал о новых лабораториях, о новом оборудовании, о новых экспериментах.
А что мечты? Его идея-фикс – дистантные межклеточные взаимодействия. Эта теория предполагала, что клетки живых организмов могут передавать жизненно важную информацию между собой или между различными группами с помощью слабого излучения в ультрафиолетовом, видимом и других диапазонах. Предварительные результаты его лабораторных работ, казалось, были обнадеживающими, но недоказательными. Руководство же, узнав о его самостоятельных изысканиях, устроило настоящий разгром. Пришлось забыть об этих идеях, чтобы остаться в институте. Просматривая литературу, он знал, что много лет назад японцы проводили такого рода исследования на различных культурах клеток, но они работали со звуковыми волнами различной частоты, в инфра- и ультразвуковых диапазонах. Результаты их работ в целом были тоже положительными, но практического применения так и не нашли. Теория дистантных межклеточных взаимодействий в 90-е годы стала обсуждаться в солидных зарубежных биологических журналах. Потом наступило затишье, несмотря на то, что появился интернет и появилось какое-то подобие открытости в отношениях с зарубежными учеными. В стране, точнее, в академии поднял голову пресловутый комитет по борьбе с лженаукой. Наконец, японцы перестали публиковать статьи на эту и подобные темы, потом даже тезисы основных статей начали печатать без английского перевода, а только на японском. Он пытался приспособиться к новым условиям, пытался переводить статьи и тезисы интересовавших его работ с японского и европейских языков. Некоторые работы на эту тему, опубликованные ранее в Японии и других странах, стали вдруг исчезать из сети. Зарубежные журналы перестали вести дискуссии на тему дистантных межклеточных взаимодействий. Игорь замкнулся на плановой научной работе. Гранты зарубежных научных центров и фармкомпаний хорошо оплачивались, и они с женой смогли помочь старшей дочери купить квартиру.
Последние два года, когда он защитил наконец докторскую диссертацию и сам стал заведующим лабораторией, он пришел к мысли, что теории межклеточных взаимодействий без химической основы, то есть идее дистантных взаимодействий, в ближайшее время не суждено развиться до хорошей экспериментальной работы. Причина тому была чисто материальная. Мировые фармкомпании и их дочерние предприятия во всех странах мира продолжают вести поиск новых препаратов. Это очень выгодно. Новые лекарственные средства всегда намного дороже классических препаратов, даже если они и ненамного эффективнее старых лекарств. Конечно, ресурсы даже ведущих фармкомпаний не безграничны. Например, избитая тема антибиотиков, число которых ограниченно, однако биотехнологи, фармакологи все равно продолжают вести поиск новых резервных антибактериальных препаратов. И все это не только ради здоровья людей, все это по большей части ради денег, больших денег! Тогда кто в этой бешеной гонке за прибылью посмеет думать о каких-то дистантных межклеточных взаимодействиях? Кого могут заинтересовать слабые электромагнитные поля, низкочастотные или другие звуковые колебания, которые могут лежать в основе этих взаимодействий? Кого могут заинтересовать слабые, безвредные физические воздействия на человеческий организм, оказывающие лечебный эффект? Вся современная фармакология, медицина, сельское хозяйство построены только на основе классической биологической химии. Конечно, с углубленными знаниями генетики, эпигенетики, но опять-таки на базе химической науки, а не физики и биофизики. Прибыль и только прибыль, прикрытая благими намерениями о здоровье потребителя! И тогда любые исследования, альтернативные биоорганической химии, будут названы лженаукой. Не зря его ведущие консультанты однозначно заявили, что если он оставит в докторской диссертации подглаву о дистантных межклеточных взаимодействиях, то диплома доктора наук ему не видать, как своих ушей.
А тут еще нагрянула эта непонятная пандемия с китайским вирусом, тоже, скорее всего, искусственно созданным, а не якобы мутировавшим в природных условиях. Какие новые сверхдоходы от миллионов, а может, и миллиардов заболевших получат теперь фармкомпании! Зажравшиеся от сверхдоходов фармгиганты готовы похоронить миллионы, а то и миллиарды людей, этих безропотных «овечек Долли» ради своих сверхприбылей! Экономики всех стран мира во время пандемии падают, а доходы фармкомпаний растут. Какая-то новая мировая война, где враг невидим, неизвестен, неуловим, и вообще одни «не»! И кто в этой дикой суете, в этих сплошных локдаунах даст согласие на исследование темы каких-то дистантных… Кто? То есть кого могут заинтересовать фундаментальные исследования в науке о межклеточных взаимодействиях на основе физической, а не химической природы?
– Игоре-о-ок! – казалось, откуда-то издалека донесся до него голос жены.
– О чем задумался, мой Игорь, поник кудрявой головой?
Какие тяжкие вериги
сковали мозг его, постой!
Проснись, мой Игорь, князь мятежный,
не стой с поникшей головой.
Я поцелую тебя нежно,
проснись. Проснись… И пой!
Проснись и пой!
Князь Игорь, славный, милый мой... – пропела уже с иронией в голосе в конце экспромта Лариса.
Он обнаружил себя стоящим в коридоре, облокотившимся о стену и смотрящим на горящую лампочку бра. Он заметил, что у него немного кружится голова, что мысли его бегут куда попало. Первое, о чем он продолжал думать, это то, что у него осталась только неделя для выяснения правильности его поиска. Второе – то, что поиск этот он ведет только для себя. Пока только для себя, но если результаты будут не нулевыми, то…
– Игорь, ты как? Мой княже, как ты сам?
– Нормально, – откликнулся он на вопросы жены. – Пою… Пытаюсь петь про себя, хотя хочется выть, – грустно закончил он.
– Все думаешь о своей несбывшейся экспериментальной работе? – уже серьезно спросила Лариса.
– Да… А откуда ты все знаешь?
При этом он тут же подумал: «Неужели я все-таки как-то проговорился? Или у нее такая интуиция, что чувствует каждое движение мысли?!»
– Просто знаю. Так ты решил их тайно возобновить?
– Ну да, – скорее, автоматически ответил Игорь.
«Эх, вот теперь уж точно проговорился», – укорил он мысленно себя.
«Теперь, если спросит про деньги… я не смогу ей соврать. Тогда уж точно все прогорит», – подумал он. Однако Лариса участливо добавила:
– Я же чувствую тебя. Я знаю тебя, знаю и чувствую, что ты не оставишь эту идею. Может быть, и хорошая идея, но один в поле… знаешь кто?
– Один в поле тоже воин, если он настроен на победу, – окончательно очнувшись, резко и бодро ответил он.
– Итак. Воюешь? Уж не с комитетом ли по лжеисследованиям?
– С дураками не воюют. Их обходят. С собой воюю. Не понимаю, почему после серии экспериментов пока не получено ни положительного, ни даже сомнительного результата.
– Послушай, а ты какие культуры клеток взял? Какие среды? Какой в них коэффициент преломления света? Ведь ты решил продолжить свои работы по дистантным в ультрафиолетовом диапазоне? Какие у тебя датчики? – спросила серьезно Лариса.
Он ожидал, что начнутся расспросы по поводу Светланы Николаевны – полной пожилой лаборантки, которая работала в его лаборатории, и без которой любая работа была бы невозможна. От неожиданности вопроса он ответил все как есть. Лариса предложила ему поменять среды. Еще раз уточнила индекс преломления сред, кварцевого стекла, лабораторной посуды. Наконец, она предложила ему вести параллельно работу с его любимыми бактериями Эшерихия коли, с которыми он работал много лет назад, а не только с культурами опухолевых клеток человека, как он планировал вначале. Супруги начали обсуждать детали работы прямо в коридоре. Добавление новых культур могло затянуть эксперимент еще на неопределенное время.
Зазвенел входной звонок. Пришла Маша с подругой. Обе они были в масках оранжевого цвета со смайлами. Девушки поздоровались, прошли в ванную, вымыли руки, умылись и пошли в комнату Маши. Вскоре дочь приоткрыла дверь своей комнаты и спросила:
– Мам, а что это за веник в вазе стоит?
– Машенька, а это папа тебе цветочки поставил, чтобы ты за ними ухаживала.
– Так они же сухие!.. А они расцветут?
– Ты хочешь?
– Интересно…
– Если интересно, то при хорошем уходе расцветут. Вы есть будете? Давайте на кухню!
– Не… У нас был последний день с куар-кодами, с куар-котиками. Зашли в кафешку, посидели с подругами. Мы перекусили. Спасибо.
– Ну вот. Все говорят, что надо сидеть дома. Соблюдать режим, изоляцию… – ответила, улыбнувшись, Лариса. – А розовые маски – это что, Хэллоуин собираетесь отмечать?
– Ой, мам, мы и забыли про него. Ты говоришь про режим, ну а как жить? Как можно нормально сдать сессию, не пообщавшись с девчонками по всем вопросам и темам? – ответила Маша. – Мам, ну ты же сама все знаешь лучше тех, кто что-то там болтает по телеку, и знаешь, что мы тоже знаем! Все, что надо, мы соблюдаем: и режим, и мытье антисептиком. Я с Мариной сейчас еще пройдусь по вопросам, и все.
Дверь в комнату дочери щелкнула.
– Ну вот. Поговорили. Все у них хорошо, – с усмешкой сказала Лариса.
– А, может быть, у них и правда все хорошо, – улыбнулся Игорь жене. – Ну и что, что сейчас эпидемия, что запреты. А во времена Чехова не было эпидемий? Лариса, это молодость, а в молодости все хорошо. И пусть у них правда все будет хорошо!
– Пусть будет так, – согласилась жена. – А мы как? Может, мы пойдем с тобой, мой князь, на кухню?
Они пошли на кухню. Он читал в планшете статью из американского биологического журнала, она готовила салат, грела картофельное пюре на плите.
За столом Лариса снова вернулась к теме прерванного разговора:
– Игорь, а ты уверен, что твоя Света делает все правильно, от души? При том, что ты ведь платишь ей, да?
Игорь промолчал, опустил глаза в тарелку и попытался сменить тему разговора:
– Ты – чай, какао?.. Или какой чай ты будешь?
– С мятой. Можно мелиссу в пакетике, и возьми в банке еще немного обычной мяты, перечной мяты и душицы.
– Не много?
– Да нет, я выспаться хочу. Послушай, Игорь, – продолжила Лариса, – она непростая баба, эта тетя Света. Когда я с ней сталкивалась по работе, то иногда приходилось некоторые вещи переделывать после нее. Ее надо очень хорошо контролировать, иначе…
Игорь встал, чтобы заварить жене и себе травяной чай, и спросил:
– А откуда ты узнала, что я договорился со Светланой Николаевной на платной основе?
Игорь снова поймал себя на мысли, что проговорился по поводу денег.
– А кто ее не знает? Просто, когда ты заканчивал и подгонял свою докторскую, я еще могла входить в твой институт, а сейчас… Вот завтра в магазин уже нельзя будет сходить без чипа. Помнишь черных коровок и бычков из «Мираторга» за Брянском? Все в чипах – все просчитано, все прочиплено. Такие красивенькие бычки гуляют на свободе, по полю. По оцепленному колючей проволокой полю, на каждом ухе и на холке у них по чипу. По три чипа на особь. Такая очипованная свобода. Так и мы все будем причипнуты.
– Да, ты права. И так уже все причипнуты и очипированы. Сидим тихо. Но почему ты так отреагировала на мою… на мои попытки экспериментальной работы по интересовавшей меня теме?
– А как я должна была отреагировать? Устроить скандал за то, что ты спонсируешь эту толстуху? Или… у тебя с ней уже все схвачено, и я лишняя в твоем житии-бытии? Неужели правда старушенцией заинтересовался? Или мне с Машкой надо уже куда-нибудь податься – к Анютке, что ли? А что, их трое в однушке, да нас двое – уплотнимся! И не такое бывало! – наигранно хмуро посмотрела на Игоря жена.
– Лара, ну что ты! – Игорь сильно поморщился, пытаясь представить себя на мгновенье ухажером Светланы Николаевны. – Просто ты всегда выступала против этого моего хобби с дистантными…
– Я была против, когда это мешало твоей защите. Но сейчас ты уже третий год как доктор. А в универе я, возможно, еще раньше тебя прочла несколько монографий Гурвича (Александр Гаврилович Гурвич – советский биолог, автор трудов по эмбриологии, цитологии, биофизике, основатель биофотоники и теории биологического поля) и его дочери, просто… Да ты же это все знаешь и понимаешь. Просто недавно перечитала твою главу из диссертации, которую заставили выбросить под нажимом придурков из комитета по лженауке. Ведь это вообще могло быть отдельной темой. Даже не темой докторской диссертации, а целого направления в биологии и смежных науках. Ты там практически почти все доказал! Да, обосновал, что существуют такого рода взаимодействия между клетками – посредством светового излучения в ультрафиолетовом, частично видимом диапазоне.
– И инфракрасном…
– Ну, разве не так? Да?
– Ну да, во всех спектрах, – добавил Игорь. – А если взяться за механические колебания, если взяться за звук, тогда и нескольких жизней не хватит!
Улыбаясь, он закончил свою реплику.
– Так вот. Тогда зачем тебе понадобилось?..
– Лара! – перебил жену Игорь. – Ты же сама только что проговорила: почти доказал! – выделил последние слова интонацией он. – Почти – это не доказательство. Это только тенденция, согласно которой нельзя давать рекомендации по глубоким исследованиям в научном направлении. Только сейчас я хочу еще раз подтвердить правильность поиска, ну а если удастся, то и достоверно доказать, что факт таких взаимодействий существует. Но ты меня озадачила тем, что Светлана может халтурить. Если во время подготовки растворов, сред и вообще в процессе всей работы такое было, то… грош цена всей этой моей работе за последние недели.
– Игорек, лучше бы ты заплатил охранникам или кому-нибудь в кадрах, чтобы мне оформили пропуск, чем на эту старую перечницу тратиться!
– Так ты уже не смеешься надо мной по поводу…
– Я люблю смеяться, но, видя, как ты убиваешься последнее время, мне просто стало жалко тебя. А вообще – я люблю тебя! Поэтому я так разговорилась. Да, подожди…
Она встала из-за стола, подтянулась и взяла с холодильника файлы с листами. Но перед тем, как дать их мужу, прищурила левый глаз и спросила его бодро:
– Нихонго о емимас ка?
– Чего?! Япона-мама?
– Конечно, я! Я… Я мама твоих дочек. Только не японка я. Возьми, – улыбаясь, она протянула мужу файлы текстов. – Это последние статьи по теме, которая тебя интересует. Но японцы ударились не в электромагнитные волны, а в механические колебания. Помнишь исследования того старого японца, который утверждал много лет назад, что в нервном импульсе первичным является механическое сокращение нервных клеток и нервных волокон, а не калий-натриевый насос со сменой зарядов на клеточных мембранах у всех клеток?
– Хочешь сказать, что японцы правы насчет механических волн и насчет звука? Ведь в начале было Слово, и Слово было…
– Да… Не знаю. Не хочу спорить, хотя наука – сплошной спор. Но как же тогда электромагнитные изменения в биофизике, в диагностике, наконец, что такое ЭКГ, энцефалография? Или энцефалография – это результат сокращения, то есть физической работы нервных клеток? Так что ли? Тогда при чем здесь электромагнитные колебания?
– А, может быть, и так! Или примерно так, или…
– Да… Или все это синхронное дублирование и электромагнитного, и механического компонента в физиологии? Пусть будет так, даже пусть электромагнитные колебания в физиологии будут вторичны, но их колебания уже столетие регистрируются и не вызывают ни у кого сомнений. Почему же тонкие межклеточные не химические, а физические, то есть биофизические дистанционные взаимодействия до сих пор вызывают у всех сомнения?
– Эх, Лара. Все просто.
– Что?
– Я даже не ожидал, что это тебя так захватило.
– А как? Ты что, мне чужой? Что значит просто? Что ты имел в виду?
– Просто потому, что последние десятилетия все, абсолютно все куплено, вся наука, все перспективные фундаментальные исследования – все куплено фармацевтическими гигантами.
– И ты хочешь бороться с ними?
– Нет.
– Тогда для чего ты заводишь прежде всего себя, ну и меня? Для чего?
– Для себя.
– И все?
– И все. Так просто – не для Нобеля, не для шнобеля, просто для себя, – он потянулся руками к жене. – Лара, только ты не заводись так сильно. Я постараюсь…
В разговоре возникла пауза. Лариса взяла его левую ладонь в свою.
– Хорошо, как?
Снова наступила молчание. После чего Игорь ответил:
– Возможно, что ты и права в отношении Светы. Если она недобросовестно работала, то все проведенные эксперименты могли пойти коту под хвост. Я тоже изредка замечал за ней некоторые проколы. Тем более что работа эта не для начальников, не контролируемая ими, а работа для себя, то есть лично для меня, для моего удовольствия, как она, наверное, считает. Да, в общем, так оно и есть, но…
– Завтра я пойду с тобой. Нет. Завтра я отпрошусь или что-то придумаю, или за свой счет... Взять больничный сейчас непросто. Завтра ты ничего не делай и оставь эту бабку в покое. Скажи, что нужно подумать. Главное – пусть пока молчит. А во вторник я любыми силами проникну в твою контору, и мы вместе начнем с нуля. Надо под любым предлогом проникнуть к тебе. Ведь с понедельника вводятся очередные карантинные ограничения для всех работающих. И вообще необходимо будет прогнать всю работу, что делал с ней и ту, что запланировал. Проведем все сами – без нее.
– Хм… А как же твоя?..
– Моя работа с буржуйскими грантами давно закончена. И закончена очень успешно. Посмотри! – Лариса вынула последний файл из папки, которая была у него в руках. – Это инструкция на новый датчик, который мне заведующий разрешил взять на две недели. Таких приборов в вашем институте еще нет.
Игорь быстро пробежал глазами по английскому тексту, от удивления он приоткрыл рот.
– Мне хочется помочь тебе. Кстати, сегодня мне перечислили часть денег по теме, связанной с изучением АПФ-2 в тканях человека. Это все в связи с этим ковидом. Черт бы его побрал! Надо поставить точки над всеми «и», а иначе… Иначе так никогда не кончится.
– Да?! А я вначале побаивался тебя и даже ненароком подумал, что, может быть, ты как наш комитет по лже… Может, ты хочешь поставить одну жирую кляксу на всей моей работе.
– Да ты что?! А зачем я несколько месяцев перед этим читала и перечитывала литературу, твои работы, наконец, эти статьи искала? А прибор? Прибор этот завтра привезу домой, чтобы перевезти потом в твою лабораторию. У меня есть конспекты и переводы по всем работам, включая и те статьи, которые ты держишь. Ты же видишь, что это совсем новые работы – японские, несколько американских и китайских. Последние – из их солидных университетов. Ты же таких работ еще не видел? А ты что, забыл, что мы с тобой столько лет живем вместе, забыл, что… что я…
– Да. Наверное, совсем очумел и забылся, – неуверенно ответил Игорь, перебирая стопку с файлами, которые дала ему жена. – А где же ты их раскопала?
– Помнишь, у нас была встреча с японцами? Так вот…
В это время Маша заглянула, приоткрыв кухонную дверь:
– Пап, мам, я Марину провожу и – домой. Маски, перчатки, индивидуальный антисептик у меня всегда с собой. Через девятнадцать минут я буду дома!
– Маш, не ерничай. Мы понимаем, что тебе девятнадцать лет, и мы знаем, что ты все знаешь и не хуже нас!
– Марина, передавай привет родителям!
– Спасибо. До свидания!
– Вы у меня молодцы, господа биологи, – откликнулась Маша, а Марина попрощалась, не заглядывая на кухню, из прихожей.
* * *
Спустя три недели Игорь пришел домой, принимая поздравления с днем рождения от родных и друзей по телефону. Он передал свой телефон жене и пошел мыть руки, умываться.
– Игорь, смотри, какую красивую открытку прислала нам Аня к твоему дню рождения! – воскликнула Лариса, взяв его телефон для обработки антисептиком.
– А ну, подай мне нашу Анну! – он потянулся к своему телефону.
– Какие красивые цветы… Как живые, – прокомментировала жена.
– А это что? Что-то знакомое.
– А это хризантемы, которые расцвели в комнате твоей младшей дочери. Она ухаживала за ними все это время, и вот они расцвели! Загляни в комнату Маши, – пригласила жена мужа.
– Интересный фотомонтаж! И это у нас в Машиной комнате такой букет стоит? А я ведь так и не видел, что они расцвели, надо же! А это еще что за… Это что, какое-то исследование, что ли? – Игорь пошел за женой, которая потянула его в комнату Маши.
– Да, похоже на ультразвук, на скан ультразвукового исследования…
– Ну вот, и еще с музыкой… Тянут-потянут свое видеопредставление…
– А как ты хотел? Все сразу и быстро? А у нас в науке как? Всегда все сразу и быстро? А цветы наши быстро распустились? Посмотри… Во-от… Открывается заключение. Читай!
– В полости матки…
– Нет, дальше! Вот! «Дорогой папа, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Готовься стать второй раз дедушкой!» Ура! – восторженно озвучила фотооткрытку Лариса. – Вот видишь, и старшая постаралась к твоему дню рождения, и младшая ухаживала за цветами, и они расцвели. Из засохшей травы получился красивый букет.
– И ты, мой цветочек, ты так помогла мне в эти дни! Если бы не твоя поддержка на прошлой неделе, если бы не твоя помощь, то… А сегодня компьютерная обработка нашей с тобой работы показала положительные результаты, представляешь!
– Да ты что?! Положительные результаты по твоим исследованиям, по твоим… по нашим дистантным?! И что, в каких группах?
– Да! Да во всех группах, представляешь!
– Ура! – воскликнула радостно Лариса; она обхватила его руками, прижалась и начала целовать. – Это же начало… нет, это уже состоявшееся фундаментальное открытие! Это открытие нового направления в мировой науке!
– Спасибо тебе, моя Лариса, моя чайка! Чайка моя быстрокрылая, внучка Посейдона. Не зря же твой дед в Севастополе командовал самым большим кораблем Черноморского флота, чтобы твои мысли летали быстрее света…
– Мне даже не верится, мой хранимый богом рыцарь науки! – улыбаясь, отвечала мужу Лариса.
Они обнимались у подоконника, где стоял букет распустившихся темно-голубых и сиреневых хризантем.
– Чувствую, что ты сейчас усиленно думаешь не о своей днюхе и даже не о внуке, а о втором этапе эксперимента. О подавлении роста опухолевых клеток, о подавлении патогенных микробов с помощью твоего невидимого безвредного чудо-излучения…
– Ты тоже чудо – просто читаешь мои мысли. Но эффект подавления культуры опухолевых клеток уже получен в проведенной с твоей помощью работе.
– Это же намного круче, чем управление реакцией термоядерного синте… – хотела продолжить Лариса, но в это время на пороге своей комнаты появилась Мария, которая незаметно вошла в дом. В руках она держала букет фиолетовых и сиреневых хризантем – точно таких же, как на подоконнике и на фотографии в телефоне.
– С днем рождения, дорогой папа! – воскликнула она, поднося отцу букет. – Это от Анюты. Она две недели назад ездила с Сергеем в сад. Сорвали там засохшие цветы, и они расцвели, как и эти, в моей комнате…
– Правда?
– Видишь, какие красивые, несмотря на то, что зима на дворе! Я к ним заезжала по пути. Они обещали позднее позвонить тебе…
– Позвонила уже, – сказала Лариса.
– Надо же, расцвели... Наши цветы расцвели, – немного грустно заметил Игорь.
– А как ты хотел? Ведь наши дети должны быть не хуже – они должны быть и будут лучше нас! – сказала Лариса.
– Пап, а чего ты какой-то грустный?..
– Нет, я очень рад за вас, мои девочки! Просто время, возраст…
– Какие красивые... – улыбнулась Лариса, беря в руки букет дочери.
(Оптимистическая история)
Татьяне Владимировне Баськовой (Васильевой), Юрию Александровичу Николаеву посвящается
Лариса подала Игорю пучок засохшей травы с пурпурно-коричневыми и редкими зелеными листочками:
– Подрежь аккуратно и поставь в вазу.
– Это что, цветы?
– Да, да... Цветы! – подтвердила жена.
Игорь неуверенно взял небольшую связку травы. Он видел, как утром жена на садовом участке ходила с маленькой лопаткой и большими ножницами по клумбе и что-то там делала. Лепестки на оставшихся цветах и вся трава на клумбе пожухли, пожелтели. Стояла глубокая осень – конец октября, держалась холодная, промозглая погода. Накануне шел снег с дождем, а на завтра, в понедельник, обещали морозы ниже семи-восьми градусов.
– Это астры? – спросил он.
– Нет, что ты, это хризантемы. Подожди, я сейчас поищу, во что их поставить.
– А зачем? Зачем их в воду? Они разве расцветут? – растерянно проговорил Игорь, держа пучок засохшей травы. Он перебирал тонкие, сухие веточки, пытаясь найти завязи цветов. Ему показалось, что он нашел несколько маленьких головок нераскрывшихся цветков.
– Ты как хочешь? – спросила Лариса, протягивая ему старую вазу.
– Не знаю. Конечно, интересно…
– Интересно – да или интересно – нет?
– Я – за. За то, чтобы они попробовали расцвести.
– Тогда расцветут! – улыбнулась в ответ жена.
– Почему?
– Потому что это красиво. Наконец, потому что ты так хочешь. Ведь ты хочешь? Подрежь их, налей воды и поставь в комнату Маши на подоконник.
– Ну да. Наверное, интересно будет посмотреть.
Он пошел с вазой и подобием букета в ванную комнату, подрезал засохшие тонкие стебли, набрал воды, потом отнес вазу в комнату дочери, поставил на подоконник, как сказала жена. Он совсем не думал о хозяйских делах и уж тем более о цветах. Мысли его были поглощены последними экспериментами на работе, результаты которых были неутешительны. Он все думал о своей давнишней мечте...
Он столько сил потратил на проведение последней экспериментальной работы, но предварительный компьютерный анализ показывал, что его теоретические предположения и надежды в ходе серии экспериментов не подтверждаются. Сколько времени было потрачено на поиски литературы по аналогичным работам, на переписку с учеными, занимающимися этим вопросом! Наконец, его собственные средства, о размерах которых Лариса не знала, но только могла догадываться. Он заплатил за культуры клеток в биотехнологическом центре, заплатил из своего кармана лаборантке, чтобы та задерживалась на работе в течение предыдущей недели. Закупил недостающие в лаборатории приборы и лабораторную посуду. И вот остается еще одна, последняя неделя. Потом закончатся среды, культуры клеток, закончится терпение лаборантки – и всё!
Лет тридцать назад или около того он проводил такого рода исследования по изучению дистантных взаимодействий клеток, но тогда не было такой компьютерной техники, таких высокочувствительных датчиков, дозиметров, удобной посуды, стекла – лабораторные условия были совсем другие. Какие условия для науки или для чего-то стоящего могли быть в стране в начале 90-х? Поэтому и результат его работы получился тогда неоднозначным, а сам он считал никаким, и никто из коллег не воспринимал всерьез две его публикации на эту тему, напечатанные полулегально в зарубежном журнале.
В начале 90-х была свобода – можно было заниматься чем хочешь, только для этого не было никаких средств, да и к самому существованию средств тоже не было. Ему, тогда уже кандидату наук, приходилось подрабатывать то грузчиком, то дворником, то ездить на Старый Арбат торговать старыми побрякушками. Хорошее знание английского позволяло предлагать иностранцам домашние реликвии в конце Старого Арбата. Стоял он, замерзая, где-то недалеко от здания МИДа, торгуя за бесценок старинной домашней посудой, а сам мечтал о новых лабораториях, о новом оборудовании, о новых экспериментах.
А что мечты? Его идея-фикс – дистантные межклеточные взаимодействия. Эта теория предполагала, что клетки живых организмов могут передавать жизненно важную информацию между собой или между различными группами с помощью слабого излучения в ультрафиолетовом, видимом и других диапазонах. Предварительные результаты его лабораторных работ, казалось, были обнадеживающими, но недоказательными. Руководство же, узнав о его самостоятельных изысканиях, устроило настоящий разгром. Пришлось забыть об этих идеях, чтобы остаться в институте. Просматривая литературу, он знал, что много лет назад японцы проводили такого рода исследования на различных культурах клеток, но они работали со звуковыми волнами различной частоты, в инфра- и ультразвуковых диапазонах. Результаты их работ в целом были тоже положительными, но практического применения так и не нашли. Теория дистантных межклеточных взаимодействий в 90-е годы стала обсуждаться в солидных зарубежных биологических журналах. Потом наступило затишье, несмотря на то, что появился интернет и появилось какое-то подобие открытости в отношениях с зарубежными учеными. В стране, точнее, в академии поднял голову пресловутый комитет по борьбе с лженаукой. Наконец, японцы перестали публиковать статьи на эту и подобные темы, потом даже тезисы основных статей начали печатать без английского перевода, а только на японском. Он пытался приспособиться к новым условиям, пытался переводить статьи и тезисы интересовавших его работ с японского и европейских языков. Некоторые работы на эту тему, опубликованные ранее в Японии и других странах, стали вдруг исчезать из сети. Зарубежные журналы перестали вести дискуссии на тему дистантных межклеточных взаимодействий. Игорь замкнулся на плановой научной работе. Гранты зарубежных научных центров и фармкомпаний хорошо оплачивались, и они с женой смогли помочь старшей дочери купить квартиру.
Последние два года, когда он защитил наконец докторскую диссертацию и сам стал заведующим лабораторией, он пришел к мысли, что теории межклеточных взаимодействий без химической основы, то есть идее дистантных взаимодействий, в ближайшее время не суждено развиться до хорошей экспериментальной работы. Причина тому была чисто материальная. Мировые фармкомпании и их дочерние предприятия во всех странах мира продолжают вести поиск новых препаратов. Это очень выгодно. Новые лекарственные средства всегда намного дороже классических препаратов, даже если они и ненамного эффективнее старых лекарств. Конечно, ресурсы даже ведущих фармкомпаний не безграничны. Например, избитая тема антибиотиков, число которых ограниченно, однако биотехнологи, фармакологи все равно продолжают вести поиск новых резервных антибактериальных препаратов. И все это не только ради здоровья людей, все это по большей части ради денег, больших денег! Тогда кто в этой бешеной гонке за прибылью посмеет думать о каких-то дистантных межклеточных взаимодействиях? Кого могут заинтересовать слабые электромагнитные поля, низкочастотные или другие звуковые колебания, которые могут лежать в основе этих взаимодействий? Кого могут заинтересовать слабые, безвредные физические воздействия на человеческий организм, оказывающие лечебный эффект? Вся современная фармакология, медицина, сельское хозяйство построены только на основе классической биологической химии. Конечно, с углубленными знаниями генетики, эпигенетики, но опять-таки на базе химической науки, а не физики и биофизики. Прибыль и только прибыль, прикрытая благими намерениями о здоровье потребителя! И тогда любые исследования, альтернативные биоорганической химии, будут названы лженаукой. Не зря его ведущие консультанты однозначно заявили, что если он оставит в докторской диссертации подглаву о дистантных межклеточных взаимодействиях, то диплома доктора наук ему не видать, как своих ушей.
А тут еще нагрянула эта непонятная пандемия с китайским вирусом, тоже, скорее всего, искусственно созданным, а не якобы мутировавшим в природных условиях. Какие новые сверхдоходы от миллионов, а может, и миллиардов заболевших получат теперь фармкомпании! Зажравшиеся от сверхдоходов фармгиганты готовы похоронить миллионы, а то и миллиарды людей, этих безропотных «овечек Долли» ради своих сверхприбылей! Экономики всех стран мира во время пандемии падают, а доходы фармкомпаний растут. Какая-то новая мировая война, где враг невидим, неизвестен, неуловим, и вообще одни «не»! И кто в этой дикой суете, в этих сплошных локдаунах даст согласие на исследование темы каких-то дистантных… Кто? То есть кого могут заинтересовать фундаментальные исследования в науке о межклеточных взаимодействиях на основе физической, а не химической природы?
– Игоре-о-ок! – казалось, откуда-то издалека донесся до него голос жены.
– О чем задумался, мой Игорь, поник кудрявой головой?
Какие тяжкие вериги
сковали мозг его, постой!
Проснись, мой Игорь, князь мятежный,
не стой с поникшей головой.
Я поцелую тебя нежно,
проснись. Проснись… И пой!
Проснись и пой!
Князь Игорь, славный, милый мой... – пропела уже с иронией в голосе в конце экспромта Лариса.
Он обнаружил себя стоящим в коридоре, облокотившимся о стену и смотрящим на горящую лампочку бра. Он заметил, что у него немного кружится голова, что мысли его бегут куда попало. Первое, о чем он продолжал думать, это то, что у него осталась только неделя для выяснения правильности его поиска. Второе – то, что поиск этот он ведет только для себя. Пока только для себя, но если результаты будут не нулевыми, то…
– Игорь, ты как? Мой княже, как ты сам?
– Нормально, – откликнулся он на вопросы жены. – Пою… Пытаюсь петь про себя, хотя хочется выть, – грустно закончил он.
– Все думаешь о своей несбывшейся экспериментальной работе? – уже серьезно спросила Лариса.
– Да… А откуда ты все знаешь?
При этом он тут же подумал: «Неужели я все-таки как-то проговорился? Или у нее такая интуиция, что чувствует каждое движение мысли?!»
– Просто знаю. Так ты решил их тайно возобновить?
– Ну да, – скорее, автоматически ответил Игорь.
«Эх, вот теперь уж точно проговорился», – укорил он мысленно себя.
«Теперь, если спросит про деньги… я не смогу ей соврать. Тогда уж точно все прогорит», – подумал он. Однако Лариса участливо добавила:
– Я же чувствую тебя. Я знаю тебя, знаю и чувствую, что ты не оставишь эту идею. Может быть, и хорошая идея, но один в поле… знаешь кто?
– Один в поле тоже воин, если он настроен на победу, – окончательно очнувшись, резко и бодро ответил он.
– Итак. Воюешь? Уж не с комитетом ли по лжеисследованиям?
– С дураками не воюют. Их обходят. С собой воюю. Не понимаю, почему после серии экспериментов пока не получено ни положительного, ни даже сомнительного результата.
– Послушай, а ты какие культуры клеток взял? Какие среды? Какой в них коэффициент преломления света? Ведь ты решил продолжить свои работы по дистантным в ультрафиолетовом диапазоне? Какие у тебя датчики? – спросила серьезно Лариса.
Он ожидал, что начнутся расспросы по поводу Светланы Николаевны – полной пожилой лаборантки, которая работала в его лаборатории, и без которой любая работа была бы невозможна. От неожиданности вопроса он ответил все как есть. Лариса предложила ему поменять среды. Еще раз уточнила индекс преломления сред, кварцевого стекла, лабораторной посуды. Наконец, она предложила ему вести параллельно работу с его любимыми бактериями Эшерихия коли, с которыми он работал много лет назад, а не только с культурами опухолевых клеток человека, как он планировал вначале. Супруги начали обсуждать детали работы прямо в коридоре. Добавление новых культур могло затянуть эксперимент еще на неопределенное время.
Зазвенел входной звонок. Пришла Маша с подругой. Обе они были в масках оранжевого цвета со смайлами. Девушки поздоровались, прошли в ванную, вымыли руки, умылись и пошли в комнату Маши. Вскоре дочь приоткрыла дверь своей комнаты и спросила:
– Мам, а что это за веник в вазе стоит?
– Машенька, а это папа тебе цветочки поставил, чтобы ты за ними ухаживала.
– Так они же сухие!.. А они расцветут?
– Ты хочешь?
– Интересно…
– Если интересно, то при хорошем уходе расцветут. Вы есть будете? Давайте на кухню!
– Не… У нас был последний день с куар-кодами, с куар-котиками. Зашли в кафешку, посидели с подругами. Мы перекусили. Спасибо.
– Ну вот. Все говорят, что надо сидеть дома. Соблюдать режим, изоляцию… – ответила, улыбнувшись, Лариса. – А розовые маски – это что, Хэллоуин собираетесь отмечать?
– Ой, мам, мы и забыли про него. Ты говоришь про режим, ну а как жить? Как можно нормально сдать сессию, не пообщавшись с девчонками по всем вопросам и темам? – ответила Маша. – Мам, ну ты же сама все знаешь лучше тех, кто что-то там болтает по телеку, и знаешь, что мы тоже знаем! Все, что надо, мы соблюдаем: и режим, и мытье антисептиком. Я с Мариной сейчас еще пройдусь по вопросам, и все.
Дверь в комнату дочери щелкнула.
– Ну вот. Поговорили. Все у них хорошо, – с усмешкой сказала Лариса.
– А, может быть, у них и правда все хорошо, – улыбнулся Игорь жене. – Ну и что, что сейчас эпидемия, что запреты. А во времена Чехова не было эпидемий? Лариса, это молодость, а в молодости все хорошо. И пусть у них правда все будет хорошо!
– Пусть будет так, – согласилась жена. – А мы как? Может, мы пойдем с тобой, мой князь, на кухню?
Они пошли на кухню. Он читал в планшете статью из американского биологического журнала, она готовила салат, грела картофельное пюре на плите.
За столом Лариса снова вернулась к теме прерванного разговора:
– Игорь, а ты уверен, что твоя Света делает все правильно, от души? При том, что ты ведь платишь ей, да?
Игорь промолчал, опустил глаза в тарелку и попытался сменить тему разговора:
– Ты – чай, какао?.. Или какой чай ты будешь?
– С мятой. Можно мелиссу в пакетике, и возьми в банке еще немного обычной мяты, перечной мяты и душицы.
– Не много?
– Да нет, я выспаться хочу. Послушай, Игорь, – продолжила Лариса, – она непростая баба, эта тетя Света. Когда я с ней сталкивалась по работе, то иногда приходилось некоторые вещи переделывать после нее. Ее надо очень хорошо контролировать, иначе…
Игорь встал, чтобы заварить жене и себе травяной чай, и спросил:
– А откуда ты узнала, что я договорился со Светланой Николаевной на платной основе?
Игорь снова поймал себя на мысли, что проговорился по поводу денег.
– А кто ее не знает? Просто, когда ты заканчивал и подгонял свою докторскую, я еще могла входить в твой институт, а сейчас… Вот завтра в магазин уже нельзя будет сходить без чипа. Помнишь черных коровок и бычков из «Мираторга» за Брянском? Все в чипах – все просчитано, все прочиплено. Такие красивенькие бычки гуляют на свободе, по полю. По оцепленному колючей проволокой полю, на каждом ухе и на холке у них по чипу. По три чипа на особь. Такая очипованная свобода. Так и мы все будем причипнуты.
– Да, ты права. И так уже все причипнуты и очипированы. Сидим тихо. Но почему ты так отреагировала на мою… на мои попытки экспериментальной работы по интересовавшей меня теме?
– А как я должна была отреагировать? Устроить скандал за то, что ты спонсируешь эту толстуху? Или… у тебя с ней уже все схвачено, и я лишняя в твоем житии-бытии? Неужели правда старушенцией заинтересовался? Или мне с Машкой надо уже куда-нибудь податься – к Анютке, что ли? А что, их трое в однушке, да нас двое – уплотнимся! И не такое бывало! – наигранно хмуро посмотрела на Игоря жена.
– Лара, ну что ты! – Игорь сильно поморщился, пытаясь представить себя на мгновенье ухажером Светланы Николаевны. – Просто ты всегда выступала против этого моего хобби с дистантными…
– Я была против, когда это мешало твоей защите. Но сейчас ты уже третий год как доктор. А в универе я, возможно, еще раньше тебя прочла несколько монографий Гурвича (Александр Гаврилович Гурвич – советский биолог, автор трудов по эмбриологии, цитологии, биофизике, основатель биофотоники и теории биологического поля) и его дочери, просто… Да ты же это все знаешь и понимаешь. Просто недавно перечитала твою главу из диссертации, которую заставили выбросить под нажимом придурков из комитета по лженауке. Ведь это вообще могло быть отдельной темой. Даже не темой докторской диссертации, а целого направления в биологии и смежных науках. Ты там практически почти все доказал! Да, обосновал, что существуют такого рода взаимодействия между клетками – посредством светового излучения в ультрафиолетовом, частично видимом диапазоне.
– И инфракрасном…
– Ну, разве не так? Да?
– Ну да, во всех спектрах, – добавил Игорь. – А если взяться за механические колебания, если взяться за звук, тогда и нескольких жизней не хватит!
Улыбаясь, он закончил свою реплику.
– Так вот. Тогда зачем тебе понадобилось?..
– Лара! – перебил жену Игорь. – Ты же сама только что проговорила: почти доказал! – выделил последние слова интонацией он. – Почти – это не доказательство. Это только тенденция, согласно которой нельзя давать рекомендации по глубоким исследованиям в научном направлении. Только сейчас я хочу еще раз подтвердить правильность поиска, ну а если удастся, то и достоверно доказать, что факт таких взаимодействий существует. Но ты меня озадачила тем, что Светлана может халтурить. Если во время подготовки растворов, сред и вообще в процессе всей работы такое было, то… грош цена всей этой моей работе за последние недели.
– Игорек, лучше бы ты заплатил охранникам или кому-нибудь в кадрах, чтобы мне оформили пропуск, чем на эту старую перечницу тратиться!
– Так ты уже не смеешься надо мной по поводу…
– Я люблю смеяться, но, видя, как ты убиваешься последнее время, мне просто стало жалко тебя. А вообще – я люблю тебя! Поэтому я так разговорилась. Да, подожди…
Она встала из-за стола, подтянулась и взяла с холодильника файлы с листами. Но перед тем, как дать их мужу, прищурила левый глаз и спросила его бодро:
– Нихонго о емимас ка?
– Чего?! Япона-мама?
– Конечно, я! Я… Я мама твоих дочек. Только не японка я. Возьми, – улыбаясь, она протянула мужу файлы текстов. – Это последние статьи по теме, которая тебя интересует. Но японцы ударились не в электромагнитные волны, а в механические колебания. Помнишь исследования того старого японца, который утверждал много лет назад, что в нервном импульсе первичным является механическое сокращение нервных клеток и нервных волокон, а не калий-натриевый насос со сменой зарядов на клеточных мембранах у всех клеток?
– Хочешь сказать, что японцы правы насчет механических волн и насчет звука? Ведь в начале было Слово, и Слово было…
– Да… Не знаю. Не хочу спорить, хотя наука – сплошной спор. Но как же тогда электромагнитные изменения в биофизике, в диагностике, наконец, что такое ЭКГ, энцефалография? Или энцефалография – это результат сокращения, то есть физической работы нервных клеток? Так что ли? Тогда при чем здесь электромагнитные колебания?
– А, может быть, и так! Или примерно так, или…
– Да… Или все это синхронное дублирование и электромагнитного, и механического компонента в физиологии? Пусть будет так, даже пусть электромагнитные колебания в физиологии будут вторичны, но их колебания уже столетие регистрируются и не вызывают ни у кого сомнений. Почему же тонкие межклеточные не химические, а физические, то есть биофизические дистанционные взаимодействия до сих пор вызывают у всех сомнения?
– Эх, Лара. Все просто.
– Что?
– Я даже не ожидал, что это тебя так захватило.
– А как? Ты что, мне чужой? Что значит просто? Что ты имел в виду?
– Просто потому, что последние десятилетия все, абсолютно все куплено, вся наука, все перспективные фундаментальные исследования – все куплено фармацевтическими гигантами.
– И ты хочешь бороться с ними?
– Нет.
– Тогда для чего ты заводишь прежде всего себя, ну и меня? Для чего?
– Для себя.
– И все?
– И все. Так просто – не для Нобеля, не для шнобеля, просто для себя, – он потянулся руками к жене. – Лара, только ты не заводись так сильно. Я постараюсь…
В разговоре возникла пауза. Лариса взяла его левую ладонь в свою.
– Хорошо, как?
Снова наступила молчание. После чего Игорь ответил:
– Возможно, что ты и права в отношении Светы. Если она недобросовестно работала, то все проведенные эксперименты могли пойти коту под хвост. Я тоже изредка замечал за ней некоторые проколы. Тем более что работа эта не для начальников, не контролируемая ими, а работа для себя, то есть лично для меня, для моего удовольствия, как она, наверное, считает. Да, в общем, так оно и есть, но…
– Завтра я пойду с тобой. Нет. Завтра я отпрошусь или что-то придумаю, или за свой счет... Взять больничный сейчас непросто. Завтра ты ничего не делай и оставь эту бабку в покое. Скажи, что нужно подумать. Главное – пусть пока молчит. А во вторник я любыми силами проникну в твою контору, и мы вместе начнем с нуля. Надо под любым предлогом проникнуть к тебе. Ведь с понедельника вводятся очередные карантинные ограничения для всех работающих. И вообще необходимо будет прогнать всю работу, что делал с ней и ту, что запланировал. Проведем все сами – без нее.
– Хм… А как же твоя?..
– Моя работа с буржуйскими грантами давно закончена. И закончена очень успешно. Посмотри! – Лариса вынула последний файл из папки, которая была у него в руках. – Это инструкция на новый датчик, который мне заведующий разрешил взять на две недели. Таких приборов в вашем институте еще нет.
Игорь быстро пробежал глазами по английскому тексту, от удивления он приоткрыл рот.
– Мне хочется помочь тебе. Кстати, сегодня мне перечислили часть денег по теме, связанной с изучением АПФ-2 в тканях человека. Это все в связи с этим ковидом. Черт бы его побрал! Надо поставить точки над всеми «и», а иначе… Иначе так никогда не кончится.
– Да?! А я вначале побаивался тебя и даже ненароком подумал, что, может быть, ты как наш комитет по лже… Может, ты хочешь поставить одну жирую кляксу на всей моей работе.
– Да ты что?! А зачем я несколько месяцев перед этим читала и перечитывала литературу, твои работы, наконец, эти статьи искала? А прибор? Прибор этот завтра привезу домой, чтобы перевезти потом в твою лабораторию. У меня есть конспекты и переводы по всем работам, включая и те статьи, которые ты держишь. Ты же видишь, что это совсем новые работы – японские, несколько американских и китайских. Последние – из их солидных университетов. Ты же таких работ еще не видел? А ты что, забыл, что мы с тобой столько лет живем вместе, забыл, что… что я…
– Да. Наверное, совсем очумел и забылся, – неуверенно ответил Игорь, перебирая стопку с файлами, которые дала ему жена. – А где же ты их раскопала?
– Помнишь, у нас была встреча с японцами? Так вот…
В это время Маша заглянула, приоткрыв кухонную дверь:
– Пап, мам, я Марину провожу и – домой. Маски, перчатки, индивидуальный антисептик у меня всегда с собой. Через девятнадцать минут я буду дома!
– Маш, не ерничай. Мы понимаем, что тебе девятнадцать лет, и мы знаем, что ты все знаешь и не хуже нас!
– Марина, передавай привет родителям!
– Спасибо. До свидания!
– Вы у меня молодцы, господа биологи, – откликнулась Маша, а Марина попрощалась, не заглядывая на кухню, из прихожей.
* * *
Спустя три недели Игорь пришел домой, принимая поздравления с днем рождения от родных и друзей по телефону. Он передал свой телефон жене и пошел мыть руки, умываться.
– Игорь, смотри, какую красивую открытку прислала нам Аня к твоему дню рождения! – воскликнула Лариса, взяв его телефон для обработки антисептиком.
– А ну, подай мне нашу Анну! – он потянулся к своему телефону.
– Какие красивые цветы… Как живые, – прокомментировала жена.
– А это что? Что-то знакомое.
– А это хризантемы, которые расцвели в комнате твоей младшей дочери. Она ухаживала за ними все это время, и вот они расцвели! Загляни в комнату Маши, – пригласила жена мужа.
– Интересный фотомонтаж! И это у нас в Машиной комнате такой букет стоит? А я ведь так и не видел, что они расцвели, надо же! А это еще что за… Это что, какое-то исследование, что ли? – Игорь пошел за женой, которая потянула его в комнату Маши.
– Да, похоже на ультразвук, на скан ультразвукового исследования…
– Ну вот, и еще с музыкой… Тянут-потянут свое видеопредставление…
– А как ты хотел? Все сразу и быстро? А у нас в науке как? Всегда все сразу и быстро? А цветы наши быстро распустились? Посмотри… Во-от… Открывается заключение. Читай!
– В полости матки…
– Нет, дальше! Вот! «Дорогой папа, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Готовься стать второй раз дедушкой!» Ура! – восторженно озвучила фотооткрытку Лариса. – Вот видишь, и старшая постаралась к твоему дню рождения, и младшая ухаживала за цветами, и они расцвели. Из засохшей травы получился красивый букет.
– И ты, мой цветочек, ты так помогла мне в эти дни! Если бы не твоя поддержка на прошлой неделе, если бы не твоя помощь, то… А сегодня компьютерная обработка нашей с тобой работы показала положительные результаты, представляешь!
– Да ты что?! Положительные результаты по твоим исследованиям, по твоим… по нашим дистантным?! И что, в каких группах?
– Да! Да во всех группах, представляешь!
– Ура! – воскликнула радостно Лариса; она обхватила его руками, прижалась и начала целовать. – Это же начало… нет, это уже состоявшееся фундаментальное открытие! Это открытие нового направления в мировой науке!
– Спасибо тебе, моя Лариса, моя чайка! Чайка моя быстрокрылая, внучка Посейдона. Не зря же твой дед в Севастополе командовал самым большим кораблем Черноморского флота, чтобы твои мысли летали быстрее света…
– Мне даже не верится, мой хранимый богом рыцарь науки! – улыбаясь, отвечала мужу Лариса.
Они обнимались у подоконника, где стоял букет распустившихся темно-голубых и сиреневых хризантем.
– Чувствую, что ты сейчас усиленно думаешь не о своей днюхе и даже не о внуке, а о втором этапе эксперимента. О подавлении роста опухолевых клеток, о подавлении патогенных микробов с помощью твоего невидимого безвредного чудо-излучения…
– Ты тоже чудо – просто читаешь мои мысли. Но эффект подавления культуры опухолевых клеток уже получен в проведенной с твоей помощью работе.
– Это же намного круче, чем управление реакцией термоядерного синте… – хотела продолжить Лариса, но в это время на пороге своей комнаты появилась Мария, которая незаметно вошла в дом. В руках она держала букет фиолетовых и сиреневых хризантем – точно таких же, как на подоконнике и на фотографии в телефоне.
– С днем рождения, дорогой папа! – воскликнула она, поднося отцу букет. – Это от Анюты. Она две недели назад ездила с Сергеем в сад. Сорвали там засохшие цветы, и они расцвели, как и эти, в моей комнате…
– Правда?
– Видишь, какие красивые, несмотря на то, что зима на дворе! Я к ним заезжала по пути. Они обещали позднее позвонить тебе…
– Позвонила уже, – сказала Лариса.
– Надо же, расцвели... Наши цветы расцвели, – немного грустно заметил Игорь.
– А как ты хотел? Ведь наши дети должны быть не хуже – они должны быть и будут лучше нас! – сказала Лариса.
– Пап, а чего ты какой-то грустный?..
– Нет, я очень рад за вас, мои девочки! Просто время, возраст…
– Какие красивые... – улыбнулась Лариса, беря в руки букет дочери.

Дмитрий ТУРБИН
Родился в 1972 г. в Москве, член Российского союза писателей. Первая творческая работа опубликована в журнале «Фома» №3 за 2010 год. Публиковался в периодических изданиях, журнале «Чешская звезда», выпущено нескольких книг под его редакцией: священник Иоанн Тунгусов «Контуры моего сердца» (2011 г.), «Невыдуманные рассказы сельского батюшки, или Докричаться до края вечности» (2013 г.), «Невыдуманные рассказы сельского батюшки» (2017 г.). Имеет страничку на портале Проза.ру, Телеграм-канал «Для души послушать».
Родился в 1972 г. в Москве, член Российского союза писателей. Первая творческая работа опубликована в журнале «Фома» №3 за 2010 год. Публиковался в периодических изданиях, журнале «Чешская звезда», выпущено нескольких книг под его редакцией: священник Иоанн Тунгусов «Контуры моего сердца» (2011 г.), «Невыдуманные рассказы сельского батюшки, или Докричаться до края вечности» (2013 г.), «Невыдуманные рассказы сельского батюшки» (2017 г.). Имеет страничку на портале Проза.ру, Телеграм-канал «Для души послушать».
ЯБЛОКО ДЛЯ ЕВЫ
Осенний переезд с дачи. Я вернулся в город, и у меня с собой целая сумка яблок – антоновки. Сосед угостил. Я зашёл к нему на участок перед самым отъездом. У нас в этом году совсем яблок нет, а у него, пусть и немного, но о недостатке яблочных заготовок на зиму говорить не приходится. Вот, даже сумка размером с большое ведро осталась. Её-то он мне и предложил.
– Сумку можешь не возвращать, она мне не нужна.
Я взял с благодарностью. Взглянув на прощанье на его яблоню, я увидел несколько оставшихся плодов на верхних ветках. Они все, штуки четыре, висели кучно и были, как на выставку подобраны – налитые, с желтоватыми, подрумяненными солнышком бочками. Но одно, особенно крупное – никак не меньше полукилограмма – приковало к себе мой взор! Казалось, будто заботливый, чудесный садовник как-то по-особенному собрал в него все существующие в мире витамины, переложив их самыми ласковыми солнечными лучами и освежив перед этим каждый взвесью предрассветного тумана.
– Высоко висят, я не смог достать, – ответил сосед на мой взгляд.
Радом со стволом, опираясь на нижние ветки, стояло приспособление для бережного съёма высоко висящих плодов. Я взял его и попробовал дотянуться до оставшихся яблок. Не без труда, но мне удалось их достать, пусть и не все. Но, главное, самое крупное яблочное сокровище оказалось у меня в руках!
Я торжествовал! Вот внуков удивлю эдаким Царь-яблоком! Три пары восторженных и удивлённых детских глазёнок уже мерещились мне в недалёком будущем.
И вот я разгружаюсь недалеко от своего городского подъезда.
Толстый кабачок, искривлённый, как сабля мамлюк, слоистый лук-порей, пупырчатые, хрустящие огурцы и, конечно, яблоки – мои сегодняшние трофеи. Запираю машину, беру поклажу и направляюсь к дому.
Навстречу мне, видимо, из магазина идёт невысокого роста пожилая женщина. Осеннее серое пальто из качественной когда-то шерсти гармонично сочетается и со стильной фетровой шляпкой, из-под которой видны заботливо убранные седые волосы, и с модельными полусапожками из начищенной, такой же серой кожи. Двигается она устало, и мне показалось, что усталость эта как-то для неё всё ещё непривычна, будто одолевать свою хозяйку она стала совсем недавно. Естественные для почтенного возраста морщины не портят её лица, но словно нанесённые талантливой рукой художника штрихи призваны рассказать всем о той жизни, которую это лицо освещало на всём протяжении своей добротой.
Я невольно залюбовался представшим передо мной человеком, и сердце моё просто потребовало остановиться!
– Хотите яблоко?!
– Ой, нет, что Вы, – отзывается она, будто выныривая откуда-то из своих мыслей.
– Смотрите, – показываю я на свою раскрытую красноречивой полнотой сумку. – У меня много!
– Ой, да это же антоновка! Настоящая?! – недоверчиво в своём удивлении спрашивает она.
– А какая же ещё? Прямо из своего сада!
– Ой, тогда возьму, – неожиданно для самой себя соглашается она и протягивает руку к лежащему на самом верху сумки Царь-яблоку!
Я на долю секунды замираю. В голове проносятся мысли про восторженные глазёнки внуков, про радостное удивление жены и детей…
– Конечно-конечно, берите ещё! Мне хватит, – почему-то говорю я совсем не то, что думаю.
– Вот спасибо, мне тоже одного хватит, – с освещающей теплом улыбкой говорит дама, и я как-то удовлетворённо соглашаюсь, не настаиваю, поднимаю свои сумки и иду дальше к подъезду. С продолжением тёплой улыбки моей новой знакомой на своём лице.
Осенний переезд с дачи. Я вернулся в город, и у меня с собой целая сумка яблок – антоновки. Сосед угостил. Я зашёл к нему на участок перед самым отъездом. У нас в этом году совсем яблок нет, а у него, пусть и немного, но о недостатке яблочных заготовок на зиму говорить не приходится. Вот, даже сумка размером с большое ведро осталась. Её-то он мне и предложил.
– Сумку можешь не возвращать, она мне не нужна.
Я взял с благодарностью. Взглянув на прощанье на его яблоню, я увидел несколько оставшихся плодов на верхних ветках. Они все, штуки четыре, висели кучно и были, как на выставку подобраны – налитые, с желтоватыми, подрумяненными солнышком бочками. Но одно, особенно крупное – никак не меньше полукилограмма – приковало к себе мой взор! Казалось, будто заботливый, чудесный садовник как-то по-особенному собрал в него все существующие в мире витамины, переложив их самыми ласковыми солнечными лучами и освежив перед этим каждый взвесью предрассветного тумана.
– Высоко висят, я не смог достать, – ответил сосед на мой взгляд.
Радом со стволом, опираясь на нижние ветки, стояло приспособление для бережного съёма высоко висящих плодов. Я взял его и попробовал дотянуться до оставшихся яблок. Не без труда, но мне удалось их достать, пусть и не все. Но, главное, самое крупное яблочное сокровище оказалось у меня в руках!
Я торжествовал! Вот внуков удивлю эдаким Царь-яблоком! Три пары восторженных и удивлённых детских глазёнок уже мерещились мне в недалёком будущем.
И вот я разгружаюсь недалеко от своего городского подъезда.
Толстый кабачок, искривлённый, как сабля мамлюк, слоистый лук-порей, пупырчатые, хрустящие огурцы и, конечно, яблоки – мои сегодняшние трофеи. Запираю машину, беру поклажу и направляюсь к дому.
Навстречу мне, видимо, из магазина идёт невысокого роста пожилая женщина. Осеннее серое пальто из качественной когда-то шерсти гармонично сочетается и со стильной фетровой шляпкой, из-под которой видны заботливо убранные седые волосы, и с модельными полусапожками из начищенной, такой же серой кожи. Двигается она устало, и мне показалось, что усталость эта как-то для неё всё ещё непривычна, будто одолевать свою хозяйку она стала совсем недавно. Естественные для почтенного возраста морщины не портят её лица, но словно нанесённые талантливой рукой художника штрихи призваны рассказать всем о той жизни, которую это лицо освещало на всём протяжении своей добротой.
Я невольно залюбовался представшим передо мной человеком, и сердце моё просто потребовало остановиться!
– Хотите яблоко?!
– Ой, нет, что Вы, – отзывается она, будто выныривая откуда-то из своих мыслей.
– Смотрите, – показываю я на свою раскрытую красноречивой полнотой сумку. – У меня много!
– Ой, да это же антоновка! Настоящая?! – недоверчиво в своём удивлении спрашивает она.
– А какая же ещё? Прямо из своего сада!
– Ой, тогда возьму, – неожиданно для самой себя соглашается она и протягивает руку к лежащему на самом верху сумки Царь-яблоку!
Я на долю секунды замираю. В голове проносятся мысли про восторженные глазёнки внуков, про радостное удивление жены и детей…
– Конечно-конечно, берите ещё! Мне хватит, – почему-то говорю я совсем не то, что думаю.
– Вот спасибо, мне тоже одного хватит, – с освещающей теплом улыбкой говорит дама, и я как-то удовлетворённо соглашаюсь, не настаиваю, поднимаю свои сумки и иду дальше к подъезду. С продолжением тёплой улыбки моей новой знакомой на своём лице.
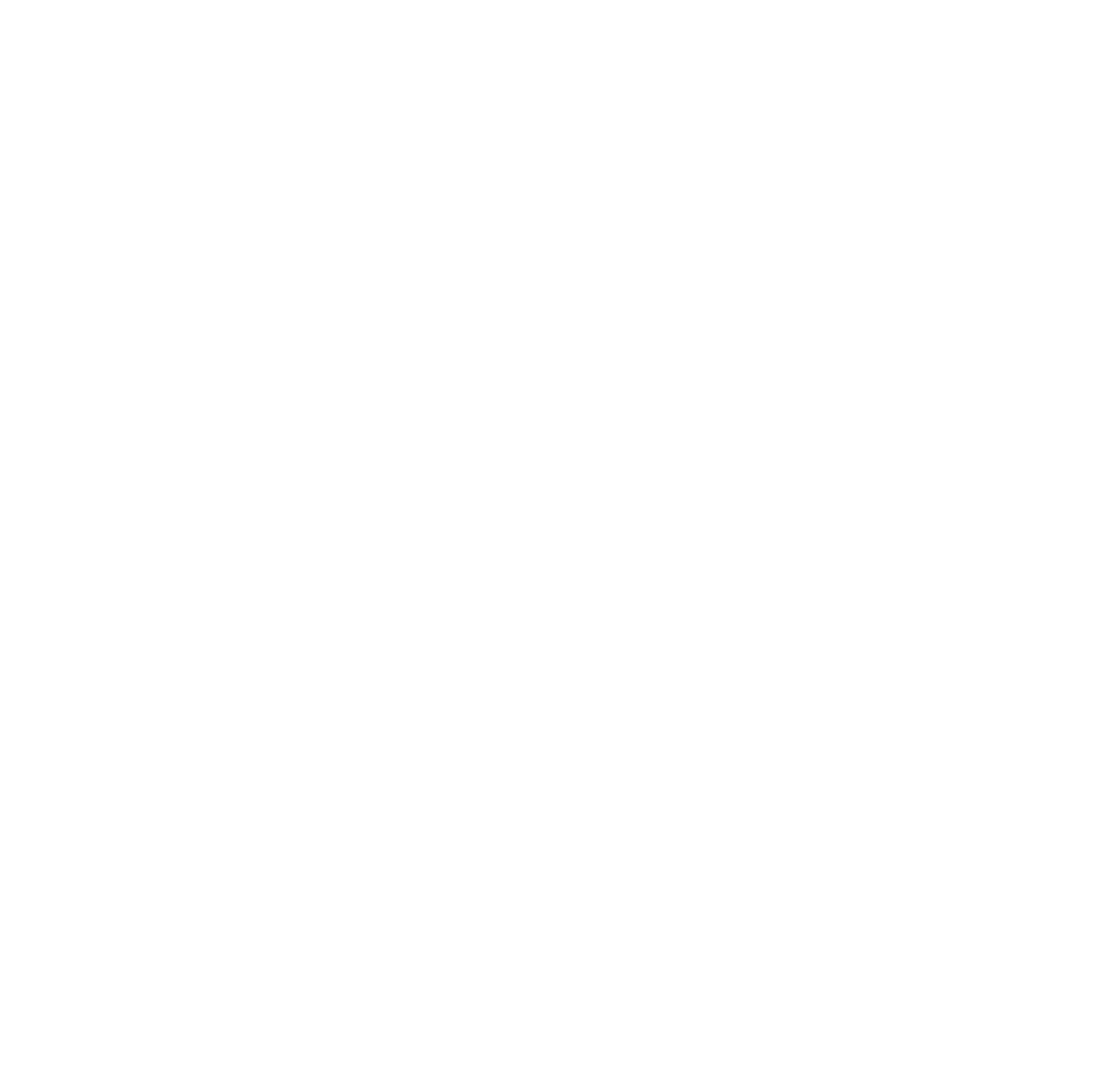
Алексей СОФИЙСКИЙ
Родился в 1941 в г. Хабаровске. С 1947 года проживаю в г. Краснодаре, здесь же окончил школу, женат. Образование высшее – инженер-электрик, пенсионер ФСБ РФ, ветеран органов госбезопасности, многократный лауреат российских и международных литературных конкурсов, неоднократный дипломант международного фотоконкурса 35AWARDS, автор стихов и рассказов, опубликованных в региональных и федеральных СМИ и на порталах Интернета Стихи. ру, Проза.ру.
Родился в 1941 в г. Хабаровске. С 1947 года проживаю в г. Краснодаре, здесь же окончил школу, женат. Образование высшее – инженер-электрик, пенсионер ФСБ РФ, ветеран органов госбезопасности, многократный лауреат российских и международных литературных конкурсов, неоднократный дипломант международного фотоконкурса 35AWARDS, автор стихов и рассказов, опубликованных в региональных и федеральных СМИ и на порталах Интернета Стихи. ру, Проза.ру.
ГОРЬКИЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Эта удивительная история произошла в 2019 году. Мои друзья Айвор и Ира с редкой и красивой фамилией Корнет в свой медовый месяц в конце мая отправились в краткосрочную турпоездку в Англию. Ничто не должно было омрачить путешествие молодожёнов по литературным достопримечательностям Англии и Шотландии. Друзья рассказывали, несмотря на то, что визы и все необходимые документы были оформлены заранее, что-то пошло не так…
По приезду в Лондон при заполнении миграционной карты Айвор и Ира указали свои имя, фамилию и другие данные о себе и цели поездки. А на бумаге они выглядели как АЙВОР КОРНЕТ и ИРА КОРНЕТ – естественно, на английском языке. В этот момент произошло что-то непонятное. Офицер полиции несколько раз внимательно изу-чил заполненные документы, куда-то нервно позвонил. Подошли два полицейских и встали по бокам ничего не понимающих молодожёнов…
Здесь надо сделать отступление и пояснения.
Как пояснил офицер полиции, перед приездом туристов в Северной Ирландии произошёл теракт с человеческими жертвами. В его организации подозревались члены запрещённой в Великобритании Ирландской Республиканской Армии, сокращённо ИРА. Слово «Корнет» в разговорной речи используется как обозначение звания младшего офицерского состава в войсках. Так совпало, что тёзка Айвора – Айвор Белл был в своё время начальником штаба ИРА. Вдобавок ко всему на Ирине был зелёный берет, белая коф-та и оранжевая юбка – цвета триколора флага ИРА. Всё это в совокупности вызвало подозрения в причастности моих друзей к ирландским террористам. И хотя продолжительная беседа с представителями власти не подтвердила их опасения, стражи порядка решили «подальше от греха» отправить молодожёнов назад в Москву с компенсацией материального и морального вреда. Айвор и Ира не были в претензии, но осадок остался.
ИСПЫТАНИЕ
Эту сердечную историю рассказал мне друг детства Леонид. Женившись в 24 года, он счастливо прожил с женой более сорока лет. После её неизлечимой болезни он овдовел. Детей у них не было, вернее, жена была для него и любимым ребёнком – так он к ней относился. Поэтому роль бездетного бобыля с годами стала его тяготить, до поры…
Так случилось, что во дворе многоэтажки, где он жил, хорошая знакомая и подруга жены Наташа тоже овдовела и жила одна. А потом – как в песне: «Мы жили по соседству, встречались просто так…» Так как они уже знали друг друга, и судьбы их оказались схожи, то они без труда сблизились. Настало время, когда они признались друг другу в своих чувствах. И если в своих он был уверен, то в её – сомневался и решил испытать её чувства…
Вспомнил он, как в юности участвовал в спектаклях народного драмтеатра. Загримировался, надел парик, сделал коллодием шрам на лице, сунул за щёки комки ваты, надел какое-то старьё. Одним словом, стал «чужим».
Когда вечером Наталья позвонила в его квартиру, ей открыл «незнакомый» мужчина и грубо спросил, что ей надо? Она растерялась и не знала что сказать, но через мгновенье… обняла его и сказала: «Дурачок, я тебя по губам узнала, разве можно забыть губы, целовавшие меня?!»
Они поженились, когда им было по 60+, сейчас им по 80+…
ТАБАЧНАЯ ИСТОРИЯ
У моей родственницы Людмилы два сына – Сергей и Виктор. Серёжа уже ходил в 1 класс, а Виктор еще ходил в детсад. Однажды, стирая Витину курточку, мать обнаружила в его кармане папиросные окурки. Она промолчала, но её это насторожило. В тот же вечер, идя по двору, она почувствовала запах табачного дыма, которым тянуло из заброшенного сарая. Подошла к нему, открыла дверь, и ей представилась такая картина: посреди сидящей кружком детворы лежала фуражка с окурками, а сами они передавали друг другу по кругу дымящуюся папироску. Увидев взрослого, ребятня бросилась врассыпную. Среди курцов были Сергей и Виктор.
Озабоченная мать долго размышляла, как бы отучить детей от вредной привычки, и приняла нестандартное решение. Пошла в магазин и купила упаковку «Беломора» – 10 пачек, стянутых бумажной лентой. Когда она пришла домой, испуганные сыновья сидели, нахохлившись, как два испуганных воробья. Мать поставила перед ними пепельницу, положила папиросы и сказала, что раз они начали курить и считают себя взрослыми, то пусть уж курят дома. Во-первых, ей будет спокойней, зная, что они не попадут в дурную компанию. А во-вторых, докуривать чужие окурки вредно и опасно – уличные курцы могут быть больны. После этого она предложила сыновьям закурить папиросу. Виктор нерешительно взял её. Стоявший рядом старший брат, понурив голову, бросил: «Дурак». Виктор заколебался, но мать подбодрила его, сказав, что пусть он покажет, чему научился и как надо курить. Виктор закурил и, сильно закашлявшись, выбросил папиросу.
В доме ещё долго лежала вскрытая пачка с папиросами, но для ребят они уже интереса не представляли, ведь «сладок» лишь запретный плод.
С тех пор дети, даже став взрослыми, в рот не брали ни курево, ни всякую дурь. А однажды откровенно признались матери, как они ей благодарны за то, что она так умело и педагогично отучила их от вредной привычки.
Эта удивительная история произошла в 2019 году. Мои друзья Айвор и Ира с редкой и красивой фамилией Корнет в свой медовый месяц в конце мая отправились в краткосрочную турпоездку в Англию. Ничто не должно было омрачить путешествие молодожёнов по литературным достопримечательностям Англии и Шотландии. Друзья рассказывали, несмотря на то, что визы и все необходимые документы были оформлены заранее, что-то пошло не так…
По приезду в Лондон при заполнении миграционной карты Айвор и Ира указали свои имя, фамилию и другие данные о себе и цели поездки. А на бумаге они выглядели как АЙВОР КОРНЕТ и ИРА КОРНЕТ – естественно, на английском языке. В этот момент произошло что-то непонятное. Офицер полиции несколько раз внимательно изу-чил заполненные документы, куда-то нервно позвонил. Подошли два полицейских и встали по бокам ничего не понимающих молодожёнов…
Здесь надо сделать отступление и пояснения.
Как пояснил офицер полиции, перед приездом туристов в Северной Ирландии произошёл теракт с человеческими жертвами. В его организации подозревались члены запрещённой в Великобритании Ирландской Республиканской Армии, сокращённо ИРА. Слово «Корнет» в разговорной речи используется как обозначение звания младшего офицерского состава в войсках. Так совпало, что тёзка Айвора – Айвор Белл был в своё время начальником штаба ИРА. Вдобавок ко всему на Ирине был зелёный берет, белая коф-та и оранжевая юбка – цвета триколора флага ИРА. Всё это в совокупности вызвало подозрения в причастности моих друзей к ирландским террористам. И хотя продолжительная беседа с представителями власти не подтвердила их опасения, стражи порядка решили «подальше от греха» отправить молодожёнов назад в Москву с компенсацией материального и морального вреда. Айвор и Ира не были в претензии, но осадок остался.
ИСПЫТАНИЕ
Эту сердечную историю рассказал мне друг детства Леонид. Женившись в 24 года, он счастливо прожил с женой более сорока лет. После её неизлечимой болезни он овдовел. Детей у них не было, вернее, жена была для него и любимым ребёнком – так он к ней относился. Поэтому роль бездетного бобыля с годами стала его тяготить, до поры…
Так случилось, что во дворе многоэтажки, где он жил, хорошая знакомая и подруга жены Наташа тоже овдовела и жила одна. А потом – как в песне: «Мы жили по соседству, встречались просто так…» Так как они уже знали друг друга, и судьбы их оказались схожи, то они без труда сблизились. Настало время, когда они признались друг другу в своих чувствах. И если в своих он был уверен, то в её – сомневался и решил испытать её чувства…
Вспомнил он, как в юности участвовал в спектаклях народного драмтеатра. Загримировался, надел парик, сделал коллодием шрам на лице, сунул за щёки комки ваты, надел какое-то старьё. Одним словом, стал «чужим».
Когда вечером Наталья позвонила в его квартиру, ей открыл «незнакомый» мужчина и грубо спросил, что ей надо? Она растерялась и не знала что сказать, но через мгновенье… обняла его и сказала: «Дурачок, я тебя по губам узнала, разве можно забыть губы, целовавшие меня?!»
Они поженились, когда им было по 60+, сейчас им по 80+…
ТАБАЧНАЯ ИСТОРИЯ
У моей родственницы Людмилы два сына – Сергей и Виктор. Серёжа уже ходил в 1 класс, а Виктор еще ходил в детсад. Однажды, стирая Витину курточку, мать обнаружила в его кармане папиросные окурки. Она промолчала, но её это насторожило. В тот же вечер, идя по двору, она почувствовала запах табачного дыма, которым тянуло из заброшенного сарая. Подошла к нему, открыла дверь, и ей представилась такая картина: посреди сидящей кружком детворы лежала фуражка с окурками, а сами они передавали друг другу по кругу дымящуюся папироску. Увидев взрослого, ребятня бросилась врассыпную. Среди курцов были Сергей и Виктор.
Озабоченная мать долго размышляла, как бы отучить детей от вредной привычки, и приняла нестандартное решение. Пошла в магазин и купила упаковку «Беломора» – 10 пачек, стянутых бумажной лентой. Когда она пришла домой, испуганные сыновья сидели, нахохлившись, как два испуганных воробья. Мать поставила перед ними пепельницу, положила папиросы и сказала, что раз они начали курить и считают себя взрослыми, то пусть уж курят дома. Во-первых, ей будет спокойней, зная, что они не попадут в дурную компанию. А во-вторых, докуривать чужие окурки вредно и опасно – уличные курцы могут быть больны. После этого она предложила сыновьям закурить папиросу. Виктор нерешительно взял её. Стоявший рядом старший брат, понурив голову, бросил: «Дурак». Виктор заколебался, но мать подбодрила его, сказав, что пусть он покажет, чему научился и как надо курить. Виктор закурил и, сильно закашлявшись, выбросил папиросу.
В доме ещё долго лежала вскрытая пачка с папиросами, но для ребят они уже интереса не представляли, ведь «сладок» лишь запретный плод.
С тех пор дети, даже став взрослыми, в рот не брали ни курево, ни всякую дурь. А однажды откровенно признались матери, как они ей благодарны за то, что она так умело и педагогично отучила их от вредной привычки.
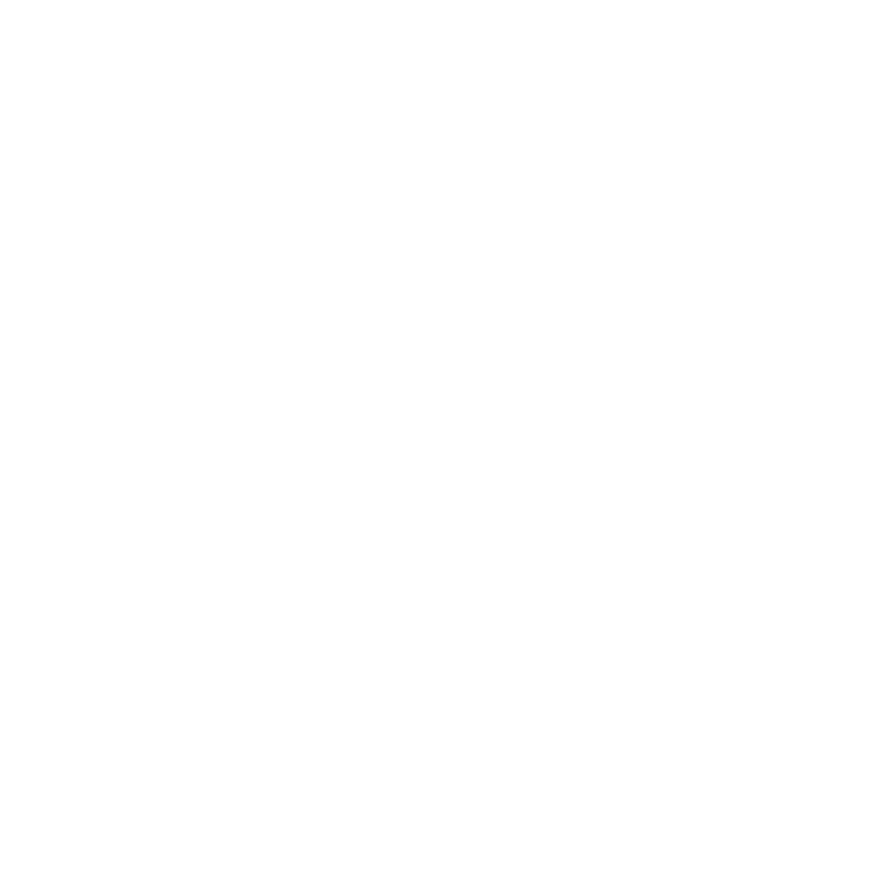
Кристина КАЗМИРСКАЯ
Пишу и творю под псевдонимом Кристина Казмирская. Родом из Крыма, где я родилась, выросла и обрела любовь к природе и литературе. Получила высшее образование в сфере «Издательского дела». Сейчас мне 22 года. Пишу преимущественно рассказы о любви — взаимной, трагичной, светлой, вечной, мимолетной, искренней… Во всем ее многообразии. А так же экспериментирую с текстом и пробую себя в разных жанрах и темах.
Пишу и творю под псевдонимом Кристина Казмирская. Родом из Крыма, где я родилась, выросла и обрела любовь к природе и литературе. Получила высшее образование в сфере «Издательского дела». Сейчас мне 22 года. Пишу преимущественно рассказы о любви — взаимной, трагичной, светлой, вечной, мимолетной, искренней… Во всем ее многообразии. А так же экспериментирую с текстом и пробую себя в разных жанрах и темах.
ПИСАТЕЛЬ
Он всегда четко знал, в чем состоит его предназначение. Это было ясно как день и оттого мучительно и тягостно тем больше, чем дольше он размышлял над этим. Однако ему не приходилось колебаться в поисках себя и своей цели, и он считал себя счастливчиком хотя бы поэтому.
К своему предназначению Алексей Иосифович Писарский подошел со всей ответственностью. Он много читал, чтоб расширить свой кругозор и словарный запас, много гулял и наблюдал за случайными прохожими и ситуациями, в которых они оказываются, чтоб впечатления сами настигали его, а так же непременно носил с собой всегда и всюду основательный тяжелый блокнот в плотной кожаной обложке, который говорил сам за себя: в нем хранились важнейшие заметки. И даже фамилия была уготовлена ему кем-то свыше и говорила всем и каждому: Алексей Иосифович – настоящий писатель. Непризнанный, потому что ничего еще в свет не выпустивший, но безусловно одаренный. Мужчина носил очки, которые подчеркивали его проницательный взгляд, надевал пальто на прогулки в парк, имел в своем доме печатную машинку, за которую садился каждый вечер и долго и сосредоточенно размышлял над тем или иным словом и его уместностью в тексте, а также закуривал трубку, если ничего долго не получалось написать. Курил Алексей Иосифович часто и тоже основательно, подолгу, неторопливо и обязательно вдумчиво, словно вдыхал не табачный дым, а то самое нужное слово, которого ему не доставало в предложении, которое он старался дописать.
Работал он в редакции местной газеты, но работу эту не считал постоянной и точно знал: как только он напишет свою книгу, которая непременно принесет ему известность, ведь подошел он к ней ответственно и со всем пониманием дела, он мигом уволится и станет зарабатывать только писательством. Работал Алексей Иосифович в редакции уже двадцать семь лет.
– Ну, как дела? Когда уже тебя можно будет почитать за пределами колонки «События недели»? – спросил его с беззаботной улыбкой собеседник, заприметив друга издалека и присев к нему рядом на лавочку в городском парке, где Писарский проводил много свободного времени в поисках вдохновения.
– Миша, работаю, – спокойно отвечал Алексей Иосифович в привычной для себя манере, задумчиво закрывая блокнот, в который внес несколько заметок, и в который никому не позволял заглянуть: писательская тайна.
– Все работаешь… – только и ответил Михаил Сергеевич, сложив руки на груди.
– Это дело не терпит спешки, – вкрадчиво отозвался Писарский с видом знающего свое дело человека.
Михаил Сергеевич Адмиралов – одноклассник и давний приятель Писарского, которого Алексей Иосифович за глаза всегда считал резким, импульсивным человеком, который не способен подойти к любому делу с осознанной ответственностью, а только шел на поводу у всех своих желаний. Так, еще в школе Адмиралов увлекался всем понемногу и быстро забывал старые увлечения – из биологического кружка он сбежал в спортивную секцию, а оттуда – в певчий хор, затем стал усердно заниматься математикой и даже ездил на олимпиады, а потом вдруг сосредоточился только на театральной студии при школе. Он так и остался ветренным, и куда течение подхватывало его, туда он и подавался. Повзрослев, Михаил Сергеевич стал путешествовать по разным странам, ища свою пристань, а затем вернулся домой, продал родительский дом и построил небольшой продуктовый магазинчик. Затем, видимо, решив сменить деятельность, продал его и открыл магазин строительный, который через год стал уже хозяйственным. Затем магазин этот сгорел в пожаре, и положение Адмиралова казалось отчаянным, но, взяв кредит, он купил землю и стал выращивать фруктовые деревья и клубнику в теплицах, а урожай продавал местным магазинам по всей округе и днями пропадал на доставке в соседние города. Закрыв кредит, он взял новый, купил еще несколько участков земли, стал выращивать овощи и со временем открыл свой овощной магазин, а затем и еще несколько киосков по городу. В общем, бросало его по сторонам, как матроса на палубе корабля, угодившего в шторм. Вот уж точно – человек без цели, ищущий себя. Писарев мог лишь облегченно вздохнуть: слава Богу, он уверенно шел по прямой, которую сам себе начертил и знал, что ждет его на каждом следующем шаге, нужно лишь немного подождать.
– А я вот думаю свою службу доставки открыть, – сообщил Михаил Сергеевич между прочим.
– А овощи себя уже изжили? – спросил Писарский, поведя бровью.
– Да нет, наоборот, хороший урожай был в этом сезоне, хочу в соседние области продать. Уже и машины в аренду взял, осталось водителей набрать. Дела, слава Богу, ничего, идут понемногу в гору, – с горделивой улыбкой отчитался Адмиралов.
– Это хорошо, – покивал Писарский, призадумавшись. Снова взявшись за свой блокнот, он перелистнул его на чистый лист и уткнулся в бумагу сосредоточенным взглядом.
– Не буду отвлекать. Удачи, пусть вдохновение настигнет, – пожелал Адмиралов. Кивнув, Алексей Иосифович вывел несколько слов в блокноте и следом, подумав, зачеркнул их.
– Всего доброго, – попрощался он, не поднимая головы.
Писательство было процессом мучительным и притягательным. Писарский весь напрягался и раздражался, если нужное слово подолгу не шло, размашисто перечеркивал ручкой целые строки и абзацы и, засучив рукава, начинал заново, снова и снова, стремясь к неуловимому идеалу, который непременно затаился и ждет, когда же писатель нащупает его золотую жилку и крепко ухватит ее обеими руками, чтоб протянуть через свое писательское перо и прошить золотой нитью слова в предложении, превращая свой текст в предмет искусства.
Был вечер пятницы, когда Алексей Иосифович почувствовал – вот оно. Он дождался. Он ухватил золотую жилку и знает, что делать. В его голове вспыхнул сюжет, который он готов облачить в свой опыт и наблюдения, и даже главные герои представились ему в голове так живо и ярко, словно он прожил с ними по соседству добрую часть своей жизни. Писарский сел за стол и отбросил в сторону недописанные черновики рассказиков, которые показались ему мелкой пылью на фоне новой грандиозной задумки. В его движениях не было прежней медлительности и вдумчивости, какой-то сумасшедший, немыслимый импульс захлестнул его резвой волной. До поздней ночи он колотил по клавишам, и от этого звука на сердце ему становилось весело и необыкновенно хорошо. Он лег спать в хорошем расположении духа.
– Как дела, Алексей Иосифович? – с доброй улыбкой поинтересовался Адмиралов, заприметив приятеля на улице около аллеи.
– Мишенька, очень спешу, – сообщил Писарский с бодрой улыбкой. – Нужно редактировать книгу, – прибавил он не без гордости. Адмиралов удивленно изогнул губы уголками вниз и почесал бороду.
– Не смею задерживать, – несколько растерянно отвечал ему Михаил Сергеевич, впервые за многие годы увидев Писарского, увлеченного чем-то настолько ярко и осязаемо. Даже его походка кричала о том, что он спешит, хотя обыкновенно Алексей Иосифович ходил медленно, как будто на променаде, и разглядывал округу с видом туриста, впервые прибывшего в город. Адмиралов хмыкнул, и задумчиво пощипал себя за ус. «Ну, дела», – поцокал он, глядя Писарскому вслед. Сложив руки за спиной, он покачал головой и направился дальше по делам, иногда оборачиваясь через плечо на удаляющийся силуэт.
Алексей Иосифович, мысленно наступая самому себе на пятки, чтоб приостановить свою торопливость, напоминающую детскую непоседливость, заставлял себя медленно и по многу раз перечитывать написанные строки. Сжимая в руке ручку, он нетерпеливо черкал на листе, оставляя протяжные черные полосы на бумаге, когда обнаруживал, что может переписать предложение и улучшить его в дальнейшем, когда закончит вычитку. Когда вся страница оказывалась исправленной, он принимался перечитывать ее снова, и всякий раз находил новую правку и, вздыхая, отмечал и ее тоже, а затем шел курить и пить кофе, чтоб освежить голову, и снова принимался редактировать те двадцать четыре страницы, которые у него имелись.
– Не то, – подытожил он, сминая несколько листов, обнаружив, что почти все слова оказались перечеркнутыми. – Здесь стоит начать по-другому, – решительно сказал он самому себе и, сев за печатную машинку, начал набирать текст сначала.
В парке Алексей Иосифович появляться перестал, увлеченный своей задумкой, и все больше курил, а спать ложился за полночь, тем самым нарушив годами выстроенный распорядок дня и ночи. Он писал, писал, писал, а затем зачеркивал, яростно и размашисто царапая лист ручкой, и снова переделывал, и злился, и восхищался собой, и знал, что его книга обречена на успех.
Трамвай сбил Алексея Иосифовича Писарского 4 сентября в восьмом часу утра, когда он направлялся в издательский дом, чтобы уточнить, какого объема должна быть книга, чтоб типография издала ее. При себе он имел кожаный портфель, в котором лежал его блокнот и стопка листов из печатной машинки с перечеркнутым текстом, много где дополненным записями от руки мелким неразборчивым почерком. Заметки эти были и поверх печатных букв, и по сторонам, и на полях, и кое-где в несколько рядов между строками. Кроме слов были так же и обозначения, смысл которых был потерян вместе с автором. При первом взгляде листы эти казались нечитаемыми и испорченными. Далее был приложен чистовой вариант недописанной книги – это было ясно по тому, что чистовик этот был нетронут ни ручкой, ни карандашом, и на нем красовались аккуратные стройные буковки, выбитые печатной машинкой, и в них чувствовалось – писатель в них уверен и решительно намерен оставить в текущем виде.
Чистовик этот гласил: «Была весна».
Он всегда четко знал, в чем состоит его предназначение. Это было ясно как день и оттого мучительно и тягостно тем больше, чем дольше он размышлял над этим. Однако ему не приходилось колебаться в поисках себя и своей цели, и он считал себя счастливчиком хотя бы поэтому.
К своему предназначению Алексей Иосифович Писарский подошел со всей ответственностью. Он много читал, чтоб расширить свой кругозор и словарный запас, много гулял и наблюдал за случайными прохожими и ситуациями, в которых они оказываются, чтоб впечатления сами настигали его, а так же непременно носил с собой всегда и всюду основательный тяжелый блокнот в плотной кожаной обложке, который говорил сам за себя: в нем хранились важнейшие заметки. И даже фамилия была уготовлена ему кем-то свыше и говорила всем и каждому: Алексей Иосифович – настоящий писатель. Непризнанный, потому что ничего еще в свет не выпустивший, но безусловно одаренный. Мужчина носил очки, которые подчеркивали его проницательный взгляд, надевал пальто на прогулки в парк, имел в своем доме печатную машинку, за которую садился каждый вечер и долго и сосредоточенно размышлял над тем или иным словом и его уместностью в тексте, а также закуривал трубку, если ничего долго не получалось написать. Курил Алексей Иосифович часто и тоже основательно, подолгу, неторопливо и обязательно вдумчиво, словно вдыхал не табачный дым, а то самое нужное слово, которого ему не доставало в предложении, которое он старался дописать.
Работал он в редакции местной газеты, но работу эту не считал постоянной и точно знал: как только он напишет свою книгу, которая непременно принесет ему известность, ведь подошел он к ней ответственно и со всем пониманием дела, он мигом уволится и станет зарабатывать только писательством. Работал Алексей Иосифович в редакции уже двадцать семь лет.
– Ну, как дела? Когда уже тебя можно будет почитать за пределами колонки «События недели»? – спросил его с беззаботной улыбкой собеседник, заприметив друга издалека и присев к нему рядом на лавочку в городском парке, где Писарский проводил много свободного времени в поисках вдохновения.
– Миша, работаю, – спокойно отвечал Алексей Иосифович в привычной для себя манере, задумчиво закрывая блокнот, в который внес несколько заметок, и в который никому не позволял заглянуть: писательская тайна.
– Все работаешь… – только и ответил Михаил Сергеевич, сложив руки на груди.
– Это дело не терпит спешки, – вкрадчиво отозвался Писарский с видом знающего свое дело человека.
Михаил Сергеевич Адмиралов – одноклассник и давний приятель Писарского, которого Алексей Иосифович за глаза всегда считал резким, импульсивным человеком, который не способен подойти к любому делу с осознанной ответственностью, а только шел на поводу у всех своих желаний. Так, еще в школе Адмиралов увлекался всем понемногу и быстро забывал старые увлечения – из биологического кружка он сбежал в спортивную секцию, а оттуда – в певчий хор, затем стал усердно заниматься математикой и даже ездил на олимпиады, а потом вдруг сосредоточился только на театральной студии при школе. Он так и остался ветренным, и куда течение подхватывало его, туда он и подавался. Повзрослев, Михаил Сергеевич стал путешествовать по разным странам, ища свою пристань, а затем вернулся домой, продал родительский дом и построил небольшой продуктовый магазинчик. Затем, видимо, решив сменить деятельность, продал его и открыл магазин строительный, который через год стал уже хозяйственным. Затем магазин этот сгорел в пожаре, и положение Адмиралова казалось отчаянным, но, взяв кредит, он купил землю и стал выращивать фруктовые деревья и клубнику в теплицах, а урожай продавал местным магазинам по всей округе и днями пропадал на доставке в соседние города. Закрыв кредит, он взял новый, купил еще несколько участков земли, стал выращивать овощи и со временем открыл свой овощной магазин, а затем и еще несколько киосков по городу. В общем, бросало его по сторонам, как матроса на палубе корабля, угодившего в шторм. Вот уж точно – человек без цели, ищущий себя. Писарев мог лишь облегченно вздохнуть: слава Богу, он уверенно шел по прямой, которую сам себе начертил и знал, что ждет его на каждом следующем шаге, нужно лишь немного подождать.
– А я вот думаю свою службу доставки открыть, – сообщил Михаил Сергеевич между прочим.
– А овощи себя уже изжили? – спросил Писарский, поведя бровью.
– Да нет, наоборот, хороший урожай был в этом сезоне, хочу в соседние области продать. Уже и машины в аренду взял, осталось водителей набрать. Дела, слава Богу, ничего, идут понемногу в гору, – с горделивой улыбкой отчитался Адмиралов.
– Это хорошо, – покивал Писарский, призадумавшись. Снова взявшись за свой блокнот, он перелистнул его на чистый лист и уткнулся в бумагу сосредоточенным взглядом.
– Не буду отвлекать. Удачи, пусть вдохновение настигнет, – пожелал Адмиралов. Кивнув, Алексей Иосифович вывел несколько слов в блокноте и следом, подумав, зачеркнул их.
– Всего доброго, – попрощался он, не поднимая головы.
Писательство было процессом мучительным и притягательным. Писарский весь напрягался и раздражался, если нужное слово подолгу не шло, размашисто перечеркивал ручкой целые строки и абзацы и, засучив рукава, начинал заново, снова и снова, стремясь к неуловимому идеалу, который непременно затаился и ждет, когда же писатель нащупает его золотую жилку и крепко ухватит ее обеими руками, чтоб протянуть через свое писательское перо и прошить золотой нитью слова в предложении, превращая свой текст в предмет искусства.
Был вечер пятницы, когда Алексей Иосифович почувствовал – вот оно. Он дождался. Он ухватил золотую жилку и знает, что делать. В его голове вспыхнул сюжет, который он готов облачить в свой опыт и наблюдения, и даже главные герои представились ему в голове так живо и ярко, словно он прожил с ними по соседству добрую часть своей жизни. Писарский сел за стол и отбросил в сторону недописанные черновики рассказиков, которые показались ему мелкой пылью на фоне новой грандиозной задумки. В его движениях не было прежней медлительности и вдумчивости, какой-то сумасшедший, немыслимый импульс захлестнул его резвой волной. До поздней ночи он колотил по клавишам, и от этого звука на сердце ему становилось весело и необыкновенно хорошо. Он лег спать в хорошем расположении духа.
– Как дела, Алексей Иосифович? – с доброй улыбкой поинтересовался Адмиралов, заприметив приятеля на улице около аллеи.
– Мишенька, очень спешу, – сообщил Писарский с бодрой улыбкой. – Нужно редактировать книгу, – прибавил он не без гордости. Адмиралов удивленно изогнул губы уголками вниз и почесал бороду.
– Не смею задерживать, – несколько растерянно отвечал ему Михаил Сергеевич, впервые за многие годы увидев Писарского, увлеченного чем-то настолько ярко и осязаемо. Даже его походка кричала о том, что он спешит, хотя обыкновенно Алексей Иосифович ходил медленно, как будто на променаде, и разглядывал округу с видом туриста, впервые прибывшего в город. Адмиралов хмыкнул, и задумчиво пощипал себя за ус. «Ну, дела», – поцокал он, глядя Писарскому вслед. Сложив руки за спиной, он покачал головой и направился дальше по делам, иногда оборачиваясь через плечо на удаляющийся силуэт.
Алексей Иосифович, мысленно наступая самому себе на пятки, чтоб приостановить свою торопливость, напоминающую детскую непоседливость, заставлял себя медленно и по многу раз перечитывать написанные строки. Сжимая в руке ручку, он нетерпеливо черкал на листе, оставляя протяжные черные полосы на бумаге, когда обнаруживал, что может переписать предложение и улучшить его в дальнейшем, когда закончит вычитку. Когда вся страница оказывалась исправленной, он принимался перечитывать ее снова, и всякий раз находил новую правку и, вздыхая, отмечал и ее тоже, а затем шел курить и пить кофе, чтоб освежить голову, и снова принимался редактировать те двадцать четыре страницы, которые у него имелись.
– Не то, – подытожил он, сминая несколько листов, обнаружив, что почти все слова оказались перечеркнутыми. – Здесь стоит начать по-другому, – решительно сказал он самому себе и, сев за печатную машинку, начал набирать текст сначала.
В парке Алексей Иосифович появляться перестал, увлеченный своей задумкой, и все больше курил, а спать ложился за полночь, тем самым нарушив годами выстроенный распорядок дня и ночи. Он писал, писал, писал, а затем зачеркивал, яростно и размашисто царапая лист ручкой, и снова переделывал, и злился, и восхищался собой, и знал, что его книга обречена на успех.
Трамвай сбил Алексея Иосифовича Писарского 4 сентября в восьмом часу утра, когда он направлялся в издательский дом, чтобы уточнить, какого объема должна быть книга, чтоб типография издала ее. При себе он имел кожаный портфель, в котором лежал его блокнот и стопка листов из печатной машинки с перечеркнутым текстом, много где дополненным записями от руки мелким неразборчивым почерком. Заметки эти были и поверх печатных букв, и по сторонам, и на полях, и кое-где в несколько рядов между строками. Кроме слов были так же и обозначения, смысл которых был потерян вместе с автором. При первом взгляде листы эти казались нечитаемыми и испорченными. Далее был приложен чистовой вариант недописанной книги – это было ясно по тому, что чистовик этот был нетронут ни ручкой, ни карандашом, и на нем красовались аккуратные стройные буковки, выбитые печатной машинкой, и в них чувствовалось – писатель в них уверен и решительно намерен оставить в текущем виде.
Чистовик этот гласил: «Была весна».
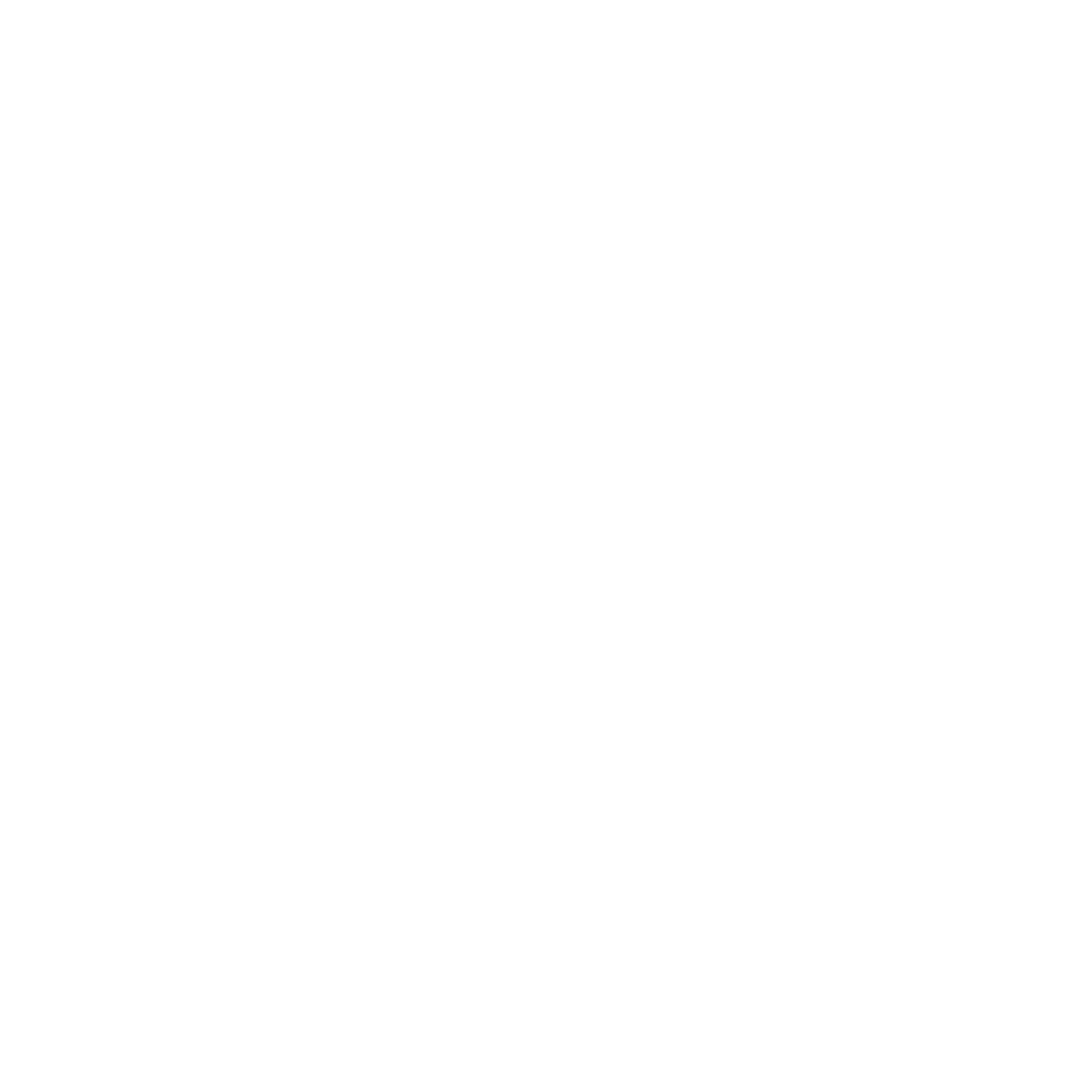
Татьяна ТВОРОЖКОВА
Стихи писала со школьных лет. Окончила Литературные он-лайн курсы А. В. Воронцова и неожиданно для себя увлеклась прозой. Сейчас нахожусь на пенсии.
Проживаю в Москве.
Стихи писала со школьных лет. Окончила Литературные он-лайн курсы А. В. Воронцова и неожиданно для себя увлеклась прозой. Сейчас нахожусь на пенсии.
Проживаю в Москве.
ВТОРАЯ ЖЕНА
Посвящаются Татьяне Родиной
В полузабытьи Анжела проскакивала свою станцию «Павелецкая» несколько раз. Все то, что ее окружало, всплывало разными картинками. Напротив в вагоне сидела пожилая дама, а теперь – девушка. Анжела ехала с выставки произведений Эдварда Мунка. Долго собиралась, хотела сделать несколько копий, но, просматривая картины, поняла: рано. Мунк думал, что для художника собственное восприятие важнее действительности, но что интересно, это от действительности его не уводило. Анжела хотела пойти по линиям и мазкам художника, чтобы приблизиться к приемам. Выбрала одну картину, самую оптимистичную «Девушки на мосту», долго подступала к композиции картины «Крик», просмотрела в интернете материалы о художнике, о времени конца девятнадцатого и начала двадцатого, конечно, всплыла история про расщепление атома, связанное с Василием Кандинским. Недалеко от моста, расположенном в центральной части картины «Крик», в местечке Экеберг находились скотобойня, психбольница и вулканическая пыль, сохранившаяся от вулкана Кракатау с 1883 года. Вот тебе и огненный, красный скандинавский фьорд – холодный, синий от залива. Анжела композицию связывала с трогательной чувствительностью Мунка, с его смелой отсылкой на указанное место, с талантом провидца. Он, как антенна, воспринимал замыслы Вселенной, или Вселенная через него хотела предупредить. Мир трансцендентен, это она усвоила еще в педагогическом институте, где училась. Не верила в психические заболевания великих людей. Решила на днях сходить в Ленинскую библиотеку.
Когда стояла в очереди в Лаврушинском переулке, дождь пошел. Хорошая примета. Все счастливо складывалось. И вот она у заветного полотна «Крик». Картина огорожена, близко не подойдешь и ...о, боже! На фотографиях в интернете смазаны подробности. Хотелось крикнуть: «А прохожие на мосту остановились, оглядываются вполоборота равнодушно или удивленно?» Анжела не сразу почувствовала на плече чью-то руку. Оглянулась. Мужчина лет сорока с улыбкой смотрел на нее. С минуту она вглядывалась в его лицо.
– Вася! Привет! Вот это встреча! А как там Леонид Константинович?
– А папы пять лет уже нет.
– Нет?! Как – нет?
– Помнишь, к нам в студию пришла девушка Ирина? Все, что между нею и моим папой случилось, происходило на моих глазах. Через полгода папа передо мной стоял, как на исповеди. Я первый узнал, что он от мамы уйти хочет. Я в том году школу заканчивал и собирался в «Текстильный». Из студии не уйдешь, он уже не жил с нами, а мне без его помощи никак, он помогал мне в институт готовиться.
– Да что стряслось?
– Не смог пережить смерть Ирины. В тот злополучный вечер, с которого все началось, ее ударили по голове, когда она шла из метро, вырвали сумку. Отец тогда в больнице лежал и, понимаешь, встретить не мог. От удара у моей молодой мачехи онкология случилась. Прожила она меньше двух лет.
– Васька, сколько тебе пережить пришлось! Еще и смерть скоропостижная у обоих. Какой ужас! Я что-то слышала про его женитьбу, удивилась. Ваша семья казалась крепкой, и папа твой внимательный ко всем. Нам в молодости семьи родителей казались прочными. Я ведь всерьез думала, что влюбляться могут только молодые.
– Мама любила отца. Сильно переживала. Часто ходит на Ваганьковское. Он там похоронен рядом со своими родителями, а Ира где-то со своими родственниками.
– Боже мой! Судьба след в след идет за поступками. Надо ли на сторону смотреть, если жили с женой душа в душу? Неужели родственная связь ничего не стоит?..
– Я тоже думаю, что случившееся – наказание. Да и Ира так сказала. После ее похорон мы забрали папу. Прощения просил, но прожил год. Скоропостижная смерть, что суицид в рассрочку. Я потом много об этом думал, картину написал – «Случайность в неслучайности».
– Что-то такое я тоже слышала. Промахи ценою в жизнь, но чувства все нагнетают. Западня. Все мы суетливы. А какой художник! Помнишь, как он говорил, что «композиция без ритма невозможна»: «Желтый цветок пишешь, добавь оранжевого цвета, ищи другие оттенки. Холодность делаем, потом успокаиваем. Тепло-холод»… Где ты сейчас?
– В текстильном преподаю. А я визитку тебе дам. Позвони. О папе поговорим, о ребятах. Хорошо в молодости. Все впереди, надежда сплошные удачи сулит. Ожидания не разочаровываются. Давай к моей жене подойдем, я вас познакомлю.
С выставки Анжела ушла. Решила в другой день прийти. Сейчас накручивала круги в метро и перебирала в памяти события тех лет. На первом и втором курсах изредка приходила навестить. Оправдание «некогда», как кинжал наточенный, отрезал дорогое общение. Вот так теряются лучшие друзья. Леонид Константинович и ребята радовались ей, ее рассказам об институте. Правда, тогда он грустил, и с сыном отношения натянутые.
Значит, бывает любовь. Анжела помнила Ирину. Однажды, когда рисовала море, корабль, увидела, что Ира наблюдает. «Анжела, когда море размещаешь на картоне, горизонт сделай повыше. Море – горизонтальная плоскость, небо – вертикальная. Подтяни м-гу?» Она удивляла своей взрослостью. Неординарная девушка. Интерес объединил с Леонидом Константиновичем, что-то важное произошло, что со стороны непонятно, но осуждалось? Чужую боль не почувствуешь. А ведь он всегда говорил: «Работайте над собой. Описывайте свое состояние, стройте отношения с тем, что хотите написать, с тем, чего касаетесь мимоходом». Они и разговаривали, как свои в доску. Ему тогда за сорок перевалило, а она в двадцать лет в студию пришла. Душа живет вне времени. У Анжелы теперь не получалось представить Леонида Константиновича без Ирины. Не они ли сейчас незримо с ней катаются в вагоне и не дают вый-ти? Вспомнила, что влюбленные – на разных кладбищах, подумала: «Вне времени и места – здесь, а там – что может им помешать быть вместе?»
Анжела услышала голос диктора: «Станция Павелецкая».
ВХУТЕМАС-100
В начале весны неожиданно позвонил однокашник Максим. Позвонил на сотовый.
– Максим, ты? Откуда у тебя мой номер?
– Нину случайно встретил в ЦДХа. Спросил о тебе, она и дала, – его голос – спокойный, размеренный, со знакомыми нотками – взволновал.
– На выставке ВХУТЕМАС - 100 была?
– Еще нет.
– Приглашаю.
– А когда?
– Через недельку.
– Договорились.
– До встречи!
Анжела подошла к разделочной доске, где шинковала зелень. Когда-то она выделяла Максима. Любила. Если бы не так сильно, может, не оттолкнула бы. Девчонки крутились около него, ревновала, потому ведь и грубила. Он приглашал в музей на третьем курсе, в парк – на четвертом. Что-то стесняло, сковывало и не давало прорваться ощущениям. Куда-то пропадала естественность, нервничала. В психологических тонкостях Максим не разбирался или подумал, что навязывается. В конце пятого курса женился на даме старше себя. Анжела всерьез задумалась о своей стеснительности. Причем вылезавшая в разговоре с ним конфузливость нигде больше не проявлялась. Сейчас, после звонка опять об этом подумала. Через три года по окончании института вышла замуж, но уже через год муж вымещал на ней все свои неудачи, то ли характер такой, то ли любви ее не чувствовал. Родилась Оленька, в семье стало совсем плохо. Развелась. Ушла к матери.
Нина сказала, что у Максима есть своя галерея. А ведь почти четверть века после выпускного прошло. Она кинулась к зеркалу, потом вернулась к недоваренному борщу. Растерянность опять достала свои вожжи, все путала. Подумала, что в театральных вузах учат волнение использовать. Нужно посмотреть в интернете. Веер с собой взять. Руку займет и голову остудит. Жизнь всех меняет, и он другой. Ну и что, что позвонил? На такую выставку каждый день можно ходить. Опять мысленно вернулась к Максиму. Не вспомнил ли он юношескую недосказанность? Зачем-то живет эта недосказанность в душе. В чьей душе?
Вечером пересмотрела, перемерила все свои платья, юбки, блузки. Джинсы с любимым свитером убрала. Женственность. Внимание давнего знакомого завоевывать ни к чему, все эти старания – для приятного впечатления. Да что там! Давно не наряжалась. Встреча с Максимом – встреча с молодостью. Лучшие друзья наживаются в годы учебы. Он не увидит следы лет, а ей подать себя без оглядки на то, что он художник, а она – учительница рисования. Одна дочку растила, не до становлений. Выбрала романтическое платье с воланом, оборками, с цветочным принтером. Синие туфельки под основной цвет. Покрутила черную сумочку. Прямоугольная сумочка с широкой ручкой. Стиль – «драматик». Не очень... Да пусть будет. Этот стиль неплохо разбавит романтику.
Лысина Максима Анжелу не удивила. Одет стильно, опрятно... Он, в свою очередь, осыпал ее комплиментами. А выставка превзошла все ожидания!
Мечты, непостижимые мечты преподавателей и студентов ВХУТЕМАСа! Функциональные мечты, а ведь у мечты есть обыкновение не сбываться. Азарт, стремительность творческой мысли формировались, воодушевленные революцией. Ленин поддержал. Росла сила, готовая преодолевать земное притяжение. Дома в воздухе, над землей – город будущего Георгия Крутикова. Проект на конкурс библиотеки Ленина Ивана Леонидова. Кураторы бережно, с огромной любовью отнеслись к материалу, хотели точности, хотели показать факультеты, которые потом рассыпятся на самостоятельные вузы. Уйдут цельность, сплоченность, объединяющий всех энтузиазм. Анжела почувствовала, что попала в поток... Да и что такое какие-то сто лет для творческих идей? За десять лет, с двадцатого по тридцатый, творчество взрастило невиданный разум. Да, да, дело в разуме. И ведь смогли бы воплотить даже самые сумасшедшие мечты, если бы не случились еще падения у революции. Анжела стояла, потрясенная, у стендов всех факультетов по очереди. Текстильный!
– Максим, я хочу шторы с такими разноцветными прямоугольниками, – Анжела и не вспомнила, что они не пара. Сейчас она видела имя одного из преподавателей: Людмила Маяковская, старшая сестра поэта.
– Нарисую.
– И платье с бегающими человечками.
– И платье.
Архитектурный, живописный, керамический, дерметфак... Хотелось изучить все, что возможно, и работать, стать преемником. Жолтовский И. В., Кандинский В. В., Лисицкий Л. М., Мухина В. И. – Анжела выхватывала из списка преподавателей знакомые имена. Мысли не слушаются, дома она освободит «полочки в голове», просмотрит материалы, уложит. Дома, а пока звучит в голове «Вальс цветов» Штрауса. Максим, выставка, перевернувшая все представления об образовании. Десять лет растили только гениев на всех факультетах. Какие студенты! Сергей Образцов, Александр Дейнека. Да что перечислять! Сильным преподавателям нужны сильные студенты. По залам бродит дух неизведанной оригинальности, безжалостно уничтоженной в тридцатом в России, а в тридцать втором закрыли БАУХАУС в Германии.
– А ты заразилась. К счастью, не ковидом.
– Заметно?
Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Те, кто оказался рядом, тоже улыбались. Участливая доброжелательность восхищала. Неужели все переживают такой же восторг? Здоровый восторг всем окружающим дарил счастье. Одни и те же мысли кружат во всем пространстве? Неужели мысли сегодняшних посетителей и студентов тридцатых объединились? Анжела подумала, что творчеству можно научить студентов, готовых к экзистенциальному прыжку. Энтузиазм трансформировался в мотивацию. Да какую мотивацию! Величайшее событие эта выставка. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Оглянулась на лица посетителей. Светятся! Свет падает со стороны двадцатых годов прошлого века, тени вокруг рассыпались неуловимо хаотично. Все пришло в движение. Если бы можно было подхватить это движение и разместить в пространстве сегодняшнего обучения. А ведь можно. Надежда, пока еще надежда, что в образовании намечаются перемены, если судить по лекциям в интернете, охватила все ее существо и, как циклон, подхватила мысли, закружила, унесла вверх. Анжела – в предвкушении, что уснувший в ней художник пробудился, и это воодушевление бросает её от стенда к стенду. Максим смотрел то на Анжелу, то на стенды и улыбался.
– Мастерство заложено в задачи, – задумчиво сказал он.
– Не думаю, что это только энтузиазм.
Со стороны можно подумать, что говорит каждый о своем, но свалившееся на них понимание добавляло пропущенные слова.
Расставаться не хотелось, и они пошли гулять по ночному городу.
Посвящаются Татьяне Родиной
В полузабытьи Анжела проскакивала свою станцию «Павелецкая» несколько раз. Все то, что ее окружало, всплывало разными картинками. Напротив в вагоне сидела пожилая дама, а теперь – девушка. Анжела ехала с выставки произведений Эдварда Мунка. Долго собиралась, хотела сделать несколько копий, но, просматривая картины, поняла: рано. Мунк думал, что для художника собственное восприятие важнее действительности, но что интересно, это от действительности его не уводило. Анжела хотела пойти по линиям и мазкам художника, чтобы приблизиться к приемам. Выбрала одну картину, самую оптимистичную «Девушки на мосту», долго подступала к композиции картины «Крик», просмотрела в интернете материалы о художнике, о времени конца девятнадцатого и начала двадцатого, конечно, всплыла история про расщепление атома, связанное с Василием Кандинским. Недалеко от моста, расположенном в центральной части картины «Крик», в местечке Экеберг находились скотобойня, психбольница и вулканическая пыль, сохранившаяся от вулкана Кракатау с 1883 года. Вот тебе и огненный, красный скандинавский фьорд – холодный, синий от залива. Анжела композицию связывала с трогательной чувствительностью Мунка, с его смелой отсылкой на указанное место, с талантом провидца. Он, как антенна, воспринимал замыслы Вселенной, или Вселенная через него хотела предупредить. Мир трансцендентен, это она усвоила еще в педагогическом институте, где училась. Не верила в психические заболевания великих людей. Решила на днях сходить в Ленинскую библиотеку.
Когда стояла в очереди в Лаврушинском переулке, дождь пошел. Хорошая примета. Все счастливо складывалось. И вот она у заветного полотна «Крик». Картина огорожена, близко не подойдешь и ...о, боже! На фотографиях в интернете смазаны подробности. Хотелось крикнуть: «А прохожие на мосту остановились, оглядываются вполоборота равнодушно или удивленно?» Анжела не сразу почувствовала на плече чью-то руку. Оглянулась. Мужчина лет сорока с улыбкой смотрел на нее. С минуту она вглядывалась в его лицо.
– Вася! Привет! Вот это встреча! А как там Леонид Константинович?
– А папы пять лет уже нет.
– Нет?! Как – нет?
– Помнишь, к нам в студию пришла девушка Ирина? Все, что между нею и моим папой случилось, происходило на моих глазах. Через полгода папа передо мной стоял, как на исповеди. Я первый узнал, что он от мамы уйти хочет. Я в том году школу заканчивал и собирался в «Текстильный». Из студии не уйдешь, он уже не жил с нами, а мне без его помощи никак, он помогал мне в институт готовиться.
– Да что стряслось?
– Не смог пережить смерть Ирины. В тот злополучный вечер, с которого все началось, ее ударили по голове, когда она шла из метро, вырвали сумку. Отец тогда в больнице лежал и, понимаешь, встретить не мог. От удара у моей молодой мачехи онкология случилась. Прожила она меньше двух лет.
– Васька, сколько тебе пережить пришлось! Еще и смерть скоропостижная у обоих. Какой ужас! Я что-то слышала про его женитьбу, удивилась. Ваша семья казалась крепкой, и папа твой внимательный ко всем. Нам в молодости семьи родителей казались прочными. Я ведь всерьез думала, что влюбляться могут только молодые.
– Мама любила отца. Сильно переживала. Часто ходит на Ваганьковское. Он там похоронен рядом со своими родителями, а Ира где-то со своими родственниками.
– Боже мой! Судьба след в след идет за поступками. Надо ли на сторону смотреть, если жили с женой душа в душу? Неужели родственная связь ничего не стоит?..
– Я тоже думаю, что случившееся – наказание. Да и Ира так сказала. После ее похорон мы забрали папу. Прощения просил, но прожил год. Скоропостижная смерть, что суицид в рассрочку. Я потом много об этом думал, картину написал – «Случайность в неслучайности».
– Что-то такое я тоже слышала. Промахи ценою в жизнь, но чувства все нагнетают. Западня. Все мы суетливы. А какой художник! Помнишь, как он говорил, что «композиция без ритма невозможна»: «Желтый цветок пишешь, добавь оранжевого цвета, ищи другие оттенки. Холодность делаем, потом успокаиваем. Тепло-холод»… Где ты сейчас?
– В текстильном преподаю. А я визитку тебе дам. Позвони. О папе поговорим, о ребятах. Хорошо в молодости. Все впереди, надежда сплошные удачи сулит. Ожидания не разочаровываются. Давай к моей жене подойдем, я вас познакомлю.
С выставки Анжела ушла. Решила в другой день прийти. Сейчас накручивала круги в метро и перебирала в памяти события тех лет. На первом и втором курсах изредка приходила навестить. Оправдание «некогда», как кинжал наточенный, отрезал дорогое общение. Вот так теряются лучшие друзья. Леонид Константинович и ребята радовались ей, ее рассказам об институте. Правда, тогда он грустил, и с сыном отношения натянутые.
Значит, бывает любовь. Анжела помнила Ирину. Однажды, когда рисовала море, корабль, увидела, что Ира наблюдает. «Анжела, когда море размещаешь на картоне, горизонт сделай повыше. Море – горизонтальная плоскость, небо – вертикальная. Подтяни м-гу?» Она удивляла своей взрослостью. Неординарная девушка. Интерес объединил с Леонидом Константиновичем, что-то важное произошло, что со стороны непонятно, но осуждалось? Чужую боль не почувствуешь. А ведь он всегда говорил: «Работайте над собой. Описывайте свое состояние, стройте отношения с тем, что хотите написать, с тем, чего касаетесь мимоходом». Они и разговаривали, как свои в доску. Ему тогда за сорок перевалило, а она в двадцать лет в студию пришла. Душа живет вне времени. У Анжелы теперь не получалось представить Леонида Константиновича без Ирины. Не они ли сейчас незримо с ней катаются в вагоне и не дают вый-ти? Вспомнила, что влюбленные – на разных кладбищах, подумала: «Вне времени и места – здесь, а там – что может им помешать быть вместе?»
Анжела услышала голос диктора: «Станция Павелецкая».
ВХУТЕМАС-100
В начале весны неожиданно позвонил однокашник Максим. Позвонил на сотовый.
– Максим, ты? Откуда у тебя мой номер?
– Нину случайно встретил в ЦДХа. Спросил о тебе, она и дала, – его голос – спокойный, размеренный, со знакомыми нотками – взволновал.
– На выставке ВХУТЕМАС - 100 была?
– Еще нет.
– Приглашаю.
– А когда?
– Через недельку.
– Договорились.
– До встречи!
Анжела подошла к разделочной доске, где шинковала зелень. Когда-то она выделяла Максима. Любила. Если бы не так сильно, может, не оттолкнула бы. Девчонки крутились около него, ревновала, потому ведь и грубила. Он приглашал в музей на третьем курсе, в парк – на четвертом. Что-то стесняло, сковывало и не давало прорваться ощущениям. Куда-то пропадала естественность, нервничала. В психологических тонкостях Максим не разбирался или подумал, что навязывается. В конце пятого курса женился на даме старше себя. Анжела всерьез задумалась о своей стеснительности. Причем вылезавшая в разговоре с ним конфузливость нигде больше не проявлялась. Сейчас, после звонка опять об этом подумала. Через три года по окончании института вышла замуж, но уже через год муж вымещал на ней все свои неудачи, то ли характер такой, то ли любви ее не чувствовал. Родилась Оленька, в семье стало совсем плохо. Развелась. Ушла к матери.
Нина сказала, что у Максима есть своя галерея. А ведь почти четверть века после выпускного прошло. Она кинулась к зеркалу, потом вернулась к недоваренному борщу. Растерянность опять достала свои вожжи, все путала. Подумала, что в театральных вузах учат волнение использовать. Нужно посмотреть в интернете. Веер с собой взять. Руку займет и голову остудит. Жизнь всех меняет, и он другой. Ну и что, что позвонил? На такую выставку каждый день можно ходить. Опять мысленно вернулась к Максиму. Не вспомнил ли он юношескую недосказанность? Зачем-то живет эта недосказанность в душе. В чьей душе?
Вечером пересмотрела, перемерила все свои платья, юбки, блузки. Джинсы с любимым свитером убрала. Женственность. Внимание давнего знакомого завоевывать ни к чему, все эти старания – для приятного впечатления. Да что там! Давно не наряжалась. Встреча с Максимом – встреча с молодостью. Лучшие друзья наживаются в годы учебы. Он не увидит следы лет, а ей подать себя без оглядки на то, что он художник, а она – учительница рисования. Одна дочку растила, не до становлений. Выбрала романтическое платье с воланом, оборками, с цветочным принтером. Синие туфельки под основной цвет. Покрутила черную сумочку. Прямоугольная сумочка с широкой ручкой. Стиль – «драматик». Не очень... Да пусть будет. Этот стиль неплохо разбавит романтику.
Лысина Максима Анжелу не удивила. Одет стильно, опрятно... Он, в свою очередь, осыпал ее комплиментами. А выставка превзошла все ожидания!
Мечты, непостижимые мечты преподавателей и студентов ВХУТЕМАСа! Функциональные мечты, а ведь у мечты есть обыкновение не сбываться. Азарт, стремительность творческой мысли формировались, воодушевленные революцией. Ленин поддержал. Росла сила, готовая преодолевать земное притяжение. Дома в воздухе, над землей – город будущего Георгия Крутикова. Проект на конкурс библиотеки Ленина Ивана Леонидова. Кураторы бережно, с огромной любовью отнеслись к материалу, хотели точности, хотели показать факультеты, которые потом рассыпятся на самостоятельные вузы. Уйдут цельность, сплоченность, объединяющий всех энтузиазм. Анжела почувствовала, что попала в поток... Да и что такое какие-то сто лет для творческих идей? За десять лет, с двадцатого по тридцатый, творчество взрастило невиданный разум. Да, да, дело в разуме. И ведь смогли бы воплотить даже самые сумасшедшие мечты, если бы не случились еще падения у революции. Анжела стояла, потрясенная, у стендов всех факультетов по очереди. Текстильный!
– Максим, я хочу шторы с такими разноцветными прямоугольниками, – Анжела и не вспомнила, что они не пара. Сейчас она видела имя одного из преподавателей: Людмила Маяковская, старшая сестра поэта.
– Нарисую.
– И платье с бегающими человечками.
– И платье.
Архитектурный, живописный, керамический, дерметфак... Хотелось изучить все, что возможно, и работать, стать преемником. Жолтовский И. В., Кандинский В. В., Лисицкий Л. М., Мухина В. И. – Анжела выхватывала из списка преподавателей знакомые имена. Мысли не слушаются, дома она освободит «полочки в голове», просмотрит материалы, уложит. Дома, а пока звучит в голове «Вальс цветов» Штрауса. Максим, выставка, перевернувшая все представления об образовании. Десять лет растили только гениев на всех факультетах. Какие студенты! Сергей Образцов, Александр Дейнека. Да что перечислять! Сильным преподавателям нужны сильные студенты. По залам бродит дух неизведанной оригинальности, безжалостно уничтоженной в тридцатом в России, а в тридцать втором закрыли БАУХАУС в Германии.
– А ты заразилась. К счастью, не ковидом.
– Заметно?
Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Те, кто оказался рядом, тоже улыбались. Участливая доброжелательность восхищала. Неужели все переживают такой же восторг? Здоровый восторг всем окружающим дарил счастье. Одни и те же мысли кружат во всем пространстве? Неужели мысли сегодняшних посетителей и студентов тридцатых объединились? Анжела подумала, что творчеству можно научить студентов, готовых к экзистенциальному прыжку. Энтузиазм трансформировался в мотивацию. Да какую мотивацию! Величайшее событие эта выставка. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Оглянулась на лица посетителей. Светятся! Свет падает со стороны двадцатых годов прошлого века, тени вокруг рассыпались неуловимо хаотично. Все пришло в движение. Если бы можно было подхватить это движение и разместить в пространстве сегодняшнего обучения. А ведь можно. Надежда, пока еще надежда, что в образовании намечаются перемены, если судить по лекциям в интернете, охватила все ее существо и, как циклон, подхватила мысли, закружила, унесла вверх. Анжела – в предвкушении, что уснувший в ней художник пробудился, и это воодушевление бросает её от стенда к стенду. Максим смотрел то на Анжелу, то на стенды и улыбался.
– Мастерство заложено в задачи, – задумчиво сказал он.
– Не думаю, что это только энтузиазм.
Со стороны можно подумать, что говорит каждый о своем, но свалившееся на них понимание добавляло пропущенные слова.
Расставаться не хотелось, и они пошли гулять по ночному городу.
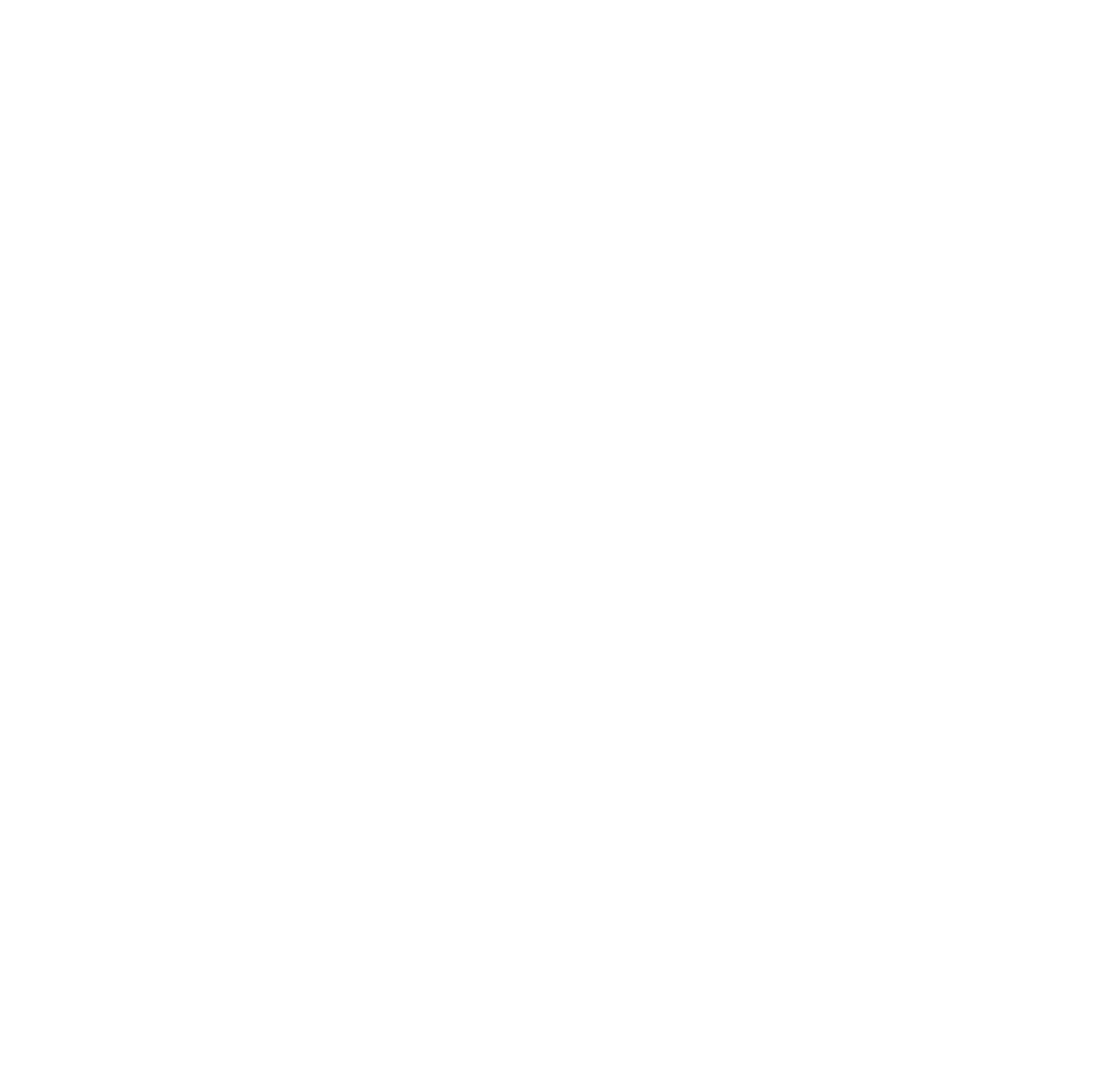
Элла ЗАЙЦЕВА (ПЕТРИЩЕВА)
Родилась и живу в Москве. Выпускник МПГУ, исторический факультет. Автор альманахов «Истоки», «Рифмоград», «Серебро слов» и других. Номинант премии «Поэт года 2022», награждена медалью «130 лет Марине Цветаевой». Главное в творчестве: отношения между мужчиной и женщиной, поиски души в большом городе.
Родилась и живу в Москве. Выпускник МПГУ, исторический факультет. Автор альманахов «Истоки», «Рифмоград», «Серебро слов» и других. Номинант премии «Поэт года 2022», награждена медалью «130 лет Марине Цветаевой». Главное в творчестве: отношения между мужчиной и женщиной, поиски души в большом городе.
ВАГОННЫЕ ИСТОРИИ: ТРЕТИЙ ВОВСЕ БЫЛ ДУРАК
У Кати – крупные натруженные руки. Стройная, высокая, с певучим голосом. Голубые глаза, морщинки-лучики на лице и в уголках губ. И крупные руки. Она их стесняется и пытается спрятать под стол плацкартного вагона. Катя давно на пенсии, но сидеть в городе скучно. Предложили путевку в санаторий на море. Купила билет, собрала вещи, поехала. Давным-давно она закончила консерваторию, играет на пианино, учит детей музыке.
– У меня три сына. Двое старших уже и женились, и внуков мне нарожали, а Дениска всё никак.
– Почему такое имя? Несовременное и смешное.
– В честь деда назвали. Но дед был пограничником, Родину защищал. А внук вот всё никак...
– Никак – что? Что никак? Родину отказывается защищать?
– Пошел в колледж – скучно, перевелся на другой факультет, еле доучился – лень. Всё себя ищет. Хотели в училище погранвойск отправить, чтобы как дед был, пограничником. Так паспорт потерял. Пока паспорт восстанавливали, приём документов закончился. Так и не выучился. Думала – влюбится, девушка у него хорошая будет. И привел: на 4 года его старше, с высшим образованием, амбициями и мамой.
– А мама зачем?
– Ну, я так и сказала: ты на всём семействе женишься, а не Лике. А он не верил. Лика на Новый год подарила мне комплект белья постельного – чёрного цвета. А мне вот зачем это, а? И цвет такой – чёрный, в розовых пионах больших.
– Пошло?
– Точно! Правильное слово – пошло! Я обратно вернула. Не мой это комплект. Потом Лика в Петербург уехала. Предложили высокую должность, квартиру – моего бросила и уехала. Денис за ней поехал. Так и сказал: люблю её очень, жить без неё не могу. Промаялся и обратно вернулся. Там и дворником работал, и грузчиком, рекламки раздавал... А она – не нужен ей он. Хвостом вертит.
– А любовь? Чувство же было!
– Сплыло! Он вернулся через полгода – похудевший, возмужавший. Думала, за ум возьмется. Уже 25 стукнуло. А всё такой же: мам, я пойду погуляю. И мелочь у меня из карманов пропадает. Всё на карточку перевела.
– Ну, как-то несолидно уже. А работать не пробовал? Говорят, помогает!
Катя как будто считывает мои мысли.
– Он пытался работать. По восемьдесят тысяч рублей зарабатывал. Ну, хоть бы раз деньги мне дал! А сейчас не работает. И опять мелочь пропадает из карманов. Пошла на выставку с подружкой, решили чай попить. Помню, была мелочь; на кассе руку в кошелек опускаю, а там только карточка банковская. И всё.
– А что он по жизни умеет? Ну, что-то же есть?
– Электросамокат водить умеет. И деньги тратить. Они у него, как вода, льются. Отец на день рождения ему 20 тысяч рублей подарил – через 4 дня ни копейки не осталось! И на что потратил, сам объяснить не может! Вот уж точно, как в сказке: первый – умный детина, средний – и так, и сяк. Третий вовсе был дурак! Помрём с отцом – ну как он жить будет? Квартиру продаст? Дурак он, дурак и есть.
Понимаю, что наболело. Что воспитывать уже поздно, женить ещё рано. А жизнь продолжается. И Катя едет отдыхать на море. По бесплатной путёвке. И там у неё мелочь из кармана куртки точно не пропадёт!
А что вы посоветуете Кате? Что с дураком-то делать?
ВАГОННЫЕ ИСТОРИИ: ОТ БОЛЬШОГО УМА – ЛИШЬ СУМА И ТЮРЬМА
– Он душил меня подушкой. Дочери услышали возню, крики, прибежали и растащили. Он потом говорил, что это любовь. А я его отвезла в ПНД. Сказала, что в поликлинику, а отвезла в ПНД. И его положили. Два месяца тишины и свободы.
Оленька сидит у окна на нижней полке. Полная, с полными же руками в веснушках, отёчными ногами, непомещающимися в растоптанные кроссовки. В кружке – растворимый кофе, на пластмассовой тарелочке – кусочки сыра, белого хлеба и крекеры. Уютная, мягкая, редкие белые тропиночки в густых темно-русых волосах.
– Доедай сыр, оплавится, испортится, – Оленька соединяет крекеры сыром и отправляет в рот.
– Люблю сыр, как кошка сметану.
Отпивает кофе, откусывает кусочек крекера.
– Да моя кошка сметану не ест!
– Так это сметана неправильная.
– А... Хорошо, что не кошка.
Обе смеёмся.
– Ну вот, – Оленька продолжает рассказ. – Пока муж в больнице, я к нему на электронную почту зашла. Он письма ждал от бухгалтера. Больше ничего не осталось от бизнеса, компаньоны переписали всё на себя, акции сам продал, отдал. И вот туалеты общественные остались. Не знаю где, какие – письмо, говорю, ждал от бухгалтера.
– И чего с ними, с туалетами-то?
– И их отжали. А он дома засел. Я вышла на работу – девочек надо учить, кормить, обувать-одевать. Он же все деньги из меня вытряс. Могли бы квартиру ещё одну купить, машину. Так обманул и куда дел, не знаю. Ничего, никакой заначки не осталось! Но не про бизнес. А на почте – письмо от друга сердечного. Так и пишет: приезжай, Сашенька, соскучилась по тебе, по твоим поцелуям нежным и страстным. Ну, каков? Я работаю, а он друга сердечного завел, в Лыткарино ездил! Подарки дарил, купленные на мои деньги!
В глазах – слёзы. Дрожат кончики пальцев. Поглаживаю руку попутчицы.
– Оля, да не стоит он вас! Да как же так всё получилось, Оля!
Допивает остывший кофе. Продолжает рассказ.
– Письмо дочки прочитали. И сказали: гони его, после всего случившегося видеть его не хотим! А он и так в психушке лежит, голос слабенький, всё в любви объясняется. А потом почки отказали. И мне вернули ревнивый полутруп. Похудел на 20 килограммов. Список написали, чего нельзя – да жить нельзя! Одни лекарства! Анализы плохие – на диализ три дня в неделю положено ездить. И я его возила, дура! А потом стали сами забирать. Из больницы ездила по району Скорая, собирала болящих и на диализ, потом по домам возвращала. Вот так второй год и живем.
– А девочки как? Саша ваш как? – спрашиваю, но боюсь услышать ответ.
– Да так и говорят: иди! – и адрес указывают. Младшая иногда с ним в шахматы играет. А старшая командует, орёт и матом. Саша? У него же ревность в болезнь перетекла. Он, когда меня душил – уже болел. В ПНД ехать категорически отказывается, боится, что опять положат. Уговорила; собрали документы, инвалидность оформили, 14 тысяч пенсия.
– Оля, а не страшно с ним жить? Вы же и спите в одной постели, дышите одним воздухом, а если опять подушкой, а дома никого не будет?
– Да уже звонил коллеге на работу! Так и спросил: зачем мою жену трахаешь? А тот его послал. А потом вообще уволился. Так Саша ещё несколько раз ему звонил. Стыдно как! Посмотрите на меня! На кого похожа? Отёчное тело, ноги жирные, без косметики, гипертония замучила, вдовий горбик вырос! А Сашка как насмехается: ты самая красивая у меня! Я ж не старая ещё!
Опять слёзы в глазах. Достаю из сумки бутылку с водой, доливаю в остывший кофе. Оля пьёт. Закрывает лицо руками. Плачет. Хочу к ней подойти – так боковушка же! Встаю, наклоняюсь к женщине, глажу по голове.
– Оля! Оля! Да ну их всех! Он же тиранит вас, и девочки всё видят! Положите его опять, легче же будет! Оля!
Убирает руки от лица. Видно, что плакала.
– Не могу. В ПНД надо его везти. Не хочет. Говорит, что я его дураком сделала. У него ничего не болит, только почки отказали. И тоже из-за меня. А вот на мобильный по 10 раз за день названивать – легко! И всё мужиков ищет. Так и говорит: найду и убью! А у меня на работе из мужиков только начальник. И ищет, ищет он мужиков-то. Каждый день вспоминает.
Поезд въезжал в ночь.
Уступила Оленьке нижнюю полку. Постелили бельё. Ольге заснула быстро. Мне не спалось. Ну вот как люди живут? Всё было: бизнес, красавица-жена, обожаемые дети. А потом рухнул бизнес, жена вышла на работу, а дети оказались языкастыми змеями. Человек поменялся: ревность переросла в медицинский диагноз и инвалидность. А надо жить дальше...
Утром Ольга вышла в маленьком городке – таком маленьком, что поезд стоял всего три минуты. Названия стерлось из памяти навсегда.
– Мама умерла. Еду на похороны. Может, и увидимся ещё!
У Кати – крупные натруженные руки. Стройная, высокая, с певучим голосом. Голубые глаза, морщинки-лучики на лице и в уголках губ. И крупные руки. Она их стесняется и пытается спрятать под стол плацкартного вагона. Катя давно на пенсии, но сидеть в городе скучно. Предложили путевку в санаторий на море. Купила билет, собрала вещи, поехала. Давным-давно она закончила консерваторию, играет на пианино, учит детей музыке.
– У меня три сына. Двое старших уже и женились, и внуков мне нарожали, а Дениска всё никак.
– Почему такое имя? Несовременное и смешное.
– В честь деда назвали. Но дед был пограничником, Родину защищал. А внук вот всё никак...
– Никак – что? Что никак? Родину отказывается защищать?
– Пошел в колледж – скучно, перевелся на другой факультет, еле доучился – лень. Всё себя ищет. Хотели в училище погранвойск отправить, чтобы как дед был, пограничником. Так паспорт потерял. Пока паспорт восстанавливали, приём документов закончился. Так и не выучился. Думала – влюбится, девушка у него хорошая будет. И привел: на 4 года его старше, с высшим образованием, амбициями и мамой.
– А мама зачем?
– Ну, я так и сказала: ты на всём семействе женишься, а не Лике. А он не верил. Лика на Новый год подарила мне комплект белья постельного – чёрного цвета. А мне вот зачем это, а? И цвет такой – чёрный, в розовых пионах больших.
– Пошло?
– Точно! Правильное слово – пошло! Я обратно вернула. Не мой это комплект. Потом Лика в Петербург уехала. Предложили высокую должность, квартиру – моего бросила и уехала. Денис за ней поехал. Так и сказал: люблю её очень, жить без неё не могу. Промаялся и обратно вернулся. Там и дворником работал, и грузчиком, рекламки раздавал... А она – не нужен ей он. Хвостом вертит.
– А любовь? Чувство же было!
– Сплыло! Он вернулся через полгода – похудевший, возмужавший. Думала, за ум возьмется. Уже 25 стукнуло. А всё такой же: мам, я пойду погуляю. И мелочь у меня из карманов пропадает. Всё на карточку перевела.
– Ну, как-то несолидно уже. А работать не пробовал? Говорят, помогает!
Катя как будто считывает мои мысли.
– Он пытался работать. По восемьдесят тысяч рублей зарабатывал. Ну, хоть бы раз деньги мне дал! А сейчас не работает. И опять мелочь пропадает из карманов. Пошла на выставку с подружкой, решили чай попить. Помню, была мелочь; на кассе руку в кошелек опускаю, а там только карточка банковская. И всё.
– А что он по жизни умеет? Ну, что-то же есть?
– Электросамокат водить умеет. И деньги тратить. Они у него, как вода, льются. Отец на день рождения ему 20 тысяч рублей подарил – через 4 дня ни копейки не осталось! И на что потратил, сам объяснить не может! Вот уж точно, как в сказке: первый – умный детина, средний – и так, и сяк. Третий вовсе был дурак! Помрём с отцом – ну как он жить будет? Квартиру продаст? Дурак он, дурак и есть.
Понимаю, что наболело. Что воспитывать уже поздно, женить ещё рано. А жизнь продолжается. И Катя едет отдыхать на море. По бесплатной путёвке. И там у неё мелочь из кармана куртки точно не пропадёт!
А что вы посоветуете Кате? Что с дураком-то делать?
ВАГОННЫЕ ИСТОРИИ: ОТ БОЛЬШОГО УМА – ЛИШЬ СУМА И ТЮРЬМА
– Он душил меня подушкой. Дочери услышали возню, крики, прибежали и растащили. Он потом говорил, что это любовь. А я его отвезла в ПНД. Сказала, что в поликлинику, а отвезла в ПНД. И его положили. Два месяца тишины и свободы.
Оленька сидит у окна на нижней полке. Полная, с полными же руками в веснушках, отёчными ногами, непомещающимися в растоптанные кроссовки. В кружке – растворимый кофе, на пластмассовой тарелочке – кусочки сыра, белого хлеба и крекеры. Уютная, мягкая, редкие белые тропиночки в густых темно-русых волосах.
– Доедай сыр, оплавится, испортится, – Оленька соединяет крекеры сыром и отправляет в рот.
– Люблю сыр, как кошка сметану.
Отпивает кофе, откусывает кусочек крекера.
– Да моя кошка сметану не ест!
– Так это сметана неправильная.
– А... Хорошо, что не кошка.
Обе смеёмся.
– Ну вот, – Оленька продолжает рассказ. – Пока муж в больнице, я к нему на электронную почту зашла. Он письма ждал от бухгалтера. Больше ничего не осталось от бизнеса, компаньоны переписали всё на себя, акции сам продал, отдал. И вот туалеты общественные остались. Не знаю где, какие – письмо, говорю, ждал от бухгалтера.
– И чего с ними, с туалетами-то?
– И их отжали. А он дома засел. Я вышла на работу – девочек надо учить, кормить, обувать-одевать. Он же все деньги из меня вытряс. Могли бы квартиру ещё одну купить, машину. Так обманул и куда дел, не знаю. Ничего, никакой заначки не осталось! Но не про бизнес. А на почте – письмо от друга сердечного. Так и пишет: приезжай, Сашенька, соскучилась по тебе, по твоим поцелуям нежным и страстным. Ну, каков? Я работаю, а он друга сердечного завел, в Лыткарино ездил! Подарки дарил, купленные на мои деньги!
В глазах – слёзы. Дрожат кончики пальцев. Поглаживаю руку попутчицы.
– Оля, да не стоит он вас! Да как же так всё получилось, Оля!
Допивает остывший кофе. Продолжает рассказ.
– Письмо дочки прочитали. И сказали: гони его, после всего случившегося видеть его не хотим! А он и так в психушке лежит, голос слабенький, всё в любви объясняется. А потом почки отказали. И мне вернули ревнивый полутруп. Похудел на 20 килограммов. Список написали, чего нельзя – да жить нельзя! Одни лекарства! Анализы плохие – на диализ три дня в неделю положено ездить. И я его возила, дура! А потом стали сами забирать. Из больницы ездила по району Скорая, собирала болящих и на диализ, потом по домам возвращала. Вот так второй год и живем.
– А девочки как? Саша ваш как? – спрашиваю, но боюсь услышать ответ.
– Да так и говорят: иди! – и адрес указывают. Младшая иногда с ним в шахматы играет. А старшая командует, орёт и матом. Саша? У него же ревность в болезнь перетекла. Он, когда меня душил – уже болел. В ПНД ехать категорически отказывается, боится, что опять положат. Уговорила; собрали документы, инвалидность оформили, 14 тысяч пенсия.
– Оля, а не страшно с ним жить? Вы же и спите в одной постели, дышите одним воздухом, а если опять подушкой, а дома никого не будет?
– Да уже звонил коллеге на работу! Так и спросил: зачем мою жену трахаешь? А тот его послал. А потом вообще уволился. Так Саша ещё несколько раз ему звонил. Стыдно как! Посмотрите на меня! На кого похожа? Отёчное тело, ноги жирные, без косметики, гипертония замучила, вдовий горбик вырос! А Сашка как насмехается: ты самая красивая у меня! Я ж не старая ещё!
Опять слёзы в глазах. Достаю из сумки бутылку с водой, доливаю в остывший кофе. Оля пьёт. Закрывает лицо руками. Плачет. Хочу к ней подойти – так боковушка же! Встаю, наклоняюсь к женщине, глажу по голове.
– Оля! Оля! Да ну их всех! Он же тиранит вас, и девочки всё видят! Положите его опять, легче же будет! Оля!
Убирает руки от лица. Видно, что плакала.
– Не могу. В ПНД надо его везти. Не хочет. Говорит, что я его дураком сделала. У него ничего не болит, только почки отказали. И тоже из-за меня. А вот на мобильный по 10 раз за день названивать – легко! И всё мужиков ищет. Так и говорит: найду и убью! А у меня на работе из мужиков только начальник. И ищет, ищет он мужиков-то. Каждый день вспоминает.
Поезд въезжал в ночь.
Уступила Оленьке нижнюю полку. Постелили бельё. Ольге заснула быстро. Мне не спалось. Ну вот как люди живут? Всё было: бизнес, красавица-жена, обожаемые дети. А потом рухнул бизнес, жена вышла на работу, а дети оказались языкастыми змеями. Человек поменялся: ревность переросла в медицинский диагноз и инвалидность. А надо жить дальше...
Утром Ольга вышла в маленьком городке – таком маленьком, что поезд стоял всего три минуты. Названия стерлось из памяти навсегда.
– Мама умерла. Еду на похороны. Может, и увидимся ещё!
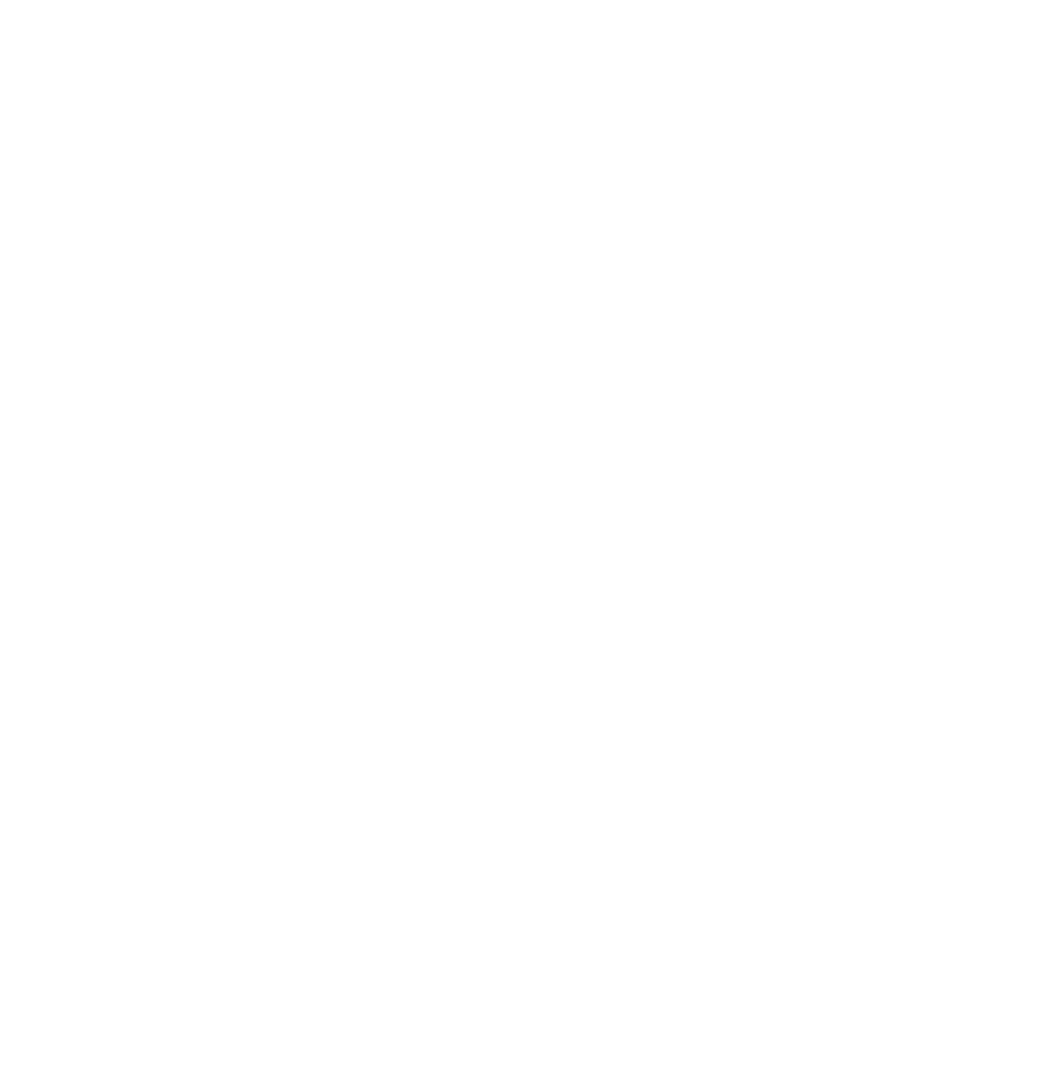
Наталья ЛОСЕВА
Родилась в г. Тихорецке Краснодарского края. Окончила Донской технический университет и магистратуру Тверского государственного университета. Работает в ТвГУ, кандидат филологических наук. Пишет стихи, прозу. Член Союза писателей России с 2001 года, автор 8 книг. Публиковалась в изданиях: «Литературная газета», «Наш современник», «Юность», «Журналист», «Русское слово» (Молдавия), «Школьный вестник», «Индийский вестник», «Подъём», «Дон», «Невский альманах», «Ладога» и др. Лауреат и дипломант конкурсов: «Звезда полей», «Золотое перо», «Наше культурное наследие», «Академия. Детская литература» и других.
Родилась в г. Тихорецке Краснодарского края. Окончила Донской технический университет и магистратуру Тверского государственного университета. Работает в ТвГУ, кандидат филологических наук. Пишет стихи, прозу. Член Союза писателей России с 2001 года, автор 8 книг. Публиковалась в изданиях: «Литературная газета», «Наш современник», «Юность», «Журналист», «Русское слово» (Молдавия), «Школьный вестник», «Индийский вестник», «Подъём», «Дон», «Невский альманах», «Ладога» и др. Лауреат и дипломант конкурсов: «Звезда полей», «Золотое перо», «Наше культурное наследие», «Академия. Детская литература» и других.
С НОВЫМ ГОДОМ!
Отрывок из повести
Новый год неумолимо наступал. Часто человек ждёт: где та черта, разделяющая его навсегда с неудачным прошлым? И Новый год для многих становится тем судьбоносным поворотом, за которым, как им кажется, их поджидает счастливая жизнь. К сожалению, иногда вместе с неприятностями проходит и жизнь… В новогоднюю ночь принято просить у высших сил здоровья, благополучия, исполнения желаний, но в большом мешке Деда Мороза счастья, к сожалению, на всех не хватает. Кому-то достаётся жирный кусок, кому-то крошки со стола, а кого-то и до стола, где идёт раздел счастья, не допускают.
Машина Скорой помощи остановилась на Садовом кольце. Мимо пробегали молодые люди. С криками «Ура-а-а!» они выстрелили в небо, и оно озарилось яркими огнями. Из машины вышел уставший Владимир Михайлович. Он дрожащими руками достал сигареты, закурил. Белый халат контрастировал с тёмным небом. Ему было холодно, как тогда, когда он в первый раз во время лыжной прогулки потерялся в лесу и несколько часов кружил в поисках турбазы. Плечи его дрожали, и, казалось, ничто не могло его согреть.
– Вот и всё... Свой Новый год ты встретила на свободе. В Первопрестольной... – чуть слышно произнёс Плетнёв и, отшвырнув окурок, добавил. – Финита ля комедия, Лера.
На медицинском посту висела новогодняя газета с тройкой резвых лошадей, Снегурочкой и Дедом Морозом, у которого за плечами был огромный переливающийся мешок с подарками. Стаканы с минеральной водой ждали всех желающих. Бурлящая вода напоминала шампанское, и даже тот, кому нельзя с газами, всё равно брал символические бокалы, боясь сжать мягкие бока, чтобы не выплеснулось содержимое.
– Ура! – первой закричала Семёновна. – С Новым годом!
– Тихо, тихо! – делала вид, что наводит порядок, Шурочка. – Люди спят. И вовсе это не Новый год. Это проводы старого.
– Так ещё и Новый год будет? – сделал удивлённый вид Агомаян. – Хорошо живём! Ребята, я надеюсь, нет, я просто верю, что всё плохое в нашей жизни – позади!
– Правильно, надежда умирает последней! – поддержал его Исаев.
– Ре-бя-ты! – беззубым ртом кричала Клавка. – Ура-а-а! Не перелить бы…
Мария Ильинична и Галина всё же старались держаться подальше от преобразившейся Клавки, но она всякий раз пыталась положить руку на плечо то одной, то другой благодетельнице.
– Разрешите тост? Гусарский! – нашёлся Агомаян. – За женщин!
– Вы что-то ретиво погнали, – приостановил его Катарчук, который уже не мог находиться в стенах палаты и, как и все, верил в особенности встречи Нового года. – За женщин третий тост. Первый – за здоровье.
– Всё понятно, – быстро нашлась Семёновна. – Это как в том анекдоте...
Но Агомаян не дал договорить не унимающейся женщине.
– А я что говорю? За здоровье! За женщин! Наши жизни – в их руках!
Последнее адресовано Шурочке, которая от неожиданности залилась краской.
– И в наших! – хитро улыбаясь, добавила Галина и чокнулась с предпринимателем, поправляя халат. Увидев под халатом погоны, Катарчук выплеснул воду на окружающих.
– Нет, вот этого не надо! – отступая назад, только и смог выдавить больной.
– А жаль! В нашем мире всё делают связи, – многозначительно сказала охранница, подмигнув.
– С Но-вым го-дом! С Но-вым го-дом! – скандировал, как на демонстрации, возбуждённый Исаев.
Шурочка была бессильна сопротивляться выплеску радости и счастья, исходившему из каждого горящего, как лампадка в ночи, сердца. Она хотела уйти подальше от возможной нахлобучки, но Исаев её остановил.
– За жизнь! Сестричка, можно с вами на брудершафт?
– Я при исполнении! – испуганно вскрикнула Шурочка, заливаясь краской.
– Тьфу-ты…Так это газировка? – фыркнула недовольно Клавка.
– А что ж ты думала, тебе спиртяги нальют? Губу раскатала! – Галина знала, как поставить подобных на место. По телевизору зазвучал вальс – любимый танец Агомаяна.
– Дай бог, не в последний раз, – Агомаян изогнулся в глубоком реверансе перед Марией Ильиничной.
– Конечно, вы хотите сказать: «Дай бог, не последняя»? Так это попозже. У меня в палате имеется... – игриво шепнула ему на ухо женщина. Агомаян был на полголовы ниже Марии Ильиничны, к тому же прихрамывал, но это их нисколько не обескураживало. Какие могут быть условности здесь, когда люди смотрели в лицо смерти?
– А вы не хотите меня пригласить? – набилась к Катарчуку Галина. Он сконфузился и стал нервно теребить пальцы.
– Да что вы?!.. Разве можно... В таком-то положении?
– О женщине говорят «в положении», когда она должна родить, – нашлась Семёновна, показывая на свою стеклянную колбу. – Вы тоже скоро родите. И всё, как говорится, устаканится.
Лицо предпринимателя озарила улыбка; сразу же прошли напряжение и скованность последних месяцев.
– Вы действительно так думаете?
– Конечно. Так что ничего не бойтесь!
– А мы что стоим? – недоумевающе обратился к Шурочке Исаев. – Уже все танцуют. Некрасиво получается…
Шурочка хотела возразить, но больной опередил её:
– Только не говорите: «Я при исполнении».
Шурочка от души посмеялась его находчивости.
– Как откажешь такому мужчине?!
Все больные кружились в танце. Женщины, которым не хватило пары, танцевали друг с другом.
– А вы шо ж сидите? – Клавка подошла к сидящему у телевизора Фролычу. – Я тож не хочу. Да ну его… Лучша телевизер поглядеть.
– Эх! Я в ваши годы… О, я в ваши годы такие кадрили выкидывал… – начал в ярких красках вспоминать Фролыч.
Надежда была одна в палате. Идти в холл к телевизору, где шумели выздоровевшие в одночасье больные, не хотелось. Усталость и нервное напряжение последних дней давали о себе знать. Надежда устроилась на кровати Лерки, взяла её фотографию. В окно бились снежинки, желая согреться. Вьюга придавала новогоднее настроение. Под бой курантов хотелось побыть с этой девочкой, с которой она за короткое время сроднилась. В палату вошла Семёновна.
– Фу-ух, что-то я устала. А расшумелись-то как... Голова кругом, – она выпила таблетку. – А ты что сидишь? Вставай, вставай, нечего киснуть. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.
Под звуки курантов крики «Ура-а-а!» наполнили всё отделение, проникая даже в отдалённые уголки. Надежда и Семёновна чокнулись соком, смешанным с газировкой, и загадали желания.
– А ты чувствуешь, чувствуешь, как звенит! – шутя заметила Семёновна. – Настоящий хрусталь! Смотри не перелей.
После опустошения содержимого «бокалов» Семёновна перешла к развлекательной части.
– А мы сейчас, знаешь что, давай-ка будем танцевать. Вся танцплощадка наша. Забацай-ка мне, девочка, чарльстон – или твист на худой конец. Нечего, нечего за бок держаться, страдалицу из себя изображать. У нас всё путём! Откинем костыли и – вперёд!
Семёновна, пытаясь развеселить соседку по палате, смешно дёргала животом, придерживая выводную колбу.
– Нет, что ни говори, а здесь веселее. Ни в чём себе не отказываешь...
От смеха у Надежды появились колики в боку. Увлечённые танцами, они не сразу услышали посторонний звук. Через некоторое время он повторился. «Кто-то бросает в раму снежком», – подумала Надежда и побежала к окну. Сквозь просвет в окне она увидела еле заметную мужскую фигуру. На тёмном фоне деревьев её выдавал белый воротник. У Паши не было куртки с белым воротником. Это мог быть тот же наркоман, желающий заполучить очередную дозу. Но каким-то внутренним чутьём Надежда почувствовала: «Паша! Это Паша!» Из двух окон в палате открывалось только то, где спала Лерка. Надежда, наступая на кровать, залезла на подоконник.
– Ты куда? Надя, вернись, я всё прощу! – артистично, припадая на колено, кричала ей Семёновна.
– Семёновна, кончай, швы разойдутся.
– А иголка на что?
Форточка долго не открывалась, и только сильный рывок помог сдвинуть её с места. Надежде нельзя было делать резких движений, но она уже ничего не боялась. Свежий ветер с острым запахом хвои и талой воды поцеловал лицо больной. Тело наполнилось хмельным ощущением счастья, свободы и весны. Распахнувшийся мир был совершенно нов и неузнаваем. «Скоро весна! Совсем скоро!..» – с радостью поняла Надежда. Мужчина в куртке с белым воротником отделился от берёзы.
– Наденька! Привет! С Новым годом! – раздался до боли знакомый голос. Этот голос она бы узнала из тысячи. – Ты извини, я не мог тебе сообщить. Меня срочно отправили в командировку. И мы там застряли... А тебе Санька не сообщал?
Решётка, разделяющая их с Пашей, раздражала, и Надежде хотелось разогнуть эти металлические прутья, вырвать их с корнем. Паша что-то говорил в оправдание, но это уже не имело значения. Надежда прервала его – ей вдруг захотелось сказать важное, без чего невозможна жизнь:
– Паша! Меня скоро выписывают! У нас будет ребёнок! Девочка! Мы назовём её Вера!
Отрывок из повести
Новый год неумолимо наступал. Часто человек ждёт: где та черта, разделяющая его навсегда с неудачным прошлым? И Новый год для многих становится тем судьбоносным поворотом, за которым, как им кажется, их поджидает счастливая жизнь. К сожалению, иногда вместе с неприятностями проходит и жизнь… В новогоднюю ночь принято просить у высших сил здоровья, благополучия, исполнения желаний, но в большом мешке Деда Мороза счастья, к сожалению, на всех не хватает. Кому-то достаётся жирный кусок, кому-то крошки со стола, а кого-то и до стола, где идёт раздел счастья, не допускают.
Машина Скорой помощи остановилась на Садовом кольце. Мимо пробегали молодые люди. С криками «Ура-а-а!» они выстрелили в небо, и оно озарилось яркими огнями. Из машины вышел уставший Владимир Михайлович. Он дрожащими руками достал сигареты, закурил. Белый халат контрастировал с тёмным небом. Ему было холодно, как тогда, когда он в первый раз во время лыжной прогулки потерялся в лесу и несколько часов кружил в поисках турбазы. Плечи его дрожали, и, казалось, ничто не могло его согреть.
– Вот и всё... Свой Новый год ты встретила на свободе. В Первопрестольной... – чуть слышно произнёс Плетнёв и, отшвырнув окурок, добавил. – Финита ля комедия, Лера.
На медицинском посту висела новогодняя газета с тройкой резвых лошадей, Снегурочкой и Дедом Морозом, у которого за плечами был огромный переливающийся мешок с подарками. Стаканы с минеральной водой ждали всех желающих. Бурлящая вода напоминала шампанское, и даже тот, кому нельзя с газами, всё равно брал символические бокалы, боясь сжать мягкие бока, чтобы не выплеснулось содержимое.
– Ура! – первой закричала Семёновна. – С Новым годом!
– Тихо, тихо! – делала вид, что наводит порядок, Шурочка. – Люди спят. И вовсе это не Новый год. Это проводы старого.
– Так ещё и Новый год будет? – сделал удивлённый вид Агомаян. – Хорошо живём! Ребята, я надеюсь, нет, я просто верю, что всё плохое в нашей жизни – позади!
– Правильно, надежда умирает последней! – поддержал его Исаев.
– Ре-бя-ты! – беззубым ртом кричала Клавка. – Ура-а-а! Не перелить бы…
Мария Ильинична и Галина всё же старались держаться подальше от преобразившейся Клавки, но она всякий раз пыталась положить руку на плечо то одной, то другой благодетельнице.
– Разрешите тост? Гусарский! – нашёлся Агомаян. – За женщин!
– Вы что-то ретиво погнали, – приостановил его Катарчук, который уже не мог находиться в стенах палаты и, как и все, верил в особенности встречи Нового года. – За женщин третий тост. Первый – за здоровье.
– Всё понятно, – быстро нашлась Семёновна. – Это как в том анекдоте...
Но Агомаян не дал договорить не унимающейся женщине.
– А я что говорю? За здоровье! За женщин! Наши жизни – в их руках!
Последнее адресовано Шурочке, которая от неожиданности залилась краской.
– И в наших! – хитро улыбаясь, добавила Галина и чокнулась с предпринимателем, поправляя халат. Увидев под халатом погоны, Катарчук выплеснул воду на окружающих.
– Нет, вот этого не надо! – отступая назад, только и смог выдавить больной.
– А жаль! В нашем мире всё делают связи, – многозначительно сказала охранница, подмигнув.
– С Но-вым го-дом! С Но-вым го-дом! – скандировал, как на демонстрации, возбуждённый Исаев.
Шурочка была бессильна сопротивляться выплеску радости и счастья, исходившему из каждого горящего, как лампадка в ночи, сердца. Она хотела уйти подальше от возможной нахлобучки, но Исаев её остановил.
– За жизнь! Сестричка, можно с вами на брудершафт?
– Я при исполнении! – испуганно вскрикнула Шурочка, заливаясь краской.
– Тьфу-ты…Так это газировка? – фыркнула недовольно Клавка.
– А что ж ты думала, тебе спиртяги нальют? Губу раскатала! – Галина знала, как поставить подобных на место. По телевизору зазвучал вальс – любимый танец Агомаяна.
– Дай бог, не в последний раз, – Агомаян изогнулся в глубоком реверансе перед Марией Ильиничной.
– Конечно, вы хотите сказать: «Дай бог, не последняя»? Так это попозже. У меня в палате имеется... – игриво шепнула ему на ухо женщина. Агомаян был на полголовы ниже Марии Ильиничны, к тому же прихрамывал, но это их нисколько не обескураживало. Какие могут быть условности здесь, когда люди смотрели в лицо смерти?
– А вы не хотите меня пригласить? – набилась к Катарчуку Галина. Он сконфузился и стал нервно теребить пальцы.
– Да что вы?!.. Разве можно... В таком-то положении?
– О женщине говорят «в положении», когда она должна родить, – нашлась Семёновна, показывая на свою стеклянную колбу. – Вы тоже скоро родите. И всё, как говорится, устаканится.
Лицо предпринимателя озарила улыбка; сразу же прошли напряжение и скованность последних месяцев.
– Вы действительно так думаете?
– Конечно. Так что ничего не бойтесь!
– А мы что стоим? – недоумевающе обратился к Шурочке Исаев. – Уже все танцуют. Некрасиво получается…
Шурочка хотела возразить, но больной опередил её:
– Только не говорите: «Я при исполнении».
Шурочка от души посмеялась его находчивости.
– Как откажешь такому мужчине?!
Все больные кружились в танце. Женщины, которым не хватило пары, танцевали друг с другом.
– А вы шо ж сидите? – Клавка подошла к сидящему у телевизора Фролычу. – Я тож не хочу. Да ну его… Лучша телевизер поглядеть.
– Эх! Я в ваши годы… О, я в ваши годы такие кадрили выкидывал… – начал в ярких красках вспоминать Фролыч.
Надежда была одна в палате. Идти в холл к телевизору, где шумели выздоровевшие в одночасье больные, не хотелось. Усталость и нервное напряжение последних дней давали о себе знать. Надежда устроилась на кровати Лерки, взяла её фотографию. В окно бились снежинки, желая согреться. Вьюга придавала новогоднее настроение. Под бой курантов хотелось побыть с этой девочкой, с которой она за короткое время сроднилась. В палату вошла Семёновна.
– Фу-ух, что-то я устала. А расшумелись-то как... Голова кругом, – она выпила таблетку. – А ты что сидишь? Вставай, вставай, нечего киснуть. Как встретишь Новый год, так его и проведёшь.
Под звуки курантов крики «Ура-а-а!» наполнили всё отделение, проникая даже в отдалённые уголки. Надежда и Семёновна чокнулись соком, смешанным с газировкой, и загадали желания.
– А ты чувствуешь, чувствуешь, как звенит! – шутя заметила Семёновна. – Настоящий хрусталь! Смотри не перелей.
После опустошения содержимого «бокалов» Семёновна перешла к развлекательной части.
– А мы сейчас, знаешь что, давай-ка будем танцевать. Вся танцплощадка наша. Забацай-ка мне, девочка, чарльстон – или твист на худой конец. Нечего, нечего за бок держаться, страдалицу из себя изображать. У нас всё путём! Откинем костыли и – вперёд!
Семёновна, пытаясь развеселить соседку по палате, смешно дёргала животом, придерживая выводную колбу.
– Нет, что ни говори, а здесь веселее. Ни в чём себе не отказываешь...
От смеха у Надежды появились колики в боку. Увлечённые танцами, они не сразу услышали посторонний звук. Через некоторое время он повторился. «Кто-то бросает в раму снежком», – подумала Надежда и побежала к окну. Сквозь просвет в окне она увидела еле заметную мужскую фигуру. На тёмном фоне деревьев её выдавал белый воротник. У Паши не было куртки с белым воротником. Это мог быть тот же наркоман, желающий заполучить очередную дозу. Но каким-то внутренним чутьём Надежда почувствовала: «Паша! Это Паша!» Из двух окон в палате открывалось только то, где спала Лерка. Надежда, наступая на кровать, залезла на подоконник.
– Ты куда? Надя, вернись, я всё прощу! – артистично, припадая на колено, кричала ей Семёновна.
– Семёновна, кончай, швы разойдутся.
– А иголка на что?
Форточка долго не открывалась, и только сильный рывок помог сдвинуть её с места. Надежде нельзя было делать резких движений, но она уже ничего не боялась. Свежий ветер с острым запахом хвои и талой воды поцеловал лицо больной. Тело наполнилось хмельным ощущением счастья, свободы и весны. Распахнувшийся мир был совершенно нов и неузнаваем. «Скоро весна! Совсем скоро!..» – с радостью поняла Надежда. Мужчина в куртке с белым воротником отделился от берёзы.
– Наденька! Привет! С Новым годом! – раздался до боли знакомый голос. Этот голос она бы узнала из тысячи. – Ты извини, я не мог тебе сообщить. Меня срочно отправили в командировку. И мы там застряли... А тебе Санька не сообщал?
Решётка, разделяющая их с Пашей, раздражала, и Надежде хотелось разогнуть эти металлические прутья, вырвать их с корнем. Паша что-то говорил в оправдание, но это уже не имело значения. Надежда прервала его – ей вдруг захотелось сказать важное, без чего невозможна жизнь:
– Паша! Меня скоро выписывают! У нас будет ребёнок! Девочка! Мы назовём её Вера!

Вадим ПОСТАВНЁВ
Родился в 1987 году в Ворошиловградской УССР, г.Старобельск. Образование высшее, Магистратура, обучение в Луганском сельскохозяйственном институте, специальность – инженер-механик с.х. Люблю природу, занимаюсь велоспортом, как хобби – писательская деятельность. Туристом посетил большую часть исторических мест и областных центров европейской части России. Так же монтирую и выкладываю видео поездок на своём Ютуб-канале.
Родился в 1987 году в Ворошиловградской УССР, г.Старобельск. Образование высшее, Магистратура, обучение в Луганском сельскохозяйственном институте, специальность – инженер-механик с.х. Люблю природу, занимаюсь велоспортом, как хобби – писательская деятельность. Туристом посетил большую часть исторических мест и областных центров европейской части России. Так же монтирую и выкладываю видео поездок на своём Ютуб-канале.
ПЫЛЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОГИ
Полная версия повести
Информационная справка: имя главного героя рассказа – Владлен, не имеет древней истории и появилось совсем недавно, в советские времена. Происходит от аббревиатуры, составленной из частей имени вождя – Владимира Ленина. Пик моды пришёлся на революцию.
Глава 1. Сборы к велопоездке
Вечер пятницы, в левой руке зажат тетрадный лист в клеточку.
– Так, ещё раз проверим, – почесав затылок, негромко сказал Владлен, возвратившись взглядом в начало списка.
Совсем недавно приобретённый ортопедический матрас двухместной кровати полностью отрабатывал отданные за него деньги, кроме основной функции исполняя побочные, – в данный момент он больше походил на стол стратегического планирования наступательных действий главного военного штаба. Чёрными галочками отмечены пункты списка необходимых вещей, в хаотичном порядке разложенных по всей площади кровати.
– … третий – есть, четвёртое – носки, спальник и велосипедный насос, – на мгновение прервавшись, произнёс Владлен, подобно лесному филину, повернул голову вправо, в очередной раз сверив наличие оных согласно списку.
В основном последняя процедура имела вид перестраховочного момента, так как всё необходимое для очередной вело-вылазки с ночёвкой было собрано в течение двух рабочих недель. Один из немногих факторов, которыми был доволен и которые помогали максимально использовать время для одновременного решения нескольких дел, являлись интернет-магазины с доставкой товаров в кратчайшие сроки. Так было получено недостающее: велосипедный ремкомплект, мультитул, набор компактной туристической посуды, удобный налобный фонарик, сумка для вещей на задний багажник и прочая мелочёвка. Перечисленное, а также не упомянутое требовало своего места на алюминиевом «коне», причём так, чтобы не мешать управлению и не отвлекать от удовольствия наблюдений за природными пейзажами выбранного маршрута. К общему перечню необходимого добавлен плёночный фотоаппарат Zenit-E с несъёмным объектовом, доставшийся в наследство от отца. Любительским фото Владлен увлекался с детства, с первых дней, как познакомился с волшебным устройством, фиксирующий важные моменты происходящего на небольшом листе фотобумаги.
« Бом-бом-бом… » – звук настенных часов отвлёк от планов на завтра, одновременно напомнив об изрядно проголодавшемся желудке. Интересный факт – биение старинных деревянных часов, удачно вписавшихся в интерьер квартиры, припадало только на семь утра и девятнадцать часов вечера, а остальное время – классический неторопливый ход. Личные догадки… быть может, изначально мастером или бывшим владельцем для себя настроено?
С наступлением первой теплоты сезона пожилые хозяева квартир традиционно «мигрируют» из шумной столицы по направлению к клочкам своих дачных участков, на оговоренное время сдавая жильё квартиросъёмщикам, от которых, как от комаров, не было отбоя. Как говорится: «Спрос рождает предложение».
Так и случилось: сменив угрюмое выражение лица и приятно улыбнувшись, удача предоставила возможность поселиться в квартире одного из домов окраины Москвы за сравнительно небольшую цену. Стоит заметить, что жилая квадратура позволяла заселить ещё одного человека, требовалось лишь наличие второй кровати у противоположной стены. Условия не барские, беглая визуальная оценка внятно говорила о том, что последний ремонт произошёл в «царские» времена, но по сути, много ли мужику-холостяку нужно?
В вечер знакомства с владельцем квартиры узнал, что вместе с женой они второй год как полностью переехали жить на дачу в области, сюда являются редко, в основном для того, чтобы убедиться в порядке. Договорились, что Владлен (в диалогах сократим – Влад) будет жить, кроме основной сам оплачивая коммунальные по счётчикам. Единственная просьба – чистота и «не трогать оставленные вещи», которые в ближайшем будущем заберут.
Так всё и шло, в квартире поддерживался порядок, менялось лишь расположение мебели. Поначалу кроме биения часов напрягал тихий пощёлкивающий звук… хотелось вскрыть и «всковырнуть» что-нибудь, но полуторагодичное проживание с 9-12-часовым отсутствием отодвинуло неприятный звук на второй план.
Противный свист чайника поставил финальную точку процесса сбора и пригласил отведать душистого расслабляющего чая на травах, привезённых в шумный мегаполис из спокойных восточных регионов страны.
– Вот и «ладушки», – отодвинув назад стул и вставая из-за стола, произнёс Влад, погладив ладонью выделяющийся из-под футболки возрастной животик.
Надежды грязной посуды на банные процедуры исчезли, очередной небольшой группой навестив родственников в раковине. Хлебные крошки и остатки недоеденной пиццы убраны со стола в мусорную корзину. Пополнившийся запас растраченных сил, безвозмездно вручённых вкусной пищей, медленно опускал веки, а душистый вкусный чай, разносимый кровью к каждой клетке тела, постепенно расслаблял мышцы. Последние мысли о долгожданной грядущей поездке – минута…две, и колыбельные отголоски засыпающего города подчинили сознание велотуриста, бережно уложив на мягкую кровать.
Глава 2. Утро субботы – 28 августа. Старт
С прошлого вечера надёжный прогноз интернета прогнозировал ясную погоду с переменной облачностью, ко всему прочему – умеренная температура как для дневной поездки, так и для приятной ночёвки в палатке на свежем воздухе. Когда протирал глаза и бросал взгляд на часы, внимание привлёк серо-белый голубь с клонящейся в разные стороны головой и выпученными глазами, наблюдающий за мной через оконное стекло, стоя на жестяном отливе – «ПОДЪЁМ!» – взглядом напоминая о запланированной поездке.
В послеобеденное пятничное время надоедливые светофоры раз за разом останавливали остатки горожан, выстроившихся в долгую вереницу с целью сбежать на несколько дней из душной, пыльной Москвы. По традиции утро субботы малолюдно, а те, кто остался, редко выходили на улицы до десяти…одиннадцати часов дня. Тем не менее решил выехать пораньше, дабы максимально и неторопливо насладиться скромным путешествием. В списке планов на будущее нет строки записи желания вторгаться в ряды профессиональных велотуристов, преодолевающих тысячи километров. На сегодня вполне достаточно поездки маршрутом Москва – Тула (электричкой), с железнодорожной станции добраться до карьера Кондуки, где и заночевать. Утром – грунтовкой на Кимовск, откуда – на Шатское водохранилище, а там, покуда хватит сил, вдоль пути электрички обратно на столицу.
Закрыл телефон и несколько раз моргнул – впечатление, что детальная карта тамошних земель была сделана не спутником с околоземной орбиты, а лично моими глазами. Из положительного – можно не отвлекаться на навигатор. Удобно, правда?
Не вдаваясь в подробности, подметил, что от ж/д вокзала Тулы до окраины города добрался довольно быстро: городские пейзажи постепенно сливались в однородную массу, не отвлекаясь, останавливался лишь на пешеходных переездах и светофорах, старался как можно быстрее выехать из города. Межрайонная дорога радовала сравнительной тишиной и минимальным количеством машин выходного дня. Важной особенностью, отличающей меня от других велосипедистов, предпочитающих путешествие асфальтным покрытием, является маршрут из точки «А» в точку «Б» с преимущественно грунтовыми дорогами, выбирая интересные места и минимизируя встречи с людьми: «Через четыреста метров будет съезд и поворот на право»; мозговой навигатор выдал очередную памятку, внеся новую порцию позитива.
Природа буйствует разнообразием трав и деревьев, впечатляет красотой и масштабами наблюдаемого пейзажа, наполняя свежим воздухом лёгкие, забитые выхлопными газами и пылью улиц города.
За спиной – долгожданный поворот-съезд, сменившийся мелко-гравийным полотном, передающим лёгкую дрожь телу от колёс через раму велосипеда. Дорога шла к низине, наблюдаемой прямо по курсу, в полукилометре от меня ясно различима лошадь, запряжённая в деревянную телегу, на которой сидят два человека с двумя…тремя мешками поклажи за спиной. Постепенно приближаясь, удалось разглядеть деревенскую одежду, довольно сильно контрастирующую с современной. Твёрдо уверен, что у любого наблюдающего незамедлительно сложилось бы впечатление, что парень и девушка пользовались гардеробом, извлечённым из сундука прабабки, не один десяток лет настолько бережно хранящимся, что даже моль к нему не подпускали. В двадцати метрах, справа от дороги, на двух из многих небольших земляных холмиках заметил по струнке стоящих полевых сурков, поочерёдно пересвистывающихся друг с дружкой. «Смотри, сосед, – указывая лапкой в мою сторону, обратился первый, повернув голову к собеседнику, – велосипед спортивный, а телегу никак обогнать не может!» – «Ничего удивительного, – слегка прищурив правый глаз, отмахнулся второй, – сто процентов – городской, они там все хилые». – «Ха-ха-ха», – засмеялись оба и нырнули в свои норы.
Короткая шутка мелькнула в голове, и я решил навалиться на педали, дабы «не ударить в грязь лицом» перед полевыми постовыми. Как упоминал ранее, набору скорости благоволил спуск в низину, заметно увеличивший силу своей крутизны. Признаюсь, сильно удивило, что такой весомый фактор на телегу никак не влиял – как и ранее, продолжала вяло «тошнить» параллельно обочине, словно не спускалась вовсе, а ехала по ровной прямой, и лошади просто не хватало сил тянуть быстрее полупустую телегу.
Указатель скорости велокомпьютера стремительно менял свои показатели, чем на мгновение и отвлёк, не позволив разглядеть лиц молодых людей при обгоне. Удалось услышать только недовольный «фыркнувший» звук усталой лошади… Интерес не всегда имеет положительную сторону – лишь на несколько секунд повернув голову назад, почувствовал несколько ударов «в руль», затем – отсутствие сцепления с дорожным полотном и, собственно говоря, отсутствие самого транспортного средства под собой. Выражаясь западным термином, «экшн» продолжался недолго, по крайней мере, так мне казалось. Нет, сознание при падении не терял, а сопутствующий перечень ощущений прочувствовал в полной мере с самого начала до его финала: помнил те самые неожиданные первые удары, видимо, под колеса попали несколько дорожных камней; затем переднее колесо проглотила выбоина.
Лёжа на животе лицом вниз, первое, о чём подумал, целы ли кости и не отбил ли чего себе… «Полевая» диагностика тела обнадёжила и успокоила, повреждения оказались минимальны. Открыв глаза, взглядом оценил «посадочную полосу», сразу вспомнился ценник защитного шлема для велосипедистов в одном из спортивных магазинов. «Ничего себе – три тысячи! Представляешь?! В корень обнаглели… » – недовольно выругался я, высказав своё возмущение другу, не забыв упомянуть цену на зеркала заднего вида.
Метрах в трёх от выбоины лежал боком любимый велосипед с удачно закреплёнными туристическими вещами, чуть дальше, на ветви придорожного карликового куста, затылочной липучкой и козырьком вниз повисла солнцезащитная кепка, в кульминационный момент встречным потоком воздуха сорванная с головы. Ну, а дальше, собственно говоря, «расстелился» на дороге я сам, не решаясь встать на ноги.
– Господи, господи-боже мой! – хлопнув в ладоши, молодая стройная девушка спорхнула с остановившейся телеги и ускоряющимся шагом устремилась ко мне, приподнявшемуся и сидящему на пятой точке.
Симпатичная девушка: красно-белое вышитое платье, ситцевая рубаха с традиционными узорами, низкий подол и милое личико деревенской девушки приблизительно лет двадцати от роду; брюнетка.
– Паша, ну что, жив? – спросил парень, остановивший телегу и направившийся следом.
Соломенная шляпа, праздничная мужская косоворотка с вышитым красным ромбом воротом, некрашеные порты.
Описание внешности молодых людей было похоже на открытый файл видеозаписи презентации этнографической выставки. «Ого, вот так закоротило голову…» – подумал я, но вслух не произнёс.
Продолжаю молчать. Наблюдаю, как девушка несколько раз смахнула платком пыль с моей испачканной футболки, промакнув выступившую кровь на расцарапанной левой стороне лица.
– Смотри, как лицо ему повредило, – сказала она парню, указав на меня. – С вами всё хорошо? Сильно болит?
– Нет-нет, в порядке, не больно даже.
«А ведь и правда, боли совсем не ощущаю», – параллельно словам проскочило в мозгу замечание, но факт был списан на болевой шок, который скоро отступит и полным букетом представит ранее скрытые ощущения.
– Да ладно тебе, – парень присел рядом с девушкой и, посмотрев в её большие карие глаза, добавил. – Помнишь, как меня по первому Снежок с себя сбрасывал?
– Будет тебе! – нахмурившись, одёрнула попутчика девушка, приятным блеском в глазах ушедшего в былые воспоминания. – Лучше скажи, что дальше делать будем?
– Ты как сам? Руки-ноги целы? Ходить можешь?
– Да, конечно, – уверенно ответил я, встав на ноги, выпрямился и потянулся, слегка подавшись вперёд грудью. – АПЧХИ-апчхи, – двойным дуплетом выдал я, и из носа струйками засочилась кровь.
В течение минуты небольшие лоскутки ветоши двумя затычками закрепились в ноздрях, решив проблему. Потревоженная падением пыль успела осесть на придорожной растительности, куда и была снесена неторопливым летним ветерком. Её остатки покрыли тело тонкой серой «вуалью», пробравшись не только в нос и уши, но даже под одежду… Признаюсь, ощущение не самое приятное.
– Будь здоров вдвойне! – сказал парень, слегка хлопнув меня по плечу. – Меня Александр зовут, друзья Сашкой кличут, а это моя девушка – Прасковья.
– Это так матушка с отцом нарекли, – слега смутившись румянцем, сказала девушка. – Можно просто – Проня или Паша.
– По паспорту Владлен, – с приветливой улыбкой ответил я, протянув руку для знакомства, – друзья кратко – Влад.
Рукопожатие выдалось недолгим, и первым мою ладонь отпустил Александр, заметив на ней запёкшуюся кровь. Теперь я понял, как удалось не разбить при падении голову: во время удара о землю левой частью лица успел подложить ладонь правой руки под голову, которая и послужила неким защитным буфером.
– Вот и познакомились, – добродушной улыбкой подчеркнул Александр. – Теперь вот как поступим…
Визуально оценив моё состояние, договорились, что Проня продолжит путь к себе в деревню, а я и Александр взяли курс в сторону его хутора в полукилометре от дороги на опушке леса. На зрение жалоб нет, даже рекламные баннеры и номера машин с расстояния пушечного выстрела мог без особого труда прочитать, но сейчас пять небольших приземистых домика сливались в единую массу непонятного цвета, лишь только небольшой пруд время от времени приветствовал солнечными бликами.
Неторопливым шагом шли по двум параллельно вытоптанным тропинкам, отдалённо напоминающим железнодорожную узкоколейку (глупое сравнение…), ну а свой «истребитель» вместе с вещами катил рядом. Похожие дорожки встречались мне в те времена, когда ещё подростком ездил к бабушке и деду на лето в одну из деревень Брянской области. Такими тропами, общаясь друг с другом, люди добирались через луга до автобусной остановки асфальтной дороги «на город» и обратно.
– А что это у тебя за машина такая? – голос Александра нахально вторгся во владения птичьих песен. – Щёлкает всё время… сломалось что?
– Ну, это… как бы велосипед, – с озадаченным выражением лица ответил я, совсем не ожидая такого вопроса. – «Бюджетник» с родной барабанной втулкой под кассету, в прошлом году купил.
Коротко рассказал, что производитель отечественный – Калининградская область, но комментарий оказался не однозначен, Александр согласился, что отечественное на порядок лучше заграничного, но про Калининградскую область никогда в жизни не слышал. Признаться честно, покуда жил в деревне, в географии и я был не особо-то и силён, а вот о качестве отечественного к заграничному… В личном запасе имелись неоспоримые аргументы и конкретные факты, но вовремя мысленно себя одёрнул – понял, что меня начало «заносить» в механику и прервал доклад, дав слово собеседнику.
– Да мне оно не так уж важно, где и что находится, – приятно улыбнулся Александр. – Как грамоте обучился, помощником в конюшню подался, там и по сей день работаю. По выходным и в праздники в город на рынок да к родне ездим, ну, скупиться да пообщаться, этого вполне хватает – «чего имеем, тому и рады», как говорится.
Расстояние в пятьсот метров пешим ходом – не для подробных и долгих диалогов. Электронные часы на левом запястье показывали три часа дня, когда мы вошли в небольшой посёлок. Хотя корректней будет сказать – хутор из пяти домиков вокруг небольшого пруда с берегами, поросшими густым камышом и спокойной водяной гладью. В ней отражалось голубое небо с выныривающими из белых облаков домашними утками… Забавная картина. Максимально сжато описывая первые впечатления, скажу, что лично мной наблюдаемое до мелочей походило на старорусскую деревню из детских сказок, где можно было прямо сейчас начинать съёмку, абсолютно не заморачиваясь декорациями. Внутреннее ощущение, словно именно в этом месте время живёт персональной и независимой от внешних обстоятельств жизнью… некая параллельная ветвь нынешнему, в определённом месте остановившаяся и подчиняющаяся лично утверждённым законам.
… В избе на деревянном срубе частицы воздуха пронизаны приятным запахом сосны, очередной порцией вдоха ласкающий лёгкие и успокаивающий нервную систему. Оконные рамы и двери явно из дуба, в левом углу – печь с зашторенной занавеской лежанкой. Деревянный стол занял почётное место в противоположном углу, вдоль стен стояли скамейки, над которыми висели полки с домашними принадлежностями. Также заметил икону, вот только сам лик святого, как бы сильно ни напрягал зрачки, но так и не смог разглядеть. «Быть может, это чей-то розыгрыш со всеми этими переодеваниями и «доставкой» меня в очередной музей-заповедник русской культуры?» – сама собой проскочила мысль. Но голова по-прежнему была занята сугубо догадками, не в состоянии формировать конкретные выводы.
– Да ты не стесняйся, проходи, – пригласил Сашка, – вещи свои тут вот клади, снимай одёжу, а я пока за тазиком и водой схожу.
Стоя босыми ногами на приятном травяном ковре двора, чистой водой промыл от пыли и пота «боевые» отметены, которые уже успели затянуться запёкшейся кровью. За процедурами наблюдал сидящий на заборе петух, важно разглядывая незнакомца, без спроса и приглашения заявившегося в его двор; зачётный кадр, подумалось мне. Именно в этот момент захотелось сфотографировать его на отцов фотоаппарат, ожидающий своего времени в одной из походных сумок, оставленных в избе. Почему именно сейчас? Ну, в отличии от обычного, творческий человек видит и воспринимает предметы иначе, и не каждому удаётся в деталях это объяснить. Попытаюсь описать то, что видел я: деревенский петух имел вид боевого генерала в парадном мундире, строгой выправкой позирующий для художника, маслом на холсте пишущего портрет в полон рост. Поражали красотой краски оперений, переливаясь и слегка бликуя в зависимости от угла солнечных лучей, время от времени исчезающих и вновь пробивающихся сквозь колышущийся витиеватый зелёный зонт кроны старого дуба – светопреставление! С широко открытыми глазами и нескрываемым удивлением наблюдаешь за игрой красок оперения, и создаётся впечатление, словно происходит монтаж видеоряда в графическом редакторе персонального компьютера, в котором автор шалит настройками яркости и контраста.
– Кыш, иди отсюды! – Сашка махнул полотенцем и освободил забор от генеральской ноши. – Ты как? Справился?
– Да, спасибо большое, тело дышит, словно мамка снова родила, – отшутился я в ответ. – Саша, давай посмотрим, что там с вещами. Кажется, палатку и правую сумку повредил…
– Ты погоди пока с делами, давай перекусим и отдохнём малёхо.
После трапезы и отдыха принялся доставать взятые в поход вещи, равномерно распределённые в боковые карманы «шорт» заднего велосипедного багажника.
– М-да уж-ж, – я озадаченно протянул, вслух оценивая состояние разложенных на деревянном полу вещей.
– Много пострадало?
– Да как сказать, – ответил, почесав затылок, – фотоаппарат со штативом и прочей электроникой всегда в левой сумке вожу, тут опыт имеется – в большинстве случаев на правую сторону падаю…
– Ну?
– Я с дома на несколько дней с ночёвкой ехал, – начал объяснять я, – сумку с провизией повредило, то ладно, можно по дороге в продуктовом пополнить, а вот на спальник и палатку посмотри, видишь, как разодрало?
– Ага, знатно досталось, – подытожил Сашка, окончив осмотр. – Давай вот как поступим.
И мы подробно обсудили ситуацию: на Кондуки больше не имело смысла ехать, настроение окончательно и безвозвратно растворилось в гуще произошедшего. Александр предложил остаться на ночь, а утром я решил возвратиться обратно.
– Влад, – после короткой паузы обратился Сашка, – время ещё есть, а в хате душно…
– Есть предложение? – не дав договорить собеседнику, поинтересовался я.
– У нас тут рядом усадьбу реставрируют, там Иван Фомич помогает, с которым я на конюшне вместе работаю.
– И?
– Хочешь посмотреть? Заодно прогуляемся. Нога не болит?
Воплощению идеи ничто не препятствовало. Боли не было, её, ожидаемую, так и не ощутил, поэтому, взяв с собой раскладной штатив и фотоаппарат, молча шёл следом, слушая монолог о знакомстве с Прасковьей, о том, как предложил жениться, и как она согласилась. Не знаю почему, но оригинально приправленные юмором случаи деревенской жизни в голове надолго не задержались. Запомнился лишь рассказ о том, как он пытался усмирить норовистого Снежка, на котором впоследствии пас коров.
Полная версия повести
Информационная справка: имя главного героя рассказа – Владлен, не имеет древней истории и появилось совсем недавно, в советские времена. Происходит от аббревиатуры, составленной из частей имени вождя – Владимира Ленина. Пик моды пришёлся на революцию.
Глава 1. Сборы к велопоездке
Вечер пятницы, в левой руке зажат тетрадный лист в клеточку.
– Так, ещё раз проверим, – почесав затылок, негромко сказал Владлен, возвратившись взглядом в начало списка.
Совсем недавно приобретённый ортопедический матрас двухместной кровати полностью отрабатывал отданные за него деньги, кроме основной функции исполняя побочные, – в данный момент он больше походил на стол стратегического планирования наступательных действий главного военного штаба. Чёрными галочками отмечены пункты списка необходимых вещей, в хаотичном порядке разложенных по всей площади кровати.
– … третий – есть, четвёртое – носки, спальник и велосипедный насос, – на мгновение прервавшись, произнёс Владлен, подобно лесному филину, повернул голову вправо, в очередной раз сверив наличие оных согласно списку.
В основном последняя процедура имела вид перестраховочного момента, так как всё необходимое для очередной вело-вылазки с ночёвкой было собрано в течение двух рабочих недель. Один из немногих факторов, которыми был доволен и которые помогали максимально использовать время для одновременного решения нескольких дел, являлись интернет-магазины с доставкой товаров в кратчайшие сроки. Так было получено недостающее: велосипедный ремкомплект, мультитул, набор компактной туристической посуды, удобный налобный фонарик, сумка для вещей на задний багажник и прочая мелочёвка. Перечисленное, а также не упомянутое требовало своего места на алюминиевом «коне», причём так, чтобы не мешать управлению и не отвлекать от удовольствия наблюдений за природными пейзажами выбранного маршрута. К общему перечню необходимого добавлен плёночный фотоаппарат Zenit-E с несъёмным объектовом, доставшийся в наследство от отца. Любительским фото Владлен увлекался с детства, с первых дней, как познакомился с волшебным устройством, фиксирующий важные моменты происходящего на небольшом листе фотобумаги.
« Бом-бом-бом… » – звук настенных часов отвлёк от планов на завтра, одновременно напомнив об изрядно проголодавшемся желудке. Интересный факт – биение старинных деревянных часов, удачно вписавшихся в интерьер квартиры, припадало только на семь утра и девятнадцать часов вечера, а остальное время – классический неторопливый ход. Личные догадки… быть может, изначально мастером или бывшим владельцем для себя настроено?
С наступлением первой теплоты сезона пожилые хозяева квартир традиционно «мигрируют» из шумной столицы по направлению к клочкам своих дачных участков, на оговоренное время сдавая жильё квартиросъёмщикам, от которых, как от комаров, не было отбоя. Как говорится: «Спрос рождает предложение».
Так и случилось: сменив угрюмое выражение лица и приятно улыбнувшись, удача предоставила возможность поселиться в квартире одного из домов окраины Москвы за сравнительно небольшую цену. Стоит заметить, что жилая квадратура позволяла заселить ещё одного человека, требовалось лишь наличие второй кровати у противоположной стены. Условия не барские, беглая визуальная оценка внятно говорила о том, что последний ремонт произошёл в «царские» времена, но по сути, много ли мужику-холостяку нужно?
В вечер знакомства с владельцем квартиры узнал, что вместе с женой они второй год как полностью переехали жить на дачу в области, сюда являются редко, в основном для того, чтобы убедиться в порядке. Договорились, что Владлен (в диалогах сократим – Влад) будет жить, кроме основной сам оплачивая коммунальные по счётчикам. Единственная просьба – чистота и «не трогать оставленные вещи», которые в ближайшем будущем заберут.
Так всё и шло, в квартире поддерживался порядок, менялось лишь расположение мебели. Поначалу кроме биения часов напрягал тихий пощёлкивающий звук… хотелось вскрыть и «всковырнуть» что-нибудь, но полуторагодичное проживание с 9-12-часовым отсутствием отодвинуло неприятный звук на второй план.
Противный свист чайника поставил финальную точку процесса сбора и пригласил отведать душистого расслабляющего чая на травах, привезённых в шумный мегаполис из спокойных восточных регионов страны.
– Вот и «ладушки», – отодвинув назад стул и вставая из-за стола, произнёс Влад, погладив ладонью выделяющийся из-под футболки возрастной животик.
Надежды грязной посуды на банные процедуры исчезли, очередной небольшой группой навестив родственников в раковине. Хлебные крошки и остатки недоеденной пиццы убраны со стола в мусорную корзину. Пополнившийся запас растраченных сил, безвозмездно вручённых вкусной пищей, медленно опускал веки, а душистый вкусный чай, разносимый кровью к каждой клетке тела, постепенно расслаблял мышцы. Последние мысли о долгожданной грядущей поездке – минута…две, и колыбельные отголоски засыпающего города подчинили сознание велотуриста, бережно уложив на мягкую кровать.
Глава 2. Утро субботы – 28 августа. Старт
С прошлого вечера надёжный прогноз интернета прогнозировал ясную погоду с переменной облачностью, ко всему прочему – умеренная температура как для дневной поездки, так и для приятной ночёвки в палатке на свежем воздухе. Когда протирал глаза и бросал взгляд на часы, внимание привлёк серо-белый голубь с клонящейся в разные стороны головой и выпученными глазами, наблюдающий за мной через оконное стекло, стоя на жестяном отливе – «ПОДЪЁМ!» – взглядом напоминая о запланированной поездке.
В послеобеденное пятничное время надоедливые светофоры раз за разом останавливали остатки горожан, выстроившихся в долгую вереницу с целью сбежать на несколько дней из душной, пыльной Москвы. По традиции утро субботы малолюдно, а те, кто остался, редко выходили на улицы до десяти…одиннадцати часов дня. Тем не менее решил выехать пораньше, дабы максимально и неторопливо насладиться скромным путешествием. В списке планов на будущее нет строки записи желания вторгаться в ряды профессиональных велотуристов, преодолевающих тысячи километров. На сегодня вполне достаточно поездки маршрутом Москва – Тула (электричкой), с железнодорожной станции добраться до карьера Кондуки, где и заночевать. Утром – грунтовкой на Кимовск, откуда – на Шатское водохранилище, а там, покуда хватит сил, вдоль пути электрички обратно на столицу.
Закрыл телефон и несколько раз моргнул – впечатление, что детальная карта тамошних земель была сделана не спутником с околоземной орбиты, а лично моими глазами. Из положительного – можно не отвлекаться на навигатор. Удобно, правда?
Не вдаваясь в подробности, подметил, что от ж/д вокзала Тулы до окраины города добрался довольно быстро: городские пейзажи постепенно сливались в однородную массу, не отвлекаясь, останавливался лишь на пешеходных переездах и светофорах, старался как можно быстрее выехать из города. Межрайонная дорога радовала сравнительной тишиной и минимальным количеством машин выходного дня. Важной особенностью, отличающей меня от других велосипедистов, предпочитающих путешествие асфальтным покрытием, является маршрут из точки «А» в точку «Б» с преимущественно грунтовыми дорогами, выбирая интересные места и минимизируя встречи с людьми: «Через четыреста метров будет съезд и поворот на право»; мозговой навигатор выдал очередную памятку, внеся новую порцию позитива.
Природа буйствует разнообразием трав и деревьев, впечатляет красотой и масштабами наблюдаемого пейзажа, наполняя свежим воздухом лёгкие, забитые выхлопными газами и пылью улиц города.
За спиной – долгожданный поворот-съезд, сменившийся мелко-гравийным полотном, передающим лёгкую дрожь телу от колёс через раму велосипеда. Дорога шла к низине, наблюдаемой прямо по курсу, в полукилометре от меня ясно различима лошадь, запряжённая в деревянную телегу, на которой сидят два человека с двумя…тремя мешками поклажи за спиной. Постепенно приближаясь, удалось разглядеть деревенскую одежду, довольно сильно контрастирующую с современной. Твёрдо уверен, что у любого наблюдающего незамедлительно сложилось бы впечатление, что парень и девушка пользовались гардеробом, извлечённым из сундука прабабки, не один десяток лет настолько бережно хранящимся, что даже моль к нему не подпускали. В двадцати метрах, справа от дороги, на двух из многих небольших земляных холмиках заметил по струнке стоящих полевых сурков, поочерёдно пересвистывающихся друг с дружкой. «Смотри, сосед, – указывая лапкой в мою сторону, обратился первый, повернув голову к собеседнику, – велосипед спортивный, а телегу никак обогнать не может!» – «Ничего удивительного, – слегка прищурив правый глаз, отмахнулся второй, – сто процентов – городской, они там все хилые». – «Ха-ха-ха», – засмеялись оба и нырнули в свои норы.
Короткая шутка мелькнула в голове, и я решил навалиться на педали, дабы «не ударить в грязь лицом» перед полевыми постовыми. Как упоминал ранее, набору скорости благоволил спуск в низину, заметно увеличивший силу своей крутизны. Признаюсь, сильно удивило, что такой весомый фактор на телегу никак не влиял – как и ранее, продолжала вяло «тошнить» параллельно обочине, словно не спускалась вовсе, а ехала по ровной прямой, и лошади просто не хватало сил тянуть быстрее полупустую телегу.
Указатель скорости велокомпьютера стремительно менял свои показатели, чем на мгновение и отвлёк, не позволив разглядеть лиц молодых людей при обгоне. Удалось услышать только недовольный «фыркнувший» звук усталой лошади… Интерес не всегда имеет положительную сторону – лишь на несколько секунд повернув голову назад, почувствовал несколько ударов «в руль», затем – отсутствие сцепления с дорожным полотном и, собственно говоря, отсутствие самого транспортного средства под собой. Выражаясь западным термином, «экшн» продолжался недолго, по крайней мере, так мне казалось. Нет, сознание при падении не терял, а сопутствующий перечень ощущений прочувствовал в полной мере с самого начала до его финала: помнил те самые неожиданные первые удары, видимо, под колеса попали несколько дорожных камней; затем переднее колесо проглотила выбоина.
Лёжа на животе лицом вниз, первое, о чём подумал, целы ли кости и не отбил ли чего себе… «Полевая» диагностика тела обнадёжила и успокоила, повреждения оказались минимальны. Открыв глаза, взглядом оценил «посадочную полосу», сразу вспомнился ценник защитного шлема для велосипедистов в одном из спортивных магазинов. «Ничего себе – три тысячи! Представляешь?! В корень обнаглели… » – недовольно выругался я, высказав своё возмущение другу, не забыв упомянуть цену на зеркала заднего вида.
Метрах в трёх от выбоины лежал боком любимый велосипед с удачно закреплёнными туристическими вещами, чуть дальше, на ветви придорожного карликового куста, затылочной липучкой и козырьком вниз повисла солнцезащитная кепка, в кульминационный момент встречным потоком воздуха сорванная с головы. Ну, а дальше, собственно говоря, «расстелился» на дороге я сам, не решаясь встать на ноги.
– Господи, господи-боже мой! – хлопнув в ладоши, молодая стройная девушка спорхнула с остановившейся телеги и ускоряющимся шагом устремилась ко мне, приподнявшемуся и сидящему на пятой точке.
Симпатичная девушка: красно-белое вышитое платье, ситцевая рубаха с традиционными узорами, низкий подол и милое личико деревенской девушки приблизительно лет двадцати от роду; брюнетка.
– Паша, ну что, жив? – спросил парень, остановивший телегу и направившийся следом.
Соломенная шляпа, праздничная мужская косоворотка с вышитым красным ромбом воротом, некрашеные порты.
Описание внешности молодых людей было похоже на открытый файл видеозаписи презентации этнографической выставки. «Ого, вот так закоротило голову…» – подумал я, но вслух не произнёс.
Продолжаю молчать. Наблюдаю, как девушка несколько раз смахнула платком пыль с моей испачканной футболки, промакнув выступившую кровь на расцарапанной левой стороне лица.
– Смотри, как лицо ему повредило, – сказала она парню, указав на меня. – С вами всё хорошо? Сильно болит?
– Нет-нет, в порядке, не больно даже.
«А ведь и правда, боли совсем не ощущаю», – параллельно словам проскочило в мозгу замечание, но факт был списан на болевой шок, который скоро отступит и полным букетом представит ранее скрытые ощущения.
– Да ладно тебе, – парень присел рядом с девушкой и, посмотрев в её большие карие глаза, добавил. – Помнишь, как меня по первому Снежок с себя сбрасывал?
– Будет тебе! – нахмурившись, одёрнула попутчика девушка, приятным блеском в глазах ушедшего в былые воспоминания. – Лучше скажи, что дальше делать будем?
– Ты как сам? Руки-ноги целы? Ходить можешь?
– Да, конечно, – уверенно ответил я, встав на ноги, выпрямился и потянулся, слегка подавшись вперёд грудью. – АПЧХИ-апчхи, – двойным дуплетом выдал я, и из носа струйками засочилась кровь.
В течение минуты небольшие лоскутки ветоши двумя затычками закрепились в ноздрях, решив проблему. Потревоженная падением пыль успела осесть на придорожной растительности, куда и была снесена неторопливым летним ветерком. Её остатки покрыли тело тонкой серой «вуалью», пробравшись не только в нос и уши, но даже под одежду… Признаюсь, ощущение не самое приятное.
– Будь здоров вдвойне! – сказал парень, слегка хлопнув меня по плечу. – Меня Александр зовут, друзья Сашкой кличут, а это моя девушка – Прасковья.
– Это так матушка с отцом нарекли, – слега смутившись румянцем, сказала девушка. – Можно просто – Проня или Паша.
– По паспорту Владлен, – с приветливой улыбкой ответил я, протянув руку для знакомства, – друзья кратко – Влад.
Рукопожатие выдалось недолгим, и первым мою ладонь отпустил Александр, заметив на ней запёкшуюся кровь. Теперь я понял, как удалось не разбить при падении голову: во время удара о землю левой частью лица успел подложить ладонь правой руки под голову, которая и послужила неким защитным буфером.
– Вот и познакомились, – добродушной улыбкой подчеркнул Александр. – Теперь вот как поступим…
Визуально оценив моё состояние, договорились, что Проня продолжит путь к себе в деревню, а я и Александр взяли курс в сторону его хутора в полукилометре от дороги на опушке леса. На зрение жалоб нет, даже рекламные баннеры и номера машин с расстояния пушечного выстрела мог без особого труда прочитать, но сейчас пять небольших приземистых домика сливались в единую массу непонятного цвета, лишь только небольшой пруд время от времени приветствовал солнечными бликами.
Неторопливым шагом шли по двум параллельно вытоптанным тропинкам, отдалённо напоминающим железнодорожную узкоколейку (глупое сравнение…), ну а свой «истребитель» вместе с вещами катил рядом. Похожие дорожки встречались мне в те времена, когда ещё подростком ездил к бабушке и деду на лето в одну из деревень Брянской области. Такими тропами, общаясь друг с другом, люди добирались через луга до автобусной остановки асфальтной дороги «на город» и обратно.
– А что это у тебя за машина такая? – голос Александра нахально вторгся во владения птичьих песен. – Щёлкает всё время… сломалось что?
– Ну, это… как бы велосипед, – с озадаченным выражением лица ответил я, совсем не ожидая такого вопроса. – «Бюджетник» с родной барабанной втулкой под кассету, в прошлом году купил.
Коротко рассказал, что производитель отечественный – Калининградская область, но комментарий оказался не однозначен, Александр согласился, что отечественное на порядок лучше заграничного, но про Калининградскую область никогда в жизни не слышал. Признаться честно, покуда жил в деревне, в географии и я был не особо-то и силён, а вот о качестве отечественного к заграничному… В личном запасе имелись неоспоримые аргументы и конкретные факты, но вовремя мысленно себя одёрнул – понял, что меня начало «заносить» в механику и прервал доклад, дав слово собеседнику.
– Да мне оно не так уж важно, где и что находится, – приятно улыбнулся Александр. – Как грамоте обучился, помощником в конюшню подался, там и по сей день работаю. По выходным и в праздники в город на рынок да к родне ездим, ну, скупиться да пообщаться, этого вполне хватает – «чего имеем, тому и рады», как говорится.
Расстояние в пятьсот метров пешим ходом – не для подробных и долгих диалогов. Электронные часы на левом запястье показывали три часа дня, когда мы вошли в небольшой посёлок. Хотя корректней будет сказать – хутор из пяти домиков вокруг небольшого пруда с берегами, поросшими густым камышом и спокойной водяной гладью. В ней отражалось голубое небо с выныривающими из белых облаков домашними утками… Забавная картина. Максимально сжато описывая первые впечатления, скажу, что лично мной наблюдаемое до мелочей походило на старорусскую деревню из детских сказок, где можно было прямо сейчас начинать съёмку, абсолютно не заморачиваясь декорациями. Внутреннее ощущение, словно именно в этом месте время живёт персональной и независимой от внешних обстоятельств жизнью… некая параллельная ветвь нынешнему, в определённом месте остановившаяся и подчиняющаяся лично утверждённым законам.
… В избе на деревянном срубе частицы воздуха пронизаны приятным запахом сосны, очередной порцией вдоха ласкающий лёгкие и успокаивающий нервную систему. Оконные рамы и двери явно из дуба, в левом углу – печь с зашторенной занавеской лежанкой. Деревянный стол занял почётное место в противоположном углу, вдоль стен стояли скамейки, над которыми висели полки с домашними принадлежностями. Также заметил икону, вот только сам лик святого, как бы сильно ни напрягал зрачки, но так и не смог разглядеть. «Быть может, это чей-то розыгрыш со всеми этими переодеваниями и «доставкой» меня в очередной музей-заповедник русской культуры?» – сама собой проскочила мысль. Но голова по-прежнему была занята сугубо догадками, не в состоянии формировать конкретные выводы.
– Да ты не стесняйся, проходи, – пригласил Сашка, – вещи свои тут вот клади, снимай одёжу, а я пока за тазиком и водой схожу.
Стоя босыми ногами на приятном травяном ковре двора, чистой водой промыл от пыли и пота «боевые» отметены, которые уже успели затянуться запёкшейся кровью. За процедурами наблюдал сидящий на заборе петух, важно разглядывая незнакомца, без спроса и приглашения заявившегося в его двор; зачётный кадр, подумалось мне. Именно в этот момент захотелось сфотографировать его на отцов фотоаппарат, ожидающий своего времени в одной из походных сумок, оставленных в избе. Почему именно сейчас? Ну, в отличии от обычного, творческий человек видит и воспринимает предметы иначе, и не каждому удаётся в деталях это объяснить. Попытаюсь описать то, что видел я: деревенский петух имел вид боевого генерала в парадном мундире, строгой выправкой позирующий для художника, маслом на холсте пишущего портрет в полон рост. Поражали красотой краски оперений, переливаясь и слегка бликуя в зависимости от угла солнечных лучей, время от времени исчезающих и вновь пробивающихся сквозь колышущийся витиеватый зелёный зонт кроны старого дуба – светопреставление! С широко открытыми глазами и нескрываемым удивлением наблюдаешь за игрой красок оперения, и создаётся впечатление, словно происходит монтаж видеоряда в графическом редакторе персонального компьютера, в котором автор шалит настройками яркости и контраста.
– Кыш, иди отсюды! – Сашка махнул полотенцем и освободил забор от генеральской ноши. – Ты как? Справился?
– Да, спасибо большое, тело дышит, словно мамка снова родила, – отшутился я в ответ. – Саша, давай посмотрим, что там с вещами. Кажется, палатку и правую сумку повредил…
– Ты погоди пока с делами, давай перекусим и отдохнём малёхо.
После трапезы и отдыха принялся доставать взятые в поход вещи, равномерно распределённые в боковые карманы «шорт» заднего велосипедного багажника.
– М-да уж-ж, – я озадаченно протянул, вслух оценивая состояние разложенных на деревянном полу вещей.
– Много пострадало?
– Да как сказать, – ответил, почесав затылок, – фотоаппарат со штативом и прочей электроникой всегда в левой сумке вожу, тут опыт имеется – в большинстве случаев на правую сторону падаю…
– Ну?
– Я с дома на несколько дней с ночёвкой ехал, – начал объяснять я, – сумку с провизией повредило, то ладно, можно по дороге в продуктовом пополнить, а вот на спальник и палатку посмотри, видишь, как разодрало?
– Ага, знатно досталось, – подытожил Сашка, окончив осмотр. – Давай вот как поступим.
И мы подробно обсудили ситуацию: на Кондуки больше не имело смысла ехать, настроение окончательно и безвозвратно растворилось в гуще произошедшего. Александр предложил остаться на ночь, а утром я решил возвратиться обратно.
– Влад, – после короткой паузы обратился Сашка, – время ещё есть, а в хате душно…
– Есть предложение? – не дав договорить собеседнику, поинтересовался я.
– У нас тут рядом усадьбу реставрируют, там Иван Фомич помогает, с которым я на конюшне вместе работаю.
– И?
– Хочешь посмотреть? Заодно прогуляемся. Нога не болит?
Воплощению идеи ничто не препятствовало. Боли не было, её, ожидаемую, так и не ощутил, поэтому, взяв с собой раскладной штатив и фотоаппарат, молча шёл следом, слушая монолог о знакомстве с Прасковьей, о том, как предложил жениться, и как она согласилась. Не знаю почему, но оригинально приправленные юмором случаи деревенской жизни в голове надолго не задержались. Запомнился лишь рассказ о том, как он пытался усмирить норовистого Снежка, на котором впоследствии пас коров.
Глава 3. Вечерняя экскурсия
Времена моды изысканного архитектурного декора усадеб знатных людей прошлых столетий прошли, а вложенную идею современных зодчих мой мозг просто не в силах разглядеть или понять. Так или иначе, независимо от мастерства автора, большинство имеет черты определённого строительного стиля. Так случилось, что за время многочисленных туристических поездок родной страной перестал замечать вложенную в них авторскую изюминку, которая вполне могла и вовсе отсутствовать. Наблюдаемое всё больше и больше сливалось в единую массу конвейерного производства.
Разочаровал ли меня вид реставрируемого центрального, с прилегающими второстепенными зданиями, не имеющими особой пользы и практического применения, на этот вопрос внятного ответа дать не могу. Конечно, состояние заметно лучше руин заброшенных Подмосковных, менее заросшее, с отсутствующим атакующим всевозможные территории борщевиком.
– Бог в помощь, Иван Фомич! – приближаясь, приветствовал Сашка оканчивающего работу мужчину.
– О, Сашка, – с явным удивлением приветствовал, пожимая руку, – а ты почему это здесь и чего нарядный такой?
– Ну как, я же вчера говорил вам, что сегодня матушка с отцом в гости на весь день, а мы с Проней в город на рынок собирались.
– Точно, точно, – повторившись, хлопнул себя по лбу Иван. – Это я тут вот делами занят, напрочь из головы вылетело… Все разошлись, а я убраться остался.
– Понятно.
– А с тобой кто это?
– Знакомься, Иван Фомич, это Владлен, – представил меня Сашка. – Из столицы. А это – Иван Фомич, я о нём тебе уже рассказывал.
– Хорошее имя, наше! – мы крепко пожали друг другу руки.
– Приветствую.
Если вы начинающий художник, получивший задание изобразить деревенского конюха за работой, но пишите только с натуры, лучшего варианта просто не найти. Из основных черт: черноволосый, с густой двухдневной щетиной; рост – около метр-девяносто, стройный, жилистый; ничего лишнего, над чем можно подшутить. Тут же вспомнились городские «качки», не каждый и не все достигающие желаемого результата, вбухивающие энные сумы на годовые абонементы и всевозможные протеиновые «натюрлих»-питания, а вот перед глазами – пример тренировки в деревенском фитнес-центре, ко всему прочему за труд выплачивающий «посетителю» деньги, пусть и небольшие.
Ещё до официального знакомства узнал, что возрастом – около сорока, и поинтересовался, почему Александр зовёт его по отчеству. Выяснилось, что человек всеми уважаемый, ко всему прочему, так с самого детства в шутку обращались, вот и закрепилось.
– А с лицом что? Не поделили чего? – слегка прищурив правый глаз, Иван Фомич с подозрением покосился на Сашку.
– Нет-нет, что вы, – я замотал из стороны в сторону головой, опередив Сашкино оправдание. – Наоборот, это я сам с управлением не справился, и вот последствия…
– Ясно… ну, а в наших-то краях какими судьбами?
– Иван Фомич, – вспомнив что-то важное, перебил мой ответ Сашка, – Влад в какие-то Кондуки с ночёвкой правится, говорит, что тут недалеко. Слыхал о таком месте?
– Кондуки-Кодуки… хм, – перелистывая воспоминая, Иван почесал щетину на правой скуле. – Наши земли мне хорошо знакомы, но о таком первый раз слышу.
– Вот и я битый час голову ломаю.
Вторичный факт того, что местные жители, обитающие здесь всю свою жизнь, гоняющие пастись коров на большие расстояния, не знают популярного места отдыха, настолько вогнал в замешательство, что я не стал более детально объяснять местоположение и маршрут, внесённый в навигатор, оставленный в доме Александра.
– А это что у тебя такое в руке? – спросил Иван, с интересом рассматривая аппаратуру.
– Да это фотоаппарат, – вручил для ознакомления, – в наследство остался. А штатив мне друг подарил, – добавил я, похлопав по аксессуару, карабином надёжно закреплённому на кожаном ремне и свисающему вниз объективом вдоль левого бедра.
– Интересная штуковина, – с нескрываемым интересом сказал Иван Фомич. – В прошлом году одним днём мою и ещё две пары свадьбы гуляли. Народу тогда съехалось со всей округи… Ну так вот, к нам из города фотограф приезжал, фото на память делать.
– Такой, как у меня фотоаппарат был?
– Не-ет, что-ты! – сдвинув брови к переносице и отмахнувшись, протянул Иван. – Там штуковина во много раз больше была.
– Ну, как говорится, прогресс не стоит на месте, – с ироничной улыбкой на лице я посмотрел на древний фотоаппарат.
К теме разговора немного рассказал о своём хобби и предложил сфотографироваться на память. Штатив установил в пяти - шести метрах от центрального входа с видом на территорию реставрируемой усадьбы. Настройки просты, нужно лишь нажать кнопку затвора, автоспуск давно не работал.
– Иван Фомич, – обратился я, удачно выбрав ракурс, – сфотографируйте, пожалуйста, меня с Сашей, а потом – он нас двоих.
– Хорошо! Говори, что делать нужно?
– Да тут всё просто: сюда вот нажмёте, и готово.
С поставленной задачей справился без проблем, только следующий кадр искренне расстроил: в тот момент, когда Александр фотографировал нас с Иваном, одновременно звуку заснятого кадра луч солнца, уходящего за линию горизонта, «ударил» мне в спину.
– ЁЛКИ-ПАЛКИ! – я выругался и сразу извинился.
– Что случилось? – с недоумением спросил Сашка. – Не то нажал?
– Да нет, скорее всего, солнце кадр засветит… последний.
– Ну, ничего, ничего, – успокаивал Иван Фомич, похлопав крепкой ладонью по моему плечу, – через месяцок-другой работу закончим, приезжай снова к нам, ещё лучше сделаем!
Тёплый вечер августа продолжал нахраписто овладевать территорией, совсем недавно находившейся во власти солнечного дня, указывая на то, что нужно возвращаться. Прощаясь, пожали друг другу руки и, обнявшись, как старые друзья, вместе с Александром отправились обратно.
– Влад, тут уже к дому недалеко, ты же путь помнишь? Сам доберёшься?
– Да, конечно.
– В общем, оставайся и располагайся, как договаривались. Поесть там найдёшь.
– А ты? Что родителям сказать, как вернутся?
– Я коротким путём к Проне пойду, волнуется, наверное, там и останусь… Если в доме свет гореть не будет, значит, они в гостях на ночь остались. Утром вернутся, ты им расскажи о произошедшем, только дверь изнутри не закрывай. Хорошо?
– Конечно, без проблем. Спасибо тебе огромное, Сашка, выручил – добрый человек.
– Ну, ладно, будь здоров, Влад! Удачи! – Сашка улыбнулся в ответ, отдаляясь, махнул рукой и растворился в темноте.
Глава 4. Здравствуйте – пожалуйста
О наступлении нового дня догадался сразу, ощутив щекотливое прикосновение к носу воскресного солнечного луча. Сказать, хорошо ли мне спалось, это ничего не сказать. Сразу вспомнились летние дни беззаботного детства, проведённые у бабушки с дедом – условия не пять звёзд, еду в номер официанты не носили, да и кровати не имели специальных матрасов, но бодрость новых сил, свежий воздух и натуральная пища перекрывали собой всё недостающее... да и не думалось об этом как-то. Ещё вчера, войдя в дом и бегло окинув взглядом обстановку, первое, что бросилось в глаза, – простая деревянная койко-кровать. Быть может, уже в тот момент подсознательно понимал, что придётся остаться на ночь и воспользоваться оной. Так и произошло – жёсткость приемлемая, в ширину… ну, можно ещё рядом девушку боком разместить или для двух небольших людей. В общем, спал сладко, морской звездой разложив свисающие конечности, указывая расположение сторон света.
Около пятнадцати минут продолжал лежать на спине с закрытыми глазами, наслаждаясь приливом новых сил, оттеснивших собой напряжённость прошедшего дня. Как думаете, что именно могло повлиять на такой сладостный медитативный процесс? Одному ли мне неприятно ощущение, когда кто-либо без единого слова наблюдает за вами, время от времени издающий неприятный «причмокивающий» звук, словно оценивает низкое качество работы, пусть даже если этот «оценивальщик» не находится в поле зрения. В надежде избавиться от неприятного ощущения открыл глаза, повернув голову в сторону входной двери, справа от которой вдоль стены стояла затёртая одинокая самодельная лавочка… вчера. Теперь на ней сидели два старых седоволосых человека, с виду около 70-75 лет. Испугался ли я и что в данный момент чувствовал, уверенно сказать не могу, я просто замер, не зная, что сказать.
Старик со старухой невысокого роста, с виду напоминающие стандартных крестьянинов прошлого столетия. Признаки тугодума за собой не замечал, по крайней мере, в свою сторону такого комплимента слышать не приходилось; предположил, что это могли быть дед и бабушка молодого двадцативосьмилетнего Александра.
– Молодой человек, – первым обратился старик, прервав пятиминутную тишину, – вы кто такой, что делаете в нашем доме и как сюда попали?
Вопросы деда прозвучали так, словно доносились из колонок домашнего кинотеатра, удачно расставленных вокруг кровати; густая щетина бороды напрочь скрывала под собой мимику лица. Быть может, я бы первым начал разговор с приветствия и не сидел бы молча целых пять минут, опёршись спиной о стену, но то, как смотрели на меня хозяева, повергло в замешательство – взгляд людей, давно лишённых какого-либо смысла жизни, ожидающих дня своей кончины.
– Я Владлен, – представился, обретя дар речи, и добавил, – друг Александра, здесь живущего… Он и пустил меня на ночь.
Реакция на мой ответ была отнюдь не та, которая возникает при знакомстве или нелепой ситуации: резким вдохом старик схватил порцию воздуха и подался спиной назад, словно от бесовщины; лицо старухи в считанные секунды слилось цветом с седыми волосами.
– Мария, Маша! – старик подхватил за плечи старуху, начинающую сползать к полу. – Давай на свежий воздух выйдем, а ты пока здесь будь и никуда не уходи.
Злополучная дорожная выбоина наградила переднее колесо велосипеда «восьмёркой», чиркающим о вилку звуком, позволяющим подсчитать приблизительный километраж преодолённого пути. От настроения не осталось и грамма. Возвращаясь обратно и делая очередной нажим на педали, взглядом оценивал состояние частично повреждённых вещей, стянутых канцелярским скотчем, водружённых на раму и багажник. Думал ли в этот момент о физическом или материальным ущербе, – вовсе нет. В голове словно короткая сцена из спектакля раз за разом прокручивается последний разговор со стариком, через несколько минут возвратившегося в дом. Частично стало понятно, но на многое так и не получил ответа… Моё положение не позволяло задавать вопросы.
Вернувшись, снова заняв оставленное место, старик предложил полностью рассказать то, как я здесь очутился, и откуда знаю об Александре. Конечно, в подробностях пересказал вчерашние события с первой до последней минуты. Старец слушал внимательно, не перебивая, после чего мы поменялись ролями – теперь говорил он.
– Сашка – наш единственный с Марией сын, а Проня, его будущая жена… должна была быть. Ровно восемь лет назад, в субботний день мы помогали сватьям с приготовлениями, а они ранним утром вдвоём в город отправились за недостающим. Отправились да не вернулись… Всей округой искали, нашли только пустую телегу без кобылы на том самом месте, где с твоих слов вы познакомились. Обоим ещё тридцати не было, молоды… куда делись, не знает никто. В тот день последний раз их на рынке городском видели, вот так-то.
Так я получил в помощь недостающие детали данной головоломки. Из речи старика было отчётливо понятно, что прожитые годы никак не отразились на здравости его рассудка, но такое количество совпадений лишь усложняло потуги разобраться в ситуации. По его взгляду было понятно, что разговаривать больше не о чем, и мне выделено время на сборы, после чего он вышел, и больше никого из них не встретил.
Небольшая кочка и звук машинально переключающейся пальцем скорости вернули в реальность. Ничего и никуда не хочется. На душе неописуемое тягостное ощущение, путь объездной дорогой к платформе на Москву, завтра – понедельник, снова на работу…
Глава 5. Злостный нарушитель
«Бом-бом-бом…» – звук настенных часов. «Ну вот, семь часов, пора вставать». Следом раздался сигнал вызова мобильного телефона, с вечера оставленного на тумбочке у кровати.
– Владлен, привет, бро! – от случайно задетой клавиши громкой связи громкий знакомый голос раздался на всю комнату.
– Привет, Артём, что случилось? – зевая, спросил Владлен, намереваясь потянуться мышцами.
– Извини, что так рано потревожил, – продолжал Артём. – Ты ещё дома? Помню, ты сегодня с ночёвкой на выходные уехать собирался, да только вот…
– Давай по делу, не томи!
– Короче, ночью Витьке-приёмщику плохо стало, сказали, что аппендицит, Гена в отпуск ушёл, а нам сегодня станки из Китая пришли.
– И?
– Шеф просит выйти, если можешь, конечно… рук не хватает, – последние слова выделены упрашивающим тоном. – За эти выходные и с понедельника двойную обещает!
– Ладно, деньги лишними не бывают, скоро буду, – Владлен улыбнулся в ответ невидимому сотруднику и нажал на сброс вызова.
…Широко открыты глаза, смотрящие в белый потолок, лоб покрыт холодной испариной, штормовыми волнами сердце проталкивает по венам кровь, пульс колоколами бьёт в виски. Резким движением схватил лежащий рядом телефон, на заставке – суббота, 07:10, 16 градусов, погода ясная, осадков не предвидится.
– Так, спокойно, – понимая, где находится, в голос сказал Владлен, постепенно поворачивая голову в сторону стоящего на подножке велосипеда.
Как и следовало, велосипед смирно ожидает запланированную поездку: на раме – ни единой царапины, переднее колесо – идеально ровное, на руле закреплена палатка, на багажнике –сумки-шорты; все перечисленное цело и невредимо, надёжно закреплено и подтянуто ремнями.
– Вот так «накрыло» тебя, Влад! – сказал Артём с выражением лица, словно стал очевидцем пролетевшего в полуметре от него НЛО, из иллюминаторов которого выглядывали рептилоиды с наполовину опустошёнными бутылками пива, зажатыми в цепких лапках.
– Ладно, заканчивай, – до конца обеденного перерыва оставалось пять минут. – Допивай кофе, пойдём четвёртый подключать. Программа есть?
По прошествии недели кладовщик-приёмщик Витька на работу так и не вышел. Операция прошла без последствий, но через несколько дней умудрился подхватить ОРВИ и слёг с температурой, а Геннадий задержался в Турции по причине проблемы вылета. Забот хватало, увиденный сон и полученные впечатления постепенно отступили на второй план. Полностью не забылось, просто не хватало времени в очередной раз вспоминать, голова была занята другими, более важными вопросами. Таким макаром незаметно пронеслись унылые месяца осени, первыми холодами закрыв сезон тёплых туристических поездок. Наступающий Новый год собравшимся в полном составе коллективом отметили двадцать девятого декабря в уютном кафетерии рядом с домом Артёма. В дальнейшем так случилось, что официальный праздник отмечать не с кем, но данный факт Владлена не смущал: скромный праздничный стол на одного человека, бой курантов, поздравление гаранта – классика жанра. Салюты продолжали набирать силу, раз за разом вспыхивая в разных частях города, озаряя ночное небо; спать не хотелось. Символическая порция алкоголя помогла расслабится на приобретённом в начале сентября ортопедическом матрасе, идеально подошедшем размерами к старой кровати. Неожиданно для самого себя заметил, что голова чиста от мыслей – давно позабытое ощущение, а сейчас… Конечно, не мог не напомнить о себе детальный августовский сон несостоявшейся поездки, к которой так долго и тщательно готовился. Дабы окончательно расставить точки, потянулся за ноутбуком, открыл и в поисковой строке запросил: Тульская область, вид со спутника. Как и следовало ожидать, того самого съезда направо с асфальтной дороги не было, не было и самой деревни, в одном из домов которой он остался с ночёвкой. От главной дороги уходила слабо различимая «козья тропа», ведущая к низине, навскидку – приблизительно к месту его падения с велосипеда, но дальше и вокруг не было ни единого посёлка или хутора – островки кустов да лесополосы. Последней попыткой был запрос на расположение областных достопримечательностей, который ничего полезного не выдал. «Всё, тема закрыта», – протерев усталые глаза, сказал Владлен, опустив экран ноутбука.
Первое весеннее потепление столица ощутила только в середине апреля, ясная погода праздничного дня настаивала на совместной прогулке. Стены панельного дома довольно быстро воспользовались моментом отключённого неделю назад отопления, губкой вобрав в себя остатки мартовского холода, в связи с чем сидеть в обнимку с электрическим обогревателем никак не хотелось. В перечне предложений афиши мест отдыха и культурных мероприятий преобладающее место занимали театральные пьесы и балет, который Владлен посетил в начале прошлого года первый и последний раз, едва дождавшись окончания. Выбор более-менее интересного пал на этнографическую фотовыставку рядом со станцией метро Академическая, куда и отправился.
Грохот вагонов метрополитена нахально теснил музыку наушников-затычек, но по привычке он не обращал на это внимания. Отчётливо запомнилась цена входного билета и адрес, а вот само название выставки… «Ничего страшного, на месте узнаем».
С первых шагов от входа Владлен оценил обстановку свободного помещения без мебели – стены выкрашены в однотонный цвет, не отвлекающий внимание от тематических объектов, в годичном порядке на них закреплённых. Оценил качество удачно расположенной подсветки, рядом –традиционная стойка с краткой «википедической» информацией. Фотовыставка имела название «История Липецкой области XX века». Скучно не было: в отличие от привычного цветного, чёрно-белое фото имеет свою изюминку, интересующимся лицам в каждом кадре различима. Ознакомившись, рассматривал запечатлённую историю родины, подобие людям, недвижимо стоящим в картинной галерее у полотна «Чёрный квадрат» Казимира Малевича.
Тишину рассёк сигнал входящего сообщения; Владлен извинился перед слегка вздрогнувшей рядом стоящей женщиной, отписался и включил беззвучный режим. Воспользовавшись моментом, пустой желудок напомнил о времени обеда, о том, что из пищи на завтрак был только крепкий кофе. Надоедливое ворчание отвлекало, но уходить никак не хотелось. Отойдя несколько метров в сторону и спрятавшись за одной из опорных колон, начал шарить по отделам кожаной наплечной сумки в поиске съестного – ЧУДО, надежды оправдались. Последний поход в продуктовый магазин наградил двумя забытыми протеиновыми батончиками, не вместившимися в доверху набитый целлофановый пакет.
Культурно воспитанным людям с ранних лет объясняется, что в подобных заведениях употребление пищи запрещено. Владлен не имел особых привилегий и не являлся исключением, но, решив «согрешить», неторопливо распечатал клеёнчатую обёртку. Слегка склонил голову к полу и приступил к трапезе, воровато оглядываясь по сторонам на наличие сотрудников зала – небольшое количество посетителей заканчивало просмотр выставки и направилось к выходу, вокруг больше никого, можно расслабиться. Теперь некультурный посетитель спокойно жевал спасительный батончик, перейдя к очередному фото, повергшему в невероятный шок, от которого Владлен подавился последним кусочком, застрявшем в горле. В считанные секунды лицо побагровело от нахлынувшей крови, прокашляться не получалось. На помощь сбежались сотрудники зала, получившие сигнал от охраны, наблюдавшей за порядком с помощью камер видеонаблюдения. Предупреждением указана при входе сумма штрафа за подобное нарушение, но вид задыхающегося, упавшего на пол посетителя настолько впечатлил подоспевших спасителей, что о взыскании никто из сотрудников даже не подумал. Скорую опередил добрый хлопок ладони ЧОП-овца, приложившегося между лопаток спины. Естественно, досмотреть выставку не разрешили, да и не было больше желания. Дали отдышаться, и когда он окончательно пришел в себя, отпустили нарушителя.
Времена моды изысканного архитектурного декора усадеб знатных людей прошлых столетий прошли, а вложенную идею современных зодчих мой мозг просто не в силах разглядеть или понять. Так или иначе, независимо от мастерства автора, большинство имеет черты определённого строительного стиля. Так случилось, что за время многочисленных туристических поездок родной страной перестал замечать вложенную в них авторскую изюминку, которая вполне могла и вовсе отсутствовать. Наблюдаемое всё больше и больше сливалось в единую массу конвейерного производства.
Разочаровал ли меня вид реставрируемого центрального, с прилегающими второстепенными зданиями, не имеющими особой пользы и практического применения, на этот вопрос внятного ответа дать не могу. Конечно, состояние заметно лучше руин заброшенных Подмосковных, менее заросшее, с отсутствующим атакующим всевозможные территории борщевиком.
– Бог в помощь, Иван Фомич! – приближаясь, приветствовал Сашка оканчивающего работу мужчину.
– О, Сашка, – с явным удивлением приветствовал, пожимая руку, – а ты почему это здесь и чего нарядный такой?
– Ну как, я же вчера говорил вам, что сегодня матушка с отцом в гости на весь день, а мы с Проней в город на рынок собирались.
– Точно, точно, – повторившись, хлопнул себя по лбу Иван. – Это я тут вот делами занят, напрочь из головы вылетело… Все разошлись, а я убраться остался.
– Понятно.
– А с тобой кто это?
– Знакомься, Иван Фомич, это Владлен, – представил меня Сашка. – Из столицы. А это – Иван Фомич, я о нём тебе уже рассказывал.
– Хорошее имя, наше! – мы крепко пожали друг другу руки.
– Приветствую.
Если вы начинающий художник, получивший задание изобразить деревенского конюха за работой, но пишите только с натуры, лучшего варианта просто не найти. Из основных черт: черноволосый, с густой двухдневной щетиной; рост – около метр-девяносто, стройный, жилистый; ничего лишнего, над чем можно подшутить. Тут же вспомнились городские «качки», не каждый и не все достигающие желаемого результата, вбухивающие энные сумы на годовые абонементы и всевозможные протеиновые «натюрлих»-питания, а вот перед глазами – пример тренировки в деревенском фитнес-центре, ко всему прочему за труд выплачивающий «посетителю» деньги, пусть и небольшие.
Ещё до официального знакомства узнал, что возрастом – около сорока, и поинтересовался, почему Александр зовёт его по отчеству. Выяснилось, что человек всеми уважаемый, ко всему прочему, так с самого детства в шутку обращались, вот и закрепилось.
– А с лицом что? Не поделили чего? – слегка прищурив правый глаз, Иван Фомич с подозрением покосился на Сашку.
– Нет-нет, что вы, – я замотал из стороны в сторону головой, опередив Сашкино оправдание. – Наоборот, это я сам с управлением не справился, и вот последствия…
– Ясно… ну, а в наших-то краях какими судьбами?
– Иван Фомич, – вспомнив что-то важное, перебил мой ответ Сашка, – Влад в какие-то Кондуки с ночёвкой правится, говорит, что тут недалеко. Слыхал о таком месте?
– Кондуки-Кодуки… хм, – перелистывая воспоминая, Иван почесал щетину на правой скуле. – Наши земли мне хорошо знакомы, но о таком первый раз слышу.
– Вот и я битый час голову ломаю.
Вторичный факт того, что местные жители, обитающие здесь всю свою жизнь, гоняющие пастись коров на большие расстояния, не знают популярного места отдыха, настолько вогнал в замешательство, что я не стал более детально объяснять местоположение и маршрут, внесённый в навигатор, оставленный в доме Александра.
– А это что у тебя такое в руке? – спросил Иван, с интересом рассматривая аппаратуру.
– Да это фотоаппарат, – вручил для ознакомления, – в наследство остался. А штатив мне друг подарил, – добавил я, похлопав по аксессуару, карабином надёжно закреплённому на кожаном ремне и свисающему вниз объективом вдоль левого бедра.
– Интересная штуковина, – с нескрываемым интересом сказал Иван Фомич. – В прошлом году одним днём мою и ещё две пары свадьбы гуляли. Народу тогда съехалось со всей округи… Ну так вот, к нам из города фотограф приезжал, фото на память делать.
– Такой, как у меня фотоаппарат был?
– Не-ет, что-ты! – сдвинув брови к переносице и отмахнувшись, протянул Иван. – Там штуковина во много раз больше была.
– Ну, как говорится, прогресс не стоит на месте, – с ироничной улыбкой на лице я посмотрел на древний фотоаппарат.
К теме разговора немного рассказал о своём хобби и предложил сфотографироваться на память. Штатив установил в пяти - шести метрах от центрального входа с видом на территорию реставрируемой усадьбы. Настройки просты, нужно лишь нажать кнопку затвора, автоспуск давно не работал.
– Иван Фомич, – обратился я, удачно выбрав ракурс, – сфотографируйте, пожалуйста, меня с Сашей, а потом – он нас двоих.
– Хорошо! Говори, что делать нужно?
– Да тут всё просто: сюда вот нажмёте, и готово.
С поставленной задачей справился без проблем, только следующий кадр искренне расстроил: в тот момент, когда Александр фотографировал нас с Иваном, одновременно звуку заснятого кадра луч солнца, уходящего за линию горизонта, «ударил» мне в спину.
– ЁЛКИ-ПАЛКИ! – я выругался и сразу извинился.
– Что случилось? – с недоумением спросил Сашка. – Не то нажал?
– Да нет, скорее всего, солнце кадр засветит… последний.
– Ну, ничего, ничего, – успокаивал Иван Фомич, похлопав крепкой ладонью по моему плечу, – через месяцок-другой работу закончим, приезжай снова к нам, ещё лучше сделаем!
Тёплый вечер августа продолжал нахраписто овладевать территорией, совсем недавно находившейся во власти солнечного дня, указывая на то, что нужно возвращаться. Прощаясь, пожали друг другу руки и, обнявшись, как старые друзья, вместе с Александром отправились обратно.
– Влад, тут уже к дому недалеко, ты же путь помнишь? Сам доберёшься?
– Да, конечно.
– В общем, оставайся и располагайся, как договаривались. Поесть там найдёшь.
– А ты? Что родителям сказать, как вернутся?
– Я коротким путём к Проне пойду, волнуется, наверное, там и останусь… Если в доме свет гореть не будет, значит, они в гостях на ночь остались. Утром вернутся, ты им расскажи о произошедшем, только дверь изнутри не закрывай. Хорошо?
– Конечно, без проблем. Спасибо тебе огромное, Сашка, выручил – добрый человек.
– Ну, ладно, будь здоров, Влад! Удачи! – Сашка улыбнулся в ответ, отдаляясь, махнул рукой и растворился в темноте.
Глава 4. Здравствуйте – пожалуйста
О наступлении нового дня догадался сразу, ощутив щекотливое прикосновение к носу воскресного солнечного луча. Сказать, хорошо ли мне спалось, это ничего не сказать. Сразу вспомнились летние дни беззаботного детства, проведённые у бабушки с дедом – условия не пять звёзд, еду в номер официанты не носили, да и кровати не имели специальных матрасов, но бодрость новых сил, свежий воздух и натуральная пища перекрывали собой всё недостающее... да и не думалось об этом как-то. Ещё вчера, войдя в дом и бегло окинув взглядом обстановку, первое, что бросилось в глаза, – простая деревянная койко-кровать. Быть может, уже в тот момент подсознательно понимал, что придётся остаться на ночь и воспользоваться оной. Так и произошло – жёсткость приемлемая, в ширину… ну, можно ещё рядом девушку боком разместить или для двух небольших людей. В общем, спал сладко, морской звездой разложив свисающие конечности, указывая расположение сторон света.
Около пятнадцати минут продолжал лежать на спине с закрытыми глазами, наслаждаясь приливом новых сил, оттеснивших собой напряжённость прошедшего дня. Как думаете, что именно могло повлиять на такой сладостный медитативный процесс? Одному ли мне неприятно ощущение, когда кто-либо без единого слова наблюдает за вами, время от времени издающий неприятный «причмокивающий» звук, словно оценивает низкое качество работы, пусть даже если этот «оценивальщик» не находится в поле зрения. В надежде избавиться от неприятного ощущения открыл глаза, повернув голову в сторону входной двери, справа от которой вдоль стены стояла затёртая одинокая самодельная лавочка… вчера. Теперь на ней сидели два старых седоволосых человека, с виду около 70-75 лет. Испугался ли я и что в данный момент чувствовал, уверенно сказать не могу, я просто замер, не зная, что сказать.
Старик со старухой невысокого роста, с виду напоминающие стандартных крестьянинов прошлого столетия. Признаки тугодума за собой не замечал, по крайней мере, в свою сторону такого комплимента слышать не приходилось; предположил, что это могли быть дед и бабушка молодого двадцативосьмилетнего Александра.
– Молодой человек, – первым обратился старик, прервав пятиминутную тишину, – вы кто такой, что делаете в нашем доме и как сюда попали?
Вопросы деда прозвучали так, словно доносились из колонок домашнего кинотеатра, удачно расставленных вокруг кровати; густая щетина бороды напрочь скрывала под собой мимику лица. Быть может, я бы первым начал разговор с приветствия и не сидел бы молча целых пять минут, опёршись спиной о стену, но то, как смотрели на меня хозяева, повергло в замешательство – взгляд людей, давно лишённых какого-либо смысла жизни, ожидающих дня своей кончины.
– Я Владлен, – представился, обретя дар речи, и добавил, – друг Александра, здесь живущего… Он и пустил меня на ночь.
Реакция на мой ответ была отнюдь не та, которая возникает при знакомстве или нелепой ситуации: резким вдохом старик схватил порцию воздуха и подался спиной назад, словно от бесовщины; лицо старухи в считанные секунды слилось цветом с седыми волосами.
– Мария, Маша! – старик подхватил за плечи старуху, начинающую сползать к полу. – Давай на свежий воздух выйдем, а ты пока здесь будь и никуда не уходи.
Злополучная дорожная выбоина наградила переднее колесо велосипеда «восьмёркой», чиркающим о вилку звуком, позволяющим подсчитать приблизительный километраж преодолённого пути. От настроения не осталось и грамма. Возвращаясь обратно и делая очередной нажим на педали, взглядом оценивал состояние частично повреждённых вещей, стянутых канцелярским скотчем, водружённых на раму и багажник. Думал ли в этот момент о физическом или материальным ущербе, – вовсе нет. В голове словно короткая сцена из спектакля раз за разом прокручивается последний разговор со стариком, через несколько минут возвратившегося в дом. Частично стало понятно, но на многое так и не получил ответа… Моё положение не позволяло задавать вопросы.
Вернувшись, снова заняв оставленное место, старик предложил полностью рассказать то, как я здесь очутился, и откуда знаю об Александре. Конечно, в подробностях пересказал вчерашние события с первой до последней минуты. Старец слушал внимательно, не перебивая, после чего мы поменялись ролями – теперь говорил он.
– Сашка – наш единственный с Марией сын, а Проня, его будущая жена… должна была быть. Ровно восемь лет назад, в субботний день мы помогали сватьям с приготовлениями, а они ранним утром вдвоём в город отправились за недостающим. Отправились да не вернулись… Всей округой искали, нашли только пустую телегу без кобылы на том самом месте, где с твоих слов вы познакомились. Обоим ещё тридцати не было, молоды… куда делись, не знает никто. В тот день последний раз их на рынке городском видели, вот так-то.
Так я получил в помощь недостающие детали данной головоломки. Из речи старика было отчётливо понятно, что прожитые годы никак не отразились на здравости его рассудка, но такое количество совпадений лишь усложняло потуги разобраться в ситуации. По его взгляду было понятно, что разговаривать больше не о чем, и мне выделено время на сборы, после чего он вышел, и больше никого из них не встретил.
Небольшая кочка и звук машинально переключающейся пальцем скорости вернули в реальность. Ничего и никуда не хочется. На душе неописуемое тягостное ощущение, путь объездной дорогой к платформе на Москву, завтра – понедельник, снова на работу…
Глава 5. Злостный нарушитель
«Бом-бом-бом…» – звук настенных часов. «Ну вот, семь часов, пора вставать». Следом раздался сигнал вызова мобильного телефона, с вечера оставленного на тумбочке у кровати.
– Владлен, привет, бро! – от случайно задетой клавиши громкой связи громкий знакомый голос раздался на всю комнату.
– Привет, Артём, что случилось? – зевая, спросил Владлен, намереваясь потянуться мышцами.
– Извини, что так рано потревожил, – продолжал Артём. – Ты ещё дома? Помню, ты сегодня с ночёвкой на выходные уехать собирался, да только вот…
– Давай по делу, не томи!
– Короче, ночью Витьке-приёмщику плохо стало, сказали, что аппендицит, Гена в отпуск ушёл, а нам сегодня станки из Китая пришли.
– И?
– Шеф просит выйти, если можешь, конечно… рук не хватает, – последние слова выделены упрашивающим тоном. – За эти выходные и с понедельника двойную обещает!
– Ладно, деньги лишними не бывают, скоро буду, – Владлен улыбнулся в ответ невидимому сотруднику и нажал на сброс вызова.
…Широко открыты глаза, смотрящие в белый потолок, лоб покрыт холодной испариной, штормовыми волнами сердце проталкивает по венам кровь, пульс колоколами бьёт в виски. Резким движением схватил лежащий рядом телефон, на заставке – суббота, 07:10, 16 градусов, погода ясная, осадков не предвидится.
– Так, спокойно, – понимая, где находится, в голос сказал Владлен, постепенно поворачивая голову в сторону стоящего на подножке велосипеда.
Как и следовало, велосипед смирно ожидает запланированную поездку: на раме – ни единой царапины, переднее колесо – идеально ровное, на руле закреплена палатка, на багажнике –сумки-шорты; все перечисленное цело и невредимо, надёжно закреплено и подтянуто ремнями.
– Вот так «накрыло» тебя, Влад! – сказал Артём с выражением лица, словно стал очевидцем пролетевшего в полуметре от него НЛО, из иллюминаторов которого выглядывали рептилоиды с наполовину опустошёнными бутылками пива, зажатыми в цепких лапках.
– Ладно, заканчивай, – до конца обеденного перерыва оставалось пять минут. – Допивай кофе, пойдём четвёртый подключать. Программа есть?
По прошествии недели кладовщик-приёмщик Витька на работу так и не вышел. Операция прошла без последствий, но через несколько дней умудрился подхватить ОРВИ и слёг с температурой, а Геннадий задержался в Турции по причине проблемы вылета. Забот хватало, увиденный сон и полученные впечатления постепенно отступили на второй план. Полностью не забылось, просто не хватало времени в очередной раз вспоминать, голова была занята другими, более важными вопросами. Таким макаром незаметно пронеслись унылые месяца осени, первыми холодами закрыв сезон тёплых туристических поездок. Наступающий Новый год собравшимся в полном составе коллективом отметили двадцать девятого декабря в уютном кафетерии рядом с домом Артёма. В дальнейшем так случилось, что официальный праздник отмечать не с кем, но данный факт Владлена не смущал: скромный праздничный стол на одного человека, бой курантов, поздравление гаранта – классика жанра. Салюты продолжали набирать силу, раз за разом вспыхивая в разных частях города, озаряя ночное небо; спать не хотелось. Символическая порция алкоголя помогла расслабится на приобретённом в начале сентября ортопедическом матрасе, идеально подошедшем размерами к старой кровати. Неожиданно для самого себя заметил, что голова чиста от мыслей – давно позабытое ощущение, а сейчас… Конечно, не мог не напомнить о себе детальный августовский сон несостоявшейся поездки, к которой так долго и тщательно готовился. Дабы окончательно расставить точки, потянулся за ноутбуком, открыл и в поисковой строке запросил: Тульская область, вид со спутника. Как и следовало ожидать, того самого съезда направо с асфальтной дороги не было, не было и самой деревни, в одном из домов которой он остался с ночёвкой. От главной дороги уходила слабо различимая «козья тропа», ведущая к низине, навскидку – приблизительно к месту его падения с велосипеда, но дальше и вокруг не было ни единого посёлка или хутора – островки кустов да лесополосы. Последней попыткой был запрос на расположение областных достопримечательностей, который ничего полезного не выдал. «Всё, тема закрыта», – протерев усталые глаза, сказал Владлен, опустив экран ноутбука.
Первое весеннее потепление столица ощутила только в середине апреля, ясная погода праздничного дня настаивала на совместной прогулке. Стены панельного дома довольно быстро воспользовались моментом отключённого неделю назад отопления, губкой вобрав в себя остатки мартовского холода, в связи с чем сидеть в обнимку с электрическим обогревателем никак не хотелось. В перечне предложений афиши мест отдыха и культурных мероприятий преобладающее место занимали театральные пьесы и балет, который Владлен посетил в начале прошлого года первый и последний раз, едва дождавшись окончания. Выбор более-менее интересного пал на этнографическую фотовыставку рядом со станцией метро Академическая, куда и отправился.
Грохот вагонов метрополитена нахально теснил музыку наушников-затычек, но по привычке он не обращал на это внимания. Отчётливо запомнилась цена входного билета и адрес, а вот само название выставки… «Ничего страшного, на месте узнаем».
С первых шагов от входа Владлен оценил обстановку свободного помещения без мебели – стены выкрашены в однотонный цвет, не отвлекающий внимание от тематических объектов, в годичном порядке на них закреплённых. Оценил качество удачно расположенной подсветки, рядом –традиционная стойка с краткой «википедической» информацией. Фотовыставка имела название «История Липецкой области XX века». Скучно не было: в отличие от привычного цветного, чёрно-белое фото имеет свою изюминку, интересующимся лицам в каждом кадре различима. Ознакомившись, рассматривал запечатлённую историю родины, подобие людям, недвижимо стоящим в картинной галерее у полотна «Чёрный квадрат» Казимира Малевича.
Тишину рассёк сигнал входящего сообщения; Владлен извинился перед слегка вздрогнувшей рядом стоящей женщиной, отписался и включил беззвучный режим. Воспользовавшись моментом, пустой желудок напомнил о времени обеда, о том, что из пищи на завтрак был только крепкий кофе. Надоедливое ворчание отвлекало, но уходить никак не хотелось. Отойдя несколько метров в сторону и спрятавшись за одной из опорных колон, начал шарить по отделам кожаной наплечной сумки в поиске съестного – ЧУДО, надежды оправдались. Последний поход в продуктовый магазин наградил двумя забытыми протеиновыми батончиками, не вместившимися в доверху набитый целлофановый пакет.
Культурно воспитанным людям с ранних лет объясняется, что в подобных заведениях употребление пищи запрещено. Владлен не имел особых привилегий и не являлся исключением, но, решив «согрешить», неторопливо распечатал клеёнчатую обёртку. Слегка склонил голову к полу и приступил к трапезе, воровато оглядываясь по сторонам на наличие сотрудников зала – небольшое количество посетителей заканчивало просмотр выставки и направилось к выходу, вокруг больше никого, можно расслабиться. Теперь некультурный посетитель спокойно жевал спасительный батончик, перейдя к очередному фото, повергшему в невероятный шок, от которого Владлен подавился последним кусочком, застрявшем в горле. В считанные секунды лицо побагровело от нахлынувшей крови, прокашляться не получалось. На помощь сбежались сотрудники зала, получившие сигнал от охраны, наблюдавшей за порядком с помощью камер видеонаблюдения. Предупреждением указана при входе сумма штрафа за подобное нарушение, но вид задыхающегося, упавшего на пол посетителя настолько впечатлил подоспевших спасителей, что о взыскании никто из сотрудников даже не подумал. Скорую опередил добрый хлопок ладони ЧОП-овца, приложившегося между лопаток спины. Естественно, досмотреть выставку не разрешили, да и не было больше желания. Дали отдышаться, и когда он окончательно пришел в себя, отпустили нарушителя.
Глава 6. Гость
Раз за разом, на смену друг другу в голове проносились два слайда: на первом – информационная стойка «1930-1932 года, с. Романкино, усадьба Е. Коринкова. Окончание реставрационных работ»; на втором изображён участник, локтем опёршийся о колонну калитки центрального входа на фоне реставрируемого объекта – один, с подписью ниже «И.Ф. Миронин». Много чего оставалось непонятным и не стыковалось с реальностью. Да, несложно догадаться, что то самое фото, которое так ошарашило Владлена, являлось последним «засвеченным» кадром, сделанным Александром на отцовский фотоаппарат в том самом сне, о котором, казалось, уже успел позабыть. На том самом месте, где должен стоять Владлен, частично закрывая спиной колону центрального входа, был большой засвет от солнечного луча, отхватив собой часть кадра, но отчётливо различим деревенский конюх с добродушной улыбкой на лице.
Потревоженный спящий режим компьютера озадачил поисковик браузера названием населённого пункта и усадьбы. Результат порадовал частично: упомянутое действительно существовало, а точнее, то, что от него осталось. Любители энергетики заброшенных мест выложили свежую порцию сэлфи с кривляющимися лицами на фоне здания с обгорелыми стенами и провалившейся крышей, а наблюдающий с орбиты спутник выдавал аналогичное. От рядом расположенного села Романкино, осталось десятка два жилых домов. Ко всему прочему, данные объекты находились на значительном расстоянии от границ Тульской области. Польза от полученной информации оказалась минимальной, добавив к остальному сложности «бородатой» неразгаданной головоломке.
Полуторачасовое скитание по электронной паутине дало плоды: не всё увиденное на выставке удалось найти, да и важности особой не имело, главное – удалось скачать то самое, сподвигшее к интригующему поиску.
Из коридора донёсся прискрипывающе-щёлкающий звук дважды провернувшейся личины дверного замка, несколько секунд – глухо захлопнувшаяся дверь, затишье – металлический звон ключей, повстречавших деревянную тумбочку у входа, пара-тройка секунд – короткие шаркающие старческие шаги по исцарапанному паркету.
– Добрый вечер, Влад! – коротким жестом слегка поднятой вверх руки приветствовал нежданный гость, вошедший в комнату.
– Дмитрий Константинович, здравствуйте! – отодвинув от рабочего стола стул, Владлен встал и, подойдя ближе, пожал протянутую навстречу руку. – Не ожидал вас сегодня.
– Да, если честно, то и сам не собирался в город, но понадобилось за документами лично явиться, сам понимаешь, как оно…
На улице и правда было темно, вернувшись домой с посещённой выставки и не переодевшись, Владлен немедленно уселся за компьютер, не заметив наступившего вечера.
– Ясно. Ну, чаю хотите? Давеча в «Белорусский» за выпечкой наведался – свежая, как раз к месту будет.
Мужчина хотел было ответить, но через плечо собеседника заметил слегка приоткрытую дверь шифоньера, в котором хранились личные вещи владельца квартиры, которые при заселении просил не трогать. Владлен немного растерялся, не понимая причины образовавшейся в диалоге паузы, а также то, куда именно смотрит гость. Обернувшись, стало ясно – вернувшись днём с улицы и переобувшись в комнатные тапки, с порога поспешил к себе в комнату, но споткнувшись, потерял равновесие и приложился плечом к фронтальной стороне упомянутой мебельной гарнитуры. Видимо, именно это явилось причиной того, что короткая щеколда ветхого замочка соскочила с назначенного места, тем самым приоткрыв дверцу, чего Владлен вовсе не заметил, разминая ушибленное место.
– Ты, это… – бегло окинув взглядом комнату, Дмитрий Константинович хотел было договорить, но снова замолчал, с нескрываемым удивлением рассматривая чёрно-белое фото на широком экране компьютера.
– Дмитрий Константинович, – оправдываясь, обратился Владлен, – вы не подумайте ничего такого, ваши вещи не трогал, дверь случайно открылась.
Прозвучало как-то глупо, но нежданно явившийся гость виду не подал, выдохнул и, отведя взгляд от экрана, сказал:
– Ставь чайник, а я пока руки помою.
Повернулся спиной и вышел из комнаты.
Глава 7. М. И. Ф.
С первого дня проживания на съёмной квартире Дмитрий Константинович и Владлен находились в хороших отношениях. Хозяин квартиры – образованный человек с широким мировоззрением и большим багажом жизненного опыта. Время от времени приезжая в город, часто по душам разговаривали о делах насущных, делясь последними новостями, сидя за столом на скромной по квадратуре кухне, попивая привезённый душистый чай. Наведывался посмотреть, «всё ли в порядке» в квартире, что по большей части являлось лишь поводом, так как полностью доверял Владлену. Несмотря на значительную разницу в возрасте, общались на равных, как мужик с мужиком; ко всему прочему, ежедневное пенсионное общение с женой слегка утомляло.
Опершись о спинку стула, Дмитрий Константинович сидел за столом молча, неторопливым движением правой руки разглаживая густую щетину седой бороды. Сложно сказать, какими мыслями была занята его голова в данную минуту. Разливая кипяток по керамическим кружкам, Владлен успел сформировать некоторые догадки того, о чём пойдёт речь дальше, и подготовился отвечать на вопросы, но…
– Влад, – прервав затянувшуюся тишину, обратился Дмитрий, размешивая ложечкой сахар, – скажи, пожалуйста, ты знаешь человека с фото, что на экране твоего компьютера? Откуда оно у тебя?
Признаться честно, за короткий отрезок времени, предшествующий чаепитию, Владлен успел смоделировать сотни вариантов развития дальнейшего разговора, но именно такого вопроса никак не ожидал.
– Ну, это как бы… – Владлен озадаченно замешкался, пытаясь сформулировать внятный ответ. – Выставка интересная была, вот и запомнилось… решил ещё раз на сайте посмотреть.
– Ясно, – кратко ответил Дмитрий, но прозвучало так, словно ответа вовсе и не требовалось, или не был им полностью удовлетворён. – Ещё вопрос; насколько я знаю, в музеях и на выставках под экспонатами и работами мастеров присутствует краткая информация.
– Так точно, – чётко ответил Владлен, словно рядовой перед вышестоящим по званию. – Немного: инициалы, место, год… Если хотите, могу показать, может, ещё что найдём.
– Буду признателен.
Разлитый по кружкам чай так и остался нетронутым. Диалог, как губка для мытья посуды, без остатка вобрал в себя внимание собеседников, покинув кухню, направившихся к рабочему месту Владлена.
– Да, вот, их два, видите, – жест к монитору компьютера, указывающий на строку под фото, –первое фото – «1930-1932 года, с. Романкино, усадьба Е.Коринкова. Окончание реставрационных работ», – произнёс вслух Влад.
– Понятно, – выражение лица Дмитрия Константиновича напряглось, – а то, о котором я тебя спрашивал?
– Сейчас, пожалуйста.
– Можешь увеличить на весь экран?
В отличие от первого, второе фото предоставило меньший объём информации, чем предшествующее, но казалось, что именно оно было наиболее важным и универсальным для ответов на скопившиеся вопросы: «И. Ф Миронин, участник реставрационных работ».
Владлен не решался прервать тишину, он ждал, когда первым заговорит любопытный хозяин квартиры, восстанавливающий взволнованное дыхание.
– Хочешь я тебе кое-что покажу?
– Давайте.
Дмитрий Константинович направился к тайному шкафу и, подойдя ближе, потянул за ручку приоткрытую дверцу.
За всё время проживания на съёмной квартире Владлен не заморачивался догадками о содержимом. «Просто личные вещи старика, что ещё такого важного может там храниться? Не слитки же золотые», – с иронической улыбкой на лице отвечал на вопросы заинтригованных друзей, насмотревшихся заграничных фильмов.
Вслед тонкому, прискрипнувшему звуку глазам предстала форма танкиста РККА, точнее – тёмно-синий комбинезон механика-водителя, бережно хранящийся в прозрачном чехле на вешалке. Говорить о том, что это была копия – позаимствованный реквизит, сшитый для съёмок фильма о Великой Отечественной, было глупо. Невооружённым взглядом видно, что сам комбинезон вместе с его владельцем многое повидал с первых дней пользования оным. Обычная х/б ткань, куртка и брюки просто пришиты друг к другу по поясу, застёгнутый на пуговицы сверху до низу. В более детальное описание костюма вдаваться не стану, добавлю лишь то, что тёмно-синий цвет не скрывал пятен от масла, которые оставались после ремонта машин. Это уже в дальнейшем в войсках тёмно-синий цвет был заменён на чёрный, но это было позже.
– Разочарован?
– Ну, это я… – не зная, что ответить, произнёс Владлен, – даже не знаю.
– Наверное, думал, что я здесь слитки золотые храню? – ехидная улыбка с коротким блеском в глазах сопровождала вопрос. – Здесь многие говорят, что, мол, мы, старики московские, только и умеем, что жаловаться на маленькую пенсию, а на самом деле денег у нас куры не клюют.
– Слышал, но слабо верится.
Пауза.
– Влад, – сменив выражение лица на серьёзное, обратился Дмитрий Константинович, – вижу, тебя что-то напрягло. Не хочешь поделиться?
– Ну-у, пообещайте, что не будете смеяться с того, что услышите, ведь глупо как-то…
– А разве за мной замечалось?
– Нет.
– Ну вот, тогда выкладывай.
Лицом к лицу собеседники расселись по креслам, приняв удобную позу. Вот так и начал Владлен выкладывать в деталях произошедшие события прошлогоднего сна, которые помнил настолько чётко, словно видел его прошлой ночью. Монолог прерывался десятком секунд, во время которых взволнованный Владлен восстанавливал дыхание, а Дмитрий усваивал новую порцию полученной информации.
– Да уж, забористо, – прокомментировал внимательный слушатель окончившийся доклад, очередной раз разглаживая щетину бороды, поблёскивающей сединами.
– Вот, теперь вы меня понимаете?
– Ты думал о том, зачем я тебе показал этот комбинезон? – вопросом на вопрос ответил Дмитрий Константинович.
– Да.
Вставая с кресла, хозяин квартиры скорчился об боли, неожиданно прострелившая поясницу, и вновь направился к шкафу.
– Подойди, пожалуйста.
Дмитрий Константинович извлёк из чехла комбинезон, бережно разложил на рядом стоящей кровати и вывернул наизнанку нижнюю часть правой штанины. На синего цвета форме, расплывающиеся от времени, были различимы три белых буквы: М.И.Ф.
Глава 8. Случается, что «совпадается»
Дмитрий Константинович наблюдал за реакцией Владлена, очередной раз набирающего в лёгкие порцию воздуха, дабы задать вопрос, но сразу сам себя одёргивающий, не в состоянии окончательно его сформулировать.
– … признаться честно, я не совсем понимаю.
– Хорошо, сейчас пойдём на кухню, всё расскажу.
Хозяин сложил комбинезон и оставил на одной из полок «тайной» мебели, предварительно извлёкши из нагрудного кармана небольшое фото, по пути прихватив лист форматом А4, оставленный на тумбочке у входа.
Первые рюмки «Столичной» не были поддержаны комментарием. Владлен хорошо знал, что Дмитрий не любитель «градуса», ищущий повод порадовать желудок новым граммом алкоголя. Случалось редко, в случае пиковых ситуаций, когда возникшая ситуация требовала решения, но сам не мог его принять или просто нуждался в человеке, который сможет понять и просто выслушать.
– … а этот комбинезон настоящий, – Дмитрий Константинович продолжал начатую речь, – и принадлежит моему деду.
– Ну, а ка…
– Какая связь с фото на экране твоего компьютера?
– Да.
– Те три буквы на внутренней стороне штанины – М.И.Ф., это инициалы, солдатская смекалка. Наносились хлоркой, которая хорошо разъедает краску ткани. В войну солдаты пользовались таким нехитрым способом для того, чтобы различать, где чья форма.
– А разве нельзя было просто написать-вышить фамилию? – удивлённо подняв брови вверх, спросил Влад.
– В том-то и дело, что нельзя. Узнай в командовании, можно было схлопотать неприятностей.
– Интересно… тогда как быть?
– Представь ситуацию, когда, к примеру, собрались в одном месте десять танкистов-машинистов в одинаковой форме идти в баню мыться.
– Ну?
– Выходят, – продолжал Дмитрий Константинович, словно не останавливался, – а на лавке предбанника все комбезы в одну кучу свалены! Пойми, где чей.
– Логично.
– Продолжать?
На согласие тыльной стороной с подписью от руки рассказчик положил на стол извлечённое из кармана военной формы фото: «Миронин Иван Фомич, танкист-машинист, 1942 г.».
Нужно ли говорить о том, понимал ли Владлен, кто именно изображён на обратной стороне? Знакомый конюх из сна Иван Фомич на фоне знаменитого Т-34, обняв друга, – оба добродушно улыбались, глядя в объектив.
– Хочешь контрольный? – нарочно выдержав момент, спросил Дмитрий Константинович, наблюдая за ошарашенным лицом собеседника с отвисшей нижней челюстью. – Вот, это я сегодня к дочери заезжал, она мне распечатку сделала.
Вдогонку к фото перед Владленом оказалась справка с информацией из места призыва деда, скачанная с всероссийского сайта «Книга памяти» и распечатанная на листе.
– Да уж-ж-ж – круто девки пляшут! – почесав макушку, выдал Влад и осёкся, сам не понимая, к чему и где сам такое выражение услышал. – Прошу прощения, вырвалось.
– Ничего страшного, я сам до сих пор под впечатлением!
– Скажите, а вы своего деда хорошо знали?
– На самом деле не очень, не любил он о себе рассказывать… большую часть его биографии от матери узнал. Не скажу, что к времени нашего с ним знакомства он был сильно стар, но в те годы в памяти многих жизнь оставила свой отпечаток, в дальнейшем сказавшийся как на отношениях, так и на здоровье, – ответил Дмитрий Константинович.
На глаза накатывались всеми силами сдерживаемые слезы.
Владлен решил не наседать с вопросами, слегка разбавив гущу происходящего диалога.
– А что именно тебя интересует?
– В моём сне Сашка представил Ивана Фомича как конюха. Он и правда им был?
– Верно.
– Ну, судя по комбинезону и фото, воевал он в танковых войсках.
– Да, я понял, к чему твой вопрос, – сделав несколько кивков головой, Дмитрий Константинович улыбнулся в ответ. – Начну с того, что о твоём знакомом из сна Александре я ничего не знаю. Быть может, таков и был, но дед о нём ни разу не обмолвился. Конюх, в дальнейшем танкист, ну… понимаешь, не скажу за всю страну, но в наших краях большинство людей были универсальны в профиле своих способностей. Учёба давалась легко тем, кто к ней стремился, а опыт нарабатывался во время работы. Конечно, деревенская жизнь не выделяла достаточного времени для «проглатывания» научных книг и работ, поэтому теория шла в ногу с практикой. Часто приходилось помогать мужикам с ремонтом тракторов, часть из которых была призвана на фронт в первый год. Кстати, с некоторыми там впоследствии и встретился.
Пусть не на профессиональном уровне, но технику знал и мог чинить, но больше, конечно, к животному миру душа лежала. Почему танкист? Пусть и грубое выглядит сравнение, но по сути танк – тот же трактор, только с пушкой.
Прозвучало как-то смешно, и оба одновременно рассмеялись.
– Дмитрий Константинович, – обратился Влад, – если вас не затруднит, можете рассказать более подробно то, что знаете о своём деде?
– Да, конечно, – рассказчик слегка помедлил, выбирая, с чего начать. – Ну, о реставрационных работах, в которых он участвовал, мне так же ничего не известно. Мать тогда ещё маленькой была, хорошо помнит день, как ему повестка пришла, сборы и прочее. Первое время приходили вести с фронта, мол, «бъём врага, жив-здоров, соскучился»; ну а когда немцы наступать начали, бабушку с односельчанами и мамой эвакуировали в тыл. Тогда-то связь и оборвалась. Бабушка очень любила деда, сильно переживала за него. Мама росла и уже понимала, что зачитываемые в голос холодными зимними вечерами письма отца были написаны самой бабушкой. Бабушкой… она и до войны здоровьем не могла гордиться, а произошедшие события сильно на ней сказались – не дождалась ни конца войны, ни самого деда, но в том, что жив, ни на минуту не усомнилась. Умерла в конце февраля сорок четвёртого, перед смертью просив лишь о том, чтобы по возвращению деда с фронта рассказали ему, где она похоронена. Мать рассказывала, что в деталях помнила похороны: сильный, холодный ветер, пронизывающий иглами даже самые тёплые одёжи; бетоном промёрзшая вглубь земля, посменно продалбливаемая топорами и лопатами…
За всё время, прожитое на съёмной квартире, Владлен не мог вспомнить случая, когда Дмитрий Константинович находился в таком состоянии, как сейчас. Глаза засеребрились слезой, и казалось, что если присмотреться, то можно разглядеть картину всех описываемых событий.
Такое состояние души было хорошо знакомо. Конечно, багаж пережитых событий и опыта весом не конкурент рассказчику, но смесь полученной боли и негатива накапливается даже в самых стойких людях, не желающих показывать окружению слабину, вынужденно поддавшись влиянию. Копится, копится, покуда случай не кольнёт острой иглой сдерживающий шар.
– После войны мама устроилась на швейную фабрику в области, – продолжал Дмитрий, максимально сокращая, придерживаясь основных произошедших событий. – Сначала комната в общежитии, а со временем вот эту квартиру получила, позже.
– Дмитрий Константинович, а ваша мама пробовала искать отца?
– Да, конечно, хоть и не была полностью уверена в успехе – справки и прочее, но так как она была не одна такая, дело застопорилось… Ездила на родину, местных расспросить, мол, кто и что слышал, но оказалось, что когда немцы наступали, в ходе боёв деревня выгорела дотла, а те, кто в мирное заново селились, конечно, ничего о нём не слышали.
Рассказчик остановил повествование, задумчивым взглядом задержавшись на фото, мирно лежавшем рядом, на столе, затем погладил рукой бороду.
В максимально сжатом варианте Владлен узнал, что Иван Фомич вернулся в родные места через несколько месяцев после расформирования дивизии. После военная панорама никого не радовала, всё начинало отстаиваться заново, в чём и принял участие. Со временем узнал, куда были эвакуированы жена с дочерью, удалось даже побывать на могилке. Причин не называл, но там и осел, второй раз женившись, продолжая наводить справки о судьбе дочери.
– Дети от второго брака были?
– Нет, не было, – отрицательно покачав головой из стороны в сторону, ответил Дмитрий Константинович. – Да и сам брак выдался неудачным.
– А дальше что было?
– Узнал о том, что деревня, где после войны пожил совсем немного, и откуда он отправился на поиск семьи, теперь процветающий колхоз, решил вернуться. Там, где находился, больше ничего не держало.
– Подождите, я немного запутался, – сказал Влад, по примеру Дмитрия погладив несуществующую бороду. – Получается, вернувшись с войны, Иван Фомич немного пожил в деревне и помогал её отстраивать, пока не уехал искать семью.
– Верно.
– Затем в поиске отца туда приезжает дочь – Ваша мама, но его уже не застаёт, а после, как я понимаю, возвращается Иван Фомич и там остаётся.
– Ну вот, а говоришь, что запутался, – добродушной улыбкой Ивана Фомича ответил Дмитрий.
– А Ваша мама после той неудавшейся поездки продолжала его искать?
– Нет.
Владлен напрягся: у постороннего наблюдателя, минуту назад вошедшего и включившегося в затянувшийся разговор, могло сложиться впечатление, что присутствует на допросе, при котором допрашиваемый с издёвкой не желает делиться информацией.
– Тогда не понимаю, как они встретились? – недоумевая, «дознаватель» развёл руки в стороны.
– Да тут всё просто оказалось, – поддался «подозреваемый». – Когда мать приезжала, то, как последний вариант, оставила в сельсовете адрес общежития, в котором мы с ней проживали, и уехала. После там возродили упомянутый колхоз.
Дальше Дмитрий Константинович рассказал о том, что через некоторое время Иван Фомич поселился в доме со двором «на два хозяина», что тогда такими идентичными новые улицы появлялись.
Как именно и когда из сельсовета к главе колхоза попал лист бумаги, оставленный матерью Дмитрия, он не уточнил. А дальше Иван Фомич направился по указанному адресу, откуда его направили в Москву, на полученную дочерью квартиру.
– … по сути, в этой квартире прошла большая часть моей жизни, – продолжал Дмитрий. – Дед тогда уже был стариком. Одно время я приезжал на лето в гости помочь «по двору», мать пыталась забрать его сюда, но он до последнего упирался, а дальше… Деда не стало, не стало страны, которую он вместе с друзьями и сослуживцами защищал, соответственно, не стало и колхоза-миллионера. Благо, пусть и за гроши, но удалось продать часть дома, в котором он жил… Эта квартира досталась мне в наследство от матери, а дачу, на которой я сейчас живу, сколотили собственноручно вместе с женой.
Рассказ Дмитрия Константиновича не выглядел поминутно зачитываемым автобиографическим дневником, это были основные эпизоды его жизни, непосредственно касающиеся темы разговора, с опущенными менее важными связующими звеньями: так, не упоминал о том, как мать вернулась после эвакуации, как устроилась на швейную фабрику; как вышла замуж, и как родился их малыш Димка, и как женился сам.
Однажды Владлен поинтересовался, есть ли у Дмитрия Константиновича дети. Так узнал, что в середине девяностых единственный сын эмигрировал со своей девушкой в Канаду, где поженились и живут по сей день.
Если всю эту ночь провести, сидя у окна, не отрывая глаз от линии горизонта, частично проглядываемой между высотных домов, можно заметить, что рассвет сегодня запаздывал… быть может, виной тому пасмурная погода вчерашнего вечера, а быть может…
– … Знаешь, – встретив взглядом первые лучи солнца, произнёс Дмитрий, – дедов комбинезон мать берегла, как самое ценное в её жизни. Берегу и я.
– А больше ничего не осталось? – поинтересовался Влад.
– Да, осталось – те часы, которые на стене в твоей комнате. Ты ничего странного не заметил?
– Ну-у, по-моему, бьют они только в семь часов утра и вечера… так?
– Именно! – закивал головой Дмитрий Константинович. – В своё время, когда были в моде передачи про магов и колдунов, я слышал случай, что в момент смерти хозяина в доме останавливались часы… связано ли чем-то это явление, в нашем случае, с дедом, сказать сложно.
Владлен не знал, что можно добавить к услышанному или прокомментировать. Одновременно задумчиво поглаживая бороды, оба замолчали, но тут-же вздрогнули: «БОМ-БОМ-БОМ…» Из комнаты Владлена донеслись звуки биения, маленькая стрелка – на семи, большая – на двенадцати; утро наступившего дня.
Раз за разом, на смену друг другу в голове проносились два слайда: на первом – информационная стойка «1930-1932 года, с. Романкино, усадьба Е. Коринкова. Окончание реставрационных работ»; на втором изображён участник, локтем опёршийся о колонну калитки центрального входа на фоне реставрируемого объекта – один, с подписью ниже «И.Ф. Миронин». Много чего оставалось непонятным и не стыковалось с реальностью. Да, несложно догадаться, что то самое фото, которое так ошарашило Владлена, являлось последним «засвеченным» кадром, сделанным Александром на отцовский фотоаппарат в том самом сне, о котором, казалось, уже успел позабыть. На том самом месте, где должен стоять Владлен, частично закрывая спиной колону центрального входа, был большой засвет от солнечного луча, отхватив собой часть кадра, но отчётливо различим деревенский конюх с добродушной улыбкой на лице.
Потревоженный спящий режим компьютера озадачил поисковик браузера названием населённого пункта и усадьбы. Результат порадовал частично: упомянутое действительно существовало, а точнее, то, что от него осталось. Любители энергетики заброшенных мест выложили свежую порцию сэлфи с кривляющимися лицами на фоне здания с обгорелыми стенами и провалившейся крышей, а наблюдающий с орбиты спутник выдавал аналогичное. От рядом расположенного села Романкино, осталось десятка два жилых домов. Ко всему прочему, данные объекты находились на значительном расстоянии от границ Тульской области. Польза от полученной информации оказалась минимальной, добавив к остальному сложности «бородатой» неразгаданной головоломке.
Полуторачасовое скитание по электронной паутине дало плоды: не всё увиденное на выставке удалось найти, да и важности особой не имело, главное – удалось скачать то самое, сподвигшее к интригующему поиску.
Из коридора донёсся прискрипывающе-щёлкающий звук дважды провернувшейся личины дверного замка, несколько секунд – глухо захлопнувшаяся дверь, затишье – металлический звон ключей, повстречавших деревянную тумбочку у входа, пара-тройка секунд – короткие шаркающие старческие шаги по исцарапанному паркету.
– Добрый вечер, Влад! – коротким жестом слегка поднятой вверх руки приветствовал нежданный гость, вошедший в комнату.
– Дмитрий Константинович, здравствуйте! – отодвинув от рабочего стола стул, Владлен встал и, подойдя ближе, пожал протянутую навстречу руку. – Не ожидал вас сегодня.
– Да, если честно, то и сам не собирался в город, но понадобилось за документами лично явиться, сам понимаешь, как оно…
На улице и правда было темно, вернувшись домой с посещённой выставки и не переодевшись, Владлен немедленно уселся за компьютер, не заметив наступившего вечера.
– Ясно. Ну, чаю хотите? Давеча в «Белорусский» за выпечкой наведался – свежая, как раз к месту будет.
Мужчина хотел было ответить, но через плечо собеседника заметил слегка приоткрытую дверь шифоньера, в котором хранились личные вещи владельца квартиры, которые при заселении просил не трогать. Владлен немного растерялся, не понимая причины образовавшейся в диалоге паузы, а также то, куда именно смотрит гость. Обернувшись, стало ясно – вернувшись днём с улицы и переобувшись в комнатные тапки, с порога поспешил к себе в комнату, но споткнувшись, потерял равновесие и приложился плечом к фронтальной стороне упомянутой мебельной гарнитуры. Видимо, именно это явилось причиной того, что короткая щеколда ветхого замочка соскочила с назначенного места, тем самым приоткрыв дверцу, чего Владлен вовсе не заметил, разминая ушибленное место.
– Ты, это… – бегло окинув взглядом комнату, Дмитрий Константинович хотел было договорить, но снова замолчал, с нескрываемым удивлением рассматривая чёрно-белое фото на широком экране компьютера.
– Дмитрий Константинович, – оправдываясь, обратился Владлен, – вы не подумайте ничего такого, ваши вещи не трогал, дверь случайно открылась.
Прозвучало как-то глупо, но нежданно явившийся гость виду не подал, выдохнул и, отведя взгляд от экрана, сказал:
– Ставь чайник, а я пока руки помою.
Повернулся спиной и вышел из комнаты.
Глава 7. М. И. Ф.
С первого дня проживания на съёмной квартире Дмитрий Константинович и Владлен находились в хороших отношениях. Хозяин квартиры – образованный человек с широким мировоззрением и большим багажом жизненного опыта. Время от времени приезжая в город, часто по душам разговаривали о делах насущных, делясь последними новостями, сидя за столом на скромной по квадратуре кухне, попивая привезённый душистый чай. Наведывался посмотреть, «всё ли в порядке» в квартире, что по большей части являлось лишь поводом, так как полностью доверял Владлену. Несмотря на значительную разницу в возрасте, общались на равных, как мужик с мужиком; ко всему прочему, ежедневное пенсионное общение с женой слегка утомляло.
Опершись о спинку стула, Дмитрий Константинович сидел за столом молча, неторопливым движением правой руки разглаживая густую щетину седой бороды. Сложно сказать, какими мыслями была занята его голова в данную минуту. Разливая кипяток по керамическим кружкам, Владлен успел сформировать некоторые догадки того, о чём пойдёт речь дальше, и подготовился отвечать на вопросы, но…
– Влад, – прервав затянувшуюся тишину, обратился Дмитрий, размешивая ложечкой сахар, – скажи, пожалуйста, ты знаешь человека с фото, что на экране твоего компьютера? Откуда оно у тебя?
Признаться честно, за короткий отрезок времени, предшествующий чаепитию, Владлен успел смоделировать сотни вариантов развития дальнейшего разговора, но именно такого вопроса никак не ожидал.
– Ну, это как бы… – Владлен озадаченно замешкался, пытаясь сформулировать внятный ответ. – Выставка интересная была, вот и запомнилось… решил ещё раз на сайте посмотреть.
– Ясно, – кратко ответил Дмитрий, но прозвучало так, словно ответа вовсе и не требовалось, или не был им полностью удовлетворён. – Ещё вопрос; насколько я знаю, в музеях и на выставках под экспонатами и работами мастеров присутствует краткая информация.
– Так точно, – чётко ответил Владлен, словно рядовой перед вышестоящим по званию. – Немного: инициалы, место, год… Если хотите, могу показать, может, ещё что найдём.
– Буду признателен.
Разлитый по кружкам чай так и остался нетронутым. Диалог, как губка для мытья посуды, без остатка вобрал в себя внимание собеседников, покинув кухню, направившихся к рабочему месту Владлена.
– Да, вот, их два, видите, – жест к монитору компьютера, указывающий на строку под фото, –первое фото – «1930-1932 года, с. Романкино, усадьба Е.Коринкова. Окончание реставрационных работ», – произнёс вслух Влад.
– Понятно, – выражение лица Дмитрия Константиновича напряглось, – а то, о котором я тебя спрашивал?
– Сейчас, пожалуйста.
– Можешь увеличить на весь экран?
В отличие от первого, второе фото предоставило меньший объём информации, чем предшествующее, но казалось, что именно оно было наиболее важным и универсальным для ответов на скопившиеся вопросы: «И. Ф Миронин, участник реставрационных работ».
Владлен не решался прервать тишину, он ждал, когда первым заговорит любопытный хозяин квартиры, восстанавливающий взволнованное дыхание.
– Хочешь я тебе кое-что покажу?
– Давайте.
Дмитрий Константинович направился к тайному шкафу и, подойдя ближе, потянул за ручку приоткрытую дверцу.
За всё время проживания на съёмной квартире Владлен не заморачивался догадками о содержимом. «Просто личные вещи старика, что ещё такого важного может там храниться? Не слитки же золотые», – с иронической улыбкой на лице отвечал на вопросы заинтригованных друзей, насмотревшихся заграничных фильмов.
Вслед тонкому, прискрипнувшему звуку глазам предстала форма танкиста РККА, точнее – тёмно-синий комбинезон механика-водителя, бережно хранящийся в прозрачном чехле на вешалке. Говорить о том, что это была копия – позаимствованный реквизит, сшитый для съёмок фильма о Великой Отечественной, было глупо. Невооружённым взглядом видно, что сам комбинезон вместе с его владельцем многое повидал с первых дней пользования оным. Обычная х/б ткань, куртка и брюки просто пришиты друг к другу по поясу, застёгнутый на пуговицы сверху до низу. В более детальное описание костюма вдаваться не стану, добавлю лишь то, что тёмно-синий цвет не скрывал пятен от масла, которые оставались после ремонта машин. Это уже в дальнейшем в войсках тёмно-синий цвет был заменён на чёрный, но это было позже.
– Разочарован?
– Ну, это я… – не зная, что ответить, произнёс Владлен, – даже не знаю.
– Наверное, думал, что я здесь слитки золотые храню? – ехидная улыбка с коротким блеском в глазах сопровождала вопрос. – Здесь многие говорят, что, мол, мы, старики московские, только и умеем, что жаловаться на маленькую пенсию, а на самом деле денег у нас куры не клюют.
– Слышал, но слабо верится.
Пауза.
– Влад, – сменив выражение лица на серьёзное, обратился Дмитрий Константинович, – вижу, тебя что-то напрягло. Не хочешь поделиться?
– Ну-у, пообещайте, что не будете смеяться с того, что услышите, ведь глупо как-то…
– А разве за мной замечалось?
– Нет.
– Ну вот, тогда выкладывай.
Лицом к лицу собеседники расселись по креслам, приняв удобную позу. Вот так и начал Владлен выкладывать в деталях произошедшие события прошлогоднего сна, которые помнил настолько чётко, словно видел его прошлой ночью. Монолог прерывался десятком секунд, во время которых взволнованный Владлен восстанавливал дыхание, а Дмитрий усваивал новую порцию полученной информации.
– Да уж, забористо, – прокомментировал внимательный слушатель окончившийся доклад, очередной раз разглаживая щетину бороды, поблёскивающей сединами.
– Вот, теперь вы меня понимаете?
– Ты думал о том, зачем я тебе показал этот комбинезон? – вопросом на вопрос ответил Дмитрий Константинович.
– Да.
Вставая с кресла, хозяин квартиры скорчился об боли, неожиданно прострелившая поясницу, и вновь направился к шкафу.
– Подойди, пожалуйста.
Дмитрий Константинович извлёк из чехла комбинезон, бережно разложил на рядом стоящей кровати и вывернул наизнанку нижнюю часть правой штанины. На синего цвета форме, расплывающиеся от времени, были различимы три белых буквы: М.И.Ф.
Глава 8. Случается, что «совпадается»
Дмитрий Константинович наблюдал за реакцией Владлена, очередной раз набирающего в лёгкие порцию воздуха, дабы задать вопрос, но сразу сам себя одёргивающий, не в состоянии окончательно его сформулировать.
– … признаться честно, я не совсем понимаю.
– Хорошо, сейчас пойдём на кухню, всё расскажу.
Хозяин сложил комбинезон и оставил на одной из полок «тайной» мебели, предварительно извлёкши из нагрудного кармана небольшое фото, по пути прихватив лист форматом А4, оставленный на тумбочке у входа.
Первые рюмки «Столичной» не были поддержаны комментарием. Владлен хорошо знал, что Дмитрий не любитель «градуса», ищущий повод порадовать желудок новым граммом алкоголя. Случалось редко, в случае пиковых ситуаций, когда возникшая ситуация требовала решения, но сам не мог его принять или просто нуждался в человеке, который сможет понять и просто выслушать.
– … а этот комбинезон настоящий, – Дмитрий Константинович продолжал начатую речь, – и принадлежит моему деду.
– Ну, а ка…
– Какая связь с фото на экране твоего компьютера?
– Да.
– Те три буквы на внутренней стороне штанины – М.И.Ф., это инициалы, солдатская смекалка. Наносились хлоркой, которая хорошо разъедает краску ткани. В войну солдаты пользовались таким нехитрым способом для того, чтобы различать, где чья форма.
– А разве нельзя было просто написать-вышить фамилию? – удивлённо подняв брови вверх, спросил Влад.
– В том-то и дело, что нельзя. Узнай в командовании, можно было схлопотать неприятностей.
– Интересно… тогда как быть?
– Представь ситуацию, когда, к примеру, собрались в одном месте десять танкистов-машинистов в одинаковой форме идти в баню мыться.
– Ну?
– Выходят, – продолжал Дмитрий Константинович, словно не останавливался, – а на лавке предбанника все комбезы в одну кучу свалены! Пойми, где чей.
– Логично.
– Продолжать?
На согласие тыльной стороной с подписью от руки рассказчик положил на стол извлечённое из кармана военной формы фото: «Миронин Иван Фомич, танкист-машинист, 1942 г.».
Нужно ли говорить о том, понимал ли Владлен, кто именно изображён на обратной стороне? Знакомый конюх из сна Иван Фомич на фоне знаменитого Т-34, обняв друга, – оба добродушно улыбались, глядя в объектив.
– Хочешь контрольный? – нарочно выдержав момент, спросил Дмитрий Константинович, наблюдая за ошарашенным лицом собеседника с отвисшей нижней челюстью. – Вот, это я сегодня к дочери заезжал, она мне распечатку сделала.
Вдогонку к фото перед Владленом оказалась справка с информацией из места призыва деда, скачанная с всероссийского сайта «Книга памяти» и распечатанная на листе.
– Да уж-ж-ж – круто девки пляшут! – почесав макушку, выдал Влад и осёкся, сам не понимая, к чему и где сам такое выражение услышал. – Прошу прощения, вырвалось.
– Ничего страшного, я сам до сих пор под впечатлением!
– Скажите, а вы своего деда хорошо знали?
– На самом деле не очень, не любил он о себе рассказывать… большую часть его биографии от матери узнал. Не скажу, что к времени нашего с ним знакомства он был сильно стар, но в те годы в памяти многих жизнь оставила свой отпечаток, в дальнейшем сказавшийся как на отношениях, так и на здоровье, – ответил Дмитрий Константинович.
На глаза накатывались всеми силами сдерживаемые слезы.
Владлен решил не наседать с вопросами, слегка разбавив гущу происходящего диалога.
– А что именно тебя интересует?
– В моём сне Сашка представил Ивана Фомича как конюха. Он и правда им был?
– Верно.
– Ну, судя по комбинезону и фото, воевал он в танковых войсках.
– Да, я понял, к чему твой вопрос, – сделав несколько кивков головой, Дмитрий Константинович улыбнулся в ответ. – Начну с того, что о твоём знакомом из сна Александре я ничего не знаю. Быть может, таков и был, но дед о нём ни разу не обмолвился. Конюх, в дальнейшем танкист, ну… понимаешь, не скажу за всю страну, но в наших краях большинство людей были универсальны в профиле своих способностей. Учёба давалась легко тем, кто к ней стремился, а опыт нарабатывался во время работы. Конечно, деревенская жизнь не выделяла достаточного времени для «проглатывания» научных книг и работ, поэтому теория шла в ногу с практикой. Часто приходилось помогать мужикам с ремонтом тракторов, часть из которых была призвана на фронт в первый год. Кстати, с некоторыми там впоследствии и встретился.
Пусть не на профессиональном уровне, но технику знал и мог чинить, но больше, конечно, к животному миру душа лежала. Почему танкист? Пусть и грубое выглядит сравнение, но по сути танк – тот же трактор, только с пушкой.
Прозвучало как-то смешно, и оба одновременно рассмеялись.
– Дмитрий Константинович, – обратился Влад, – если вас не затруднит, можете рассказать более подробно то, что знаете о своём деде?
– Да, конечно, – рассказчик слегка помедлил, выбирая, с чего начать. – Ну, о реставрационных работах, в которых он участвовал, мне так же ничего не известно. Мать тогда ещё маленькой была, хорошо помнит день, как ему повестка пришла, сборы и прочее. Первое время приходили вести с фронта, мол, «бъём врага, жив-здоров, соскучился»; ну а когда немцы наступать начали, бабушку с односельчанами и мамой эвакуировали в тыл. Тогда-то связь и оборвалась. Бабушка очень любила деда, сильно переживала за него. Мама росла и уже понимала, что зачитываемые в голос холодными зимними вечерами письма отца были написаны самой бабушкой. Бабушкой… она и до войны здоровьем не могла гордиться, а произошедшие события сильно на ней сказались – не дождалась ни конца войны, ни самого деда, но в том, что жив, ни на минуту не усомнилась. Умерла в конце февраля сорок четвёртого, перед смертью просив лишь о том, чтобы по возвращению деда с фронта рассказали ему, где она похоронена. Мать рассказывала, что в деталях помнила похороны: сильный, холодный ветер, пронизывающий иглами даже самые тёплые одёжи; бетоном промёрзшая вглубь земля, посменно продалбливаемая топорами и лопатами…
За всё время, прожитое на съёмной квартире, Владлен не мог вспомнить случая, когда Дмитрий Константинович находился в таком состоянии, как сейчас. Глаза засеребрились слезой, и казалось, что если присмотреться, то можно разглядеть картину всех описываемых событий.
Такое состояние души было хорошо знакомо. Конечно, багаж пережитых событий и опыта весом не конкурент рассказчику, но смесь полученной боли и негатива накапливается даже в самых стойких людях, не желающих показывать окружению слабину, вынужденно поддавшись влиянию. Копится, копится, покуда случай не кольнёт острой иглой сдерживающий шар.
– После войны мама устроилась на швейную фабрику в области, – продолжал Дмитрий, максимально сокращая, придерживаясь основных произошедших событий. – Сначала комната в общежитии, а со временем вот эту квартиру получила, позже.
– Дмитрий Константинович, а ваша мама пробовала искать отца?
– Да, конечно, хоть и не была полностью уверена в успехе – справки и прочее, но так как она была не одна такая, дело застопорилось… Ездила на родину, местных расспросить, мол, кто и что слышал, но оказалось, что когда немцы наступали, в ходе боёв деревня выгорела дотла, а те, кто в мирное заново селились, конечно, ничего о нём не слышали.
Рассказчик остановил повествование, задумчивым взглядом задержавшись на фото, мирно лежавшем рядом, на столе, затем погладил рукой бороду.
В максимально сжатом варианте Владлен узнал, что Иван Фомич вернулся в родные места через несколько месяцев после расформирования дивизии. После военная панорама никого не радовала, всё начинало отстаиваться заново, в чём и принял участие. Со временем узнал, куда были эвакуированы жена с дочерью, удалось даже побывать на могилке. Причин не называл, но там и осел, второй раз женившись, продолжая наводить справки о судьбе дочери.
– Дети от второго брака были?
– Нет, не было, – отрицательно покачав головой из стороны в сторону, ответил Дмитрий Константинович. – Да и сам брак выдался неудачным.
– А дальше что было?
– Узнал о том, что деревня, где после войны пожил совсем немного, и откуда он отправился на поиск семьи, теперь процветающий колхоз, решил вернуться. Там, где находился, больше ничего не держало.
– Подождите, я немного запутался, – сказал Влад, по примеру Дмитрия погладив несуществующую бороду. – Получается, вернувшись с войны, Иван Фомич немного пожил в деревне и помогал её отстраивать, пока не уехал искать семью.
– Верно.
– Затем в поиске отца туда приезжает дочь – Ваша мама, но его уже не застаёт, а после, как я понимаю, возвращается Иван Фомич и там остаётся.
– Ну вот, а говоришь, что запутался, – добродушной улыбкой Ивана Фомича ответил Дмитрий.
– А Ваша мама после той неудавшейся поездки продолжала его искать?
– Нет.
Владлен напрягся: у постороннего наблюдателя, минуту назад вошедшего и включившегося в затянувшийся разговор, могло сложиться впечатление, что присутствует на допросе, при котором допрашиваемый с издёвкой не желает делиться информацией.
– Тогда не понимаю, как они встретились? – недоумевая, «дознаватель» развёл руки в стороны.
– Да тут всё просто оказалось, – поддался «подозреваемый». – Когда мать приезжала, то, как последний вариант, оставила в сельсовете адрес общежития, в котором мы с ней проживали, и уехала. После там возродили упомянутый колхоз.
Дальше Дмитрий Константинович рассказал о том, что через некоторое время Иван Фомич поселился в доме со двором «на два хозяина», что тогда такими идентичными новые улицы появлялись.
Как именно и когда из сельсовета к главе колхоза попал лист бумаги, оставленный матерью Дмитрия, он не уточнил. А дальше Иван Фомич направился по указанному адресу, откуда его направили в Москву, на полученную дочерью квартиру.
– … по сути, в этой квартире прошла большая часть моей жизни, – продолжал Дмитрий. – Дед тогда уже был стариком. Одно время я приезжал на лето в гости помочь «по двору», мать пыталась забрать его сюда, но он до последнего упирался, а дальше… Деда не стало, не стало страны, которую он вместе с друзьями и сослуживцами защищал, соответственно, не стало и колхоза-миллионера. Благо, пусть и за гроши, но удалось продать часть дома, в котором он жил… Эта квартира досталась мне в наследство от матери, а дачу, на которой я сейчас живу, сколотили собственноручно вместе с женой.
Рассказ Дмитрия Константиновича не выглядел поминутно зачитываемым автобиографическим дневником, это были основные эпизоды его жизни, непосредственно касающиеся темы разговора, с опущенными менее важными связующими звеньями: так, не упоминал о том, как мать вернулась после эвакуации, как устроилась на швейную фабрику; как вышла замуж, и как родился их малыш Димка, и как женился сам.
Однажды Владлен поинтересовался, есть ли у Дмитрия Константиновича дети. Так узнал, что в середине девяностых единственный сын эмигрировал со своей девушкой в Канаду, где поженились и живут по сей день.
Если всю эту ночь провести, сидя у окна, не отрывая глаз от линии горизонта, частично проглядываемой между высотных домов, можно заметить, что рассвет сегодня запаздывал… быть может, виной тому пасмурная погода вчерашнего вечера, а быть может…
– … Знаешь, – встретив взглядом первые лучи солнца, произнёс Дмитрий, – дедов комбинезон мать берегла, как самое ценное в её жизни. Берегу и я.
– А больше ничего не осталось? – поинтересовался Влад.
– Да, осталось – те часы, которые на стене в твоей комнате. Ты ничего странного не заметил?
– Ну-у, по-моему, бьют они только в семь часов утра и вечера… так?
– Именно! – закивал головой Дмитрий Константинович. – В своё время, когда были в моде передачи про магов и колдунов, я слышал случай, что в момент смерти хозяина в доме останавливались часы… связано ли чем-то это явление, в нашем случае, с дедом, сказать сложно.
Владлен не знал, что можно добавить к услышанному или прокомментировать. Одновременно задумчиво поглаживая бороды, оба замолчали, но тут-же вздрогнули: «БОМ-БОМ-БОМ…» Из комнаты Владлена донеслись звуки биения, маленькая стрелка – на семи, большая – на двенадцати; утро наступившего дня.
Елизавета ПАЙОР (гимназия №3 г. Ярославль)
Победитель конкурса сочинений «СВОБОДНАЯ ТЕМА»в 2023 году (2 место)
Эта история произошла в маленьком городке под названием Высотск. Городок с небольшим количеством жителей, высокой культуры, как они сами про себя говорили. Там жила девочка лет тринадцати, и звали ее Алена. В малом возрасте родители отдали её в кружок танцев. Пока другие дети плакали и просили маму забрать их обратно домой, Алена радостно обсуждала с хореографом музыку, которая должна была звучать во время занятия.
– Мне очень нравится эта песня, мы в садике под нее танцуем!
– Правда? Так, значит, ты уже знаешь некоторые движения, верно?
– Да, знаю!
Алена гордо стала показывать движение, выученное в саду. Она поставила руки на пояс и, поворачивая корпус, стала приседать.
– Молодец! – женщина улыбалась. – А тебе самой-то нравится танцевать?
– Да! – воскликнула Алена.
Хореограф удовлетворённо кивнула. Сейчас Алёна, наверное, и не вспомнит тот момент, но именно в то время зародилась её любовь к танцам.
Был ясный, светлый день. Алена возвращалась из школы. Она смотрела на чистое небо и наслаждалась запахом весны.
– Ты всё мечтаешь... – подруга, что шла рядом, прервала любование небом.
– Да, я вообще мечтать люблю, – улыбнулась Алена.
– Думаешь, что всё, как в сказке, будет? Ты – принцесса, а вокруг тебя всё крутится?
– Нет, я не принцесса, я не живу в замке с башнями, у меня нет собственного дворецкого… Но... Но если всё красить тёмными красками, то всё вокруг таким и будет.
Алена точно знала, что чудо обязательно произойдет, нужно только подождать.
Забежав домой, Алена кинула рюкзак и взяла сумку с одеждой. Она спешила на танцы. Там её с улыбкой встретила руководитель.
– Здравствуй, Аленка.
– Здравствуйте, Кристина Вячеславовна!
Немолодая, но подтянутая женщина продолжала улыбаться.
– Проходи, переодевайся.
Алена с кивком шагнула в комнату, где уже были три человека.
– Всем привет.
– Привет, – отозвались девочки. Они что-то бурно обсуждали; вдруг одна из них резко повернулась к Алёне.
– А ты знаешь, где мы выступаем? – она переминалась с ноги на ногу от нетерпения.
– Нет, а где?
Девочка удовлетворенно кивнула и начала свое повествование.
– Кристина Вячеславовна вчера сказала Насте (а она ведь язык за зубами не удержит!), что мы выступаем на Всероссийском конкурсе «На пути к совершенству», представляешь?!
– Что?! Всероссийском – вот это да… А когда выступаем?
– Уже в конце месяца, так что нужно готовиться.
В диалог вступила Кристина Вячеславовна.
– Девочки, а вы не знаете, что с Надей? Она в двух танцах держит центр, без нее – никак.
В Телеграмм девочкам пришло сообщение: «Привет, можете передать Кристине Вячеславовне, что меня сегодня не будет...И ближайший месяц тоже. Я сломала ногу».
– Она… она сломала ногу…
Вокруг послышались возмущенные возгласы: «Что?!», «Как так?», «Неужели прямо перед концертом?!»
– Успокойтесь, у нас же есть Диана, она знает партию Нади, – попыталась успокоить подруг Кристина Вячеславовна.
– Но Диана же ни разу нормально центр не держала! –
раздался выкрик откуда-то из дали раздевалки.
Диана обернулась на звук.
– Я постараюсь, я смогу!
– Правильный настрой, Ди!
Кристина Вячеславовна подбадривающе покивала головой.
– Всё – наше время, пошли в зал!
Месяц подходил к концу, команда усердно готовилась, надеясь попасть в десятку лучших. Алена переживала, верила, что если чуду случиться, то сейчас – самое время.
В «день икс» девочки встретились на остановке. Было прохладно. Ветер холодил лицо.
– Вот! Вот наш автобус, – выкрикнула Алена.
Поднялся гул. Все расселись по сиденьям, ехать было недолго, возможно, поэтому все молча смотрели в окно. Все были погружены в свои мысли.
И вот коллектив уже стоял на пороге ДК.
Все зашли внутрь.
«Так много команд… – вдруг подумалось Алёне. – Наверняка сильные соперники...»
В Алене заиграла нотка неуверенности, но внутри всегда оставалась надежда на чудо.
Сцена. Сердце бьётся с бешеной скоростью. Вот заученная за время репетиций мелодия. Пора.
Танец словно лился изнутри, все не просто танцевали, а наслаждались.
За кулисами по старой доброй традиции все обнимались, наперебой рассказывали свои впечатления, со смехом говорили, кто недотянул ногу, спешил или наоборот – «тормозил». Кристина Вячеславовна впервые сказала, что мы «превзошли себя».
– Ди, ты отлично держала центр! Молодец! – сказала Алена.
– Спасибо, я очень старалась.
Оставался еще один танцевальный блок, он длился два часа, после чего судьи ушли совещаться.
И вот уже часы волнения прошли…
Девочки и все коллективы стояли на сцене. Сердце опять начало биться в бешеном ритме… Ведущий объявляет тех, кто проходит в конкурс дальше...
Нас там нет.
Объявляет двадцатку лидеров… Нас нет снова. Неужели мы настолько плохо станцевали?
«Чудо, где же ты?» – стучало в голове у Алены.
Ведущий говорит название нашего коллектива.
– Поздравляю, вы на 25 месте!
Двадцать пятом? Может, это ошибка? Но – увы…
С самого детства родители учат верить в чудеса, они рассказывают нам добрые сказки, мы читаем книги и смотрим фильмы с хорошим концом и, повзрослев, продолжаем верить, что в сложный момент с нами обязательно случится чудо.
Но чуду не прикажешь. Важно понимать, что если чудо не произошло, то это не завершение истории, а повод работать дальше.
В понедельник после уроков девочки снова собрались в зале. Им больше не нужно чудо, у них есть желание танцевать, упорство, а теперь еще и опыт. Алена была в предвкушении успеха...
Победитель конкурса сочинений «СВОБОДНАЯ ТЕМА»в 2023 году (2 место)
ЧУДУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
Эта история произошла в маленьком городке под названием Высотск. Городок с небольшим количеством жителей, высокой культуры, как они сами про себя говорили. Там жила девочка лет тринадцати, и звали ее Алена. В малом возрасте родители отдали её в кружок танцев. Пока другие дети плакали и просили маму забрать их обратно домой, Алена радостно обсуждала с хореографом музыку, которая должна была звучать во время занятия.
– Мне очень нравится эта песня, мы в садике под нее танцуем!
– Правда? Так, значит, ты уже знаешь некоторые движения, верно?
– Да, знаю!
Алена гордо стала показывать движение, выученное в саду. Она поставила руки на пояс и, поворачивая корпус, стала приседать.
– Молодец! – женщина улыбалась. – А тебе самой-то нравится танцевать?
– Да! – воскликнула Алена.
Хореограф удовлетворённо кивнула. Сейчас Алёна, наверное, и не вспомнит тот момент, но именно в то время зародилась её любовь к танцам.
***
Был ясный, светлый день. Алена возвращалась из школы. Она смотрела на чистое небо и наслаждалась запахом весны.
– Ты всё мечтаешь... – подруга, что шла рядом, прервала любование небом.
– Да, я вообще мечтать люблю, – улыбнулась Алена.
– Думаешь, что всё, как в сказке, будет? Ты – принцесса, а вокруг тебя всё крутится?
– Нет, я не принцесса, я не живу в замке с башнями, у меня нет собственного дворецкого… Но... Но если всё красить тёмными красками, то всё вокруг таким и будет.
Алена точно знала, что чудо обязательно произойдет, нужно только подождать.
Забежав домой, Алена кинула рюкзак и взяла сумку с одеждой. Она спешила на танцы. Там её с улыбкой встретила руководитель.
– Здравствуй, Аленка.
– Здравствуйте, Кристина Вячеславовна!
Немолодая, но подтянутая женщина продолжала улыбаться.
– Проходи, переодевайся.
Алена с кивком шагнула в комнату, где уже были три человека.
– Всем привет.
– Привет, – отозвались девочки. Они что-то бурно обсуждали; вдруг одна из них резко повернулась к Алёне.
– А ты знаешь, где мы выступаем? – она переминалась с ноги на ногу от нетерпения.
– Нет, а где?
Девочка удовлетворенно кивнула и начала свое повествование.
– Кристина Вячеславовна вчера сказала Насте (а она ведь язык за зубами не удержит!), что мы выступаем на Всероссийском конкурсе «На пути к совершенству», представляешь?!
– Что?! Всероссийском – вот это да… А когда выступаем?
– Уже в конце месяца, так что нужно готовиться.
В диалог вступила Кристина Вячеславовна.
– Девочки, а вы не знаете, что с Надей? Она в двух танцах держит центр, без нее – никак.
В Телеграмм девочкам пришло сообщение: «Привет, можете передать Кристине Вячеславовне, что меня сегодня не будет...И ближайший месяц тоже. Я сломала ногу».
– Она… она сломала ногу…
Вокруг послышались возмущенные возгласы: «Что?!», «Как так?», «Неужели прямо перед концертом?!»
– Успокойтесь, у нас же есть Диана, она знает партию Нади, – попыталась успокоить подруг Кристина Вячеславовна.
– Но Диана же ни разу нормально центр не держала! –
раздался выкрик откуда-то из дали раздевалки.
Диана обернулась на звук.
– Я постараюсь, я смогу!
– Правильный настрой, Ди!
Кристина Вячеславовна подбадривающе покивала головой.
– Всё – наше время, пошли в зал!
Месяц подходил к концу, команда усердно готовилась, надеясь попасть в десятку лучших. Алена переживала, верила, что если чуду случиться, то сейчас – самое время.
В «день икс» девочки встретились на остановке. Было прохладно. Ветер холодил лицо.
– Вот! Вот наш автобус, – выкрикнула Алена.
Поднялся гул. Все расселись по сиденьям, ехать было недолго, возможно, поэтому все молча смотрели в окно. Все были погружены в свои мысли.
И вот коллектив уже стоял на пороге ДК.
Все зашли внутрь.
«Так много команд… – вдруг подумалось Алёне. – Наверняка сильные соперники...»
В Алене заиграла нотка неуверенности, но внутри всегда оставалась надежда на чудо.
Сцена. Сердце бьётся с бешеной скоростью. Вот заученная за время репетиций мелодия. Пора.
Танец словно лился изнутри, все не просто танцевали, а наслаждались.
За кулисами по старой доброй традиции все обнимались, наперебой рассказывали свои впечатления, со смехом говорили, кто недотянул ногу, спешил или наоборот – «тормозил». Кристина Вячеславовна впервые сказала, что мы «превзошли себя».
– Ди, ты отлично держала центр! Молодец! – сказала Алена.
– Спасибо, я очень старалась.
Оставался еще один танцевальный блок, он длился два часа, после чего судьи ушли совещаться.
И вот уже часы волнения прошли…
Девочки и все коллективы стояли на сцене. Сердце опять начало биться в бешеном ритме… Ведущий объявляет тех, кто проходит в конкурс дальше...
Нас там нет.
Объявляет двадцатку лидеров… Нас нет снова. Неужели мы настолько плохо станцевали?
«Чудо, где же ты?» – стучало в голове у Алены.
Ведущий говорит название нашего коллектива.
– Поздравляю, вы на 25 месте!
Двадцать пятом? Может, это ошибка? Но – увы…
С самого детства родители учат верить в чудеса, они рассказывают нам добрые сказки, мы читаем книги и смотрим фильмы с хорошим концом и, повзрослев, продолжаем верить, что в сложный момент с нами обязательно случится чудо.
Но чуду не прикажешь. Важно понимать, что если чудо не произошло, то это не завершение истории, а повод работать дальше.
В понедельник после уроков девочки снова собрались в зале. Им больше не нужно чудо, у них есть желание танцевать, упорство, а теперь еще и опыт. Алена была в предвкушении успеха...
Владислав ЧИВИЛЕВ (МАОУ «Видновский художественно-технический лицей»)
Победитель конкурса сочинений «СВОБОДНАЯ ТЕМА»в 2023 году (2 место)
Однажды великий детектив Чайник и его друг – ассистент Чашка, гуляли по городу Столотаун. Вдруг к ним подбежала Миска. Чайник спросил: «Что случилось?» Миска, задыхаясь, ответила: «Пакетика убили!» И потеряла сознание.
Спустя час Миска очнулась в больнице великой Вилки. Над ней склонились Чайник и Чашка. Чайник спросил:
– Так что ты говорила насчет Пакетика?
А Миска ответила:
– Вот, пришла я к Пакетику в гости, как обычно, и увидела, что в его доме открыта дверь. Я зашла вовнутрь и увидела остатки сушки, которые были в Пакетике. Я осторожно пошла по следу сушек в его комнату. Сначала ничего не увидела, потому что в комнате было темно. Но услышала хруст. Внезапно зажегся свет, и я увидела в тени чайного столика восьмилапое существо, которое держало в одной из лап обрывок Пакетика. Оно обернулось ко мне. Я сначала остолбенела от страха, но в этот момент существо поползло на меня. Я закричала и покатилась со всех тарелок. И катилась так, пока не увидела вас. Ну, а дальше вы все сами знаете.
Чайник почесал носик и задумчиво сказал:
– Очень странно. Восьмилапое, говоришь?
– Да, – взволновано сказала Миска.
Чашка предположил:
– Может, это какое-то насекомое?
– Но они не появлялись в Столоталуне целых восемь чаепитий, – возразил ему Чайник.
– Ну, а вдруг? – не сдавался Чашка. – Может, это паук? У него же восемь лап.
– Ну, не знаю, – с сомнением протянул Чайник.
– Если честно, я не очень разглядела, но, по-моему, это и вправду был паук. – Вот видишь! – и Чашка торжествующе взглянул на Чайника.
– Надо бы все проверить. Давай сходим в дом к Пакетику, – ответил Чайник.
Чайник и Чашка, оставив отдыхать Миску в больнице, пошли к дому Пакетика. Вдруг они увидели, что дом окружен ограждающей лентой. Чайник подошел ближе, но путь ему преградили два половника: «Извините, но дальше вам нельзя». – «Я – детектив Специальной самоварной службы, вот мое удостоверение, а это – мой ассистент-помощник». Охранники молча пропустили их. Детективы вошли в дом и увидели, что везде валяются кусочки сушек. Здесь вовсю работали полицейские. Чайник попросил осмотреть тело Пакетика. Но ему ответили: «Мы не нашли его тело, видимо, его забрали».
– Странно, – сказал Чайник. И детективы вернулись домой ни с чем.
– Надо бы расспросить соседей Пакетика, может, они видели что-то.
– Хорошо, – согласился Чашка. – А кто его соседи?
– Я знаю, что рядом с ним живет Утюг, – сказал Чайник.
– Ну, тогда пошли к нему, – воскликнул Чашка.
Детективы пошли домой к Утюгу. Чайник постучал в дверь, но никто не отозвался. Чайник постучал настойчивее, но не получил никакого ответа. Вдруг сзади них раздался голос: «Вы ко мне?»
Они обернулись и увидели Утюга.
– Видимо, да, – ответил Чайник.
– Ну что ж, проходите, – сказал Утюг.
В квартире Утюга было уютно. Чайник сразу перешел к делу и расспросил Утюга о происшествии. Оказалось, что Утюг ничего не знает, потому что всю неделю был в гостях у гладильной Доски. Чайник и Чашка, попрощавшись с ним, разочарованно пошли обратно.
– Кстати, а помнишь, Миска нам давно рассказывала о странном и неразговорчивом соседе неизвестного вида посуды, не пора ли наведаться к нему, – сказал Чайник.
– Давай, – ответил Чашка.
Они направились к этому дому. Детективы постучали в дом. Им открыло дверь существо на восьми лапах, в плаще.
– Это вы хозяин дома? – спросил Чайник.
– Да, – прошелестело в ответ существо.
– Мне необходимо вас опросить. Вот удостоверение, – продолжил Чайник.
– Хорошо, проходите в дом, – ответил хозяин дома.
Когда они вошли в дом, Чашка пробулькал Чайнику: «Это точно паук!» «Я уже понял», – ответил Чайник. Они прошли дальше на кухню. И вдруг увидели Пакетика!!!
– Что ты тут делаешь? – ошеломленно спросил Чайник.
– О, привет, ребята. Мой друг паук приехал на свою летнюю дачу, и я так торопился, что наткнулся на стол, и у меня открылась рана, из нее посыпались сушки, а пауку повезло оказаться рядом. Он и помог мне.
– Но Миска видела, что паук ел тебя, – возразил Чашка.
– Просто паук зашивал мне рану своей паутиной, – ответил Пакетик.
– Что ж, получается, расследование завершено, – расплываясь в улыбке, с облегчением сказал Чайник.
Победитель конкурса сочинений «СВОБОДНАЯ ТЕМА»в 2023 году (2 место)
ТАЙНА ПОХИЩЕНИЯ ЧАЙНОГО ПАКЕТИКА
Однажды великий детектив Чайник и его друг – ассистент Чашка, гуляли по городу Столотаун. Вдруг к ним подбежала Миска. Чайник спросил: «Что случилось?» Миска, задыхаясь, ответила: «Пакетика убили!» И потеряла сознание.
Спустя час Миска очнулась в больнице великой Вилки. Над ней склонились Чайник и Чашка. Чайник спросил:
– Так что ты говорила насчет Пакетика?
А Миска ответила:
– Вот, пришла я к Пакетику в гости, как обычно, и увидела, что в его доме открыта дверь. Я зашла вовнутрь и увидела остатки сушки, которые были в Пакетике. Я осторожно пошла по следу сушек в его комнату. Сначала ничего не увидела, потому что в комнате было темно. Но услышала хруст. Внезапно зажегся свет, и я увидела в тени чайного столика восьмилапое существо, которое держало в одной из лап обрывок Пакетика. Оно обернулось ко мне. Я сначала остолбенела от страха, но в этот момент существо поползло на меня. Я закричала и покатилась со всех тарелок. И катилась так, пока не увидела вас. Ну, а дальше вы все сами знаете.
Чайник почесал носик и задумчиво сказал:
– Очень странно. Восьмилапое, говоришь?
– Да, – взволновано сказала Миска.
Чашка предположил:
– Может, это какое-то насекомое?
– Но они не появлялись в Столоталуне целых восемь чаепитий, – возразил ему Чайник.
– Ну, а вдруг? – не сдавался Чашка. – Может, это паук? У него же восемь лап.
– Ну, не знаю, – с сомнением протянул Чайник.
– Если честно, я не очень разглядела, но, по-моему, это и вправду был паук. – Вот видишь! – и Чашка торжествующе взглянул на Чайника.
– Надо бы все проверить. Давай сходим в дом к Пакетику, – ответил Чайник.
Чайник и Чашка, оставив отдыхать Миску в больнице, пошли к дому Пакетика. Вдруг они увидели, что дом окружен ограждающей лентой. Чайник подошел ближе, но путь ему преградили два половника: «Извините, но дальше вам нельзя». – «Я – детектив Специальной самоварной службы, вот мое удостоверение, а это – мой ассистент-помощник». Охранники молча пропустили их. Детективы вошли в дом и увидели, что везде валяются кусочки сушек. Здесь вовсю работали полицейские. Чайник попросил осмотреть тело Пакетика. Но ему ответили: «Мы не нашли его тело, видимо, его забрали».
– Странно, – сказал Чайник. И детективы вернулись домой ни с чем.
– Надо бы расспросить соседей Пакетика, может, они видели что-то.
– Хорошо, – согласился Чашка. – А кто его соседи?
– Я знаю, что рядом с ним живет Утюг, – сказал Чайник.
– Ну, тогда пошли к нему, – воскликнул Чашка.
Детективы пошли домой к Утюгу. Чайник постучал в дверь, но никто не отозвался. Чайник постучал настойчивее, но не получил никакого ответа. Вдруг сзади них раздался голос: «Вы ко мне?»
Они обернулись и увидели Утюга.
– Видимо, да, – ответил Чайник.
– Ну что ж, проходите, – сказал Утюг.
В квартире Утюга было уютно. Чайник сразу перешел к делу и расспросил Утюга о происшествии. Оказалось, что Утюг ничего не знает, потому что всю неделю был в гостях у гладильной Доски. Чайник и Чашка, попрощавшись с ним, разочарованно пошли обратно.
– Кстати, а помнишь, Миска нам давно рассказывала о странном и неразговорчивом соседе неизвестного вида посуды, не пора ли наведаться к нему, – сказал Чайник.
– Давай, – ответил Чашка.
Они направились к этому дому. Детективы постучали в дом. Им открыло дверь существо на восьми лапах, в плаще.
– Это вы хозяин дома? – спросил Чайник.
– Да, – прошелестело в ответ существо.
– Мне необходимо вас опросить. Вот удостоверение, – продолжил Чайник.
– Хорошо, проходите в дом, – ответил хозяин дома.
Когда они вошли в дом, Чашка пробулькал Чайнику: «Это точно паук!» «Я уже понял», – ответил Чайник. Они прошли дальше на кухню. И вдруг увидели Пакетика!!!
– Что ты тут делаешь? – ошеломленно спросил Чайник.
– О, привет, ребята. Мой друг паук приехал на свою летнюю дачу, и я так торопился, что наткнулся на стол, и у меня открылась рана, из нее посыпались сушки, а пауку повезло оказаться рядом. Он и помог мне.
– Но Миска видела, что паук ел тебя, – возразил Чашка.
– Просто паук зашивал мне рану своей паутиной, – ответил Пакетик.
– Что ж, получается, расследование завершено, – расплываясь в улыбке, с облегчением сказал Чайник.
Юлия ГУСЬКОВА (МБОУ СОШ № 27 г. Мытищи)
Победитель конкурса сочинений «СВОБОДНАЯ ТЕМА»в 2023 году (2 место)
Меня зовут кошка Линда, и я хочу поделиться с вами своей счастливой историей.
Я уже и не помню, как оказалась на улице. Я скиталась по дворам, искала пропитание, мерзла по ночам. Моя шубка стала непонятного, грязно-серого цвета, тельце покрывали противные блохи, которые кусали меня, глазки стали болеть и слезиться, а животик постоянно урчал от голода. Мне было всего два месяца, а маленькому котенку очень тяжело одному выжить на улице.
Как-то я нашла в одном из дворов объедки от колбасы и только хотела ими полакомиться, как тут же на меня набросились бродячие собаки, чтобы отнять скромное лакомство. Со скоростью ветра я бросилась наутек. Я не знаю, как долго я бежала. Из последних сил, тяжело дыша, я запрыгнула
на капот какой-то машины и увидев, что опасности нет, легла и сразу уснула от усталости. Проснулась я от того, что меня держал в руках хозяин машины. Он внимательно рассматривал меня, приговаривая: «Откуда же ты, такое чумазое чудо, взялось?» От голода у меня не было сил вырываться и кусаться, а человек смотрел на меня добрыми глазами, и я решилась довериться ему.
Оказалось, что хозяин машины был ветеринарным врачом. Он принес меня в клинику, где меня отмыли, обработали от блох и закапали в глазки лекарство. Меня вкусно накормили и уложили спать на теплую подстилку. Я наконец-то почувствовала себя счастливой, ведь меня гладили, говорили ласковые слова. Оказалось, что у меня очень выразительные зеленые глаза, красивая трехцветная шубка и мягкие розовые подушечки на лапках. Меня называли зеленоглазой красавицей.
А потом мне стали подыскивать любящих хозяев, ведь не могла же я постоянно жить в ветеринарной клинике. И вот через несколько недель за мной приехали люди, которые решили забрать меня к себе домой.
Это была семья из трех человек: папа – хозяин, мама – старшая хозяйка и маленькая девочка – маленькая хозяйка. Когда меня привезли в новый дом, я очень переживала, хорошие ли хозяева мне достались, и будут ли они меня любить. Незнакомая обстановка и незнакомые запахи пугали меня, и хотелось куда-нибудь спрятаться. На кухне мне поставили специальный домик для кошек, в него я и залезла. Ночью я вылезла из домика и решила исследовать кухню. Я увидела какую-то дверцу, приоткрыла ее и пролезла внутрь. За дверцей стояло какое-то ведро, куда я и запрыгнула. Там я нашла шкурки от колбасы и сыра, погрызла их и уснула. А вскоре меня разбудил шум и громкие голоса. «Ну, что такое! Поспать не дают!» – недовольно промяукала я. Оказалось, что маленькая хозяйка не нашла меня в домике и разбудила свою маму, чтобы она помогла найти меня. Мама девочки быстро нашла меня, вытащила из ведра и понесла мыть мои лапки специальным шампунем. Я брыкалась и пыталась вырваться. «Линда! Нечего было залезать в мусорное ведро!» – возмущалась мама девочки. «А я-то откуда знала, что нельзя залезать в мусорное ведро? Теперь запомню», – подумала я.
На новом месте я очень быстро освоилась. Меня баловали, покупали разные игрушки, полезную еду.
Я очень любила шалить, как и все маленькие котята. Я могла спрятаться под диваном, а когда старшая хозяйка проходила мимо, прыгнуть ей на ногу и убежать, а она смешно визжала от неожиданности. Еще я делала «кусь-кусь» за ноги своим хозяевам, когда они уже спали. Главное, потом успеть спрятаться…
Мне очень нравилось заворачиваться в длинную оконную занавеску, хотя старшая хозяйка и сердилась, что дырки от коготков остаются. «Мяу! – возмущалась я. – Я же прЫнцесса! Хотя нет – королевишна! Фррр!»
Я узнала, что можно, а что нельзя делать. Нельзя, например, драть обои, даже если очень хочется, иначе старшая хозяйка будет ругаться.
Когда я подросла и поумнела, то решила взять на себя разные обязанности по дому. Я занимаюсь дизайном квартиры, слежу за комнатными растениями. «Что ты, хозяйка, кричишь? Ну, убрала я с окна на пол горшок с цветком, некрасиво он смотрелся на подоконнике и не вписывался в интерьер. Зато ты полы пропылесосила, а то пыльно как-то было. Для тебя же стараюсь! Мяу!»
Еще я помогаю маленькой хозяйке делать уроки. Я сажусь рядом и слежу, чтобы она прилежно занималась, а не отвлекалась на игры. Глаз да глаз за ней нужен. Кроме того, я дегустирую еду хозяев, проверяю, все ли вкусно, пока они не видят.
Я слежу, чтобы старшая хозяйка утром не проспала, а то любит, когда будильник прозвонит, поспать еще пять минут. Знаю я эти пять минут. Сейчас уснет и проспит, а потом будет носиться по квартире с криками: «Мы проспали!» И я начинаю постукивать ее лапкой по щеке до тех пор, пока она не встанет. Заодно и мне корма насыплет, а то что-то пузику голодно.
В ответ на заботу моих хозяев обо мне я научилась заботиться о них. Как-то я съела много травы, и мне стало очень плохо. Меня тошнило и не хотелось бегать. Я лежала на полу и плакала. Старшая хозяйка взяла меня на руки, уложила на диван и дала лекарство, а затем села рядом со мной, долго гладила и успокаивала. И вскоре мне стало лучше. А перед новым годом заболела маленькая хозяйка. Я знаю, что на полке у нее стоит красивая икона. Пойду и попрошу Богородицу, чтобы помогла моей любимой девочке поскорее поправиться. А потом лягу с маленькой хозяйкой рядом и буду лечить ее своим теплом.
Конечно, сложно быть любимым питомцем. Каждый норовит погладить, взять на руки и даже поцеловать. А мне потом опять приходится сидеть и умываться. Ну ничего, зато очень приятно чувствовать себя любимой кошечкой. А ещё я очень люблю поваляться на спинке, и чтобы старшая хозяйка в это время чесала мне животик, а я за это делаю ей «нежный кусь». Так я проявляю свои чувства.
Вот такая у меня история со счастливым концом.
В заключение своего рассказа я хочу сказать, что заводя маленького смешного котенка, нужно помнить, что из него вырастет взрослая кошка со своим характером. Как и люди, мы тоже болеем, стареем. Иногда у нас может не быть настроения бегать и играть.
Помните, что друга заводят в первую очередь для души, а не ради похвальбы породистым котенком.
Вы подбираете нас с улицы, спасаете от голода и холода, а мы дарим вам свое тепло, мурлычем песенку, когда вам грустно, лечим вашу душу, когда у вас горе. С нами можно поговорить, рассказать свои секреты, мы – благодарные слушатели. Мы учим никуда не торопиться, а просто наслаждаться жизнью.
Пожалуйста, не обижайте котиков, ведь они не могут дать сдачи! Котик может простить обиду, стоит только погладить его по головке или почесать пузико, ведь ему так хочется любви и заботы.
Но есть злые, бессердечные люди, которые обижают животных: бьют, мучают, убивают. А есть еще и такие, которые кормят бездомных кошек отравленной едой, и они потом в мучениях погибают. А за что? Ведь мы не виноваты, что оказались на улице и кого-то раздражаем своим видом!
Наши хозяева должны понимать, что мы – не игрушка, с которой можно поиграть, а когда надоела или сломалась – выкинуть. Мы – живые существа, которые тоже любят, грустят, обижаются. У нас тоже есть чувства, и мы любим своих хозяев и верим, что они не бросят и не предадут нас. Очень важно найти своего человека, который будет любить тебя не за то, породистый ты или нет, а просто за то, что ты у него есть.
И, как говорил Маленький принц из любимой книги моей маленькой хозяйки: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».
Победитель конкурса сочинений «СВОБОДНАЯ ТЕМА»в 2023 году (2 место)
МОЯ СЧАСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ
Меня зовут кошка Линда, и я хочу поделиться с вами своей счастливой историей.
Я уже и не помню, как оказалась на улице. Я скиталась по дворам, искала пропитание, мерзла по ночам. Моя шубка стала непонятного, грязно-серого цвета, тельце покрывали противные блохи, которые кусали меня, глазки стали болеть и слезиться, а животик постоянно урчал от голода. Мне было всего два месяца, а маленькому котенку очень тяжело одному выжить на улице.
Как-то я нашла в одном из дворов объедки от колбасы и только хотела ими полакомиться, как тут же на меня набросились бродячие собаки, чтобы отнять скромное лакомство. Со скоростью ветра я бросилась наутек. Я не знаю, как долго я бежала. Из последних сил, тяжело дыша, я запрыгнула
на капот какой-то машины и увидев, что опасности нет, легла и сразу уснула от усталости. Проснулась я от того, что меня держал в руках хозяин машины. Он внимательно рассматривал меня, приговаривая: «Откуда же ты, такое чумазое чудо, взялось?» От голода у меня не было сил вырываться и кусаться, а человек смотрел на меня добрыми глазами, и я решилась довериться ему.
Оказалось, что хозяин машины был ветеринарным врачом. Он принес меня в клинику, где меня отмыли, обработали от блох и закапали в глазки лекарство. Меня вкусно накормили и уложили спать на теплую подстилку. Я наконец-то почувствовала себя счастливой, ведь меня гладили, говорили ласковые слова. Оказалось, что у меня очень выразительные зеленые глаза, красивая трехцветная шубка и мягкие розовые подушечки на лапках. Меня называли зеленоглазой красавицей.
А потом мне стали подыскивать любящих хозяев, ведь не могла же я постоянно жить в ветеринарной клинике. И вот через несколько недель за мной приехали люди, которые решили забрать меня к себе домой.
Это была семья из трех человек: папа – хозяин, мама – старшая хозяйка и маленькая девочка – маленькая хозяйка. Когда меня привезли в новый дом, я очень переживала, хорошие ли хозяева мне достались, и будут ли они меня любить. Незнакомая обстановка и незнакомые запахи пугали меня, и хотелось куда-нибудь спрятаться. На кухне мне поставили специальный домик для кошек, в него я и залезла. Ночью я вылезла из домика и решила исследовать кухню. Я увидела какую-то дверцу, приоткрыла ее и пролезла внутрь. За дверцей стояло какое-то ведро, куда я и запрыгнула. Там я нашла шкурки от колбасы и сыра, погрызла их и уснула. А вскоре меня разбудил шум и громкие голоса. «Ну, что такое! Поспать не дают!» – недовольно промяукала я. Оказалось, что маленькая хозяйка не нашла меня в домике и разбудила свою маму, чтобы она помогла найти меня. Мама девочки быстро нашла меня, вытащила из ведра и понесла мыть мои лапки специальным шампунем. Я брыкалась и пыталась вырваться. «Линда! Нечего было залезать в мусорное ведро!» – возмущалась мама девочки. «А я-то откуда знала, что нельзя залезать в мусорное ведро? Теперь запомню», – подумала я.
На новом месте я очень быстро освоилась. Меня баловали, покупали разные игрушки, полезную еду.
Я очень любила шалить, как и все маленькие котята. Я могла спрятаться под диваном, а когда старшая хозяйка проходила мимо, прыгнуть ей на ногу и убежать, а она смешно визжала от неожиданности. Еще я делала «кусь-кусь» за ноги своим хозяевам, когда они уже спали. Главное, потом успеть спрятаться…
Мне очень нравилось заворачиваться в длинную оконную занавеску, хотя старшая хозяйка и сердилась, что дырки от коготков остаются. «Мяу! – возмущалась я. – Я же прЫнцесса! Хотя нет – королевишна! Фррр!»
Я узнала, что можно, а что нельзя делать. Нельзя, например, драть обои, даже если очень хочется, иначе старшая хозяйка будет ругаться.
Когда я подросла и поумнела, то решила взять на себя разные обязанности по дому. Я занимаюсь дизайном квартиры, слежу за комнатными растениями. «Что ты, хозяйка, кричишь? Ну, убрала я с окна на пол горшок с цветком, некрасиво он смотрелся на подоконнике и не вписывался в интерьер. Зато ты полы пропылесосила, а то пыльно как-то было. Для тебя же стараюсь! Мяу!»
Еще я помогаю маленькой хозяйке делать уроки. Я сажусь рядом и слежу, чтобы она прилежно занималась, а не отвлекалась на игры. Глаз да глаз за ней нужен. Кроме того, я дегустирую еду хозяев, проверяю, все ли вкусно, пока они не видят.
Я слежу, чтобы старшая хозяйка утром не проспала, а то любит, когда будильник прозвонит, поспать еще пять минут. Знаю я эти пять минут. Сейчас уснет и проспит, а потом будет носиться по квартире с криками: «Мы проспали!» И я начинаю постукивать ее лапкой по щеке до тех пор, пока она не встанет. Заодно и мне корма насыплет, а то что-то пузику голодно.
В ответ на заботу моих хозяев обо мне я научилась заботиться о них. Как-то я съела много травы, и мне стало очень плохо. Меня тошнило и не хотелось бегать. Я лежала на полу и плакала. Старшая хозяйка взяла меня на руки, уложила на диван и дала лекарство, а затем села рядом со мной, долго гладила и успокаивала. И вскоре мне стало лучше. А перед новым годом заболела маленькая хозяйка. Я знаю, что на полке у нее стоит красивая икона. Пойду и попрошу Богородицу, чтобы помогла моей любимой девочке поскорее поправиться. А потом лягу с маленькой хозяйкой рядом и буду лечить ее своим теплом.
Конечно, сложно быть любимым питомцем. Каждый норовит погладить, взять на руки и даже поцеловать. А мне потом опять приходится сидеть и умываться. Ну ничего, зато очень приятно чувствовать себя любимой кошечкой. А ещё я очень люблю поваляться на спинке, и чтобы старшая хозяйка в это время чесала мне животик, а я за это делаю ей «нежный кусь». Так я проявляю свои чувства.
Вот такая у меня история со счастливым концом.
В заключение своего рассказа я хочу сказать, что заводя маленького смешного котенка, нужно помнить, что из него вырастет взрослая кошка со своим характером. Как и люди, мы тоже болеем, стареем. Иногда у нас может не быть настроения бегать и играть.
Помните, что друга заводят в первую очередь для души, а не ради похвальбы породистым котенком.
Вы подбираете нас с улицы, спасаете от голода и холода, а мы дарим вам свое тепло, мурлычем песенку, когда вам грустно, лечим вашу душу, когда у вас горе. С нами можно поговорить, рассказать свои секреты, мы – благодарные слушатели. Мы учим никуда не торопиться, а просто наслаждаться жизнью.
Пожалуйста, не обижайте котиков, ведь они не могут дать сдачи! Котик может простить обиду, стоит только погладить его по головке или почесать пузико, ведь ему так хочется любви и заботы.
Но есть злые, бессердечные люди, которые обижают животных: бьют, мучают, убивают. А есть еще и такие, которые кормят бездомных кошек отравленной едой, и они потом в мучениях погибают. А за что? Ведь мы не виноваты, что оказались на улице и кого-то раздражаем своим видом!
Наши хозяева должны понимать, что мы – не игрушка, с которой можно поиграть, а когда надоела или сломалась – выкинуть. Мы – живые существа, которые тоже любят, грустят, обижаются. У нас тоже есть чувства, и мы любим своих хозяев и верим, что они не бросят и не предадут нас. Очень важно найти своего человека, который будет любить тебя не за то, породистый ты или нет, а просто за то, что ты у него есть.
И, как говорил Маленький принц из любимой книги моей маленькой хозяйки: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

