Текст альманаха «РАССКАЗ-24»

АЛЬМАНАХ «РАССКАЗ-24»
Рубрика «Мастерская рассказа»:
Вячеслав СУКАЧЕВ – «Черепаха»
Рубрика «Священная война»:
Николай НИБУР – «Священная война»
Максим ЛАЗАРЕВ – «За десять дней до Победы»
Иван АНЕНКОВ – отрывок из повести «Думы войны»
Наталья ЩЕГЛОВА – «Мамина война», «Про Васю»
Юлия МЕЗЕНЦЕВА – «Помните о нем»
Дарья ЩЕДРИНА – «Шоколадный батончик»
Рубрика «Рассказы»:
Лариса КЕФФЕЛЬ – «Ангел», «Джамбия»
Нина ШАМАРИНА – «Педальный узел»
Дмитрий СЕНЧАКОВ – «Горькие кабачки»
Максим ФЕДОСОВ – «Рукопись»
Татьяна ИСАЕВА – «Повесть о Пашке»
Евгения БЕЛОВА – «Хозяин»
Ляйсан ФАЙЗУЛЛИНА – «Браслет из красных ниток...»
Елена ФАЕВА – «Лавочка»
Златислава БАМБУКО – «Жизнь лучше, чем ты думаешь...»
Максим ГОРБУНОВ – «Отдых для двоих»
Дмитрий САРВИН – «Последний день»
Марта ТАБУРОВА – «Несостоявшийся приём»
Михаил МОНАСТЫРСКИЙ – «Тихие воды глубоки»
Наталия САМОХИНА – «Остановите троллейбус»
Лариса КАЛЬМАТКИНА – «Белые розы в синем ведре»
Татьяна БИРЮКОВА – «Звездопад»
Васса БОГДАНОВА – «Весы»
Олег ХУДЯКОВ – «Гречка»
Валерия СИЯНОВА – «Крестовый луч»
Василий МАСЛОВ – «Цунами»
Виктор НИКИФОРОВ – «Высоцкий в Ленинграде или причуды памяти»
Рубрика «Мастерская рассказа»:
Вячеслав СУКАЧЕВ – «Черепаха»
Рубрика «Священная война»:
Николай НИБУР – «Священная война»
Максим ЛАЗАРЕВ – «За десять дней до Победы»
Иван АНЕНКОВ – отрывок из повести «Думы войны»
Наталья ЩЕГЛОВА – «Мамина война», «Про Васю»
Юлия МЕЗЕНЦЕВА – «Помните о нем»
Дарья ЩЕДРИНА – «Шоколадный батончик»
Рубрика «Рассказы»:
Лариса КЕФФЕЛЬ – «Ангел», «Джамбия»
Нина ШАМАРИНА – «Педальный узел»
Дмитрий СЕНЧАКОВ – «Горькие кабачки»
Максим ФЕДОСОВ – «Рукопись»
Татьяна ИСАЕВА – «Повесть о Пашке»
Евгения БЕЛОВА – «Хозяин»
Ляйсан ФАЙЗУЛЛИНА – «Браслет из красных ниток...»
Елена ФАЕВА – «Лавочка»
Златислава БАМБУКО – «Жизнь лучше, чем ты думаешь...»
Максим ГОРБУНОВ – «Отдых для двоих»
Дмитрий САРВИН – «Последний день»
Марта ТАБУРОВА – «Несостоявшийся приём»
Михаил МОНАСТЫРСКИЙ – «Тихие воды глубоки»
Наталия САМОХИНА – «Остановите троллейбус»
Лариса КАЛЬМАТКИНА – «Белые розы в синем ведре»
Татьяна БИРЮКОВА – «Звездопад»
Васса БОГДАНОВА – «Весы»
Олег ХУДЯКОВ – «Гречка»
Валерия СИЯНОВА – «Крестовый луч»
Василий МАСЛОВ – «Цунами»
Виктор НИКИФОРОВ – «Высоцкий в Ленинграде или причуды памяти»
АННОТАЦИЯ
Новый сборник малой прозы «Рассказ-24» по сути не является новым, а лишь продолжает литературную традицию (которая началась c альманаха «Рассказ-77») – каждый год отмечать лучших авторов и лучшие произведения малой прозы, одновременно являясь и мастерской рассказа, и творческой лабораторией, где каждый автор может равняться на «мастеров» и одновременно с мастерами вырабатывать свое видение мира и обретать свой голос. Именно поэтому вместе с рубрикой «Рассказы» в нашем сборнике навсегда поселилась рубрика «Мастерская рассказа».
За год до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы посчитали, что отдельной рубрикой необходимо выделить военные рассказы наших авторов. Кто знал, что эти рассказы так плотно и осмысленно разместятся рядом с рассказами о специальной военной операции, которая проходит в наши дни «своеобразным эхом войны» и не менее явно замечает и описывает новых героев? Надеемся, что ежегодный альманах «Рассказ-24» найдет своего автора и своего читателя в новом литературном мире, где жанр рассказа обретает новое рождение и новое звучание.
РАССКАЗ – КАК МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Несколько лет назад, собирая библиотеку малой прозы, в одном московском букинистическом магазине мне попался на глаза сборник «Рассказ-77», изданный в издательстве «Современник». В нем составители аккуратно и бережно отбирали лучшие рассказы, опубликованные в прошедшем году в разных толстых литературных журналах. Отбирали, надо сказать, очень внимательно – были там рассказы Валентина Распутина, Владимира Маканина, Юрия Казакова, Виктора Астафьева, Юрия Нагибина, Вячеслава Сукачева и многих других известных авторов. Таким образом, начинающим литераторам были представлены лучшие образцы мастеров короткой прозы; на этих рассказах росли молодые писатели, которые сегодня сами являются мастерами.
И вдруг неожиданно мне встретилась заметка о том, что писатель Вячеслав Викторович Сукачев, не так давно занимавший должность главного редактора журнала «Дальний Восток», проживает совсем недалеко от меня, в Подмосковье, и готовит новую книгу своих произведений к предстоящему в 2025 году юбилею. Как говорится, «рассказ позвал в дорогу».
Мы встретились с Вячеславом Викторовичем в его доме, пообщались, я показал ему сборники и книги, изданные в нашем издательстве. Особенно ему понравилась идея воссоздания альманаха короткой прозы «Рассказ года», в который мы планируем отбирать лучшие рассказы сегодняшних авторов. Но, чтобы такой сборник отличался от других проектов издательства, а также для того, чтобы перекинуть своебразный «мостик во времени», – мы решили в каждом номере публиковать один рассказ из прошлых номеров (всего вышло 14 сборников, с 1977 по 1990 гг.) Эти рассказы войдут в рубрику «Мастерская рассказа», публикации мастеров войдут также в цикл образовательных занятий, которые мы начнем осенью этого года на базе нашего издательства. Все наши авторы хотят учиться писать прозу лучше, ярче, качественнее и интереснее.
В этот альманах вошли произведения 27 авторов и рассказ от «Мастера» – «Черепаха» Вячеслава Сукачева, который был опубликован в номере альманаха за 1977 год. Заметьте, что сюжет и герои рассказа за прошедшие сорок с лишним лет почти не изменились – мы и сегодня на наших улицах можем встретить своих одноклассников, с которыми нас связывают не только воспоминания, но и чувства, возможно, даже очень близкие...
Любой сборник разных авторов хорош уже тем, что никогда не надоедает читателю – один рассказ, один авторский стиль, язык, сюжет, диалоги сменяются другим автором со своим стилем, сюжетом и диалогами. И таким образом сборник превращается в литературную мозаику малого жанра, в котором каждый рассказ потенциально «тянет» на мини-роман. С другой стороны – темы и смыслы рассказов очень близки, и все они «двигаются по орбите» вокруг человека и смысла его жизни. Как писал составитель альманаха «Рассказ-77» Юрий Галкин: «Если мы попробуем выделить главную и ясно звучащую тему лучших рассказов минувшего года, то это и будет тема обретения человеком уверенности в своих возможностях не в мнимом условном мире, а в мире реальном и современном, и никакие иллюзии, пусть и самые возвышенные, не способны заменить человеку правду и красоту этого мира». Не правда ли, лучше не скажешь? Или вот еще очень интересная цитата составителя «старой школы»: «Художественный уровень жанра всегда определяют только наиболее зрелые художественные произведения». Именно поэтому в этом сборнике будет существовать рубрика «Мастерская рассказа», по которой мы с вами (авторы и читатели сборника), как по некоему эталону, будем сверять уровень мастерства авторов и качественный уровень произведений.
Таким образом, наш новый сборник по сути не является новым, а лишь продолжает литературную традицию каждый год отмечать лучших авторов и лучшие произведения малой прозы, одновременно являясь и мастерской рассказа, и творческой лабораторией, где каждый автор может равняться на «мастеров» и одновременно с мастерами вырабатывать свое видение мира и обретать свой неповторимый голос.
За год до празднования 80-летия Победы в Великой Оте-чественной войне мы посчитали, что отдельной рубрикой необходимо выделить «военные» рассказы наших авторов. Кто знал, что эти рассказы так плотно и осмысленно разместятся рядом с рассказами о специальной военной операции, которая проходит в наши дни «своеобразным эхом войны», и не менее явно замечает и описывает новых героев? Новые авторы, новые рассказы, новые герои – всё для того, чтобы читатель отложил в сторону толстые романы и получил удовольствие от чтения рассказа, этого изящного и яркого литературного жанра, который преодолел более, чем 40-летний путь развития (со времен выхода «Рассказа-77) и, как хороший крепкий напиток, стал прозрачнее, ярче и вкуснее. В добрый путь, альманах «Рассказ-24»!
Максим Федосов,
руководитель проекта литературных сборников
издательского сервиса «Новое Слово»
Новый сборник малой прозы «Рассказ-24» по сути не является новым, а лишь продолжает литературную традицию (которая началась c альманаха «Рассказ-77») – каждый год отмечать лучших авторов и лучшие произведения малой прозы, одновременно являясь и мастерской рассказа, и творческой лабораторией, где каждый автор может равняться на «мастеров» и одновременно с мастерами вырабатывать свое видение мира и обретать свой голос. Именно поэтому вместе с рубрикой «Рассказы» в нашем сборнике навсегда поселилась рубрика «Мастерская рассказа».
За год до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы посчитали, что отдельной рубрикой необходимо выделить военные рассказы наших авторов. Кто знал, что эти рассказы так плотно и осмысленно разместятся рядом с рассказами о специальной военной операции, которая проходит в наши дни «своеобразным эхом войны» и не менее явно замечает и описывает новых героев? Надеемся, что ежегодный альманах «Рассказ-24» найдет своего автора и своего читателя в новом литературном мире, где жанр рассказа обретает новое рождение и новое звучание.
РАССКАЗ – КАК МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Несколько лет назад, собирая библиотеку малой прозы, в одном московском букинистическом магазине мне попался на глаза сборник «Рассказ-77», изданный в издательстве «Современник». В нем составители аккуратно и бережно отбирали лучшие рассказы, опубликованные в прошедшем году в разных толстых литературных журналах. Отбирали, надо сказать, очень внимательно – были там рассказы Валентина Распутина, Владимира Маканина, Юрия Казакова, Виктора Астафьева, Юрия Нагибина, Вячеслава Сукачева и многих других известных авторов. Таким образом, начинающим литераторам были представлены лучшие образцы мастеров короткой прозы; на этих рассказах росли молодые писатели, которые сегодня сами являются мастерами.
И вдруг неожиданно мне встретилась заметка о том, что писатель Вячеслав Викторович Сукачев, не так давно занимавший должность главного редактора журнала «Дальний Восток», проживает совсем недалеко от меня, в Подмосковье, и готовит новую книгу своих произведений к предстоящему в 2025 году юбилею. Как говорится, «рассказ позвал в дорогу».
Мы встретились с Вячеславом Викторовичем в его доме, пообщались, я показал ему сборники и книги, изданные в нашем издательстве. Особенно ему понравилась идея воссоздания альманаха короткой прозы «Рассказ года», в который мы планируем отбирать лучшие рассказы сегодняшних авторов. Но, чтобы такой сборник отличался от других проектов издательства, а также для того, чтобы перекинуть своебразный «мостик во времени», – мы решили в каждом номере публиковать один рассказ из прошлых номеров (всего вышло 14 сборников, с 1977 по 1990 гг.) Эти рассказы войдут в рубрику «Мастерская рассказа», публикации мастеров войдут также в цикл образовательных занятий, которые мы начнем осенью этого года на базе нашего издательства. Все наши авторы хотят учиться писать прозу лучше, ярче, качественнее и интереснее.
В этот альманах вошли произведения 27 авторов и рассказ от «Мастера» – «Черепаха» Вячеслава Сукачева, который был опубликован в номере альманаха за 1977 год. Заметьте, что сюжет и герои рассказа за прошедшие сорок с лишним лет почти не изменились – мы и сегодня на наших улицах можем встретить своих одноклассников, с которыми нас связывают не только воспоминания, но и чувства, возможно, даже очень близкие...
Любой сборник разных авторов хорош уже тем, что никогда не надоедает читателю – один рассказ, один авторский стиль, язык, сюжет, диалоги сменяются другим автором со своим стилем, сюжетом и диалогами. И таким образом сборник превращается в литературную мозаику малого жанра, в котором каждый рассказ потенциально «тянет» на мини-роман. С другой стороны – темы и смыслы рассказов очень близки, и все они «двигаются по орбите» вокруг человека и смысла его жизни. Как писал составитель альманаха «Рассказ-77» Юрий Галкин: «Если мы попробуем выделить главную и ясно звучащую тему лучших рассказов минувшего года, то это и будет тема обретения человеком уверенности в своих возможностях не в мнимом условном мире, а в мире реальном и современном, и никакие иллюзии, пусть и самые возвышенные, не способны заменить человеку правду и красоту этого мира». Не правда ли, лучше не скажешь? Или вот еще очень интересная цитата составителя «старой школы»: «Художественный уровень жанра всегда определяют только наиболее зрелые художественные произведения». Именно поэтому в этом сборнике будет существовать рубрика «Мастерская рассказа», по которой мы с вами (авторы и читатели сборника), как по некоему эталону, будем сверять уровень мастерства авторов и качественный уровень произведений.
Таким образом, наш новый сборник по сути не является новым, а лишь продолжает литературную традицию каждый год отмечать лучших авторов и лучшие произведения малой прозы, одновременно являясь и мастерской рассказа, и творческой лабораторией, где каждый автор может равняться на «мастеров» и одновременно с мастерами вырабатывать свое видение мира и обретать свой неповторимый голос.
За год до празднования 80-летия Победы в Великой Оте-чественной войне мы посчитали, что отдельной рубрикой необходимо выделить «военные» рассказы наших авторов. Кто знал, что эти рассказы так плотно и осмысленно разместятся рядом с рассказами о специальной военной операции, которая проходит в наши дни «своеобразным эхом войны», и не менее явно замечает и описывает новых героев? Новые авторы, новые рассказы, новые герои – всё для того, чтобы читатель отложил в сторону толстые романы и получил удовольствие от чтения рассказа, этого изящного и яркого литературного жанра, который преодолел более, чем 40-летний путь развития (со времен выхода «Рассказа-77) и, как хороший крепкий напиток, стал прозрачнее, ярче и вкуснее. В добрый путь, альманах «Рассказ-24»!
Максим Федосов,
руководитель проекта литературных сборников
издательского сервиса «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати Рубрика «CВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Николай НИБУР
Автор десятка книг самой различной направленности: политический детектив, пост-апокалиптические фантазии, историко-краеведческие изыскания, рассказы о нелегком периоде экономических реформ в России и о простом человеческом общежитии в согласии с окружающей природой. Все эти произведения объединяет тема извечной борьбы Добра и Зла. Член Союза писателей с 2018 года.
Книги Николая НИБУРА можно приобрести в нашем интернет-магазине.
Автор десятка книг самой различной направленности: политический детектив, пост-апокалиптические фантазии, историко-краеведческие изыскания, рассказы о нелегком периоде экономических реформ в России и о простом человеческом общежитии в согласии с окружающей природой. Все эти произведения объединяет тема извечной борьбы Добра и Зла. Член Союза писателей с 2018 года.
Книги Николая НИБУРА можно приобрести в нашем интернет-магазине.
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Война – это целая эпоха в жизни нашей страны. Мы ее не видели, и нам, я думаю, просто невозможно даже представить всю бездну горя, выпавшего на плечи нашего народа, всю глубину тягот и страданий людей на фронте и в тылу.
Смерть близких людей. Разрушение. Голод, холод, несчастья, лишения, пожарища, грязь, вши, кровь, раны, болезни и смерть… И так – каждый день в течение почти пяти лет. Обо всем этом мы можем только догадываться, судить по книгам и фильмам или по воспоминаниям людей.
Но книгам и фильмам доверять можно не всегда. Они несут в себе влияние времени их создания и потому не всегда объективны. А некоторые авторы последних лет и вовсе договорились до откровенной лжи. Да и не могут книги и фильмы рассказать все то, что не всегда можно выразить словами. Рассказы людей, живших в то время? Но непосредственных свидетелей той многолетней каждодневной трагедии становится все меньше, а слова их скупы. Я давно заметил, что настоящие участники войны немногословны.
В результате уже сегодня дети совершенно не знают правды о войне. Это неудивительно. С некоторых пор по телевизору и в газетах стали рассказывать новую «правду» о том, что наши родители воевали из-под палки. И с нетерпением ждали прихода немецкой армии, чтобы сдаться. И этому благому делу, мол, помешали ненавистные коммунисты во главе со Сталиным. А то бы мы сейчас немецкое пивко попивали!
Ладно молодежь поддается на откровенно вражеское телевизионное зомбирование. Но недавно я услышал и от взрослого человека повторение подобной мерзости…
Что тут скажешь?! Спорить? Возражать? Нет, это бесполезно. Надо пытаться противостоять этой изощренной лжи каким-то другим способом.
Тут может помочь только правда. Горькая, страшная. Но и светлая, поскольку носителями ее являются беззаветные герои, совершавшие свой подвиг ежедневно и еженощно.
Спасительная правда в России в конце концов всегда побеждает. Сам я родился через десять лет после войны. Но мои родители в полной мере пережили войну. Они, повторюсь, не любили рассказывать об этом. Лишь иногда они вспоминали тяжелые страницы жизни.
И я, к счастью, запомнил их правдивые рассказы и пересказываю их своим детям. И наказываю передать эти простые истории своим детям и внукам. Может быть, эти бесценные крупицы правды сослужат хотя бы какую-то службу нашим потомкам.
Война к нам пришла неожиданно. И наш народ встретил ее так: почти все мужчины ушли на фронт, а женщины остались работать в тылу вдвойне – за них и за себя.
Все точно так же было и в жизни моих родителей.
Мой отец ушел на войну. А мама осталась с двумя малолетними детьми.
ОТЕЦ НА ВОЙНЕ
Правда о войне
Моего отца призвали на фронт уже двадцать третьего июня сорок первого года, на следующий день после нападения фашистской Германии на нашу страну. И он прошел всю войну, от начала до конца.
Но как и другие ветераны, отец очень мало рассказывал о своей военной године. Видимо, в военных воспоминаниях много тяжелого, трагического. Такого, что и вспоминать не хочется.
Одно время по телевизору транслировался многосерийный документальный фильм-эпопею Романа Кармена «Великая Отечественная». Наверное, впервые в одном произведении была сведена история всех пяти военных лет. Непредвзятая, без надрыва и без ложного ура-патриотизма. От солдата в окопе до Верховного главнокомандующего в Кремле. Никаких сенсаций, скандальных разоблачений и прочей мишуры, которой в избытке заполнены экраны сейчас. Суровые будни войны, рассказанные честным, простым языком.
Отец смотрел этот фильм и плакал:
– Это все правда!
Сейчас этот фильм почему-то не показывают…
Песня выручила
Однажды группа разведчиков во главе с командиром взвода проводила рейд на территории, занятой противником. Выстроившись в цепочку, шли на лыжах в белых маскировочных халатах по зимнему заснеженному полю вдоль дороги. Первый солдат выполнял самую тяжелую работу: торил лыжню по целиковому снегу. Он периодически менялся.
В составе разведгруппы был и мой отец.
Всегда осторожные разведчики на сей раз проявили недопустимую беззаботность, не разглядели притаившихся врагов. На, казалось, пустынной дороге за деревом их поджидала засада – двое немцев на мотоцикле с пулеметом.
Смертельную угрозу заметили лишь в последнюю минуту, когда было уже поздно. За секунду до того, как разведчики стали падать в снег по истошной команде командира «Ложись!», фашисты длинной очередью с близкого расстояния буквально скосили всех семерых советских солдат.
Упал и отец. В такой момент травматического шока, он знал по прошлым ранениям, боль приходит не сразу. И хотя он ее еще не почувствовал, но умом понял, что уже наступает смерть.
Немцы были совсем рядом. Хорошо было слышно, как они громко засмеялись и довольно загалдели. Проверять результаты своей стрельбы они не стали, не захотели лезть по глубокому снегу. Да что проверять? Итог очевиден: в живых не остался никто. Поэтому они просто развернулись на дороге и уехали восвояси. Наверное, не терпелось доложить командованию об успешно проведенной операции по уничтожению целой разведывательной группы русских.
А отцу вспомнилась мирная довоенная жизнь. Близкие, жена и дети. Как они будут без него? Кому хочется умирать? Но ничего не поделаешь, на войне солдат всегда готов к смерти.
Потом он подумал, что его умирание слишком затягивается. Это плохо. Лучше уж сразу умереть, чем замерзать раненому и обессиленному. Кстати, удивился отец, времени после шока прошло достаточно много, и должна бы уже наступить боль от полученных ран.
Он стал потихоньку проверять свое тело, искать места ранений и с удивлением обнаружил, что у него ничего не болит. Даже пошевелил ногами и руками – нет, ничего не болит. Неужели он жив и здоров?! А ведь так! Ему опять повезло, смерть прошла мимо.
А как же его товарищи? Он подергал за ногу впереди лежащего бойца. Не отвечает. Повернулся назад. Этот, сразу ясно, мертв. Отец, не поднимаясь в рост, прополз по всей цепочке, потормошил-проверил остальных.
Живых нет!
Конечно, жалко погибших верных, надежных товарищей. Но плакать он не стал, на войне солдат к смерти привычен. Что делать дальше, тоже понятно. Он так же ползком, опасаясь снайпера или наблюдателя с биноклем, собрал у мертвых документы. Рядом с командиром задержался. Этот отчаянный офицер был ему примером самого высокого военного профессионализма и беззаветной личной храбрости. Под его началом он служил с самого начала войны, и его смерть была для отца особенно горькой.
Когда отец вернулся в расположение части, навстречу ему из блиндажа командного пункта вышел командир полка. Принимая доклад разведчика, он не скрывал своей досады по поводу потери отличного офицера. К тому же он был пьян, потому сразу же завернул круто:
– Вернулся один из всех? Значит, струсил! Бежал, бросил своих товарищей и командира!
Не успел отец ничего возразить, как командир продолжил.
– Подготовьте приказ, – передал он приказание своему заместителю. – Завтра утром перед строем приказ зачитать и показательно расстрелять этого предателя!
Завершив короткий разговор, комполка повернулся и скрылся в блиндаже. Оторопевший отец опять не успел ничего сказать в свое оправдание.
Посадили отца под арест. Поскольку часть стояла в лесу, гауптвахта была просто в лесу, под деревом.
Для друзей-разведчиков караул – не помеха! И они незаметно от охраны подбросили попавшему в беду товарищу фляжку со спиртом и даже закуску. Выпил отец, да как следует! А что?! Завтра все равно умирать!
Сильно захмелевший, он стал распевать песни.
По случаю в полк приехал командир дивизии:
– Это что за бардак?! Кто тут у вас пьяные песни горланит?! – возмутился полковник.
Ему объяснили. Вот, мол, разведчик вернулся из рейда один из всей разведгруппы, завтра идет под расстрел. А сейчас недоглядели, он напился, как последняя скотина.
– Если поет, значит, не виноват. Разберитесь и отпустите! – отдал приказ большой командир.
Так песня спасла жизнь.
Действительно, наутро, когда все проспались, всё и прояснилось.
Командир полка вызвал разведчика для объяснения.
– Я должен сдать документы погибших товарищей, – доложил отец командиру.
– Как – документы?! – удивился он. – А что же ты вчера молчал?
– А кто меня спрашивал?! – только и оставалось огрызнуться в ответ.
А на моей памяти отец и выпивать любил, и песни иной раз пел. Его любимыми были песни «Тонкая рябина», «Землянка». Еще одна любимая фронтовая песня отца:
Сегодня у нас передышка,
Друг наш, походный баян.
Ничего не скажет отец. Только наклонит голову вниз, чтобы скрыть выступившую слезу и махнет рукой. Сколько таких историй он пережил?
Ранения отца
Отец – один из немногих, кто прошел всю войну. Ранения были, но он остался жив. Однажды я случайно заметил у него шрам на предплечье.
– Это еще в войну зацепило, – на мой вопрос отец только пренебрежительно махнул рукой. – Несильно.
Я удивился. Мама мне рассказывала только о его тяжелом ранении, но об этом, легком, я узнал впервые.
Много позже, когда уже после смерти отца я разбирал его документы, из кратких записей в главном солдатском документе, красноармейской книжке, я узнал, что у него было три ранения.
Первое случилось в июле сорок первого года, меньше, чем через месяц после начала войны. Оно записано как легкое – было задето 1/3 мягких тканей левого предплечья. Получено на С/З фронте – на том самом, прославленном в песне Северо-западном фронте. Видимо, отец остался в строю и лечился в санчасти.
Второе ранение было квалифицировано как тяжелое. Оно произошло в сентябре сорок первого, получено также на С/З фронте. Теперь был закрытый перелом кости того же левого предплечья. На этот раз пришлось лечиться во фронтовом госпитале.
Третье ранение, тяжелое, было особенно сильным. Получено на Западном фронте. Записано так: пулевое ранение правого бедра и правой стороны живота.
Про него следует рассказать поподробнее.
Было это в феврале сорок второго года, в конце зимы. Служил отец в разведке. А это, как известно, особый образ военной жизни. За всю холодную зиму на фронте он ни разу не ночевал в доме. Хорошо, если в стогу или в амбаре, а чаще всего – просто у костра в лесу.
Ранение было очень тяжелым. Самое страшное то, что разрывная пуля попала в живот и повредила внутренние органы. Но благодаря своей удивительной выносливости, отец остался жив. Наверное, и на этот раз не обошлось без везения. Наши войска впервые начали наступать, и стала налаживаться размеренная военная жизнь. Не такая поспешная, как во время постоянных беспорядочных отступлений. Поэтому отца вовремя вывезли с передовой, потом без задержки перевезли в хорошо обустроенный тыловой госпиталь в Москве.
Из госпиталя домой, в Горетовку, пришло письмо-сообщение. Мама собралась и поехала. С собой в такую дальнюю дорогу она взяла только одну – старшую, четырехлетнюю дочь.
Пассажирские поезда ходили редко. И тащились долго, отстаивались на каждой станции, пропускали воинские составы.
Наконец мама приехала на Ленинградский вокзал, дальше надо добираться на трамвае. В военное время передвижение по Москве без специальных пропусков было запрещено. Кондуктор трамвая отвечал за исполнение пропускного режима. Мама насилу упросила его, со слезами трясла письмом-треугольником, показывала на ребенка.
– Держи письмо в руке, – наконец сдался кондуктор и посадил их рядом с собой. – Если пойдет проверка, вместе отвечать будем.
Так мама добралась до госпиталя.
В госпитале медицинский персонал загружен, дежурная сестра показала ей на огромный зал с ранеными.
– Ищи своего в той стороне.
Долго ходила мама среди бескрайних рядов кроватей. Картина ужасная: окровавленные бинты, нестерпимая вонь от гниющих ран, кругом стоны, крики раненых солдат.
Всматривается она в лица, а найти отца не может. Пришлось опять обратиться к медсестре. Она посмотрела в регистрационный журнал и подвела маму к кровати. А отец, похудевший до неузнаваемости, говорит еле слышным шепотом:
– Ты два раза мимо прошла, я кричал, звал тебя.
А говорить громче у него нет сил. Весил он тогда сорок два килограмма.
Отец очень расстроился, что жена привезла только одного ребенка. Он знал, что фронт проходил через Горетовку, и деревня, хоть и ненадолго, но была оккупирована фашистами. Наслышан много был отец о зверствах фашистов и не поверил, что вторая девочка жива.
В другой раз мама приехала в госпиталь уже с младшей, двухлетней дочерью. Так же долго ехала, так же упрашивала кондуктора трамвая. Но успокоила расстроенного отца.
Несмотря на уникальное природное здоровье отца, вряд ли он выжил бы в тот раз. Но ему опять повезло. Его в качестве примера очень тяжелого ранения брюшной полости отобрал в специальную группу раненых для испытания новой мази Вишневского чуть ли не сам главный хирург Красной армии Николай Нилович Бурденко. Отца перевели в специальный госпиталь в Нижнем Новгороде. Там он не скоро, но поправился.
Только в начале лета отец, еще не до конца выздоровевший, приехал домой, в Горетовку на побывку перед отправкой на фронт.
На встречу с фронтовиком пришли сестры мамы.
Тетя Таня вспоминала: «Идем с Катькой навещать Ваньку в Горетовку. Издалека видно его в огороде. Стоит с лопатой, шея тонкая, худая, как у подростка».
А после голодной зимы 1941-1942 гг., когда весной уже ели лебеду с мороженой картошкой пополам, у мамы не было сил копать землю. А надо! Впереди опять долгая зима. А войне конца не видно. Копнет она раз-другой и встанет: в глазах темно, голова кружится. И отец не лучше, еще не оправился от ранения. Очень хочется помочь своим близким. Но и он копнет и тоже стоит.
Только в июле сорок второго, почти через полгода после ранения, отец смог вернуться в строй. Наверное, будь он понастойчивее, после такого тяжелого ранения мог бы и комиссоваться. Но зная его характер, становится ясно, что на это он согласиться не мог.
Наград к этому времени у него не было. Судя по его службе в разведке, самом опасном войсковом подразделении, орденов и медалей у него должно было быть немало. Но в сорок первом было не до наград.
По большому счету ордена стали раздавать только в сорок третьем году. Тогда только были учреждены многие награды. И отец, как и другие, лишь в сорок третьем году за прошлые подвиги был награжден только что выпущенной медалью «За оборону Москвы». Уже после того, как за текущие отличия он был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Новым местом службы отца стала Отдельная автотранспортная рота. Сначала все еще ослабленный разведчик, будучи хорошо образованным, был назначен старшим писарем, так записано в красноармейской книжке. Затем, осенью, по мере окончательного выздоровления опытный фронтовик, прошедший суровый сорок первый год, был назначен командиром автомобильного отделения, ему присвоили звание сержанта.
Через год в представлении к ордену было написано так: «…командир автоотделения отлично поставил работу среди личного состава, материальная часть отделения содержится в постоянной боевой готовности, нет ни одного случая аварий и поломок. За отличную работу автоотделения по снабжению действующих частей ГСМ, боеприпасами и продовольствием, хорошо поставленный уход и сбережение матчасти удостоен правительственной награды…»
Орден «Красной Звезды» отца имеет настоящий боевой вид – у него отколот один рубиновый луч. Сразу видно, что хозяин побывал в немалых передрягах.
Также в боевых походах отца не сохранились удостоверения, выданные на этот орден и на медали «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». Вместо них в документах я нашел справки следующего содержания: «...выданное удостоверение утеряно в период наступательной операции при форсировании реки Одер».
Видно, непросто далось нашей армии преодоление этой преграды, одной из последних на долгом победном пути.
Ну, а теперь, когда военные архивы открыты и размещены в Интернете, можно посмотреть оригиналы наградных документов.
Больше ранений у отца, слава Богу, не было. И смерть тоже его миновала. Может быть, ему просто продолжало везти. А я все-таки думаю, что помогала неуемная страсть к жизни и беззаветная любовь к своим близким, оставленным в Горетовке.
Смерть на войне
Во время войны человек привыкает ко всему. И даже смерть, если она повторяется каждый Божий день, с утра до вечера, воспринимается уже как заурядное событие.
Однажды летним днем в садовой кухне мама на газовой плите варила в большом блюде варенье. А отец помогал ей. Он сидел рядом с плитой и караулил, чтобы вскипающий сироп не убежал. Заодно отгонял надоедливых мух. В руках у него была мухобойка.
Я заметил, что отец задумался.
Он услышал, как я подошел и повернулся.
– На войне человека убить – как муху шлепнуть! – продолжил он свои мысли вслух, медленно покачивая в руке мухобойкой.
Отец смотрел мимо меня и мыслями был где-то далеко. Думаю, что он даже не узнал меня.
Я был потрясен! Прошло несколько десятилетий, а у него в голове все это время, оказывается, непрестанно прокручивались воспоминания о событиях того давно ушедшего времени! И он каждый день молча все это переваривал в себе.
Сколько же пережили участники войны?! Сколько смертей видел мой отец?!
Однажды на войне с отцом произошел такой случай. Зимой сорок первого года отделение разведки ушло на задание. Шли на лыжах, в белых маскировочных халатах. За спиной – автоматы (разведчиков неплохо вооружали). И кормили их усиленным пайком: тушёнка, шоколад. Вел группу командир, отчаянный капитан. Вышли из леса к деревне. В бинокль увидели, что населенный пункт занят немцами: грузовики, мотоциклы, вражеские солдаты. Фашисты вели себя беспечно – громко разговаривали, смеялись.
Капитан, несмотря на малочисленность группы, принял решение воспользоваться внезапностью и атаковать. Разведчики разбились на две группы и по сигналу ракеты неожиданно атаковали деревню с двух сторон. Немцы панически боялись окружения и, услышав автоматные очереди и от леса, и с поля, все побросали и, погрузившись на машины, поспешно отступили.
Разведчики вошли в деревню, проверили захваченные трофеи. В брошенных автомобилях оказались боеприпасы и продукты: галеты, шнапс. Победители уничтожили брошенную технику и вооружение, взяли что-то себе и пошли дальше по запланированному маршруту выполнять задание. Недалеко в лесу встретили наш батальон. Доложили командиру об удачной операции и продолжили свое движение.
А вот дальше все печально. Наша воинская часть заняла деревню. Трофеям обрадовались. Наелись, как говорится, и напились. Через пару часов пьяный батальон потерял управление.
А отступившие немцы опомнились и провели неожиданное контрнаступление. Весь наш батальон истребили практически голыми руками. Спаслось всего несколько человек. Из тех, кто настолько вышел из подчинения, что без разрешения ушел в лес от своих также напившихся командиров. Командир дивизии, узнав о трагедии, в сердцах приказал отбить потерянное завоевание. Деревню взяли, но при контрнаступлении положили еще не меньше, чем батальон…
Еще одно трагическое воспоминание отца. Зима сорок первого, морозы под сорок градусов. На фронт присылают пополнение. Необученных солдат из эшелона марш-броском в двадцать-тридцать километров посылают сразу на передовую.
Идут весь день. Только к вечеру прибывают на место дислокации. Почти у всех сбиты, стерты ноги. Натерты и другие места от жесткого нового обмундирования. К рассвету новобранцам предстоит занять позицию на передовой линии. А пока дана команда разводить костры, готовить ужин и отдыхать до утра.
Смертельно уставшие от такой непривычной физической нагрузки, молодые, плохо обученные солдаты засыпают у костра мертвым сном. Наутро тридцать процентов пополнения отправляют в медсанбат. У одних – обморожения конечностей, у других – ожоги, полученные от костра. Были и такие: раскинул руки во сне – одна рука обморожена, другая обожжена.
Но потери не остановили командование. Задача прикрыть ослабленное направление была гораздо важнее.
Еще печальная история.
Лето сорок второго года. Наши войска попали в окружение. Лето, жара в степи. Продовольственное снабжение нарушено. Есть нечего. И воды тоже нет.
Через двое суток вконец оголодавшим и ослабевшим окруженцам сбрасывают с самолета хлеб, американские буханки. Голодные солдаты жадно набрасываются на еду. Остановить их некому, и некоторые моментально всухую съедают по две буханки. Через пару часов – мученическая смерть от несварения.
Сколько было в войну таких бессмысленных, ничем не оправданных смертей? Кого винить?
Все это и многое другое, видимо, и вспоминал отец с мухобойкой в руках…
«Коктейль Молотова»
В начале войны наши войска вооружили новым средством борьбы с танками – бутылками с зажигательной смесью. Эта смесь у солдат сразу же получила меткое название: «коктейль Молотова». Горела она настолько сильно, что потушить ее было просто невозможно. Однажды, оснащенные этими бутылками, отец с сослуживцем были в разведке. Ехали на лошадях. Неожиданно попали под обстрел.
У товарища отца шальной пулей разбило подвязанную к поясу бутылку со смесью, и резко загоревшаяся жидкость вылилась на ногу. Пока соскочили с лошадей, пока лихорадочно вдвоем срывали горящую одежду, у солдата наполовину выгорело мясо на ноге. Хорошо еще, что удалось быстро вывезти пострадавшего из-под огня к своим. Но получился тяжелейший ожог, инвалидность на всю жизнь.
Отцу повезло и на этот раз.
Судьба
Судьба солдата переменчива. Даже во время затишья каждый день и каждый час жди неожиданного поворота.
Вот история, рассказанная товарищем отца, дядей Яшей. Был он старшиной, заведовал продовольственным снабжением отдельной автотранспортной роты.
Однажды старшина выдал поварам продукты и, улучив минуту, пришел к отцу, своему товарищу, скоротать время за привычными наркомовскими ста граммами... Только выпили, не успели толком закусить, как его зовут: налетели особисты с неожиданной проверкой.
– Где старшина Г-в? Сюда его!
Дядя Яша быстро, натренированным приемом – голову в воду – освежился, подтянулся. Предстал перед капитаном-особистом огурчиком. Капитан особого отдела – величина немаленькая! Во-первых, он приравнивается к строевому офицеру на два звания выше, к подполковнику. А во-вторых, права по должности у него такие, что даже генерал, командир дивизии предпочитал не конфликтовать с ним. Капитан – на взводе, рвет и мечет:
– Показывай мясные туши! Неклейменые есть?
Расстелили плащ-палатку, стали выгружать мясо из будки грузовика. Проверили: все туши были с чернильным клеймом, свидетельствующим о том, что мясо поставлено в воинскую часть службами армейского снабжения. Все туши целые, и только одна – половинная, за час перед этим дядя Яша выдал другую половину в котел. Но, к счастью, оставшаяся половина также оказалась с клеймом. Хамоватый особист признался:
– Повезло тебе, старшина. Сейчас, если бы у тебя осталась неклейменая половина туши, шлепнули бы на месте!
Дело было в том, что какие-то солдаты в близлежащей деревне на прокорм самовольно забили корову. Жители пожаловались командиру дивизии. Тот вспылил:
– У меня в дивизии что?.. Завелись мародеры?! Найти и расстрелять мерзавцев!
И генерал воспользовался таким удачным поводом, чтобы загрузить работой особистов, вечно без боевого дела, но с важным видом отирающихся в расположении командного пункта дивизии. А этим жизнь человека – ничто! Лишь бы побыстрее отчитаться о выявленном преступлении.
– Ну, бывай, старшина! – капитан хлопнул дверью виллиса и уехал искать крайнего-виноватого дальше.
А дядя Яша опять пошел к отцу. Снова накатили, у старшины-хозяйственника всегда запас спирта есть. Выпили крепко, благо повод появился достойный: повезло, смерть и на сей раз прошла мимо. Судьба!..
Война – это целая эпоха в жизни нашей страны. Мы ее не видели, и нам, я думаю, просто невозможно даже представить всю бездну горя, выпавшего на плечи нашего народа, всю глубину тягот и страданий людей на фронте и в тылу.
Смерть близких людей. Разрушение. Голод, холод, несчастья, лишения, пожарища, грязь, вши, кровь, раны, болезни и смерть… И так – каждый день в течение почти пяти лет. Обо всем этом мы можем только догадываться, судить по книгам и фильмам или по воспоминаниям людей.
Но книгам и фильмам доверять можно не всегда. Они несут в себе влияние времени их создания и потому не всегда объективны. А некоторые авторы последних лет и вовсе договорились до откровенной лжи. Да и не могут книги и фильмы рассказать все то, что не всегда можно выразить словами. Рассказы людей, живших в то время? Но непосредственных свидетелей той многолетней каждодневной трагедии становится все меньше, а слова их скупы. Я давно заметил, что настоящие участники войны немногословны.
В результате уже сегодня дети совершенно не знают правды о войне. Это неудивительно. С некоторых пор по телевизору и в газетах стали рассказывать новую «правду» о том, что наши родители воевали из-под палки. И с нетерпением ждали прихода немецкой армии, чтобы сдаться. И этому благому делу, мол, помешали ненавистные коммунисты во главе со Сталиным. А то бы мы сейчас немецкое пивко попивали!
Ладно молодежь поддается на откровенно вражеское телевизионное зомбирование. Но недавно я услышал и от взрослого человека повторение подобной мерзости…
Что тут скажешь?! Спорить? Возражать? Нет, это бесполезно. Надо пытаться противостоять этой изощренной лжи каким-то другим способом.
Тут может помочь только правда. Горькая, страшная. Но и светлая, поскольку носителями ее являются беззаветные герои, совершавшие свой подвиг ежедневно и еженощно.
Спасительная правда в России в конце концов всегда побеждает. Сам я родился через десять лет после войны. Но мои родители в полной мере пережили войну. Они, повторюсь, не любили рассказывать об этом. Лишь иногда они вспоминали тяжелые страницы жизни.
И я, к счастью, запомнил их правдивые рассказы и пересказываю их своим детям. И наказываю передать эти простые истории своим детям и внукам. Может быть, эти бесценные крупицы правды сослужат хотя бы какую-то службу нашим потомкам.
Война к нам пришла неожиданно. И наш народ встретил ее так: почти все мужчины ушли на фронт, а женщины остались работать в тылу вдвойне – за них и за себя.
Все точно так же было и в жизни моих родителей.
Мой отец ушел на войну. А мама осталась с двумя малолетними детьми.
ОТЕЦ НА ВОЙНЕ
Правда о войне
Моего отца призвали на фронт уже двадцать третьего июня сорок первого года, на следующий день после нападения фашистской Германии на нашу страну. И он прошел всю войну, от начала до конца.
Но как и другие ветераны, отец очень мало рассказывал о своей военной године. Видимо, в военных воспоминаниях много тяжелого, трагического. Такого, что и вспоминать не хочется.
Одно время по телевизору транслировался многосерийный документальный фильм-эпопею Романа Кармена «Великая Отечественная». Наверное, впервые в одном произведении была сведена история всех пяти военных лет. Непредвзятая, без надрыва и без ложного ура-патриотизма. От солдата в окопе до Верховного главнокомандующего в Кремле. Никаких сенсаций, скандальных разоблачений и прочей мишуры, которой в избытке заполнены экраны сейчас. Суровые будни войны, рассказанные честным, простым языком.
Отец смотрел этот фильм и плакал:
– Это все правда!
Сейчас этот фильм почему-то не показывают…
Песня выручила
Однажды группа разведчиков во главе с командиром взвода проводила рейд на территории, занятой противником. Выстроившись в цепочку, шли на лыжах в белых маскировочных халатах по зимнему заснеженному полю вдоль дороги. Первый солдат выполнял самую тяжелую работу: торил лыжню по целиковому снегу. Он периодически менялся.
В составе разведгруппы был и мой отец.
Всегда осторожные разведчики на сей раз проявили недопустимую беззаботность, не разглядели притаившихся врагов. На, казалось, пустынной дороге за деревом их поджидала засада – двое немцев на мотоцикле с пулеметом.
Смертельную угрозу заметили лишь в последнюю минуту, когда было уже поздно. За секунду до того, как разведчики стали падать в снег по истошной команде командира «Ложись!», фашисты длинной очередью с близкого расстояния буквально скосили всех семерых советских солдат.
Упал и отец. В такой момент травматического шока, он знал по прошлым ранениям, боль приходит не сразу. И хотя он ее еще не почувствовал, но умом понял, что уже наступает смерть.
Немцы были совсем рядом. Хорошо было слышно, как они громко засмеялись и довольно загалдели. Проверять результаты своей стрельбы они не стали, не захотели лезть по глубокому снегу. Да что проверять? Итог очевиден: в живых не остался никто. Поэтому они просто развернулись на дороге и уехали восвояси. Наверное, не терпелось доложить командованию об успешно проведенной операции по уничтожению целой разведывательной группы русских.
А отцу вспомнилась мирная довоенная жизнь. Близкие, жена и дети. Как они будут без него? Кому хочется умирать? Но ничего не поделаешь, на войне солдат всегда готов к смерти.
Потом он подумал, что его умирание слишком затягивается. Это плохо. Лучше уж сразу умереть, чем замерзать раненому и обессиленному. Кстати, удивился отец, времени после шока прошло достаточно много, и должна бы уже наступить боль от полученных ран.
Он стал потихоньку проверять свое тело, искать места ранений и с удивлением обнаружил, что у него ничего не болит. Даже пошевелил ногами и руками – нет, ничего не болит. Неужели он жив и здоров?! А ведь так! Ему опять повезло, смерть прошла мимо.
А как же его товарищи? Он подергал за ногу впереди лежащего бойца. Не отвечает. Повернулся назад. Этот, сразу ясно, мертв. Отец, не поднимаясь в рост, прополз по всей цепочке, потормошил-проверил остальных.
Живых нет!
Конечно, жалко погибших верных, надежных товарищей. Но плакать он не стал, на войне солдат к смерти привычен. Что делать дальше, тоже понятно. Он так же ползком, опасаясь снайпера или наблюдателя с биноклем, собрал у мертвых документы. Рядом с командиром задержался. Этот отчаянный офицер был ему примером самого высокого военного профессионализма и беззаветной личной храбрости. Под его началом он служил с самого начала войны, и его смерть была для отца особенно горькой.
Когда отец вернулся в расположение части, навстречу ему из блиндажа командного пункта вышел командир полка. Принимая доклад разведчика, он не скрывал своей досады по поводу потери отличного офицера. К тому же он был пьян, потому сразу же завернул круто:
– Вернулся один из всех? Значит, струсил! Бежал, бросил своих товарищей и командира!
Не успел отец ничего возразить, как командир продолжил.
– Подготовьте приказ, – передал он приказание своему заместителю. – Завтра утром перед строем приказ зачитать и показательно расстрелять этого предателя!
Завершив короткий разговор, комполка повернулся и скрылся в блиндаже. Оторопевший отец опять не успел ничего сказать в свое оправдание.
Посадили отца под арест. Поскольку часть стояла в лесу, гауптвахта была просто в лесу, под деревом.
Для друзей-разведчиков караул – не помеха! И они незаметно от охраны подбросили попавшему в беду товарищу фляжку со спиртом и даже закуску. Выпил отец, да как следует! А что?! Завтра все равно умирать!
Сильно захмелевший, он стал распевать песни.
По случаю в полк приехал командир дивизии:
– Это что за бардак?! Кто тут у вас пьяные песни горланит?! – возмутился полковник.
Ему объяснили. Вот, мол, разведчик вернулся из рейда один из всей разведгруппы, завтра идет под расстрел. А сейчас недоглядели, он напился, как последняя скотина.
– Если поет, значит, не виноват. Разберитесь и отпустите! – отдал приказ большой командир.
Так песня спасла жизнь.
Действительно, наутро, когда все проспались, всё и прояснилось.
Командир полка вызвал разведчика для объяснения.
– Я должен сдать документы погибших товарищей, – доложил отец командиру.
– Как – документы?! – удивился он. – А что же ты вчера молчал?
– А кто меня спрашивал?! – только и оставалось огрызнуться в ответ.
А на моей памяти отец и выпивать любил, и песни иной раз пел. Его любимыми были песни «Тонкая рябина», «Землянка». Еще одна любимая фронтовая песня отца:
Сегодня у нас передышка,
Друг наш, походный баян.
Ничего не скажет отец. Только наклонит голову вниз, чтобы скрыть выступившую слезу и махнет рукой. Сколько таких историй он пережил?
Ранения отца
Отец – один из немногих, кто прошел всю войну. Ранения были, но он остался жив. Однажды я случайно заметил у него шрам на предплечье.
– Это еще в войну зацепило, – на мой вопрос отец только пренебрежительно махнул рукой. – Несильно.
Я удивился. Мама мне рассказывала только о его тяжелом ранении, но об этом, легком, я узнал впервые.
Много позже, когда уже после смерти отца я разбирал его документы, из кратких записей в главном солдатском документе, красноармейской книжке, я узнал, что у него было три ранения.
Первое случилось в июле сорок первого года, меньше, чем через месяц после начала войны. Оно записано как легкое – было задето 1/3 мягких тканей левого предплечья. Получено на С/З фронте – на том самом, прославленном в песне Северо-западном фронте. Видимо, отец остался в строю и лечился в санчасти.
Второе ранение было квалифицировано как тяжелое. Оно произошло в сентябре сорок первого, получено также на С/З фронте. Теперь был закрытый перелом кости того же левого предплечья. На этот раз пришлось лечиться во фронтовом госпитале.
Третье ранение, тяжелое, было особенно сильным. Получено на Западном фронте. Записано так: пулевое ранение правого бедра и правой стороны живота.
Про него следует рассказать поподробнее.
Было это в феврале сорок второго года, в конце зимы. Служил отец в разведке. А это, как известно, особый образ военной жизни. За всю холодную зиму на фронте он ни разу не ночевал в доме. Хорошо, если в стогу или в амбаре, а чаще всего – просто у костра в лесу.
Ранение было очень тяжелым. Самое страшное то, что разрывная пуля попала в живот и повредила внутренние органы. Но благодаря своей удивительной выносливости, отец остался жив. Наверное, и на этот раз не обошлось без везения. Наши войска впервые начали наступать, и стала налаживаться размеренная военная жизнь. Не такая поспешная, как во время постоянных беспорядочных отступлений. Поэтому отца вовремя вывезли с передовой, потом без задержки перевезли в хорошо обустроенный тыловой госпиталь в Москве.
Из госпиталя домой, в Горетовку, пришло письмо-сообщение. Мама собралась и поехала. С собой в такую дальнюю дорогу она взяла только одну – старшую, четырехлетнюю дочь.
Пассажирские поезда ходили редко. И тащились долго, отстаивались на каждой станции, пропускали воинские составы.
Наконец мама приехала на Ленинградский вокзал, дальше надо добираться на трамвае. В военное время передвижение по Москве без специальных пропусков было запрещено. Кондуктор трамвая отвечал за исполнение пропускного режима. Мама насилу упросила его, со слезами трясла письмом-треугольником, показывала на ребенка.
– Держи письмо в руке, – наконец сдался кондуктор и посадил их рядом с собой. – Если пойдет проверка, вместе отвечать будем.
Так мама добралась до госпиталя.
В госпитале медицинский персонал загружен, дежурная сестра показала ей на огромный зал с ранеными.
– Ищи своего в той стороне.
Долго ходила мама среди бескрайних рядов кроватей. Картина ужасная: окровавленные бинты, нестерпимая вонь от гниющих ран, кругом стоны, крики раненых солдат.
Всматривается она в лица, а найти отца не может. Пришлось опять обратиться к медсестре. Она посмотрела в регистрационный журнал и подвела маму к кровати. А отец, похудевший до неузнаваемости, говорит еле слышным шепотом:
– Ты два раза мимо прошла, я кричал, звал тебя.
А говорить громче у него нет сил. Весил он тогда сорок два килограмма.
Отец очень расстроился, что жена привезла только одного ребенка. Он знал, что фронт проходил через Горетовку, и деревня, хоть и ненадолго, но была оккупирована фашистами. Наслышан много был отец о зверствах фашистов и не поверил, что вторая девочка жива.
В другой раз мама приехала в госпиталь уже с младшей, двухлетней дочерью. Так же долго ехала, так же упрашивала кондуктора трамвая. Но успокоила расстроенного отца.
Несмотря на уникальное природное здоровье отца, вряд ли он выжил бы в тот раз. Но ему опять повезло. Его в качестве примера очень тяжелого ранения брюшной полости отобрал в специальную группу раненых для испытания новой мази Вишневского чуть ли не сам главный хирург Красной армии Николай Нилович Бурденко. Отца перевели в специальный госпиталь в Нижнем Новгороде. Там он не скоро, но поправился.
Только в начале лета отец, еще не до конца выздоровевший, приехал домой, в Горетовку на побывку перед отправкой на фронт.
На встречу с фронтовиком пришли сестры мамы.
Тетя Таня вспоминала: «Идем с Катькой навещать Ваньку в Горетовку. Издалека видно его в огороде. Стоит с лопатой, шея тонкая, худая, как у подростка».
А после голодной зимы 1941-1942 гг., когда весной уже ели лебеду с мороженой картошкой пополам, у мамы не было сил копать землю. А надо! Впереди опять долгая зима. А войне конца не видно. Копнет она раз-другой и встанет: в глазах темно, голова кружится. И отец не лучше, еще не оправился от ранения. Очень хочется помочь своим близким. Но и он копнет и тоже стоит.
Только в июле сорок второго, почти через полгода после ранения, отец смог вернуться в строй. Наверное, будь он понастойчивее, после такого тяжелого ранения мог бы и комиссоваться. Но зная его характер, становится ясно, что на это он согласиться не мог.
Наград к этому времени у него не было. Судя по его службе в разведке, самом опасном войсковом подразделении, орденов и медалей у него должно было быть немало. Но в сорок первом было не до наград.
По большому счету ордена стали раздавать только в сорок третьем году. Тогда только были учреждены многие награды. И отец, как и другие, лишь в сорок третьем году за прошлые подвиги был награжден только что выпущенной медалью «За оборону Москвы». Уже после того, как за текущие отличия он был награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Новым местом службы отца стала Отдельная автотранспортная рота. Сначала все еще ослабленный разведчик, будучи хорошо образованным, был назначен старшим писарем, так записано в красноармейской книжке. Затем, осенью, по мере окончательного выздоровления опытный фронтовик, прошедший суровый сорок первый год, был назначен командиром автомобильного отделения, ему присвоили звание сержанта.
Через год в представлении к ордену было написано так: «…командир автоотделения отлично поставил работу среди личного состава, материальная часть отделения содержится в постоянной боевой готовности, нет ни одного случая аварий и поломок. За отличную работу автоотделения по снабжению действующих частей ГСМ, боеприпасами и продовольствием, хорошо поставленный уход и сбережение матчасти удостоен правительственной награды…»
Орден «Красной Звезды» отца имеет настоящий боевой вид – у него отколот один рубиновый луч. Сразу видно, что хозяин побывал в немалых передрягах.
Также в боевых походах отца не сохранились удостоверения, выданные на этот орден и на медали «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». Вместо них в документах я нашел справки следующего содержания: «...выданное удостоверение утеряно в период наступательной операции при форсировании реки Одер».
Видно, непросто далось нашей армии преодоление этой преграды, одной из последних на долгом победном пути.
Ну, а теперь, когда военные архивы открыты и размещены в Интернете, можно посмотреть оригиналы наградных документов.
Больше ранений у отца, слава Богу, не было. И смерть тоже его миновала. Может быть, ему просто продолжало везти. А я все-таки думаю, что помогала неуемная страсть к жизни и беззаветная любовь к своим близким, оставленным в Горетовке.
Смерть на войне
Во время войны человек привыкает ко всему. И даже смерть, если она повторяется каждый Божий день, с утра до вечера, воспринимается уже как заурядное событие.
Однажды летним днем в садовой кухне мама на газовой плите варила в большом блюде варенье. А отец помогал ей. Он сидел рядом с плитой и караулил, чтобы вскипающий сироп не убежал. Заодно отгонял надоедливых мух. В руках у него была мухобойка.
Я заметил, что отец задумался.
Он услышал, как я подошел и повернулся.
– На войне человека убить – как муху шлепнуть! – продолжил он свои мысли вслух, медленно покачивая в руке мухобойкой.
Отец смотрел мимо меня и мыслями был где-то далеко. Думаю, что он даже не узнал меня.
Я был потрясен! Прошло несколько десятилетий, а у него в голове все это время, оказывается, непрестанно прокручивались воспоминания о событиях того давно ушедшего времени! И он каждый день молча все это переваривал в себе.
Сколько же пережили участники войны?! Сколько смертей видел мой отец?!
Однажды на войне с отцом произошел такой случай. Зимой сорок первого года отделение разведки ушло на задание. Шли на лыжах, в белых маскировочных халатах. За спиной – автоматы (разведчиков неплохо вооружали). И кормили их усиленным пайком: тушёнка, шоколад. Вел группу командир, отчаянный капитан. Вышли из леса к деревне. В бинокль увидели, что населенный пункт занят немцами: грузовики, мотоциклы, вражеские солдаты. Фашисты вели себя беспечно – громко разговаривали, смеялись.
Капитан, несмотря на малочисленность группы, принял решение воспользоваться внезапностью и атаковать. Разведчики разбились на две группы и по сигналу ракеты неожиданно атаковали деревню с двух сторон. Немцы панически боялись окружения и, услышав автоматные очереди и от леса, и с поля, все побросали и, погрузившись на машины, поспешно отступили.
Разведчики вошли в деревню, проверили захваченные трофеи. В брошенных автомобилях оказались боеприпасы и продукты: галеты, шнапс. Победители уничтожили брошенную технику и вооружение, взяли что-то себе и пошли дальше по запланированному маршруту выполнять задание. Недалеко в лесу встретили наш батальон. Доложили командиру об удачной операции и продолжили свое движение.
А вот дальше все печально. Наша воинская часть заняла деревню. Трофеям обрадовались. Наелись, как говорится, и напились. Через пару часов пьяный батальон потерял управление.
А отступившие немцы опомнились и провели неожиданное контрнаступление. Весь наш батальон истребили практически голыми руками. Спаслось всего несколько человек. Из тех, кто настолько вышел из подчинения, что без разрешения ушел в лес от своих также напившихся командиров. Командир дивизии, узнав о трагедии, в сердцах приказал отбить потерянное завоевание. Деревню взяли, но при контрнаступлении положили еще не меньше, чем батальон…
Еще одно трагическое воспоминание отца. Зима сорок первого, морозы под сорок градусов. На фронт присылают пополнение. Необученных солдат из эшелона марш-броском в двадцать-тридцать километров посылают сразу на передовую.
Идут весь день. Только к вечеру прибывают на место дислокации. Почти у всех сбиты, стерты ноги. Натерты и другие места от жесткого нового обмундирования. К рассвету новобранцам предстоит занять позицию на передовой линии. А пока дана команда разводить костры, готовить ужин и отдыхать до утра.
Смертельно уставшие от такой непривычной физической нагрузки, молодые, плохо обученные солдаты засыпают у костра мертвым сном. Наутро тридцать процентов пополнения отправляют в медсанбат. У одних – обморожения конечностей, у других – ожоги, полученные от костра. Были и такие: раскинул руки во сне – одна рука обморожена, другая обожжена.
Но потери не остановили командование. Задача прикрыть ослабленное направление была гораздо важнее.
Еще печальная история.
Лето сорок второго года. Наши войска попали в окружение. Лето, жара в степи. Продовольственное снабжение нарушено. Есть нечего. И воды тоже нет.
Через двое суток вконец оголодавшим и ослабевшим окруженцам сбрасывают с самолета хлеб, американские буханки. Голодные солдаты жадно набрасываются на еду. Остановить их некому, и некоторые моментально всухую съедают по две буханки. Через пару часов – мученическая смерть от несварения.
Сколько было в войну таких бессмысленных, ничем не оправданных смертей? Кого винить?
Все это и многое другое, видимо, и вспоминал отец с мухобойкой в руках…
«Коктейль Молотова»
В начале войны наши войска вооружили новым средством борьбы с танками – бутылками с зажигательной смесью. Эта смесь у солдат сразу же получила меткое название: «коктейль Молотова». Горела она настолько сильно, что потушить ее было просто невозможно. Однажды, оснащенные этими бутылками, отец с сослуживцем были в разведке. Ехали на лошадях. Неожиданно попали под обстрел.
У товарища отца шальной пулей разбило подвязанную к поясу бутылку со смесью, и резко загоревшаяся жидкость вылилась на ногу. Пока соскочили с лошадей, пока лихорадочно вдвоем срывали горящую одежду, у солдата наполовину выгорело мясо на ноге. Хорошо еще, что удалось быстро вывезти пострадавшего из-под огня к своим. Но получился тяжелейший ожог, инвалидность на всю жизнь.
Отцу повезло и на этот раз.
Судьба
Судьба солдата переменчива. Даже во время затишья каждый день и каждый час жди неожиданного поворота.
Вот история, рассказанная товарищем отца, дядей Яшей. Был он старшиной, заведовал продовольственным снабжением отдельной автотранспортной роты.
Однажды старшина выдал поварам продукты и, улучив минуту, пришел к отцу, своему товарищу, скоротать время за привычными наркомовскими ста граммами... Только выпили, не успели толком закусить, как его зовут: налетели особисты с неожиданной проверкой.
– Где старшина Г-в? Сюда его!
Дядя Яша быстро, натренированным приемом – голову в воду – освежился, подтянулся. Предстал перед капитаном-особистом огурчиком. Капитан особого отдела – величина немаленькая! Во-первых, он приравнивается к строевому офицеру на два звания выше, к подполковнику. А во-вторых, права по должности у него такие, что даже генерал, командир дивизии предпочитал не конфликтовать с ним. Капитан – на взводе, рвет и мечет:
– Показывай мясные туши! Неклейменые есть?
Расстелили плащ-палатку, стали выгружать мясо из будки грузовика. Проверили: все туши были с чернильным клеймом, свидетельствующим о том, что мясо поставлено в воинскую часть службами армейского снабжения. Все туши целые, и только одна – половинная, за час перед этим дядя Яша выдал другую половину в котел. Но, к счастью, оставшаяся половина также оказалась с клеймом. Хамоватый особист признался:
– Повезло тебе, старшина. Сейчас, если бы у тебя осталась неклейменая половина туши, шлепнули бы на месте!
Дело было в том, что какие-то солдаты в близлежащей деревне на прокорм самовольно забили корову. Жители пожаловались командиру дивизии. Тот вспылил:
– У меня в дивизии что?.. Завелись мародеры?! Найти и расстрелять мерзавцев!
И генерал воспользовался таким удачным поводом, чтобы загрузить работой особистов, вечно без боевого дела, но с важным видом отирающихся в расположении командного пункта дивизии. А этим жизнь человека – ничто! Лишь бы побыстрее отчитаться о выявленном преступлении.
– Ну, бывай, старшина! – капитан хлопнул дверью виллиса и уехал искать крайнего-виноватого дальше.
А дядя Яша опять пошел к отцу. Снова накатили, у старшины-хозяйственника всегда запас спирта есть. Выпили крепко, благо повод появился достойный: повезло, смерть и на сей раз прошла мимо. Судьба!..
Настоящий коммунист
Сейчас коммунистическая партия развалилась. И, может быть, поделом. Потому что в последние годы застоя, несмотря на лозунги и повсеместно развешанные плакаты «Слава КПСС», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Партия – наш рулевой» и прочие подобные, в народе сформировалось стойкое неуважительное отношение к коммунистам.
Почему так случилось? Это отдельный разговор. Сейчас ему не место и не время.
Но нам следует хорошо помнить, что так было не всегда. Было время, когда коммунистическая партия имела заслуженный авторитет.
Отец рассказывал один случай, который произошел с ним на войне.
Во время отступления попали наши войска в окружение на острове в болотистом лесу. Собрались группами из разных частей, единого командования не было. Совсем было наступила погибель. Уже немцы кричали со всех сторон: «Рус капут! Сдавайся!»
Прошел день, наступила ночь. Собрались окруженцы на совет. Что делать? И тут вперед выступил один молодой политрук и сказал простые слова:
– Сдаваться в плен? Там нас в конце концов все равно ждет смерть. А если погибать, так хоть не бесславно! Давайте пойдем на прорыв!
Говорил он так заразительно, искренне, что все поддержали его. И несмотря на невысокое звание политрука, признали его своим командиром.
За ночь он спланировал наступление, организовал хоть какую-то разведку, определил направления прорыва, расставил командиров по позициям.
На рассвете перед атакой он вышел в первый ряд и объя-вил:
– Коммунисты – вперед!
И все немногие члены партии встали рядом с ним плечом к плечу в первую атакующую шеренгу.
И так этот пример героизма подействовал на остальных, что все бойцы загорелись решимостью идти до конца! По сигналу бесстрашно бросились наши солдаты в атаку на опешивших фашистов.
Внезапность решила все в безнадежной, казалось, ситуации. Отчаянная атака оказалась успешной, наши бойцы прорвали кольцо окружения.
Что и говорить, многие погибли. Но многие и прорвались. И сами спаслись, и, самое главное, сохранили веру в себя! Благодаря не формальной, а настоящей, передовой роли коммунистической партии.
Так что лозунг «Коммунисты, вперед!» – не пустая пропаганда, не агитка. А самая настоящая правда войны.
В войну стать членом ВКП(б) означало не получить какие-то привилегии, а, наоборот, заявить себя в бою в первый ряд атакующих. Коммунист действительно был образцом бесстрашия и беззаветного героизма во имя Родины, во имя своих близких. И беспартийный боец перед решающим сражением говорил: «Если погибну, считайте меня коммунистом!»
Это тоже правда. Каждый солдат хотел, чтобы о нем сохранилась память, как о достойном сыне, отце, брате.
И погибло на войне три миллиона коммунистов! То есть чуть ли не каждый второй из тех, что погибли непосредственно в боях. Это были наши самые лучшие люди!
Позже, в сорок третьем, и мой отец вступил в партию.
Я хорошо знаю, что передовую роль партии он воспринимал не на словах, а на деле. В жизни он первым брался за многие ответственные дела. После войны был и председателем колхоза, и председателем сельсовета. Позже много лет был простым рабочим.
И всегда был честным тружеником.
Наверное, эту честность он каким-то негласным способом передал мне. Потому что уже в конце шестидесятых годов в возрасте четырнадцати лет я отказался вступать в комсомол. Я уже неосознанно угадывал всю фальшь нового послевоенного поколения притворных коммунистов. Нехотя я уступил старшим коммунистам школы, согласился с их уговорами. Все так и случилось, как я предчувствовал. При первой же серьезной трудности многие миллионы «коммунистов» побросали свои партбилеты. Хорошо, что при жизни отец не увидел сегодняшнего позора партии.
«За взятие Кенигсберга»
Война подходила к концу. Мы воевали уже на территории Германии. Отец рассказывал, что город Кенигсберг немцы защищали особенно ожесточенно. Они называли его городом-крепостью.
Но и наши войска при штурме этого города вели себя по-особенному. Так, если из какого-нибудь дома начиналась стрельба, тут же подкатывали несколько орудий. Слава Богу, на календаре был не сорок первый год, пушек и снарядов хватало с избытком! Ставили стволы в ряд и били прямой наводкой залпом по нижнему этажу, обрушивали весь дом.
Бойцы знали, что перед взятием крупных европейских городов всегда отдавался приказ о специальных мерах по сохранению архитектурных памятников, по сбережению гражданского населения, о строгих правилах поведения войск в побежденном городе. При взятии Кенигсберга такой приказ был отдан с запозданием на два-три дня.
В солдатской среде поговаривали, что кто-то из высоких военачальников осознанно задержал подписание этого документа.
Благодаря этому в наступательной операции был получен уникальный результат по соотношению потерь. Обороняющихся немецких солдат погибло в десять раз больше, чем наступающих наших красноармейцев! Такого, наверное, больше ни в одном сражении не было!
Спасибо тому командиру, что сохранил многие тысячи жизней наших солдат. Как не хотелось погибать, когда до окончания многолетней войны оставалось воевать всего один месяц!..
Практически весь город Кенигсберг оказался разрушен до основания. Я там был в восьмидесятых годах и все видел собственными глазами. Довоенных зданий в сегодняшнем Калининграде почти не осталось. Всего одно-два и то небольших, одноэтажных.
А все участники операции взятия Кенигсберга, сотни тысяч солдат, были награждены медалью «За взятие Кенигсберга». В том числе и мой отец.
В Германии
Войну отец заканчивал в Германии. Он вспоминал о том, что вызывало наибольшее удивление у наших солдат.
Сильное впечатление производили высококачественные дороги. Запросто можно было положить бутылки со шнапсом на расстеленную плащ-палатку в кузове грузовика, и к концу дороги они оставались в целости и сохранности, не разбивались. И это после российских дорог с бесчисленными ямами и колдобинами!
Я бывал в сегодняшней Калининградской области, бывшей германской Восточной Пруссии, и заметил также и то, что сохранившиеся старые немецкие дороги, построенные еще в тридцатые годы, были полностью ориентированы на военные нужды.
Во-первых, они неширокие, с часто посаженными деревьями по обочинам, чтобы сходящиеся кроны прикрывали сверху движущийся транспорт от обнаружения с самолетов. И, во-вторых, все дороги петляют влево-вправо. Любой прямой участок на этих дорогах составляет не больше полукилометра. Это сделано для того, чтобы передвигающуюся военную колонну было несподручно атаковать с воздуха.
Особенно это было заметно во время нашей поездки по Куршской косе. Это уникальный песчаный полуостров шириной всего три-четыре километра, но длиной почти в сто. Он ведет из российской Калининградской области через Балтийское море к паромной переправе на литовский берег, к городу Клайпеда.
Наш автобус «Икарус», переваливаясь с боку на бок, шесть часов словно шарахался от одного берега к другому по петляющей поворотами дороге. Он не мог набрать скорость больше двадцати километров в час, и весь путь занял шесть часов вместо одного. К концу пути голова кружилась даже у самых стойких пассажиров.
Кстати, точно таким же образом построено и наше подмосковное Пятницкое шоссе. Оно тоже петляет, нет ни одного продолжительного прямого участка. Это шоссе когда-то имело исключительно военное предназначение и в советское время даже не обозначалось на картах. После войны эта местность была насыщена воинскими частями. Я помню, как мимо нашего дома в Горетовке часто проезжали танкетки. Так мы называли гусеничные бронетранспортеры.
Еще в Германии русских сильно поражала немецкая педантичность. После победы отец был назначен начфином батальона. И ему приходилось много заниматься восстановлением разрушенного хозяйства Германии. Зачастую приходилось работать рука об руку с мирным немецким населением.
И вот – вечер, конец рабочего дня, прибывает запаздывающий грузовик. По-нашему как? «Ну, мужики! Разгрузим быстренько эту машину и – по домам!» Но с немцами этот призыв не проходит, они бросают работу строго «по звонку», прямо на середине незавершенного дела.
Наоборот, немцев поражала наша удаль. Заходят солдаты в немецкий дом, требуют:
– Фрау, glassы! Шнель!
На попытку подать к столу маленькие рюмки наши смеются и показывают на большие стаканы в старинном серванте. Они бросают в избытке продовольственные пайки на стол:
– Фрау, snack! Закуска!
– Сколько будет personen? – спрашивает расчетливая старушка.
– Нас четверо, да еще подойдет человека два-четыре, – показывают на пальцах солдаты.
Но педантичная фрау настаивает. Ей надо точно знать число приготовляемых порций обеда.
Солдаты пожимают плечами, удивляются. Сколько ни придет, накормить-то надо всех! Пока неисправимая фрау на кухонных весах отмеряет еду по порциям, они садятся за стол и пьют водку этими самыми глассами, не дожидаясь закуски. У старенькой фрау глаза на лоб лезут от созерцания таких подвигов. Она испуганно трясется:
– Рус капут!
Вот уж воистину, как в той поговорке: «Что русскому здоровье, то немцу – смерть!»
Фрау приносит толстую медицинскую книгу, открывает ее на странице, где нарисовано сердце. Показывает, что-то возбужденно говорит. Наши мужики только смеются.
Особо хочу отметить, что, по рассказам отца, наши солдаты не обижали мирное население побежденной Германии. Поэтому фрау не боялась.
Известно, что в Нюрнберге для приведения в действие смертного приговора одиннадцати самым главным фашистским преступникам в помощь профессиональному палачу был назначен доброволец, американский сержант. Говорят, он был отобран из большой группы желающих.
Думается, что вряд ли такой доброволец нашелся бы среди советских солдат. Не заложены в русском характере злопамятство, мстительность. Зато в избытке милосердие, сострадание, всепрощение.
Демобилизация
В сорок пятом году, очень скоро после Победы, отец приезжал домой в отпуск.
Возвращаясь домой в Горетовку, отец в Москве прямо с вокзала заглянул к своей старшей сестре. Дальше домой он добирался уже вместе с племянником Колей. Подросток не удержался, увязался за героем-фронтовиком!
Коля потом рассказывал следующее. Характер у отца был горячий, взрывной.
Проходя поздно вечером мимо дома в лесу в Волнушкино, что на пути из Крюково в Горетовку, они попытались попросить у хозяев попить воды. Но недоброжелательные хозяева, жившие уединенно, бирюками, даже не отворили калитку.
Отец, в прошлом решительный боевой разведчик, в сердцах сказал:
– Эх, сейчас бы автомат в руки. Да дать по ним очередь!
Дома дети, две девочки, не помнили отца. Сильно испугались – большой, громогласный, колючий – и не сразу пошли к нему на руки.
Отец привез небывалый гостинец: красивую, большую банку ветчины!
Голодные Галя с Зиной готовы были съесть ее всю, без остановки. Но это было опасно для желудка, за годы войны отвыкшего от нормального питания. И их угощали понемногу, намазывая бутерброды на еще более невиданные сухари-галеты.
А они лежали на печке, неотрывно смотрели вниз, на стол, на заветную банку и жалобно просили:
– А можно нам еще немного на букву «к»?
«К» означало «консервы».
Отец отшучивался:
– А на букву «р» не хотите?
– Не-ет! – сразу соображали про «ремень» девочки. Дети привыкли к отцу только через несколько дней.
Отец вернулся с войны в начале сорок шестого года, в третью очередь из шести, определенных указами Президиума Верховного Совета. В соответствии со своим годом рождения. Ему не хватило всего одного года возраста, чтобы демобилизоваться в предыдущую, вторую очередь еще в октябре сорок пятого.
Был, рассказывал отец, соблазн схитрить, демобилизоваться через Японию еще в сорок пятом году, сразу после Победы. Так делали некоторые отчаянные сорвиголовы.
Для этого надо было оформить два документа. По первому боец переводился на новое место службы, на восточный фронт объявленной в августе сорок пятого войны с Японией. По другому документу он увольнялся в запас. До Москвы воин проходил проверки, предъявляя первый документ, а прибыв домой, в комиссариате доставал второй.
Конечно, отмечал отец, мероприятие это было очень рискованное. Трибунал за такие фокусы судил беспощадно.
Отец рассказывал, что у него была возможность провернуть такой трюк. Но он предпочел не рисковать.
Его ждала счастливая мирная жизнь!
Повторюсь, им руководила неуемная страсть к жизни и беззаветная любовь к своим, оставленным в Горетовке, близким.
Фронтовые друзья
Отец возвращался с войны вместе со своим фронтовым другом. Тому предстояла дальняя дорога домой, и по пути он заехал погостить к отцу. Здесь ему приглянулась сестра отца, моя тетя Зина. Была она вдовой, муж ее погиб еще в самом начале войны.
Друг попросил:
– Познакомь меня с сестрой.
Видно, и ей понравился фронтовик, и они, как говорили тогда, сошлись. Так и остался он в здешних местах навсегда.
И отец с фронтовым другом стали жить рядом, помогая друг другу в трудной послевоенной жизни. Вместе и в будни, и в праздники. Все участники войны имели склонность к спиртному, сказывалась многолетняя привычка к ежедневным «наркомовским» ста граммам.
Повторю любимую фронтовую присказку отца:
«Кто сказал, что пить не надо водку на войне?
После боя сердце просит водочки вдвойне!»
И в гражданской жизни отец с другом тоже частенько выпивали. Жены ругали их за бражничество и послеживали за ними. Но старые солдаты всегда находили возможность незаметно от них приложиться к рюмке, порой и сильно. Сестра в минуты семейных неурядиц корила своего брата:
– Это ты мне его привез. Вот и забирай!
Как ругать их, прошедших ад войны? Мы видим, как сегодня за полгода Афгана или Чечни молодые, сильные ребята ломаются на всю жизнь. А отец с другом прошли всю войну, они много лет видели смерть каждый день…
К тому же следует признать, что точно так же, как на войне каждодневные наркомовские сто граммов не мешали солдатам нести безупречную военную службу, так и в мирное время бывшие солдаты за рюмкой ни в коей мере не забывали о деле. И на работе они трудились усердно, и о семье заботились беззаветно.
Несмотря на случавшиеся семейные ссоры, друг отца с сестрой отца прожили вместе всю жизнь и много позже даже зарегистрировали свой брак. Как тогда говорили, расписались. Умерли фронтовые друзья с разницей в несколько лет и похоронены на одном кладбище в Андреевке. В светлый праздник Победы, навещая могилу отца, с некоторых пор стал обязательно заходить и к его другу, незабвенному для меня дяде Яше.
Сейчас коммунистическая партия развалилась. И, может быть, поделом. Потому что в последние годы застоя, несмотря на лозунги и повсеместно развешанные плакаты «Слава КПСС», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Партия – наш рулевой» и прочие подобные, в народе сформировалось стойкое неуважительное отношение к коммунистам.
Почему так случилось? Это отдельный разговор. Сейчас ему не место и не время.
Но нам следует хорошо помнить, что так было не всегда. Было время, когда коммунистическая партия имела заслуженный авторитет.
Отец рассказывал один случай, который произошел с ним на войне.
Во время отступления попали наши войска в окружение на острове в болотистом лесу. Собрались группами из разных частей, единого командования не было. Совсем было наступила погибель. Уже немцы кричали со всех сторон: «Рус капут! Сдавайся!»
Прошел день, наступила ночь. Собрались окруженцы на совет. Что делать? И тут вперед выступил один молодой политрук и сказал простые слова:
– Сдаваться в плен? Там нас в конце концов все равно ждет смерть. А если погибать, так хоть не бесславно! Давайте пойдем на прорыв!
Говорил он так заразительно, искренне, что все поддержали его. И несмотря на невысокое звание политрука, признали его своим командиром.
За ночь он спланировал наступление, организовал хоть какую-то разведку, определил направления прорыва, расставил командиров по позициям.
На рассвете перед атакой он вышел в первый ряд и объя-вил:
– Коммунисты – вперед!
И все немногие члены партии встали рядом с ним плечом к плечу в первую атакующую шеренгу.
И так этот пример героизма подействовал на остальных, что все бойцы загорелись решимостью идти до конца! По сигналу бесстрашно бросились наши солдаты в атаку на опешивших фашистов.
Внезапность решила все в безнадежной, казалось, ситуации. Отчаянная атака оказалась успешной, наши бойцы прорвали кольцо окружения.
Что и говорить, многие погибли. Но многие и прорвались. И сами спаслись, и, самое главное, сохранили веру в себя! Благодаря не формальной, а настоящей, передовой роли коммунистической партии.
Так что лозунг «Коммунисты, вперед!» – не пустая пропаганда, не агитка. А самая настоящая правда войны.
В войну стать членом ВКП(б) означало не получить какие-то привилегии, а, наоборот, заявить себя в бою в первый ряд атакующих. Коммунист действительно был образцом бесстрашия и беззаветного героизма во имя Родины, во имя своих близких. И беспартийный боец перед решающим сражением говорил: «Если погибну, считайте меня коммунистом!»
Это тоже правда. Каждый солдат хотел, чтобы о нем сохранилась память, как о достойном сыне, отце, брате.
И погибло на войне три миллиона коммунистов! То есть чуть ли не каждый второй из тех, что погибли непосредственно в боях. Это были наши самые лучшие люди!
Позже, в сорок третьем, и мой отец вступил в партию.
Я хорошо знаю, что передовую роль партии он воспринимал не на словах, а на деле. В жизни он первым брался за многие ответственные дела. После войны был и председателем колхоза, и председателем сельсовета. Позже много лет был простым рабочим.
И всегда был честным тружеником.
Наверное, эту честность он каким-то негласным способом передал мне. Потому что уже в конце шестидесятых годов в возрасте четырнадцати лет я отказался вступать в комсомол. Я уже неосознанно угадывал всю фальшь нового послевоенного поколения притворных коммунистов. Нехотя я уступил старшим коммунистам школы, согласился с их уговорами. Все так и случилось, как я предчувствовал. При первой же серьезной трудности многие миллионы «коммунистов» побросали свои партбилеты. Хорошо, что при жизни отец не увидел сегодняшнего позора партии.
«За взятие Кенигсберга»
Война подходила к концу. Мы воевали уже на территории Германии. Отец рассказывал, что город Кенигсберг немцы защищали особенно ожесточенно. Они называли его городом-крепостью.
Но и наши войска при штурме этого города вели себя по-особенному. Так, если из какого-нибудь дома начиналась стрельба, тут же подкатывали несколько орудий. Слава Богу, на календаре был не сорок первый год, пушек и снарядов хватало с избытком! Ставили стволы в ряд и били прямой наводкой залпом по нижнему этажу, обрушивали весь дом.
Бойцы знали, что перед взятием крупных европейских городов всегда отдавался приказ о специальных мерах по сохранению архитектурных памятников, по сбережению гражданского населения, о строгих правилах поведения войск в побежденном городе. При взятии Кенигсберга такой приказ был отдан с запозданием на два-три дня.
В солдатской среде поговаривали, что кто-то из высоких военачальников осознанно задержал подписание этого документа.
Благодаря этому в наступательной операции был получен уникальный результат по соотношению потерь. Обороняющихся немецких солдат погибло в десять раз больше, чем наступающих наших красноармейцев! Такого, наверное, больше ни в одном сражении не было!
Спасибо тому командиру, что сохранил многие тысячи жизней наших солдат. Как не хотелось погибать, когда до окончания многолетней войны оставалось воевать всего один месяц!..
Практически весь город Кенигсберг оказался разрушен до основания. Я там был в восьмидесятых годах и все видел собственными глазами. Довоенных зданий в сегодняшнем Калининграде почти не осталось. Всего одно-два и то небольших, одноэтажных.
А все участники операции взятия Кенигсберга, сотни тысяч солдат, были награждены медалью «За взятие Кенигсберга». В том числе и мой отец.
В Германии
Войну отец заканчивал в Германии. Он вспоминал о том, что вызывало наибольшее удивление у наших солдат.
Сильное впечатление производили высококачественные дороги. Запросто можно было положить бутылки со шнапсом на расстеленную плащ-палатку в кузове грузовика, и к концу дороги они оставались в целости и сохранности, не разбивались. И это после российских дорог с бесчисленными ямами и колдобинами!
Я бывал в сегодняшней Калининградской области, бывшей германской Восточной Пруссии, и заметил также и то, что сохранившиеся старые немецкие дороги, построенные еще в тридцатые годы, были полностью ориентированы на военные нужды.
Во-первых, они неширокие, с часто посаженными деревьями по обочинам, чтобы сходящиеся кроны прикрывали сверху движущийся транспорт от обнаружения с самолетов. И, во-вторых, все дороги петляют влево-вправо. Любой прямой участок на этих дорогах составляет не больше полукилометра. Это сделано для того, чтобы передвигающуюся военную колонну было несподручно атаковать с воздуха.
Особенно это было заметно во время нашей поездки по Куршской косе. Это уникальный песчаный полуостров шириной всего три-четыре километра, но длиной почти в сто. Он ведет из российской Калининградской области через Балтийское море к паромной переправе на литовский берег, к городу Клайпеда.
Наш автобус «Икарус», переваливаясь с боку на бок, шесть часов словно шарахался от одного берега к другому по петляющей поворотами дороге. Он не мог набрать скорость больше двадцати километров в час, и весь путь занял шесть часов вместо одного. К концу пути голова кружилась даже у самых стойких пассажиров.
Кстати, точно таким же образом построено и наше подмосковное Пятницкое шоссе. Оно тоже петляет, нет ни одного продолжительного прямого участка. Это шоссе когда-то имело исключительно военное предназначение и в советское время даже не обозначалось на картах. После войны эта местность была насыщена воинскими частями. Я помню, как мимо нашего дома в Горетовке часто проезжали танкетки. Так мы называли гусеничные бронетранспортеры.
Еще в Германии русских сильно поражала немецкая педантичность. После победы отец был назначен начфином батальона. И ему приходилось много заниматься восстановлением разрушенного хозяйства Германии. Зачастую приходилось работать рука об руку с мирным немецким населением.
И вот – вечер, конец рабочего дня, прибывает запаздывающий грузовик. По-нашему как? «Ну, мужики! Разгрузим быстренько эту машину и – по домам!» Но с немцами этот призыв не проходит, они бросают работу строго «по звонку», прямо на середине незавершенного дела.
Наоборот, немцев поражала наша удаль. Заходят солдаты в немецкий дом, требуют:
– Фрау, glassы! Шнель!
На попытку подать к столу маленькие рюмки наши смеются и показывают на большие стаканы в старинном серванте. Они бросают в избытке продовольственные пайки на стол:
– Фрау, snack! Закуска!
– Сколько будет personen? – спрашивает расчетливая старушка.
– Нас четверо, да еще подойдет человека два-четыре, – показывают на пальцах солдаты.
Но педантичная фрау настаивает. Ей надо точно знать число приготовляемых порций обеда.
Солдаты пожимают плечами, удивляются. Сколько ни придет, накормить-то надо всех! Пока неисправимая фрау на кухонных весах отмеряет еду по порциям, они садятся за стол и пьют водку этими самыми глассами, не дожидаясь закуски. У старенькой фрау глаза на лоб лезут от созерцания таких подвигов. Она испуганно трясется:
– Рус капут!
Вот уж воистину, как в той поговорке: «Что русскому здоровье, то немцу – смерть!»
Фрау приносит толстую медицинскую книгу, открывает ее на странице, где нарисовано сердце. Показывает, что-то возбужденно говорит. Наши мужики только смеются.
Особо хочу отметить, что, по рассказам отца, наши солдаты не обижали мирное население побежденной Германии. Поэтому фрау не боялась.
Известно, что в Нюрнберге для приведения в действие смертного приговора одиннадцати самым главным фашистским преступникам в помощь профессиональному палачу был назначен доброволец, американский сержант. Говорят, он был отобран из большой группы желающих.
Думается, что вряд ли такой доброволец нашелся бы среди советских солдат. Не заложены в русском характере злопамятство, мстительность. Зато в избытке милосердие, сострадание, всепрощение.
Демобилизация
В сорок пятом году, очень скоро после Победы, отец приезжал домой в отпуск.
Возвращаясь домой в Горетовку, отец в Москве прямо с вокзала заглянул к своей старшей сестре. Дальше домой он добирался уже вместе с племянником Колей. Подросток не удержался, увязался за героем-фронтовиком!
Коля потом рассказывал следующее. Характер у отца был горячий, взрывной.
Проходя поздно вечером мимо дома в лесу в Волнушкино, что на пути из Крюково в Горетовку, они попытались попросить у хозяев попить воды. Но недоброжелательные хозяева, жившие уединенно, бирюками, даже не отворили калитку.
Отец, в прошлом решительный боевой разведчик, в сердцах сказал:
– Эх, сейчас бы автомат в руки. Да дать по ним очередь!
Дома дети, две девочки, не помнили отца. Сильно испугались – большой, громогласный, колючий – и не сразу пошли к нему на руки.
Отец привез небывалый гостинец: красивую, большую банку ветчины!
Голодные Галя с Зиной готовы были съесть ее всю, без остановки. Но это было опасно для желудка, за годы войны отвыкшего от нормального питания. И их угощали понемногу, намазывая бутерброды на еще более невиданные сухари-галеты.
А они лежали на печке, неотрывно смотрели вниз, на стол, на заветную банку и жалобно просили:
– А можно нам еще немного на букву «к»?
«К» означало «консервы».
Отец отшучивался:
– А на букву «р» не хотите?
– Не-ет! – сразу соображали про «ремень» девочки. Дети привыкли к отцу только через несколько дней.
Отец вернулся с войны в начале сорок шестого года, в третью очередь из шести, определенных указами Президиума Верховного Совета. В соответствии со своим годом рождения. Ему не хватило всего одного года возраста, чтобы демобилизоваться в предыдущую, вторую очередь еще в октябре сорок пятого.
Был, рассказывал отец, соблазн схитрить, демобилизоваться через Японию еще в сорок пятом году, сразу после Победы. Так делали некоторые отчаянные сорвиголовы.
Для этого надо было оформить два документа. По первому боец переводился на новое место службы, на восточный фронт объявленной в августе сорок пятого войны с Японией. По другому документу он увольнялся в запас. До Москвы воин проходил проверки, предъявляя первый документ, а прибыв домой, в комиссариате доставал второй.
Конечно, отмечал отец, мероприятие это было очень рискованное. Трибунал за такие фокусы судил беспощадно.
Отец рассказывал, что у него была возможность провернуть такой трюк. Но он предпочел не рисковать.
Его ждала счастливая мирная жизнь!
Повторюсь, им руководила неуемная страсть к жизни и беззаветная любовь к своим, оставленным в Горетовке, близким.
Фронтовые друзья
Отец возвращался с войны вместе со своим фронтовым другом. Тому предстояла дальняя дорога домой, и по пути он заехал погостить к отцу. Здесь ему приглянулась сестра отца, моя тетя Зина. Была она вдовой, муж ее погиб еще в самом начале войны.
Друг попросил:
– Познакомь меня с сестрой.
Видно, и ей понравился фронтовик, и они, как говорили тогда, сошлись. Так и остался он в здешних местах навсегда.
И отец с фронтовым другом стали жить рядом, помогая друг другу в трудной послевоенной жизни. Вместе и в будни, и в праздники. Все участники войны имели склонность к спиртному, сказывалась многолетняя привычка к ежедневным «наркомовским» ста граммам.
Повторю любимую фронтовую присказку отца:
«Кто сказал, что пить не надо водку на войне?
После боя сердце просит водочки вдвойне!»
И в гражданской жизни отец с другом тоже частенько выпивали. Жены ругали их за бражничество и послеживали за ними. Но старые солдаты всегда находили возможность незаметно от них приложиться к рюмке, порой и сильно. Сестра в минуты семейных неурядиц корила своего брата:
– Это ты мне его привез. Вот и забирай!
Как ругать их, прошедших ад войны? Мы видим, как сегодня за полгода Афгана или Чечни молодые, сильные ребята ломаются на всю жизнь. А отец с другом прошли всю войну, они много лет видели смерть каждый день…
К тому же следует признать, что точно так же, как на войне каждодневные наркомовские сто граммов не мешали солдатам нести безупречную военную службу, так и в мирное время бывшие солдаты за рюмкой ни в коей мере не забывали о деле. И на работе они трудились усердно, и о семье заботились беззаветно.
Несмотря на случавшиеся семейные ссоры, друг отца с сестрой отца прожили вместе всю жизнь и много позже даже зарегистрировали свой брак. Как тогда говорили, расписались. Умерли фронтовые друзья с разницей в несколько лет и похоронены на одном кладбище в Андреевке. В светлый праздник Победы, навещая могилу отца, с некоторых пор стал обязательно заходить и к его другу, незабвенному для меня дяде Яше.

Максим ЛАЗАРЕВ
Родился в 1966 г. в Москве. Изданные произведения: «Хроники карантина-2020», «Волны забытого лета», «Маша». Автор года 2023. Награды и премии: Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское Слово» (2022 г.), Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» (2022 г.), Лауреат Всероссийского литературного Конкурса «Яблочный Спас» (2022 г.), Лауреат литературного конкурса «Юмор лечит» (2022 г.).
Родился в 1966 г. в Москве. Изданные произведения: «Хроники карантина-2020», «Волны забытого лета», «Маша». Автор года 2023. Награды и премии: Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское Слово» (2022 г.), Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» (2022 г.), Лауреат Всероссийского литературного Конкурса «Яблочный Спас» (2022 г.), Лауреат литературного конкурса «Юмор лечит» (2022 г.).
ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ
Моему деду, Петру Артемьевичу Филатову, посвящается!
... Он шёл по улице. Сапоги давили битое стекло, и этот противный звук раздражал и заставлял нервничать. На соседней улице долбил, не переставая, пулемёт, заглушая автоматное и винтовочное многоголосье, иногда были слышны взрывы. Но здесь было тихо. Никто не стрелял. И от этого было особенно тревожно. Когда что-то не так, как должно быть, значит, будет плохо... Апрель тут был теплый. На солнце так и вообще было жарко. И ватник, так и не снятый по старой привычке, что «пар костей не ломит», тяготил. Хотелось его скинуть. Как и сапоги, которые давили битое стекло, усыпавшее толстым слоем всю эту сторону улицы.
– Как всегда, Федьке – сливки! – он матернулся про себя и, присев на карточки за большую круглую афишную тумбу, огляделся. Из-за сгоревшей легковушки на другой стороне улице, чуть сзади и сбоку, метрах в двадцати, раздался короткий свист – Федор подал знак. Он снял пилотку и протер лицо. Пот катился ручьём и щипал глаза.
– Всё-таки надо было снять ватник...
Он свистнул коротко два раза. Это было уже на автомате. За три года они чувствовали друг друга, как близнецы. И каждому давно было неуютно, если кто-то из них надолго пропадал, оставляя второго в одиночестве. А это случалось, когда кто-то из них попадал в госпиталь. А кличка «близнецы» как приклеилась к ним однажды, в таком далёком сорок втором, когда они, два молодых парня из одной деревни, одинакового роста, с абсолютно одинаковыми голубыми, словно цветущий лён, глазами и кудрявыми иссиня-черными кудрями, приехали на призывной пункт, так и шагала с ними от Сталинграда. Хотя давно никто, кроме офицеров старше командира батальона, не обращался к ним кроме как по имени-отчеству: Петр Артёмыч и Фёдор Иваныч. А молодые, которых сейчас, после Кёнигсберга в полку было большинство, смотрели на них не иначе, как на фотографии из газеты – с почтением и неверием. А как иначе?! От Сталинграда до логова зверя дойти! И не в обозе или на продскладе, а в ударном полку! У каждого на груди – одинаковый иконостас: «За отвагу», «За боевые заслуги» и – уму непостижимо! – ОРДЕН! Да, орден! У офицеров-то не у многих, а у них – есть. После «Славы», почитай, самый почетный солдатский – «Отечественной войны».
Одно слово: близнецы. Можно сказать, уже легенда! Палец в рот не клади – откусят и, хлебнув из фляжки наркомовскую сотку, сгрызут его на закуску. И даже комбат, с которым шли, а чаще ползли они от Курска, закрывал частенько глаза и на серебряные цепочки от часов, торчащие у них из галифе, и на неуставные офицерские сапоги, и на блатные, наборные из плексиглаза финки, болтающиеся на ремне. Солдаты! Настоящие. Те солдаты, что пропахали на пузе от Сталинграда до Германии. По два раза раненные, по два раза контуженные. Пять переформирований полка пережившие, закопавшие товарищей столько, сколько у них в деревне за триста лет не хоронили. И всё-таки дошли. Доползли. И теперь будут тут, в логове зверя, ставить Гитлера раком...
Он вытер пот и огляделся. Улица была пуста. Авиация сделала свою работу – половина домов лежали в руинах. Но были и такие, которых война словно обошла стороной. И их заложенные мешками с песком витрины пугали. В первую очередь своим молчанием. Вот уже две недели, как они шли по Германии, и улицы всех этих немецких городов были похожи, как две капли воды. Или, как шутил Федька, два теленка из одного отела. На соседней улице не смолкала стрельба. Пулемёт фрицев затих. Косторез, как называли его солдаты, замолчал. Но автоматная перекличка с обеих сторон продолжалась. Громыхнул фаустпатрон. Видно, не выдержал очередной десятилетний ублюдок долгого сидения в засаде. И, не видя танков, шмальнул, куда глаза глядят.
– А у нас спокойно. И это не к добру. Не к добру… Надо было всё-таки снять ватник.
Он вытащил и тут же вставил магазин ППС – просто так, по привычке. Проверять-то было нечего. Он ещё не сделал ни одного выстрела.
– Вот так бы до Победы, – он улыбнулся и свистнул три раза.
Через минуту рядом с ним присел Федор.
– Ну ты чего, Артемич?
– Да ничего. Пусто. Похоже, все фрицы там. Слышишь?
– Да, там наших «причесывали» знатно. Но – херня. Не сорок первый! Ща побреют гансиков под ноль. Пулемёт-то уже сдох, похоже. Так чего делаем, старшой?
– Значит, так, Федя. Идём по этой стороне. По твоей смысла нет. Видишь, там одни развалины, и всё выгорело. Там никого не будет. Если кто есть, то по нашей. Короче, идём парой. Твой – низ, мой – верх. Понятно?
– Яволь, комрад! Я пошёл, – надвинув пилотку поглубже на затылок, Федор мягко засеменил вперёд по улице, оглядываясь и водя своим ППШ по сторонам.
Он отстал от него на десяток шагов и, шаря глазами по окнам верхних этажей, похожей рысцой потрусил следом. Улица была пуста.
По дороге попалась только одна старуха, сидевшая на разбитых ступеньках подъезда перед трупом мужика в коричневом пальто, из оторванной по плечо руки которого торчала белоснежная кость. Она бубнила что-то себе под нос, покачиваясь взад-вперёд. В шагах десяти на решётке канализации лежала та самая рука, сжимавшая винтовку Маузер с погнутым стволом. На рукаве – белая повязка фольксштурма. Две огромные крысы обгладывали кисть. Он топнул, а потом, зацепив сапогом, швырнул в них битым стеклом. Одна из крыс тут же нырнула в ливнёвку, а вторая, вскинув морду, вперила в него злые красные глаза и ощерилась.
– Вот же твари. И война им не война.
Он вскинул автомат и навёл на крысу. И та, видно, уже опытная и знавшая, что это значит, тут же юркнула за первой.
– И крысы-то у них какие холёные… Надо всё-таки снять этот ватник проклятый. Уже и так вся жопа мокрая…
Он сплюнул и, пригнувшись, двинулся дальше. У очередной афишной тумбы, стоявшей на самом углу, где улица, словно река, впадала в площадь, сидел на ящике Федор и курил немецкую сигарету.
– Ну, шо дальше, Петро? Нам сказали: до площади. Вот она, площадь. Шо делаем? Или тут курим?
– Да хрен его знает! Тут будем ждать. Не на площадь же соваться. Стопудово положат с той стороны, как телят. Вон их ратуша. А на башне, небось, пулемёт. А то ещё и снайпер. И наверняка не фольцы, а СС. Тут посидим, подождём. Наши придут, подкатят пушку, долбанут пару раз по башне, подравняют на этаж, потом зачистим, а там гляди, и кухня подкатит.
– Эт точно... На площадь нельзя. Проходили. И про СС ты прав. Им деваться некуда – только воевать. Этим плен не светит. Кончат сразу. Или к стенке или вздёрнут. Но я вон шо думаю, Артемич. Смотри вправо. Ешо правей. Вишь – стеклянная, не разбитая? Чего написано? А-ПО-ТХЕ-КЕ! Что это значит? Аптека! А шо у нас в аптеках, Петя? Во-о-от! Правильно! Спирт! Давай заглянем. А оттуда и площадь вся, как на заднице у Машки – во все стороны всё видать. Там засядем и будем наших ждать. Вишь, стрельба стихла. Побрили наши фрицев и уже бодро шагают сюда. А как придут, уже хана. Не видать тогда спирту. А так и спирту возьмём, да ещё комбату притащим этого… как его... асьпирину от контузии. Ну, старшой, чего думаешь? Артёмыч! Петро! Ну?
Пётр задумался, сдвинул на затылок пилотку, прищурившись, оглядел площадь.
– Ладно, давай. Но что б культурно, Федя. Фрицев не мордовать без дела, если кто там есть. Всё-таки аптека! Люди культурные. Врачи. Видишь, красный крест! Идём так же: ты – по низу, я – по верху. Пошли.
И они двинулись мелкими перебежками вдоль разбитых витрин кафе и парикмахерской, где в одном кресле так и остался сидеть навсегда кто-то, решивший постричься. Из шеи у него торчал длинный осколок витринного стекла.
Дверь аптеки оказалась незапертой.
И, мало того, когда Федор открыл толчком дверь и отпрыгнул в сторону, опасаясь часто установленных немцами растяжек с гранатами, ничего не произошло. Наоборот, раздался мелодичный звон колокольчика. Пётр вбежал первым, прижимая приклад ППС и готовый дать очередь по первому подозрительному звуку. Но в аптеке никого не было. Аптека сияла больничной чистотой, и на хромированных деталях витрины, кассы и прилавков плясали весёлые солнечные зайчики. Откуда-то из глубины помещения играла негромкая приятная музыка. Пахло валокордином и хорошим кофе. В лучах весеннего солнца, бивших через большое витринное, абсолютно целое окно, клубились редкие пылинки. Размеренно тикали огромные, похожие на башню напольные часы в человеческий рост. И большой густой фикус, стоявший на маленьком столике у окна, своими сочными темно-зелёными, с лиловым оттенком листьями придавал такое настроение всему вокруг, что казалось, будто и нет, и не было никогда никакой войны. Где-то далеко внутри тихо зашевелилось давно позабытое чувство спокойствия и уюта. Чувство росло и крепло. Оно будоражило и одновременно отбрасывало далеко назад, в то уже почти сказочное и счастливое довоенное прошлое. Пётр опустил автомат и вытер лицо пилоткой. Федор, на минуту растерявшийся от этого давно невиданного, уютного и потому непонятного окружения, быстро пришел в себя и, закрутив головой, скользя глазами по витринам, зло проговорил, скорее, даже прошипел:
– Вот суки. Даже не попрятали ничего. Борзые твари, – сплюнул и добавил, выкрикнув. – Ау! Есть кто? Них шисен. Гитлер капут.
Насколько было велико их удивление, когда тут же, через секунду, из-за двери за стойкой раздался звонкий доброжелательный голос:
– Я! Я!
И, распахнув дверь за стойкой, вышел крупный седо-власый мужчина лет пятидесяти пяти, а за ним, прижимая мальчика с колючими белёсыми глазами, женщина средних лет. Довольно симпатичная, ухоженная и с широкой, доброй улыбкой.
– Гуттен так офицерен! – произнес, улыбаясь, мужчина, и за ним повторили женщина и мальчик.
– Гитлер капут! Рот фронт! – мужчина поднял сжатый в коммунистическом приветствии кулак и заулыбался.
– Гутен вам фрау и … фазер. Мы есть красная армия. Гитлер капут. Мы вас них шиссен. Спиритус есть? Спи- ри- тус?! Фриц? Ганс? Как там тебя? Есть спирт у тебя или нет? Шнапс?! Яволь? – Федор навёл свой ППШ на немца. А другой рукой повел по шее, продемонстрировав международный жест желания выпить.
– А? Я, я!! Спиритус. Я, я. Гуд! Дринкен! Шнапс! Я, я! – немец стал шарить под прилавком, а потом выставил на стойку большую литровую аптекарскую бутыль с притертой пробкой.
Федор оглянулся на товарища и, уже улыбаясь лучистыми голубыми глазами и своей очаровательной, белозубой, сводившей всех девок деревни с ума улыбкой, громко сказал:
– Ну вот, Петя, а ты говорил! Есть и спирт! И асьпирин сейчас найдем. Правильно зашли. Ты ж знаешь, у меня – чуйка! Будешь пробовать? Ты ж старшой! Тебе и пробовать.
– Не, я не буду. Жара. Спарился весь. Истек уже, словно сало. Мочи нет, как пить хочу. Давай ты. Я – вечером. По холодку. И воды спроси у них.
– Ну, как хочешь. А я попробую, – Фёдор закинул за спину автомат и двумя руками поднял бутылку.
– Ну, за победу! – весело выкрикнул, подмигнул и сделал два крупных глотка.
Выдохнул, улыбнулся и вдруг через секунду захрипел, выронил бутыль и, схватившись за горло, повалился на пол. Ещё несколько мгновений он извивался в конвульсиях, а потом, дернувшись всем телом, затих, выпучив свои ярко-голубые тамбовские глаза. Пётр рванулся к другу, но на половине шага его остановил заразительный, словно ржание породистого жеребца, смех. Это хохотал немец-аптекарь, повторяя сквозь смех:
– Русишь швайн! Юден камисарен! Швайн. Капут!
И следом за ним раздался звонкий смех женщины, а затем и мальчика.
– Русишь швайн! Швайн! Юден камисарен капут!
Пётр вскинул автомат и дал размашистую очередь. И сразу ещё одну и ещё. Посыпались стекла витрин, разлетелись в разные стороны осколки склянок, пузырьков и банок, перемешиваясь с брызгами крови и мозгов. Он расстрелял весь рожок, вставил ещё один и снова стал поливать горячим свинцом всё вокруг себя. Лопнула с визгом какая-то пружина в огромных часах, валялся срезанный, словно на покосе, фикус, и тела немцев уже превратились в месиво, а он стрелял, и стрелял, и стрелял, пока не выстрелил всё до последнего патрона во всех четырех рожках.
А потом, обессиленный, оглохший от горя и стрельбы, он упал на колени перед телом Фёдора и заплакал. Первый раз за три года войны. И горячие слёзы текли по потным и пыльным щекам и падали на лицо его друга. А тот, уже будучи далеко-далеко отсюда, мирно смотрел куда-то в вечную пустоту, и казалось Петру, что он улыбается…
Моему деду, Петру Артемьевичу Филатову, посвящается!
... Он шёл по улице. Сапоги давили битое стекло, и этот противный звук раздражал и заставлял нервничать. На соседней улице долбил, не переставая, пулемёт, заглушая автоматное и винтовочное многоголосье, иногда были слышны взрывы. Но здесь было тихо. Никто не стрелял. И от этого было особенно тревожно. Когда что-то не так, как должно быть, значит, будет плохо... Апрель тут был теплый. На солнце так и вообще было жарко. И ватник, так и не снятый по старой привычке, что «пар костей не ломит», тяготил. Хотелось его скинуть. Как и сапоги, которые давили битое стекло, усыпавшее толстым слоем всю эту сторону улицы.
– Как всегда, Федьке – сливки! – он матернулся про себя и, присев на карточки за большую круглую афишную тумбу, огляделся. Из-за сгоревшей легковушки на другой стороне улице, чуть сзади и сбоку, метрах в двадцати, раздался короткий свист – Федор подал знак. Он снял пилотку и протер лицо. Пот катился ручьём и щипал глаза.
– Всё-таки надо было снять ватник...
Он свистнул коротко два раза. Это было уже на автомате. За три года они чувствовали друг друга, как близнецы. И каждому давно было неуютно, если кто-то из них надолго пропадал, оставляя второго в одиночестве. А это случалось, когда кто-то из них попадал в госпиталь. А кличка «близнецы» как приклеилась к ним однажды, в таком далёком сорок втором, когда они, два молодых парня из одной деревни, одинакового роста, с абсолютно одинаковыми голубыми, словно цветущий лён, глазами и кудрявыми иссиня-черными кудрями, приехали на призывной пункт, так и шагала с ними от Сталинграда. Хотя давно никто, кроме офицеров старше командира батальона, не обращался к ним кроме как по имени-отчеству: Петр Артёмыч и Фёдор Иваныч. А молодые, которых сейчас, после Кёнигсберга в полку было большинство, смотрели на них не иначе, как на фотографии из газеты – с почтением и неверием. А как иначе?! От Сталинграда до логова зверя дойти! И не в обозе или на продскладе, а в ударном полку! У каждого на груди – одинаковый иконостас: «За отвагу», «За боевые заслуги» и – уму непостижимо! – ОРДЕН! Да, орден! У офицеров-то не у многих, а у них – есть. После «Славы», почитай, самый почетный солдатский – «Отечественной войны».
Одно слово: близнецы. Можно сказать, уже легенда! Палец в рот не клади – откусят и, хлебнув из фляжки наркомовскую сотку, сгрызут его на закуску. И даже комбат, с которым шли, а чаще ползли они от Курска, закрывал частенько глаза и на серебряные цепочки от часов, торчащие у них из галифе, и на неуставные офицерские сапоги, и на блатные, наборные из плексиглаза финки, болтающиеся на ремне. Солдаты! Настоящие. Те солдаты, что пропахали на пузе от Сталинграда до Германии. По два раза раненные, по два раза контуженные. Пять переформирований полка пережившие, закопавшие товарищей столько, сколько у них в деревне за триста лет не хоронили. И всё-таки дошли. Доползли. И теперь будут тут, в логове зверя, ставить Гитлера раком...
Он вытер пот и огляделся. Улица была пуста. Авиация сделала свою работу – половина домов лежали в руинах. Но были и такие, которых война словно обошла стороной. И их заложенные мешками с песком витрины пугали. В первую очередь своим молчанием. Вот уже две недели, как они шли по Германии, и улицы всех этих немецких городов были похожи, как две капли воды. Или, как шутил Федька, два теленка из одного отела. На соседней улице не смолкала стрельба. Пулемёт фрицев затих. Косторез, как называли его солдаты, замолчал. Но автоматная перекличка с обеих сторон продолжалась. Громыхнул фаустпатрон. Видно, не выдержал очередной десятилетний ублюдок долгого сидения в засаде. И, не видя танков, шмальнул, куда глаза глядят.
– А у нас спокойно. И это не к добру. Не к добру… Надо было всё-таки снять ватник.
Он вытащил и тут же вставил магазин ППС – просто так, по привычке. Проверять-то было нечего. Он ещё не сделал ни одного выстрела.
– Вот так бы до Победы, – он улыбнулся и свистнул три раза.
Через минуту рядом с ним присел Федор.
– Ну ты чего, Артемич?
– Да ничего. Пусто. Похоже, все фрицы там. Слышишь?
– Да, там наших «причесывали» знатно. Но – херня. Не сорок первый! Ща побреют гансиков под ноль. Пулемёт-то уже сдох, похоже. Так чего делаем, старшой?
– Значит, так, Федя. Идём по этой стороне. По твоей смысла нет. Видишь, там одни развалины, и всё выгорело. Там никого не будет. Если кто есть, то по нашей. Короче, идём парой. Твой – низ, мой – верх. Понятно?
– Яволь, комрад! Я пошёл, – надвинув пилотку поглубже на затылок, Федор мягко засеменил вперёд по улице, оглядываясь и водя своим ППШ по сторонам.
Он отстал от него на десяток шагов и, шаря глазами по окнам верхних этажей, похожей рысцой потрусил следом. Улица была пуста.
По дороге попалась только одна старуха, сидевшая на разбитых ступеньках подъезда перед трупом мужика в коричневом пальто, из оторванной по плечо руки которого торчала белоснежная кость. Она бубнила что-то себе под нос, покачиваясь взад-вперёд. В шагах десяти на решётке канализации лежала та самая рука, сжимавшая винтовку Маузер с погнутым стволом. На рукаве – белая повязка фольксштурма. Две огромные крысы обгладывали кисть. Он топнул, а потом, зацепив сапогом, швырнул в них битым стеклом. Одна из крыс тут же нырнула в ливнёвку, а вторая, вскинув морду, вперила в него злые красные глаза и ощерилась.
– Вот же твари. И война им не война.
Он вскинул автомат и навёл на крысу. И та, видно, уже опытная и знавшая, что это значит, тут же юркнула за первой.
– И крысы-то у них какие холёные… Надо всё-таки снять этот ватник проклятый. Уже и так вся жопа мокрая…
Он сплюнул и, пригнувшись, двинулся дальше. У очередной афишной тумбы, стоявшей на самом углу, где улица, словно река, впадала в площадь, сидел на ящике Федор и курил немецкую сигарету.
– Ну, шо дальше, Петро? Нам сказали: до площади. Вот она, площадь. Шо делаем? Или тут курим?
– Да хрен его знает! Тут будем ждать. Не на площадь же соваться. Стопудово положат с той стороны, как телят. Вон их ратуша. А на башне, небось, пулемёт. А то ещё и снайпер. И наверняка не фольцы, а СС. Тут посидим, подождём. Наши придут, подкатят пушку, долбанут пару раз по башне, подравняют на этаж, потом зачистим, а там гляди, и кухня подкатит.
– Эт точно... На площадь нельзя. Проходили. И про СС ты прав. Им деваться некуда – только воевать. Этим плен не светит. Кончат сразу. Или к стенке или вздёрнут. Но я вон шо думаю, Артемич. Смотри вправо. Ешо правей. Вишь – стеклянная, не разбитая? Чего написано? А-ПО-ТХЕ-КЕ! Что это значит? Аптека! А шо у нас в аптеках, Петя? Во-о-от! Правильно! Спирт! Давай заглянем. А оттуда и площадь вся, как на заднице у Машки – во все стороны всё видать. Там засядем и будем наших ждать. Вишь, стрельба стихла. Побрили наши фрицев и уже бодро шагают сюда. А как придут, уже хана. Не видать тогда спирту. А так и спирту возьмём, да ещё комбату притащим этого… как его... асьпирину от контузии. Ну, старшой, чего думаешь? Артёмыч! Петро! Ну?
Пётр задумался, сдвинул на затылок пилотку, прищурившись, оглядел площадь.
– Ладно, давай. Но что б культурно, Федя. Фрицев не мордовать без дела, если кто там есть. Всё-таки аптека! Люди культурные. Врачи. Видишь, красный крест! Идём так же: ты – по низу, я – по верху. Пошли.
И они двинулись мелкими перебежками вдоль разбитых витрин кафе и парикмахерской, где в одном кресле так и остался сидеть навсегда кто-то, решивший постричься. Из шеи у него торчал длинный осколок витринного стекла.
Дверь аптеки оказалась незапертой.
И, мало того, когда Федор открыл толчком дверь и отпрыгнул в сторону, опасаясь часто установленных немцами растяжек с гранатами, ничего не произошло. Наоборот, раздался мелодичный звон колокольчика. Пётр вбежал первым, прижимая приклад ППС и готовый дать очередь по первому подозрительному звуку. Но в аптеке никого не было. Аптека сияла больничной чистотой, и на хромированных деталях витрины, кассы и прилавков плясали весёлые солнечные зайчики. Откуда-то из глубины помещения играла негромкая приятная музыка. Пахло валокордином и хорошим кофе. В лучах весеннего солнца, бивших через большое витринное, абсолютно целое окно, клубились редкие пылинки. Размеренно тикали огромные, похожие на башню напольные часы в человеческий рост. И большой густой фикус, стоявший на маленьком столике у окна, своими сочными темно-зелёными, с лиловым оттенком листьями придавал такое настроение всему вокруг, что казалось, будто и нет, и не было никогда никакой войны. Где-то далеко внутри тихо зашевелилось давно позабытое чувство спокойствия и уюта. Чувство росло и крепло. Оно будоражило и одновременно отбрасывало далеко назад, в то уже почти сказочное и счастливое довоенное прошлое. Пётр опустил автомат и вытер лицо пилоткой. Федор, на минуту растерявшийся от этого давно невиданного, уютного и потому непонятного окружения, быстро пришел в себя и, закрутив головой, скользя глазами по витринам, зло проговорил, скорее, даже прошипел:
– Вот суки. Даже не попрятали ничего. Борзые твари, – сплюнул и добавил, выкрикнув. – Ау! Есть кто? Них шисен. Гитлер капут.
Насколько было велико их удивление, когда тут же, через секунду, из-за двери за стойкой раздался звонкий доброжелательный голос:
– Я! Я!
И, распахнув дверь за стойкой, вышел крупный седо-власый мужчина лет пятидесяти пяти, а за ним, прижимая мальчика с колючими белёсыми глазами, женщина средних лет. Довольно симпатичная, ухоженная и с широкой, доброй улыбкой.
– Гуттен так офицерен! – произнес, улыбаясь, мужчина, и за ним повторили женщина и мальчик.
– Гитлер капут! Рот фронт! – мужчина поднял сжатый в коммунистическом приветствии кулак и заулыбался.
– Гутен вам фрау и … фазер. Мы есть красная армия. Гитлер капут. Мы вас них шиссен. Спиритус есть? Спи- ри- тус?! Фриц? Ганс? Как там тебя? Есть спирт у тебя или нет? Шнапс?! Яволь? – Федор навёл свой ППШ на немца. А другой рукой повел по шее, продемонстрировав международный жест желания выпить.
– А? Я, я!! Спиритус. Я, я. Гуд! Дринкен! Шнапс! Я, я! – немец стал шарить под прилавком, а потом выставил на стойку большую литровую аптекарскую бутыль с притертой пробкой.
Федор оглянулся на товарища и, уже улыбаясь лучистыми голубыми глазами и своей очаровательной, белозубой, сводившей всех девок деревни с ума улыбкой, громко сказал:
– Ну вот, Петя, а ты говорил! Есть и спирт! И асьпирин сейчас найдем. Правильно зашли. Ты ж знаешь, у меня – чуйка! Будешь пробовать? Ты ж старшой! Тебе и пробовать.
– Не, я не буду. Жара. Спарился весь. Истек уже, словно сало. Мочи нет, как пить хочу. Давай ты. Я – вечером. По холодку. И воды спроси у них.
– Ну, как хочешь. А я попробую, – Фёдор закинул за спину автомат и двумя руками поднял бутылку.
– Ну, за победу! – весело выкрикнул, подмигнул и сделал два крупных глотка.
Выдохнул, улыбнулся и вдруг через секунду захрипел, выронил бутыль и, схватившись за горло, повалился на пол. Ещё несколько мгновений он извивался в конвульсиях, а потом, дернувшись всем телом, затих, выпучив свои ярко-голубые тамбовские глаза. Пётр рванулся к другу, но на половине шага его остановил заразительный, словно ржание породистого жеребца, смех. Это хохотал немец-аптекарь, повторяя сквозь смех:
– Русишь швайн! Юден камисарен! Швайн. Капут!
И следом за ним раздался звонкий смех женщины, а затем и мальчика.
– Русишь швайн! Швайн! Юден камисарен капут!
Пётр вскинул автомат и дал размашистую очередь. И сразу ещё одну и ещё. Посыпались стекла витрин, разлетелись в разные стороны осколки склянок, пузырьков и банок, перемешиваясь с брызгами крови и мозгов. Он расстрелял весь рожок, вставил ещё один и снова стал поливать горячим свинцом всё вокруг себя. Лопнула с визгом какая-то пружина в огромных часах, валялся срезанный, словно на покосе, фикус, и тела немцев уже превратились в месиво, а он стрелял, и стрелял, и стрелял, пока не выстрелил всё до последнего патрона во всех четырех рожках.
А потом, обессиленный, оглохший от горя и стрельбы, он упал на колени перед телом Фёдора и заплакал. Первый раз за три года войны. И горячие слёзы текли по потным и пыльным щекам и падали на лицо его друга. А тот, уже будучи далеко-далеко отсюда, мирно смотрел куда-то в вечную пустоту, и казалось Петру, что он улыбается…

Иван АНЕНКОВ
Проживаю в г. Барнаул. Неоднократно публиковался в местной газете Курьинского района «Патриот Алтая». Издавался в альманахе «Весна. Май. Победа», г. Барнаул. Публиковался в цифровых изданиях «Стихи нашего времени», «Стихи нашего времени #2» и «Стихи нашего времени. Весна-2022». Издал собственную книгу стихотворений и рассказов «Дорога памяти моей».
Проживаю в г. Барнаул. Неоднократно публиковался в местной газете Курьинского района «Патриот Алтая». Издавался в альманахе «Весна. Май. Победа», г. Барнаул. Публиковался в цифровых изданиях «Стихи нашего времени», «Стихи нашего времени #2» и «Стихи нашего времени. Весна-2022». Издал собственную книгу стихотворений и рассказов «Дорога памяти моей».
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ «ДУМЫ ВОЙНЫ»
Лес кругом. Скаты и перевалы, а между ними идет Ванюша. Недалеко от него уже прослеживалась открытая поляна с небольшим озером. На берегу стоит келья, близ сосен, чуть поодаль топится баня старца. Сам он роется в огороде. Немного тут земли, свободной от деревьев, да и чего надо старику. Только покоя и ищут в таких местах.
Монах, завидев нежданного гостя, пошел ему навстречу.
– Откуда ты, парень? – начал старец.
– Мы здесь недалеко лес рубим. Так у нас еды с собой нет. Меня к вам мужики и отправили. От Никольцева сказали передать.
– Вот как. Так как там раб божий Степан?
– Помаленьку.
– Ну что ж, пойдем, посмотрим, чем Бог послал.
Они зашли в жилище. У старика было уютно. Справа от входа – нары, возле окошка – большой стол, приделанный к стене, как и лежанка, в углу – сундучок. Над сундуком – большая икона Святой Троицы, перед ней – лампадка.
Все в келье было сделано самим хозяином и тем самым Степаном Никольцевым. В далекое время старец проповедовал веру в столице Императорской Руси – Санкт-Петербурге. Потом отправился с просветительской миссией да в итоге осел в Барнауле до революции, после чего ходил по деревням. Но сейчас время совсем другое, и старик выбрал тихое место, чтобы остаться наедине с собой и Богом, которому верно служил уже семьдесят девять лет.
– Ты сам-то сильно голодный? – спросил монах у гостя.
– Поел бы, – протянул Ваня.
– Я тут утром кашеварил, осталось еще. Да чай еще не остыл. Давай накормлю, – и старик начал шебуршать посудой. Поставил на стол тарелку каши и налил свежего травяного чая, дал хлеба и ложку. Сам уселся рядом за столом и начал длинный разговор:
– Как зовут тебя?
– Иваном. Ивана Купоносова сын.
– Не из Курьи, случаем? – поинтересовался монах.
– Оттуда.
Старец задумчиво склонил голову. На его древнем лице явно прослеживались грусть и страдание. Он что-то вспоминал.
Наконец священник нарушил тишину:
– Жил я когда-то в Курье. Ходил я по деревням после революции. Богу защиты искал. А в двадцать седьмом в деревню вашу и пришел. Когда белые с красными воевали в гражданскую, думал, где-нибудь в малолюдье спокойно будет. Куда там. Война всех застала, от мала до велика. Попросился я на житье к одному мельнику. Николаем звали его.
Монах погладил свою длинную седую бороду. Иван подумал спросить, как монах оказался в итоге здесь, но тот, словно читая мысли, продолжил сам.
– Николай-то на въезде в Курью жил, если с этой стороны ехать. Хороший мужик был, добрый. У меня совета часто спрашивал, когда… – он осекся. – Когда всё началось…
Старик посмотрел в окно. Его согбенная фигура казалась еще старее, чем была до этого. За окном ярко светило солнце, на ветвях сосен чирикали свои басни маленькие воробушки. Такими воробушками были и Николай с его семьей, когда дверь открылась, и в нее вошел Егорка Дементьев. «Вставайте, – сказал он. – Комитет бедноты посчитал вас врагами советской власти. Все ваше имущество переходит в её владение. Вы задержаны».
Он избежал ссылки потому что был далеко в этот момент. Узнав о случившемся, долго скорбел и даже пытался поднять на восстание всех, кто был с ними в те годы. А вот сейчас перед ним сидит новое поколение советских людей. Такие же они, как и те, кто гнали веру Христову тогда, в семнадцатом году? Такой ли он, как те, кто шел на своего отца и брата ради лживых речей антихриста? Такой ли он, как те, кто хватал попов и, надев хомут, гнал по всей деревне, понужая кнутом? Такой ли он, как те, кто после разгромления России пировал, сложа ноги на иконах или учиняя непотребства в святых местах, плевал на спасительные лики и использовал, как мишень? Нет, он не такой…
Старик ничего не забыл, но простил народу все прегрешения, ибо знал, что расплата – не в жизни, а в смерти.
Иван мерно жевал, запивая чаем. «Видать, сильно проголодался», – подумал старик.
– А я ведь помню тебя мальцом еще. И отца твоего помню. Да, было время тогда.
– А, может, и он вас помнит? – поинтересовался Ваня.
– Он-то помнит. Как деда Ферапонта не запомнить.
Монах посмотрел на Ваню и улыбнулся.
– Ты, наверное, слышал о донесениях с границы? Расскажи, как там.
– Всякое говорят, – ответил парень. – Но все-таки, думаю, не будет войны. Мир же подписан.
– Подписан, – протянул старец. – Только когда это было препятствием? Нет, Ваня, не мир и не война правят. Правит только вера. Люди погибают на войнах, рвутся в бой. И Господь идет с ними и подает им руку, забирая с собой. И многое прощается тем, кто Родину свою защищает и веру Христову от антихристовых слуг.
– Коли будет война, так я пойду. Мы их быстро выбьем, – ответил Ваня.
– Пойдешь… – с грустью ответил Ферапонт. – Не рвись, Ваня, в бой. Долгой война может быть, и только выжив в ней, ты победишь. Будь смелым и никогда не падай духом. Уныние – грех смертный. Но дай Бог вам никогда не узнать этого страшного слова – война.
– Я – коммунист. Бог – это глупости, – ответил Ваня.
Старец тяжело вздохнул.
– Спасибо вам за еду. Я пойду, а то мужики заждались уже.
– Ну что ж, не в силах тебя задерживать. Ко мне редко кто заходит. Вот, держи, – монах передал Ване узел с едой. – Здесь немного, но вам хватит насытиться. Степан посуду потом занесет.
Они вышли на улицу. Солнце куда-то исчезло, и ветер, который едва ощущался, теперь дул с большой силой. Тьма шла со стороны Синюхи. Маленькие тучки сбивались в одно причудливое очертание. Иван с Ферапонтом завороженно глядели на это.
– Ступай, Ваня. Ступай с Богом.
Иван попрощался и пошел к мужикам. Старец еще долго стоял на коленях на том месте и творил страстную молитву о спасении всех душ.
В лесу ветер почти не ощущался. Было темно из-за густых крон сосен. Ване хотелось рассмотреть, что же стало с той тучей. Вдруг сильный порыв отодвинул в одном месте верхушки деревьев, и юноша увидел громадное подобие кинжала над горой. Его пробрала дрожь и объял небольшой страх. Ваня быстро поборол его и направился дальше.
Многие видели это. Поговаривали о великой беде и скорби. О дурном предзнаменовании для своего народа.
Так двадцать второго июня по всей стране прозвучала война. Все встали на защиту своей необъятной Родины. Все хотели постоять за свою землю, свою страну, свой народ.
* * *
По всей стране прошел указ о мобилизации войск на западный фронт. В Курье готовились отправляться в дальний путь. На комиссию созывали всех в школу. Пришли врачи и заседали в большом классе. Там же стояли мужчины и совсем юные парни, прикрывая стыд от глаз молодой докторши. Сами врачи долго не развозили.
– Хронических болезней нет?
– Нет.
– Служить можешь?
– Могу.
Штамп в карточку о пригодности и – с Богом. Были и те, кто филонил. Несколько симулянтов попались с Ваней вместе.
– Можешь служить? – спросил врач у Вани.
– Могу.
– Ну, тогда ступай, парень, – врач немного помедлил и пристальнее посмотрел в карточку. – Так тебе семнадцать лет, получается? Нельзя тебе на передовую.
– Но мне нужно в бой. Все наши парни отправляются на войну. А я буду отсиживаться? Разрешите мне пойти.
Врач призадумался. Перед Иваном были симулянты, и нежелание их защитить страну выглядело очень омерзительно. Врач и сам был назначен военным хирургом в полевой госпиталь и через пару дней отбывал на фронт.
– Ну что же с тобой делать… – протянул врач.
Немного подумав, он встал и громко, на всю аудиторию произнес:
– Вот, учитесь, сопляки. Парень еще юн, а рвется в бой. Может, он и будет жалеть об этом, но сейчас, здесь он не трусит столкнуться с неприятелем и постоять за свою землю.
На лицах симулянтов проявилась краснота от стыда. Иван засмущался, но чувства сдержал.
– Подойди, сынок, – подозвал его врач. – Ты точно уверен в своем решении?
– Да, уверен. Точно.
– Ну, что ж. С Богом.
Огромная толпа людей собралась провожать своих мужей, отцов и сыновей на войну. Со всего района свозили готовых сражаться с врагом. Они еще не знали, что их ждало…
Иван стоял с семьей и выслушивал напутствия матери. Вдруг к нему подошел друг и попросил отойти.
– Чего случилось, Миш?
– Да тут с тобой кое-кто увидеться хочет. Пойдем, отойдем на минутку.
Друзья зашли за крайнюю машину, на которой повезут всех на фронт, и там он увидел Марию. На ее лице были слезы. Миша отошел, чтобы не мешать разговору.
Они говорили обо всем. Слишком много им нужно было сказать друг другу, но времени оставалось все меньше. Мария дала на память свою фотокарточку. Напоследок влюбленные крепко обнялись и так стояли, не желая разлучиться, пока Миша не подошел к ним.
– Собираются отъезжать, – сказал он.
Иван поцеловал Марию, обнялся с другом и, побежав к машине, сказал:
– Не забывайте только меня. Скоро буду.
Ваня юркнул сквозь толпу солдат с родственниками и, встав повыше, начал махать родителям. Недалеко от них стояли и Миша с Марией.
* * *
От станции к станции тянулись вагоны. Иван пару раз отправлял письмо родителям, рассказывая о своем впечатлении. Всю жизнь Иван прожил дома и никуда не выезжал из района. Эта поездка была для него многообещающей.
Спустя неделю их взвод прибыл в небольшую деревушку на опушке леса. По одному краю деревни протекала речушка, с противоположной стояли толпы сосняка, заграждая путь взору. Все здесь было ему незнакомо. Новое и в то же время такое, как и в родном селе. По дороге на фронт Ваня познакомился с одним человеком, старше его на десять лет, но весьма простым на разговор и желание сплотить коллектив во имя больших целей.
Как-то вечером они стояли вдвоем на мосту и смотрели на заходящее солнце. Закат здесь был другим. Кромка леса пылала от солнца, а сами деревья все сильнее чернели по мере приближения к ним светила. Но над солнцем стояло ярко-голубое небо с длинными белыми облаками, дарившее тишину и покой.
В деревне пока что все было спокойно. Немцы были далеко, и жители не особо переживали за войну в своих краях. Тем временем у солдат было слишком много свободного времени.
– Так что, Вань. Чем займемся сегодня? – спросил у парня его новый приятель Александр.
– Не знаю. От безделья уже тело ноет. Одно дело – жителям помогать, да и все на этом.
– Ты драться-то умеешь? А ну как немец нападет, а ты и в бою не годишься?
– Да ну, – отмахнулся Иван. – За себя постоять я смогу. Да и немец не с кулаками идет.
– А ну, давай проверим, – с вызовом бросил ему товарищ. – Давай. Ударь меня.
Иван больше с иронией, чем с серьезностью решил ударить друга по плечу, но тот и не думал шутить. В мгновение ока он перехватил руку Ивана и, свернув ее, откинул того на землю. Юноша, поняв всю серьезность ситуации, решил не отступать и кинулся на товарища, но тот в последний момент просто отошел в сторону, и Иван попросту налетел на забор.
– Как ты это делаешь? – поинтересовался парень.
– Умения не пропьешь. Всему есть выучка и опыт, – с улыбкой ответил ему товарищ. И, протянув ему руку, сказал:
– Продолжим тренировку, Ваня.
Иван решил быть хитрее на этот раз и попытался сделать обманный маневр. Сначала он замахнулся левой рукой в голову, а правой ударил в грудь. От обоих ударов Александр просто отмахнулся и снова толкнул ладонью соперника вперед.
Силы Ивана были на исходе, и он стал наносить целую волну ударов, от которых друг уворачивался или отражал их, иногда давая Ване легкую пощечину.
– Все, хватит с меня, – устало отозвался Иван. – Ты победил.
– Теперь видишь, что не всегда самоуверенность может победить, – ответил ему друг.
– Но как ты это делаешь? Ты прям, как кошка, вертелся.
– Учеба, Ваня. На все – учеба и навыки. Они помогут тебе на войне, – он протянул Ване руку. – Если хочешь, могу научить.
Иван взял Александра за руку и устало ответил:
– Научи. Если это поможет в борьбе с немцами, то учи.
Все следующие дни они тренировались. Но кроме урока для тела, были уроки для ума. Александр учил друга, как поступать в различных ситуациях, говорил что-то о религии и труде. Много упоминал о коллективизации.
Как-то Иван спросил у товарища, откуда он знает так много. Несмотря на то, что их взгляды в плане религии рознились, Ваня начинал понимать ее суть, и дух социализма незаметно слабел в его сердце.
– Знаешь, Вань, мы с тобой так сдружились за эти дни. Ты делаешь неплохие успехи в боевом искусстве. Но есть и кое-что еще. Когда мы сражаемся с врагом, то в нашей душе происходит нарушение равновесия. Если обычно мы находимся в балансе между спокойствием и гневом, то здесь весы перевешивают, увы, не в хорошую сторону.
Иван слушал друга, не совсем понимая, о чем тот говорит. Александр же продолжал:
– Если нам придется сражаться, не привыкай убивать. Хоть мы и сражаемся за свою Родину, но Бог не простит нам невинно убитых людей. Сражайся с воинами, но не с людьми.
Александр помедлил, но потом решил продолжить. Его взор устремился далеко в лесную чащу, так напоминавшую ему родной дом.
– Я ведь вырос в семье непростой. Отец был не сказать, чтобы богатым, но не такой уж обыкновенный, как все думали. Все то, чему учил тебя я, мне передал когда-то он. Отца признали кулаком во время коллективизации и сослали всю нашу семью погибать. Но мы выжили. Выжили, несмотря на все козни со стороны… – Александр осекся. – Со стороны власти. Спустя пару лет люди, которым служил когда-то отец, нашли нас и убили его, решив, что он выдаст их за свою реабилитацию. Перед смертью он отдал мне это.
Товарищ вытащил из-за голенища сапога небольшой нож весьма странной формы. Клинок мог выдвигаться, и на нем были специальные крепежи для чего-то, чего Иван не знал.
– Я тогда пообещал отомстить за смерть отца, – продолжал Саша. – Мне удалось сделать себе поддельный паспорт и устроиться на работу для дальнейшего существования. С кулацкими детьми сложнее, чем с обычными.
Иван стоял и молчал. Он не знал, что ответить другу. Так же, как не мог понять его горечи. У Вани в жизни все было иначе. Оба родителя живы и здоровы, подрастающие братья и сестра. Своя жизнь только начинала бить ключом, а потому Ваня часто думал о Марье. Каждую ночь вспоминал он их поцелуй в той тихой лунной тишине, смотрел на ее фотокарточку и представлял, что находится среди своей семьи с ней.
«Марьюшка, как же хорошо на улице. Открыл окно, и так пахнуло свежестью и прохладой легкой. Во всю грудь дышу и надышаться не могу. Хорошо так. Воздух свежий и вкусный. И тишина…
Вот так бы нам с тобой здесь стоять впору. Я бы не только воздухом этим, но и тобой наслаждался. Эх, Машенька, как мне тебя не хватает рядом, голубка ты моя распрекрасная», – писал Ваня.
Марья же не заставила ждать за ответом. Сразу садилась писать ответ: «Я о тебе всё думаю. Как ты там? Всё ли хорошо? Хоть мыслями своими о тебе душу грею да письмами твоими. Смотрю на закат иной раз, а сама представляю, как ты рядом стоишь и меня обнимаешь. Жду с нетерпением твоего письма. Твоя Мария».
Радовался Ваня письмам. Обнимал их, прижимал к себе, а потом убирал в нагрудный карман. Ближе к сердцу. Садился писать следующее письмо.
«Смотрю вот из окна. Утро такое хорошее. Во дворах петухи поют. Совсем как у нас в деревне. И так хорошо сразу на душе становится.
Дорогая моя Машенька, представляю тебя рядом с собой каждый день. Как обнимаю тебя, целую твою маленькую ручку и так прям голову к твоей головке приклонил, поцеловал ее, и так вот стоим мы с тобой, смотрим далеко.
А я всё тебя обнимаю и не хочу отпускать. Не хочу потому что. Да и не надо мне большего. Лишь бы тебя, голубку мою ненаглядную, видеть рядом и тобой дивиться. Красе твоей. Солнышко ты мое ясное. Ласточка моя.
Твой Ваня».
Через пару дней в деревню начали приходить донесения с фронта о том, что немцы стремительно наступают в сторону их деревни и вскоре могут взять и этот уголок тишины.
Лес кругом. Скаты и перевалы, а между ними идет Ванюша. Недалеко от него уже прослеживалась открытая поляна с небольшим озером. На берегу стоит келья, близ сосен, чуть поодаль топится баня старца. Сам он роется в огороде. Немного тут земли, свободной от деревьев, да и чего надо старику. Только покоя и ищут в таких местах.
Монах, завидев нежданного гостя, пошел ему навстречу.
– Откуда ты, парень? – начал старец.
– Мы здесь недалеко лес рубим. Так у нас еды с собой нет. Меня к вам мужики и отправили. От Никольцева сказали передать.
– Вот как. Так как там раб божий Степан?
– Помаленьку.
– Ну что ж, пойдем, посмотрим, чем Бог послал.
Они зашли в жилище. У старика было уютно. Справа от входа – нары, возле окошка – большой стол, приделанный к стене, как и лежанка, в углу – сундучок. Над сундуком – большая икона Святой Троицы, перед ней – лампадка.
Все в келье было сделано самим хозяином и тем самым Степаном Никольцевым. В далекое время старец проповедовал веру в столице Императорской Руси – Санкт-Петербурге. Потом отправился с просветительской миссией да в итоге осел в Барнауле до революции, после чего ходил по деревням. Но сейчас время совсем другое, и старик выбрал тихое место, чтобы остаться наедине с собой и Богом, которому верно служил уже семьдесят девять лет.
– Ты сам-то сильно голодный? – спросил монах у гостя.
– Поел бы, – протянул Ваня.
– Я тут утром кашеварил, осталось еще. Да чай еще не остыл. Давай накормлю, – и старик начал шебуршать посудой. Поставил на стол тарелку каши и налил свежего травяного чая, дал хлеба и ложку. Сам уселся рядом за столом и начал длинный разговор:
– Как зовут тебя?
– Иваном. Ивана Купоносова сын.
– Не из Курьи, случаем? – поинтересовался монах.
– Оттуда.
Старец задумчиво склонил голову. На его древнем лице явно прослеживались грусть и страдание. Он что-то вспоминал.
Наконец священник нарушил тишину:
– Жил я когда-то в Курье. Ходил я по деревням после революции. Богу защиты искал. А в двадцать седьмом в деревню вашу и пришел. Когда белые с красными воевали в гражданскую, думал, где-нибудь в малолюдье спокойно будет. Куда там. Война всех застала, от мала до велика. Попросился я на житье к одному мельнику. Николаем звали его.
Монах погладил свою длинную седую бороду. Иван подумал спросить, как монах оказался в итоге здесь, но тот, словно читая мысли, продолжил сам.
– Николай-то на въезде в Курью жил, если с этой стороны ехать. Хороший мужик был, добрый. У меня совета часто спрашивал, когда… – он осекся. – Когда всё началось…
Старик посмотрел в окно. Его согбенная фигура казалась еще старее, чем была до этого. За окном ярко светило солнце, на ветвях сосен чирикали свои басни маленькие воробушки. Такими воробушками были и Николай с его семьей, когда дверь открылась, и в нее вошел Егорка Дементьев. «Вставайте, – сказал он. – Комитет бедноты посчитал вас врагами советской власти. Все ваше имущество переходит в её владение. Вы задержаны».
Он избежал ссылки потому что был далеко в этот момент. Узнав о случившемся, долго скорбел и даже пытался поднять на восстание всех, кто был с ними в те годы. А вот сейчас перед ним сидит новое поколение советских людей. Такие же они, как и те, кто гнали веру Христову тогда, в семнадцатом году? Такой ли он, как те, кто шел на своего отца и брата ради лживых речей антихриста? Такой ли он, как те, кто хватал попов и, надев хомут, гнал по всей деревне, понужая кнутом? Такой ли он, как те, кто после разгромления России пировал, сложа ноги на иконах или учиняя непотребства в святых местах, плевал на спасительные лики и использовал, как мишень? Нет, он не такой…
Старик ничего не забыл, но простил народу все прегрешения, ибо знал, что расплата – не в жизни, а в смерти.
Иван мерно жевал, запивая чаем. «Видать, сильно проголодался», – подумал старик.
– А я ведь помню тебя мальцом еще. И отца твоего помню. Да, было время тогда.
– А, может, и он вас помнит? – поинтересовался Ваня.
– Он-то помнит. Как деда Ферапонта не запомнить.
Монах посмотрел на Ваню и улыбнулся.
– Ты, наверное, слышал о донесениях с границы? Расскажи, как там.
– Всякое говорят, – ответил парень. – Но все-таки, думаю, не будет войны. Мир же подписан.
– Подписан, – протянул старец. – Только когда это было препятствием? Нет, Ваня, не мир и не война правят. Правит только вера. Люди погибают на войнах, рвутся в бой. И Господь идет с ними и подает им руку, забирая с собой. И многое прощается тем, кто Родину свою защищает и веру Христову от антихристовых слуг.
– Коли будет война, так я пойду. Мы их быстро выбьем, – ответил Ваня.
– Пойдешь… – с грустью ответил Ферапонт. – Не рвись, Ваня, в бой. Долгой война может быть, и только выжив в ней, ты победишь. Будь смелым и никогда не падай духом. Уныние – грех смертный. Но дай Бог вам никогда не узнать этого страшного слова – война.
– Я – коммунист. Бог – это глупости, – ответил Ваня.
Старец тяжело вздохнул.
– Спасибо вам за еду. Я пойду, а то мужики заждались уже.
– Ну что ж, не в силах тебя задерживать. Ко мне редко кто заходит. Вот, держи, – монах передал Ване узел с едой. – Здесь немного, но вам хватит насытиться. Степан посуду потом занесет.
Они вышли на улицу. Солнце куда-то исчезло, и ветер, который едва ощущался, теперь дул с большой силой. Тьма шла со стороны Синюхи. Маленькие тучки сбивались в одно причудливое очертание. Иван с Ферапонтом завороженно глядели на это.
– Ступай, Ваня. Ступай с Богом.
Иван попрощался и пошел к мужикам. Старец еще долго стоял на коленях на том месте и творил страстную молитву о спасении всех душ.
В лесу ветер почти не ощущался. Было темно из-за густых крон сосен. Ване хотелось рассмотреть, что же стало с той тучей. Вдруг сильный порыв отодвинул в одном месте верхушки деревьев, и юноша увидел громадное подобие кинжала над горой. Его пробрала дрожь и объял небольшой страх. Ваня быстро поборол его и направился дальше.
Многие видели это. Поговаривали о великой беде и скорби. О дурном предзнаменовании для своего народа.
Так двадцать второго июня по всей стране прозвучала война. Все встали на защиту своей необъятной Родины. Все хотели постоять за свою землю, свою страну, свой народ.
* * *
По всей стране прошел указ о мобилизации войск на западный фронт. В Курье готовились отправляться в дальний путь. На комиссию созывали всех в школу. Пришли врачи и заседали в большом классе. Там же стояли мужчины и совсем юные парни, прикрывая стыд от глаз молодой докторши. Сами врачи долго не развозили.
– Хронических болезней нет?
– Нет.
– Служить можешь?
– Могу.
Штамп в карточку о пригодности и – с Богом. Были и те, кто филонил. Несколько симулянтов попались с Ваней вместе.
– Можешь служить? – спросил врач у Вани.
– Могу.
– Ну, тогда ступай, парень, – врач немного помедлил и пристальнее посмотрел в карточку. – Так тебе семнадцать лет, получается? Нельзя тебе на передовую.
– Но мне нужно в бой. Все наши парни отправляются на войну. А я буду отсиживаться? Разрешите мне пойти.
Врач призадумался. Перед Иваном были симулянты, и нежелание их защитить страну выглядело очень омерзительно. Врач и сам был назначен военным хирургом в полевой госпиталь и через пару дней отбывал на фронт.
– Ну что же с тобой делать… – протянул врач.
Немного подумав, он встал и громко, на всю аудиторию произнес:
– Вот, учитесь, сопляки. Парень еще юн, а рвется в бой. Может, он и будет жалеть об этом, но сейчас, здесь он не трусит столкнуться с неприятелем и постоять за свою землю.
На лицах симулянтов проявилась краснота от стыда. Иван засмущался, но чувства сдержал.
– Подойди, сынок, – подозвал его врач. – Ты точно уверен в своем решении?
– Да, уверен. Точно.
– Ну, что ж. С Богом.
Огромная толпа людей собралась провожать своих мужей, отцов и сыновей на войну. Со всего района свозили готовых сражаться с врагом. Они еще не знали, что их ждало…
Иван стоял с семьей и выслушивал напутствия матери. Вдруг к нему подошел друг и попросил отойти.
– Чего случилось, Миш?
– Да тут с тобой кое-кто увидеться хочет. Пойдем, отойдем на минутку.
Друзья зашли за крайнюю машину, на которой повезут всех на фронт, и там он увидел Марию. На ее лице были слезы. Миша отошел, чтобы не мешать разговору.
Они говорили обо всем. Слишком много им нужно было сказать друг другу, но времени оставалось все меньше. Мария дала на память свою фотокарточку. Напоследок влюбленные крепко обнялись и так стояли, не желая разлучиться, пока Миша не подошел к ним.
– Собираются отъезжать, – сказал он.
Иван поцеловал Марию, обнялся с другом и, побежав к машине, сказал:
– Не забывайте только меня. Скоро буду.
Ваня юркнул сквозь толпу солдат с родственниками и, встав повыше, начал махать родителям. Недалеко от них стояли и Миша с Марией.
* * *
От станции к станции тянулись вагоны. Иван пару раз отправлял письмо родителям, рассказывая о своем впечатлении. Всю жизнь Иван прожил дома и никуда не выезжал из района. Эта поездка была для него многообещающей.
Спустя неделю их взвод прибыл в небольшую деревушку на опушке леса. По одному краю деревни протекала речушка, с противоположной стояли толпы сосняка, заграждая путь взору. Все здесь было ему незнакомо. Новое и в то же время такое, как и в родном селе. По дороге на фронт Ваня познакомился с одним человеком, старше его на десять лет, но весьма простым на разговор и желание сплотить коллектив во имя больших целей.
Как-то вечером они стояли вдвоем на мосту и смотрели на заходящее солнце. Закат здесь был другим. Кромка леса пылала от солнца, а сами деревья все сильнее чернели по мере приближения к ним светила. Но над солнцем стояло ярко-голубое небо с длинными белыми облаками, дарившее тишину и покой.
В деревне пока что все было спокойно. Немцы были далеко, и жители не особо переживали за войну в своих краях. Тем временем у солдат было слишком много свободного времени.
– Так что, Вань. Чем займемся сегодня? – спросил у парня его новый приятель Александр.
– Не знаю. От безделья уже тело ноет. Одно дело – жителям помогать, да и все на этом.
– Ты драться-то умеешь? А ну как немец нападет, а ты и в бою не годишься?
– Да ну, – отмахнулся Иван. – За себя постоять я смогу. Да и немец не с кулаками идет.
– А ну, давай проверим, – с вызовом бросил ему товарищ. – Давай. Ударь меня.
Иван больше с иронией, чем с серьезностью решил ударить друга по плечу, но тот и не думал шутить. В мгновение ока он перехватил руку Ивана и, свернув ее, откинул того на землю. Юноша, поняв всю серьезность ситуации, решил не отступать и кинулся на товарища, но тот в последний момент просто отошел в сторону, и Иван попросту налетел на забор.
– Как ты это делаешь? – поинтересовался парень.
– Умения не пропьешь. Всему есть выучка и опыт, – с улыбкой ответил ему товарищ. И, протянув ему руку, сказал:
– Продолжим тренировку, Ваня.
Иван решил быть хитрее на этот раз и попытался сделать обманный маневр. Сначала он замахнулся левой рукой в голову, а правой ударил в грудь. От обоих ударов Александр просто отмахнулся и снова толкнул ладонью соперника вперед.
Силы Ивана были на исходе, и он стал наносить целую волну ударов, от которых друг уворачивался или отражал их, иногда давая Ване легкую пощечину.
– Все, хватит с меня, – устало отозвался Иван. – Ты победил.
– Теперь видишь, что не всегда самоуверенность может победить, – ответил ему друг.
– Но как ты это делаешь? Ты прям, как кошка, вертелся.
– Учеба, Ваня. На все – учеба и навыки. Они помогут тебе на войне, – он протянул Ване руку. – Если хочешь, могу научить.
Иван взял Александра за руку и устало ответил:
– Научи. Если это поможет в борьбе с немцами, то учи.
Все следующие дни они тренировались. Но кроме урока для тела, были уроки для ума. Александр учил друга, как поступать в различных ситуациях, говорил что-то о религии и труде. Много упоминал о коллективизации.
Как-то Иван спросил у товарища, откуда он знает так много. Несмотря на то, что их взгляды в плане религии рознились, Ваня начинал понимать ее суть, и дух социализма незаметно слабел в его сердце.
– Знаешь, Вань, мы с тобой так сдружились за эти дни. Ты делаешь неплохие успехи в боевом искусстве. Но есть и кое-что еще. Когда мы сражаемся с врагом, то в нашей душе происходит нарушение равновесия. Если обычно мы находимся в балансе между спокойствием и гневом, то здесь весы перевешивают, увы, не в хорошую сторону.
Иван слушал друга, не совсем понимая, о чем тот говорит. Александр же продолжал:
– Если нам придется сражаться, не привыкай убивать. Хоть мы и сражаемся за свою Родину, но Бог не простит нам невинно убитых людей. Сражайся с воинами, но не с людьми.
Александр помедлил, но потом решил продолжить. Его взор устремился далеко в лесную чащу, так напоминавшую ему родной дом.
– Я ведь вырос в семье непростой. Отец был не сказать, чтобы богатым, но не такой уж обыкновенный, как все думали. Все то, чему учил тебя я, мне передал когда-то он. Отца признали кулаком во время коллективизации и сослали всю нашу семью погибать. Но мы выжили. Выжили, несмотря на все козни со стороны… – Александр осекся. – Со стороны власти. Спустя пару лет люди, которым служил когда-то отец, нашли нас и убили его, решив, что он выдаст их за свою реабилитацию. Перед смертью он отдал мне это.
Товарищ вытащил из-за голенища сапога небольшой нож весьма странной формы. Клинок мог выдвигаться, и на нем были специальные крепежи для чего-то, чего Иван не знал.
– Я тогда пообещал отомстить за смерть отца, – продолжал Саша. – Мне удалось сделать себе поддельный паспорт и устроиться на работу для дальнейшего существования. С кулацкими детьми сложнее, чем с обычными.
Иван стоял и молчал. Он не знал, что ответить другу. Так же, как не мог понять его горечи. У Вани в жизни все было иначе. Оба родителя живы и здоровы, подрастающие братья и сестра. Своя жизнь только начинала бить ключом, а потому Ваня часто думал о Марье. Каждую ночь вспоминал он их поцелуй в той тихой лунной тишине, смотрел на ее фотокарточку и представлял, что находится среди своей семьи с ней.
«Марьюшка, как же хорошо на улице. Открыл окно, и так пахнуло свежестью и прохладой легкой. Во всю грудь дышу и надышаться не могу. Хорошо так. Воздух свежий и вкусный. И тишина…
Вот так бы нам с тобой здесь стоять впору. Я бы не только воздухом этим, но и тобой наслаждался. Эх, Машенька, как мне тебя не хватает рядом, голубка ты моя распрекрасная», – писал Ваня.
Марья же не заставила ждать за ответом. Сразу садилась писать ответ: «Я о тебе всё думаю. Как ты там? Всё ли хорошо? Хоть мыслями своими о тебе душу грею да письмами твоими. Смотрю на закат иной раз, а сама представляю, как ты рядом стоишь и меня обнимаешь. Жду с нетерпением твоего письма. Твоя Мария».
Радовался Ваня письмам. Обнимал их, прижимал к себе, а потом убирал в нагрудный карман. Ближе к сердцу. Садился писать следующее письмо.
«Смотрю вот из окна. Утро такое хорошее. Во дворах петухи поют. Совсем как у нас в деревне. И так хорошо сразу на душе становится.
Дорогая моя Машенька, представляю тебя рядом с собой каждый день. Как обнимаю тебя, целую твою маленькую ручку и так прям голову к твоей головке приклонил, поцеловал ее, и так вот стоим мы с тобой, смотрим далеко.
А я всё тебя обнимаю и не хочу отпускать. Не хочу потому что. Да и не надо мне большего. Лишь бы тебя, голубку мою ненаглядную, видеть рядом и тобой дивиться. Красе твоей. Солнышко ты мое ясное. Ласточка моя.
Твой Ваня».
Через пару дней в деревню начали приходить донесения с фронта о том, что немцы стремительно наступают в сторону их деревни и вскоре могут взять и этот уголок тишины.

Наталья ЩЕГЛОВА
Родилась в 1955 году в селе Новосельское Атбасарского района Целиноградской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина. С 1994 года живет в Тюменской области. Поэзией увлекалась с юности. Стихи публиковались в литературно-краеведческом альманахе «Поэзия земли Тюменской» (№43 и №44). Первый сборник «За русский мир», патриотический, посвященный событиям 2014 года и СВО, вышел в январе 2023 года.
Родилась в 1955 году в селе Новосельское Атбасарского района Целиноградской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина. С 1994 года живет в Тюменской области. Поэзией увлекалась с юности. Стихи публиковались в литературно-краеведческом альманахе «Поэзия земли Тюменской» (№43 и №44). Первый сборник «За русский мир», патриотический, посвященный событиям 2014 года и СВО, вышел в январе 2023 года.
МАМИНА ВОЙНА
(в сокращении)
Волга встретила хмуро. Ветер гнал сильные волны. Вода была тёмная и пенилась, выплёскиваясь на песчаный берег. Недовольно шумели дубы. Я – в селе Орловском Марксовского района. Жители говорят, что такая погода всего второй день, весь июнь было тепло и солнечно. Хорошо, что прихватила тёплую кофту. Не ожидала такой погоды на Волге.
Почему я здесь? Орловское – это родина моей мамы, первые предки прибыли сюда в 1763 году из немецкого Магдебурга по желанию царицы Екатерины, где и жили до начала Великой Отечественной войны. В 1941 всем немцам Поволжья пришлось покинуть свои родные места. Маме было в ту пору 16 лет. Куда только жизнь не бросала молоденьких девчонок. Сначала Сибирь, потом – знойная Туркмения, г. Красноводск. Каспийский пустынный берег, голые горы, вой шакалов. Часто трясло, боялись ночевать в землянках. Здесь мама прожила 11 лет, скучала за своими родными, тосковала по родному дому, который так больше и не увидела. Сколько пролито слёз, сколько испытаний выдержано, сколько земли перекопано; силы придавала мечта о победе и встрече. Семья собралась только в 1947 году в степном казахстанском селе, а мама нашла их в 1953-м. Начиналась целина. Приехало много народу со всех концов страны. Мама встретила моего отца, приехавшего из Горьковской области. Прожили вместе 52 года, вырастили трёх дочек. Распад Советского Союза переживали тяжело. Не могли смириться и с тем, что Москва стала столицей другого государства. Решили уехать в Россию, ведь она правопреемница их родного Советского Союза. Навсегда в сердце осталась любовь к степным просторам, пшеничным полям, тюльпанам, спокойной речке, сопкам.
Мамы не стало в 2006 году. Всю жизнь она вспоминала свою родину, мечтала увидеть хоть одним глазком, но не случилось. И вот я здесь: год 2023-ий, я приехала на мамину родину. Мне это было очень нужно. Стою на берегу, а Волга сегодня разбушевалась, как море, но я испытала радость и волнение от встречи с ней именно в этом месте, куда в детстве своём прибегала мама. Как же она тебя любила, Волга! Хочется и плакать, и смеяться, и петь. Мама всегда напевала, эта её привычка перешла ко мне. Мы столько знали о селе, о реке от мамы, что все казалось знакомым и родным. Я прошла по улицам Орловского, познакомилась с хорошими людьми, увидела дома своих родственников, там давно живут другие люди. Когда жители выехали, в их дома поселили людей, вывезенных из оккупированных районов. Большую беду пережили все наши люди: русские, немцы, белорусы, украинцы. Пусть никогда не повторится такое!
Самые тяжелые воспоминания мамы связаны с 1937 и 1941 годами. Дважды пришлось пережить страшные слова: сначала «дети врага народа», потом и вовсе – «враги, фашисты».
Как это было больно!
Мамино желание я исполнила, побывала вместо неё на её родине, душа моя тоже успокоилась. Два дня в Орловском, прогулка вдоль Волги подарили мне незабываемые моменты.
Какой бы трудной ни была жизнь, с какой бы несправедливостью ни пришлось столкнуться, я не слышала никогда, чтобы моя мама или бабушка ругали свою страну. Никогда! А как любили свою родину, свою Волгу, слышала от них много раз. О Ленине и Сталине бабушка говорила, что это великие люди, их не надо судить. Времена были такие. Люди их ждали – и того, и другого. Ленин для простых людей был как Бог на Земле, освободил людей всего мира от рабства, показал, что люди все равны на Земле (как и перед Богом), принял на себя все их грехи, страдал и страдает на этой земле. Никто не знает, где его душа, а тело должна земля принять когда-нибудь. А Сталина тоже не судила. Говорила, что немцы наши должны ему быть благодарны, если бы Гитлер пришёл, то не пощадил бы ни одного. А что было тяжело и умирали, так ведь и русские, и другие страдали не меньше, у русских женщин мужья, братья, отцы и сыновья воевали и погибали, многие остались калеками, а дети по 14 часов работали. Фашисты целые деревни мирных людей сжигали. История сама все рассудит. А люди только зря копья ломают в спорах. Войны и революции без крови и зла не бывают. Обвинить можно каждого, понять труднее. Надо не судить о том, что за спиной, а думать о том, как сегодня и завтра жить, жить без войн и революций, без кровопролития и зла. А прошлое о себе само напомнит в будущем, если сегодня ошибёшься, примешь неверное решение.
Я вспоминаю эти бабушкины слова и думаю, как же она была права! Одной из ошибок в нашей стране была и та, которая позволила настоящим врагам, полицаям, бандеровцам в послевоенные годы получить свободу и жить среди людей. Они лелеяли свою ненависть, ждали своего часа, жаждали мести. Воспитывали своих детей в нелюбви к России, русскому языку, прикрываясь «украинством». Слава Богу, наступила «Крымская весна» в 2014-м году! Но как же трудно пришлось Донбассу! Вся Россия встала на защиту! Это тоже будет жестокая война. Больше бандеровцам и фашистам не будет прощения, никогда!
О своей полной реабилитации дед и бабушка так и не узнали, но никогда не были и не считали себя врагами свой страны. Было у них трое детей, восемь внуков, восемнадцать правнуков. История безжалостна, ломает судьбы многих людей, в её жернова попадают и невиновные. И только мудрость этих людей не даёт им озлобиться, только истинная любовь к своей Родине даёт силы и на прощение, и на жизнь. В этой жизни у каждого была ещё и своя война. Мамина война была тяжелой. Это была война и с фашизмом, и с вопиющей несправедливостью и унижением, и со своей обидой, но она была за жизнь, за право быть полноправным гражданином своей любимой страны, за свою историю, за Победу. И её война не была напрасной. Позже она получила медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Когда взяла в руки, сказала: «Так больно и горько, что не могу даже плакать! Я всегда любила свою страну и была с ней несмотря ни на что, я верила, что правда вернется». Мама награждена памятной медалью «50 лет Победы в ВОВ».
В русской семье моего отца война была другая: в 45-ом погиб во время Висло-Одерской операции старший брат, не дождался Победы. А отец вернулся с тяжелой контузией и до конца жизни видел свои сны – всё воевал, кричал во сне. Об этом будет другой рассказ. Но самый главный праздник в нашей семье всегда был и будет День Победы. И обязательно со слезами горечи и радости!
ПРО ВАСЮ
Васе уже целых пять с половиной лет. Папа называет его строго Василием, как деда, а мама и бабушка зовут его Васильком, но ему больше нравится Василий. Вася привык просыпаться рано, а как хочется ещё спать! Но маме нельзя опаздывать на работу, а ему – в детский сад. Там его ждут Женька и Санька. В тихий час друзья крепко зажмуривают глаза, делая вид, что спят, потому что совсем не хочется. Больше всего Вася любит, когда из дальней поездки возвращается папа, он всегда привозит ему новые игрушки. Дома уже целый гараж, какой только игрушечной техники там нет! Папа про каждую рассказывает, а Вася мечтает стать таким же хорошим водителем и возить грузы по всей стране. А ещё он любит быть у бабушки, когда детский сад не работает. Утром можно хорошо выспаться, а тихого часа у бабушки нет, она просто читает Васе книжки или рассказывает сказки, и иногда Вася засыпает сам.
– Ну вот, Василёк, ты и поспал, – смеётся она потом.
Но в последнюю свою поездку папа уезжал как-то не так. Почему-то приехала бабушка проводить его, мама и бабушка были какие-то грустные, шутил только папа. Обычно он подъезжал к дому на своей огромной машине, а тут они все стали собираться провожать папу на вокзал, мама не пошла на свою работу, а Васю не отвели в детский сад.
– Папа, у тебя машина сломалась или работа другая? – спросил Вася.
Папа засмеялся:
– Все верно, Василий, другая работа. А там будет другая машина. Ты не скучай, я задержусь немножко больше, чем обычно.
Васю удивило, что папа его как-то очень крепко прижал к себе и поцеловал, а мама и бабушка очень стараются не плакать, и его маленькое сердечко тоже защемило, и стало как-то грустно. А когда папа переоделся в солдатскую форму, Вася спросил:
– А что за работа такая новая? Ты снова в армию пойдёшь?
У папы был армейский альбом, Вася мог подолгу разглядывать все фотографии – папа был морским пехотинцем. Когда приходил папин друг дядя Коля, они вспоминали разные истории.
Бабушка сказала, что папа поедет на СВО, будет защищать нас.
– От кого? – удивился Вася. – Разве у нас война?
Папа сказал, что всё ему расскажет, когда приедет, а пока надо просто ходить в детский сад и готовиться к школе, помогать маме.
На вокзале было много народу. Вася не мог понять, почему одни смеются и шутят, другие плачут, но одно он понял: там, куда едет папа, будет даже страшно. Он крепко ухватился за папину руку и не отпускал. Потом папа попрощался с мамой и бабушкой, с дядей Колей и еще раз обнял Васю.
– Ну, давайте! Не грустите, всё будет хорошо! – сказал папа и запрыгнул в вагон.
Поезд медленно поехал, все шли следом за вагоном, махали, что-то кричали, и теперь Васе захотелось заплакать. Бабушка обняла маму и Васю и сказала, что пора домой, и что ничего не случилось.
Дома просто пили чай и молчали. Потом бабушка и мама объясняли Васе, что такое СВО, говорили, что будут писать папе письма, а Вася будет рисовать.
С этого дня Васина жизнь изменилась. Весточки от папы приходят редко, это даже не письма. Мама куда-то звонит, и ей что-то говорят. Бабушка приезжает чаще, чем раньше; она теперь ходит у себя в клуб и помогает вязать маскировочные сети, а по вечерам вяжет носки всем, кто служит с папой. А Васе интересно слушать её рассказы, он теперь много нового узнал. А ещё она научила маму читать молитвы, подарила такую книжку, где все молитвы написаны. Вася знает буквы, но читать пока не умеет, учится с мамой. Бабушка сказала, надо петь буквы и слоги, тогда быстрей дело будет; они так и делают, бывает смешно. В бабушкиной деревне нет церкви, она в воскресные дни приезжает, берёт Васю и маму, и они вместе идут в церковь. Бабушка научила ставить свечи за здравие всех воинов, всех родных. В группе воспитательница всегда спрашивает, нет ли от папы весточки. И не только у Васи, но и у девочки Оли тоже папа на СВО.
Прошло полгода, Вася научился читать, еще не так быстро, но уже сам. Оказывается, это так здорово! Этой осенью он пойдёт в первый класс. На дворе лето, мама в отпуске, теперь они сами у бабушки в деревне, наводят порядок в саду. Раньше это делал дед, а когда его не стало, помогал папа. Как его не хватает! Они ждут его как никогда, он должен приехать скоро на две недели. Какой это будет хороший день! За это время Вася понял, что СВО – это война. Скорее бы приехал папа!
Когда он дома, вся жизнь совсем другая.
(в сокращении)
Волга встретила хмуро. Ветер гнал сильные волны. Вода была тёмная и пенилась, выплёскиваясь на песчаный берег. Недовольно шумели дубы. Я – в селе Орловском Марксовского района. Жители говорят, что такая погода всего второй день, весь июнь было тепло и солнечно. Хорошо, что прихватила тёплую кофту. Не ожидала такой погоды на Волге.
Почему я здесь? Орловское – это родина моей мамы, первые предки прибыли сюда в 1763 году из немецкого Магдебурга по желанию царицы Екатерины, где и жили до начала Великой Отечественной войны. В 1941 всем немцам Поволжья пришлось покинуть свои родные места. Маме было в ту пору 16 лет. Куда только жизнь не бросала молоденьких девчонок. Сначала Сибирь, потом – знойная Туркмения, г. Красноводск. Каспийский пустынный берег, голые горы, вой шакалов. Часто трясло, боялись ночевать в землянках. Здесь мама прожила 11 лет, скучала за своими родными, тосковала по родному дому, который так больше и не увидела. Сколько пролито слёз, сколько испытаний выдержано, сколько земли перекопано; силы придавала мечта о победе и встрече. Семья собралась только в 1947 году в степном казахстанском селе, а мама нашла их в 1953-м. Начиналась целина. Приехало много народу со всех концов страны. Мама встретила моего отца, приехавшего из Горьковской области. Прожили вместе 52 года, вырастили трёх дочек. Распад Советского Союза переживали тяжело. Не могли смириться и с тем, что Москва стала столицей другого государства. Решили уехать в Россию, ведь она правопреемница их родного Советского Союза. Навсегда в сердце осталась любовь к степным просторам, пшеничным полям, тюльпанам, спокойной речке, сопкам.
Мамы не стало в 2006 году. Всю жизнь она вспоминала свою родину, мечтала увидеть хоть одним глазком, но не случилось. И вот я здесь: год 2023-ий, я приехала на мамину родину. Мне это было очень нужно. Стою на берегу, а Волга сегодня разбушевалась, как море, но я испытала радость и волнение от встречи с ней именно в этом месте, куда в детстве своём прибегала мама. Как же она тебя любила, Волга! Хочется и плакать, и смеяться, и петь. Мама всегда напевала, эта её привычка перешла ко мне. Мы столько знали о селе, о реке от мамы, что все казалось знакомым и родным. Я прошла по улицам Орловского, познакомилась с хорошими людьми, увидела дома своих родственников, там давно живут другие люди. Когда жители выехали, в их дома поселили людей, вывезенных из оккупированных районов. Большую беду пережили все наши люди: русские, немцы, белорусы, украинцы. Пусть никогда не повторится такое!
Самые тяжелые воспоминания мамы связаны с 1937 и 1941 годами. Дважды пришлось пережить страшные слова: сначала «дети врага народа», потом и вовсе – «враги, фашисты».
Как это было больно!
Мамино желание я исполнила, побывала вместо неё на её родине, душа моя тоже успокоилась. Два дня в Орловском, прогулка вдоль Волги подарили мне незабываемые моменты.
Какой бы трудной ни была жизнь, с какой бы несправедливостью ни пришлось столкнуться, я не слышала никогда, чтобы моя мама или бабушка ругали свою страну. Никогда! А как любили свою родину, свою Волгу, слышала от них много раз. О Ленине и Сталине бабушка говорила, что это великие люди, их не надо судить. Времена были такие. Люди их ждали – и того, и другого. Ленин для простых людей был как Бог на Земле, освободил людей всего мира от рабства, показал, что люди все равны на Земле (как и перед Богом), принял на себя все их грехи, страдал и страдает на этой земле. Никто не знает, где его душа, а тело должна земля принять когда-нибудь. А Сталина тоже не судила. Говорила, что немцы наши должны ему быть благодарны, если бы Гитлер пришёл, то не пощадил бы ни одного. А что было тяжело и умирали, так ведь и русские, и другие страдали не меньше, у русских женщин мужья, братья, отцы и сыновья воевали и погибали, многие остались калеками, а дети по 14 часов работали. Фашисты целые деревни мирных людей сжигали. История сама все рассудит. А люди только зря копья ломают в спорах. Войны и революции без крови и зла не бывают. Обвинить можно каждого, понять труднее. Надо не судить о том, что за спиной, а думать о том, как сегодня и завтра жить, жить без войн и революций, без кровопролития и зла. А прошлое о себе само напомнит в будущем, если сегодня ошибёшься, примешь неверное решение.
Я вспоминаю эти бабушкины слова и думаю, как же она была права! Одной из ошибок в нашей стране была и та, которая позволила настоящим врагам, полицаям, бандеровцам в послевоенные годы получить свободу и жить среди людей. Они лелеяли свою ненависть, ждали своего часа, жаждали мести. Воспитывали своих детей в нелюбви к России, русскому языку, прикрываясь «украинством». Слава Богу, наступила «Крымская весна» в 2014-м году! Но как же трудно пришлось Донбассу! Вся Россия встала на защиту! Это тоже будет жестокая война. Больше бандеровцам и фашистам не будет прощения, никогда!
О своей полной реабилитации дед и бабушка так и не узнали, но никогда не были и не считали себя врагами свой страны. Было у них трое детей, восемь внуков, восемнадцать правнуков. История безжалостна, ломает судьбы многих людей, в её жернова попадают и невиновные. И только мудрость этих людей не даёт им озлобиться, только истинная любовь к своей Родине даёт силы и на прощение, и на жизнь. В этой жизни у каждого была ещё и своя война. Мамина война была тяжелой. Это была война и с фашизмом, и с вопиющей несправедливостью и унижением, и со своей обидой, но она была за жизнь, за право быть полноправным гражданином своей любимой страны, за свою историю, за Победу. И её война не была напрасной. Позже она получила медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Когда взяла в руки, сказала: «Так больно и горько, что не могу даже плакать! Я всегда любила свою страну и была с ней несмотря ни на что, я верила, что правда вернется». Мама награждена памятной медалью «50 лет Победы в ВОВ».
В русской семье моего отца война была другая: в 45-ом погиб во время Висло-Одерской операции старший брат, не дождался Победы. А отец вернулся с тяжелой контузией и до конца жизни видел свои сны – всё воевал, кричал во сне. Об этом будет другой рассказ. Но самый главный праздник в нашей семье всегда был и будет День Победы. И обязательно со слезами горечи и радости!
ПРО ВАСЮ
Васе уже целых пять с половиной лет. Папа называет его строго Василием, как деда, а мама и бабушка зовут его Васильком, но ему больше нравится Василий. Вася привык просыпаться рано, а как хочется ещё спать! Но маме нельзя опаздывать на работу, а ему – в детский сад. Там его ждут Женька и Санька. В тихий час друзья крепко зажмуривают глаза, делая вид, что спят, потому что совсем не хочется. Больше всего Вася любит, когда из дальней поездки возвращается папа, он всегда привозит ему новые игрушки. Дома уже целый гараж, какой только игрушечной техники там нет! Папа про каждую рассказывает, а Вася мечтает стать таким же хорошим водителем и возить грузы по всей стране. А ещё он любит быть у бабушки, когда детский сад не работает. Утром можно хорошо выспаться, а тихого часа у бабушки нет, она просто читает Васе книжки или рассказывает сказки, и иногда Вася засыпает сам.
– Ну вот, Василёк, ты и поспал, – смеётся она потом.
Но в последнюю свою поездку папа уезжал как-то не так. Почему-то приехала бабушка проводить его, мама и бабушка были какие-то грустные, шутил только папа. Обычно он подъезжал к дому на своей огромной машине, а тут они все стали собираться провожать папу на вокзал, мама не пошла на свою работу, а Васю не отвели в детский сад.
– Папа, у тебя машина сломалась или работа другая? – спросил Вася.
Папа засмеялся:
– Все верно, Василий, другая работа. А там будет другая машина. Ты не скучай, я задержусь немножко больше, чем обычно.
Васю удивило, что папа его как-то очень крепко прижал к себе и поцеловал, а мама и бабушка очень стараются не плакать, и его маленькое сердечко тоже защемило, и стало как-то грустно. А когда папа переоделся в солдатскую форму, Вася спросил:
– А что за работа такая новая? Ты снова в армию пойдёшь?
У папы был армейский альбом, Вася мог подолгу разглядывать все фотографии – папа был морским пехотинцем. Когда приходил папин друг дядя Коля, они вспоминали разные истории.
Бабушка сказала, что папа поедет на СВО, будет защищать нас.
– От кого? – удивился Вася. – Разве у нас война?
Папа сказал, что всё ему расскажет, когда приедет, а пока надо просто ходить в детский сад и готовиться к школе, помогать маме.
На вокзале было много народу. Вася не мог понять, почему одни смеются и шутят, другие плачут, но одно он понял: там, куда едет папа, будет даже страшно. Он крепко ухватился за папину руку и не отпускал. Потом папа попрощался с мамой и бабушкой, с дядей Колей и еще раз обнял Васю.
– Ну, давайте! Не грустите, всё будет хорошо! – сказал папа и запрыгнул в вагон.
Поезд медленно поехал, все шли следом за вагоном, махали, что-то кричали, и теперь Васе захотелось заплакать. Бабушка обняла маму и Васю и сказала, что пора домой, и что ничего не случилось.
Дома просто пили чай и молчали. Потом бабушка и мама объясняли Васе, что такое СВО, говорили, что будут писать папе письма, а Вася будет рисовать.
С этого дня Васина жизнь изменилась. Весточки от папы приходят редко, это даже не письма. Мама куда-то звонит, и ей что-то говорят. Бабушка приезжает чаще, чем раньше; она теперь ходит у себя в клуб и помогает вязать маскировочные сети, а по вечерам вяжет носки всем, кто служит с папой. А Васе интересно слушать её рассказы, он теперь много нового узнал. А ещё она научила маму читать молитвы, подарила такую книжку, где все молитвы написаны. Вася знает буквы, но читать пока не умеет, учится с мамой. Бабушка сказала, надо петь буквы и слоги, тогда быстрей дело будет; они так и делают, бывает смешно. В бабушкиной деревне нет церкви, она в воскресные дни приезжает, берёт Васю и маму, и они вместе идут в церковь. Бабушка научила ставить свечи за здравие всех воинов, всех родных. В группе воспитательница всегда спрашивает, нет ли от папы весточки. И не только у Васи, но и у девочки Оли тоже папа на СВО.
Прошло полгода, Вася научился читать, еще не так быстро, но уже сам. Оказывается, это так здорово! Этой осенью он пойдёт в первый класс. На дворе лето, мама в отпуске, теперь они сами у бабушки в деревне, наводят порядок в саду. Раньше это делал дед, а когда его не стало, помогал папа. Как его не хватает! Они ждут его как никогда, он должен приехать скоро на две недели. Какой это будет хороший день! За это время Вася понял, что СВО – это война. Скорее бы приехал папа!
Когда он дома, вся жизнь совсем другая.

Юлия МЕЗЕНЦЕВА
Педагог-организатор отдела воспитательной работы ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» высшей квалификационной категории, награждена медалью «За укрепление боевого содружества», лауреат I Всероссийской литературной премии «Честь имею», кандидат в члены «Союза детских писателей».
Закончила декоративно-прикладное отделение Курганского училища культуры, а затем художественно-графический факультет Шадринского педагогического института по специальности ИЗО и черчение. Первый рассказ из серии «Заметки о кадетке», повествующий о мечтах и сновидениях кадета 7 класса Антона Трубецкого, появился на свет в 2020 году и был посвящен великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. В планах на ближайшее будущее закончить сборник рассказов «Заметки о кадетке» и написать приключенческую повесть о кадетах-пятиклассниках.
Педагог-организатор отдела воспитательной работы ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище» высшей квалификационной категории, награждена медалью «За укрепление боевого содружества», лауреат I Всероссийской литературной премии «Честь имею», кандидат в члены «Союза детских писателей».
Закончила декоративно-прикладное отделение Курганского училища культуры, а затем художественно-графический факультет Шадринского педагогического института по специальности ИЗО и черчение. Первый рассказ из серии «Заметки о кадетке», повествующий о мечтах и сновидениях кадета 7 класса Антона Трубецкого, появился на свет в 2020 году и был посвящен великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. В планах на ближайшее будущее закончить сборник рассказов «Заметки о кадетке» и написать приключенческую повесть о кадетах-пятиклассниках.
ПОМНИТЕ О НЁМ…
– Лариса Ивановна, здравствуйте.
– Здравствуйте, Светлана Николаевна, очень рада вас слышать! Как ваши дела? Как Андрей? – ответила я, прижав телефон ухом к плечу, одновременно снимая пальто, стягивая сапоги и закидывая тяжелый пакет из «Монетки» на стоящий в прихожей диван. А моя память уже нарисовала в голове образ шустрого кареглазого мальчугана с копной пшеничных волос, курносым носом и обаятельной улыбкой, от которой на щеках появлялись забавные ямочки.
– Андрюша погиб…
Леденящий холод пробежал по моему телу и остановился в груди, сжимая, как безжалостный кулак, с каждой секундой все сильнее и сильнее трепещущее от волнения сердце. Пальцы не слушались, едва не уронив телефон, ноги стали ватными, по щекам побежали быстрые соленые ручейки, а горло сковал горький колючий ком, не позволяющий не только дышать, но и выдавить хоть какой-нибудь звук, не говоря уже о слове.
– Как погиб?
– При выполнении боевой задачи…
Мне почему-то сразу вспомнился воспитатель нашего кадетского класса – майор запаса Александр Викторович Лисицын. Он как-то спросил меня: «Ларочка, а знаете ли вы, чем боевая задача отличается от обычной?» «Нет», – отвечаю я. «Боевая – это задача, которую нельзя не выполнить ни при каких условиях». Он именно так учил наших ребят и, если хотел, чтобы его указания непременно были выполнены четко и в срок, всегда называл их «боевой задачей».
– При выполнении боевой задачи, – повторила я автоматически, пытаясь осознать произносимое.
– Похороны в субботу, – прервал череду моих мыслей тихий спокойный голос. – Вы сможете приехать? Если нет, я пойму… и не обижусь, просто он вас очень любил, уважал, всегда называл «классной мамой» и наверняка хотел бы…
Первый выпуск – самый дорогой, любимый, памятный. Наше кадетское училище открылось совсем недавно, и первый набор состоял сразу из трех курсов – пятого, шестого и седьмого. Мне повезло стать классным руководителем удивительного 7 «Д». Двадцать мальчишек со всех уголков страны, я и майор Лис, как прозвали его ребята с первых дней за невероятную смекалку, находчивость и хитроватый прищур глаз. Все они были такие разные, уникальные, интересные, шумные, живые, но один из них сразу обратил на себя мое внимание – это и был Андрей Новичков. Двенадцатилетний сорванец из Набережных Челнов, он был не по годам серьезным и рассудительным, ответственно подходил к любому делу и всегда старался все выполнить идеально, но при этом был не прочь созорничать разок-другой.
Провожая свой класс на каникулы после первого года обучения, мы все делились планами на лето, и я сказала, что обязательно поеду в Челны по делам, каждый отпуск я приезжала в город детства к маме на могилку. Помню, Андрей тогда обрадовался и сразу предложил свою помощь: «Как здорово, Лариса Ивановна! Я вас непременно встречу! Только сообщите, когда! Хорошо? Я буду ждать вас, Лариса Ивановна!» «Я приеду. Я обязательно приеду!» – ответила я. С тех пор он встречал меня на вокзале каждое лето и даже после выпуска, когда стал совсем взрослым; помогал донести багаж, мы болтали, делились новостями и впечатлениями, и вдруг… Вдруг страшное осознание того, что теперь мы будем встречаться не на шумном челнинском вокзале, а на тихом загородном кладбище, ввергло меня в полное оцепенение.
– Я приеду. Я обязательно приеду, – повторяла я в трубку, присев на табурет прямо в прихожей, пытаясь принять, всю горечь ситуации, всю ее неизменность и безысходность, а главное, состояние моей собеседницы, горе которой не сможет измерить ни один прибор в мире и осознать не сможет ни один человек, знавший Андрея, потому что это ее сын. – Расскажите! Расскажите мне все, что знаете! Давайте будем говорить о нем.
Стояла страшная тишина… Наши города соединила неимоверная, пронизывающая время и пространство боль, которая, перебирая натянутые до предела струны грусти, создавала невероятно трогательный фон для переговоров двух заплаканных душ.
– А помните, как он напугал нас в восьмом классе, – пыталась я безуспешно вспомнить из миллиона историй, всплывающих в голове, ту одну, подходящую для нашего разговора.
– Помню. Он так сильно хотел поехать на соревнования, что умолчал про больной живот? – неохотно ответила Светлана Николаевна, будто бы пытаясь отстраниться от всех своих воспоминаний, связанных с сыном.
Но мысли уже унесли нас обеих в тот злополучный день, где все, казалось, шло, как обычно: уроки, самоподготовка, личное время. Сборники возвращались с очередной тренировки по армейскому рукопашному бою, Андрей шел медленно вдоль стены, слегка прихрамывая и как-то странно зажимая рукой правый бок. Я поинтересовалась, что случилось, но он тут же выпрямился, улыбнулся, сказал, что все в порядке, что он просто устал и убежал в свою комнату. Почувствовав что-то неладное, я решила зайти к нему. Мальчик лежал на кровати, скорчившись, бледный, весь покрытый испариной и чуть слышно постанывал, а увидев меня, вскочил, но резкое движение вызвало нестерпимую боль, он вскрикнул и рухнул без сознания. Я вызвала дежурного медика. «Срочно скорую, похоже на аппендицит», – сказала Анна Павловна. Через полчаса я уже нервно бродила по больничному коридору возле операционной.
– Чего я тогда только не передумала! Вам звонить не решалась до окончания операции, хотелось сразу утешить хорошим исходом дела, себя всячески проклинала за невнимательность: он, оказывается, третий день терпел, чтобы его из состава сборной не вычеркнули перед соревнованиями; и одновременно удивлялась: сколько же в этом маленьком человечке мужества и силы воли, превозмогать такую боль!
– Терпению его любой мог бы позавидовать, – включилась в разговор Светлана Николаевна, погружаясь уже в свои воспоминания и пытаясь не просто примерить на себя, но и забрать всю боль своего единственного ребенка, даже ту, которую он испытал в страшный момент гибели, но она все равно была ничтожна по сравнению с ее собственной и ни на секунду не заглушала ее.
– Он даже когда совсем маленьким был, никогда не плакал, – продолжала она, – терпел, что бы ни случилось. А когда стал серьезно спортом заниматься, так и вовсе ни на какие раны и ссадины внимания не обращал. «Главное – воля к победе и желание достичь новых результатов» – вот его девиз. А знаете, Лариса Ивановна, он мне уже после училища признался, что тогда с аппендицитом выдержать смог бы что угодно, только чтобы в Первенстве победить, только вот сильно ему хотелось булочку с изюмом, прямо в невмоготу.
– Помню, он тогда на больничной диете похудел сильно, даже пришлось специально вес набирать для следующих соревнований, вот булочками мы его и «откармливали»! – продолжила я, пытаясь прийти в себя, перебравшись на кухню и наливая себе кружечку чая.
И новая история унесла меня в воспоминания, когда одним зимним воскресным вечером половина ребят была еще в увольнении, а на полдник давали ароматные сахарные рогалики с повидлом внутри. Рогаликов оставалось так много, что тетя Маша, наша повариха, раздавала ребятам добавку. «Кушайте-кушайте, – причитала она, – вам расти надо. Вы же будущие защитники Родины». Многие добавку не брали, а Андрей хозяйственно сложил все в полиэтиленовый пакетик и прихватил с собой. Ну, думаю, пускай вечером в корпусе чайку попьют. А когда мы вышли на улицу на построение, он вдруг куда-то запропастился. Мы с ребятами все обыскали; я уже, если честно, не знала, что и подумать – куда мог деться ребенок на закрытой территории с пакетом рогаликов? И вот захожу за хозяйственный корпус, а он сидит там на коленках прямо на снегу, разложил перед собой мешочек с коржиками, кормит бездомного щенка и приговаривает: «Кушай-кушай, тебе расти нужно, будешь училище охранять».
Как выяснилось позже, щенка этого он давненько заприметил и подкармливал каждый вечер, а тот и рад-радешенек такому обстоятельству, сам уже ждет у забора, когда ему угощения принесут. Сердиться на то, что он без спросу ушел, я уже не могла, да это было бы и неправильно с моей стороны. Отнесли мы щенка в гараж, а дежурный водитель пообещал его к себе в деревню увезти и в добрые руки пристроить.
– Он у меня такой добрый был, внимательный; и птиц, и зверей – всех любил и всех жалел, – продолжала разговор Светлана Николаевна, охотнее отстраняясь от гнетущих мыслей и с головой погружаясь в мир, где Андрей был жив. – Он однажды пса дворового вытащил из канализационного люка, выходил, выкормил, прятал от меня, а потом так переживал, когда тот удрал.
Вечер воспоминаний незаметно перерос в глубокую ночь. Стрелки часов медленно подтягивались к отметке с цифрой три, а на другом конце провода был почти час, но спать нам обеим совсем не хотелось или не моглось, и разговор продолжался.
– Друзей у него много… осталось. Вот и ребята ваши звонят весь день, спрашивают, когда прощание, чем помочь.
– Класс у нас действительно хороший, дружный, а компания, которая с первых дней в училище собралась вокруг Андрея, отличалась своей слаженностью, настоящей мальчишеской дружбой и кадетским братством. Мы даже прозвали эту неразлучную четверку «Д’Артаньян и три мушкетера».
Прозвище это появилось у них после первого новогоднего костюмированного представления. Совпало так, что настольной книгой нашего класса в этот период как раз стал роман Александра Дюма «Три мушкетера», и все мальчишки мечтали получить костюмы любимых героев, поэтому пришлось устраивать своеобразный кастинг на «лучшего Д’Артаньяна». Каждый претендент должен был собрать себе команду из трех друзей и разыграть сценку из книги или фильма о храброй королевской страже. И тут Андрей каким-то чудом уговорил преподавателя по фехтованию выдать ему на время четыре рапиры. Превзойти сцену дуэли Д’Артаньяна с мушкетерами в монастыре «Кармелиток», разыгранную закадычными друзьями да еще с настоящим оружием, никому не удалось, так и остались они для всех мушкетерами до самого выпуска.
– А на балу в девятом классе у них появилась своя Констанция, – продолжала я. – Но эта романтическая история заслуживает отдельного разговора.
– Я помню эту милую девчушку, – моя собеседница вдруг встрепенулась, засуетилась, пытаясь найти нечто важное – то, что всегда было на виду, а сейчас куда-то пропало. – Андрей танцевал с ней на выпускном, и у нас даже сохранилась где-то ее фотография.
В трубке слышались шорох, перекладывание каких-то вещей, скрежет ножек стула по голому полу – по всему было слышно, что человек что-то ищет.
– Вот она, – продолжила Светлана Николаевна, запыхавшись от неожиданных, но успешных поисков и начиная описывать содержание найденной фотографии. – Обнимаются, улыбаются, такие счастливые… Тут надпись еще: «Моему Д’Артаньяну с любовью от Виктории». Теперь понятно, почему Андрей убрал ее подальше, видимо, не хотел смущать Марину – это его девушка. Она добрая и милая, он ее очень любит… точнее, уже любил... Даже предложение сделал перед самым отъездом на СВО.
Предрассветная тишина принесла с собой какой-то холод и пустоту, которая окутала все вокруг, но я не могла ей позволить проникнуть в свое сердце и захватить его в плен уныния. Конечно, мне хотелось плакать, кричать, рыдать, а нужно было, обязательно нужно было продолжить разговор, чтобы человек, который позвонил мне, для того чтобы выговорится, не сошел с ума от одиночества.
– А Марина, где она сейчас? – спросила я, взяв себя в руки, утирая слезы, бесконтрольно бегущие по щекам, и пытаясь сдерживать всхлипывания носом.
– Спит. В его комнате. Плакала весь день. Устала.
– Вам тоже следует отдохнуть, – предложила я, снова посмотрев на часы, начинающие отсчет раннего утра.
– Ой, я, наверное, совсем вас утомила своей болтовнёй, – забеспокоилась Светлана Николаевна. – Простите меня, ради бога… но мне совершенно не с кем поговорить.
– Нет-нет, ну что вы, я все равно не уснула бы сегодня… – чувствуя, что теперь моя измученная терзаниями собеседница готова к откровению, я продолжила. – Вам известно, как это случилось? Расскажите, вам станет легче…
– Если честно, мы и сами толком ничего не знаем, – вздохнув, начала она. – С утра позвонили из военкомата. Сказали, что в ходе наступательной операции под Херсоном наш сын, Новичков Андрей Викторович, спасая раненого в бою товарища, героически погиб. Потом сказали, что похороны и поминальный обед они берут на себя, и чтобы мы ни о чем не беспокоились. Завтра должны привезти моего мальчика, так я литургию заказала. Сейчас рассветет и ехать надо в Свято-Вознесенский собор, а отец-то никак не может в себя прийти, все сидит молча, ни слова не проронил и меня как будто не замечает. А я вот обзваниваю родных и друзей, чтоб хоть проводить Андрюшу как следует…
Андрей Новичков похоронен 5 ноября 2022 года на Аллее Славы среди воинов, отдавших свою жизнь за Отчизну. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества. Имя его увековечено на мемориале «Родина-мать» у Вечного огня в городе Набережные Челны.
Народная мудрость гласит: «Пока о человеке помнят, он живет».
Помните о нем – кареглазом кадете с пшеничными волосами, курносым носом и обаятельной улыбкой, от которой на щеках появлялись забавные ямочки.
Помните о нем – настоящем мужчине, который делом своей жизни выбрал воинскую службу и до последнего вздоха оставался верен присяге.
Помните о нем – любящем сыне, который положил свою жизнь за родных, за близких, за Отечество!
Помните о нем…
– Лариса Ивановна, здравствуйте.
– Здравствуйте, Светлана Николаевна, очень рада вас слышать! Как ваши дела? Как Андрей? – ответила я, прижав телефон ухом к плечу, одновременно снимая пальто, стягивая сапоги и закидывая тяжелый пакет из «Монетки» на стоящий в прихожей диван. А моя память уже нарисовала в голове образ шустрого кареглазого мальчугана с копной пшеничных волос, курносым носом и обаятельной улыбкой, от которой на щеках появлялись забавные ямочки.
– Андрюша погиб…
Леденящий холод пробежал по моему телу и остановился в груди, сжимая, как безжалостный кулак, с каждой секундой все сильнее и сильнее трепещущее от волнения сердце. Пальцы не слушались, едва не уронив телефон, ноги стали ватными, по щекам побежали быстрые соленые ручейки, а горло сковал горький колючий ком, не позволяющий не только дышать, но и выдавить хоть какой-нибудь звук, не говоря уже о слове.
– Как погиб?
– При выполнении боевой задачи…
Мне почему-то сразу вспомнился воспитатель нашего кадетского класса – майор запаса Александр Викторович Лисицын. Он как-то спросил меня: «Ларочка, а знаете ли вы, чем боевая задача отличается от обычной?» «Нет», – отвечаю я. «Боевая – это задача, которую нельзя не выполнить ни при каких условиях». Он именно так учил наших ребят и, если хотел, чтобы его указания непременно были выполнены четко и в срок, всегда называл их «боевой задачей».
– При выполнении боевой задачи, – повторила я автоматически, пытаясь осознать произносимое.
– Похороны в субботу, – прервал череду моих мыслей тихий спокойный голос. – Вы сможете приехать? Если нет, я пойму… и не обижусь, просто он вас очень любил, уважал, всегда называл «классной мамой» и наверняка хотел бы…
Первый выпуск – самый дорогой, любимый, памятный. Наше кадетское училище открылось совсем недавно, и первый набор состоял сразу из трех курсов – пятого, шестого и седьмого. Мне повезло стать классным руководителем удивительного 7 «Д». Двадцать мальчишек со всех уголков страны, я и майор Лис, как прозвали его ребята с первых дней за невероятную смекалку, находчивость и хитроватый прищур глаз. Все они были такие разные, уникальные, интересные, шумные, живые, но один из них сразу обратил на себя мое внимание – это и был Андрей Новичков. Двенадцатилетний сорванец из Набережных Челнов, он был не по годам серьезным и рассудительным, ответственно подходил к любому делу и всегда старался все выполнить идеально, но при этом был не прочь созорничать разок-другой.
Провожая свой класс на каникулы после первого года обучения, мы все делились планами на лето, и я сказала, что обязательно поеду в Челны по делам, каждый отпуск я приезжала в город детства к маме на могилку. Помню, Андрей тогда обрадовался и сразу предложил свою помощь: «Как здорово, Лариса Ивановна! Я вас непременно встречу! Только сообщите, когда! Хорошо? Я буду ждать вас, Лариса Ивановна!» «Я приеду. Я обязательно приеду!» – ответила я. С тех пор он встречал меня на вокзале каждое лето и даже после выпуска, когда стал совсем взрослым; помогал донести багаж, мы болтали, делились новостями и впечатлениями, и вдруг… Вдруг страшное осознание того, что теперь мы будем встречаться не на шумном челнинском вокзале, а на тихом загородном кладбище, ввергло меня в полное оцепенение.
– Я приеду. Я обязательно приеду, – повторяла я в трубку, присев на табурет прямо в прихожей, пытаясь принять, всю горечь ситуации, всю ее неизменность и безысходность, а главное, состояние моей собеседницы, горе которой не сможет измерить ни один прибор в мире и осознать не сможет ни один человек, знавший Андрея, потому что это ее сын. – Расскажите! Расскажите мне все, что знаете! Давайте будем говорить о нем.
Стояла страшная тишина… Наши города соединила неимоверная, пронизывающая время и пространство боль, которая, перебирая натянутые до предела струны грусти, создавала невероятно трогательный фон для переговоров двух заплаканных душ.
– А помните, как он напугал нас в восьмом классе, – пыталась я безуспешно вспомнить из миллиона историй, всплывающих в голове, ту одну, подходящую для нашего разговора.
– Помню. Он так сильно хотел поехать на соревнования, что умолчал про больной живот? – неохотно ответила Светлана Николаевна, будто бы пытаясь отстраниться от всех своих воспоминаний, связанных с сыном.
Но мысли уже унесли нас обеих в тот злополучный день, где все, казалось, шло, как обычно: уроки, самоподготовка, личное время. Сборники возвращались с очередной тренировки по армейскому рукопашному бою, Андрей шел медленно вдоль стены, слегка прихрамывая и как-то странно зажимая рукой правый бок. Я поинтересовалась, что случилось, но он тут же выпрямился, улыбнулся, сказал, что все в порядке, что он просто устал и убежал в свою комнату. Почувствовав что-то неладное, я решила зайти к нему. Мальчик лежал на кровати, скорчившись, бледный, весь покрытый испариной и чуть слышно постанывал, а увидев меня, вскочил, но резкое движение вызвало нестерпимую боль, он вскрикнул и рухнул без сознания. Я вызвала дежурного медика. «Срочно скорую, похоже на аппендицит», – сказала Анна Павловна. Через полчаса я уже нервно бродила по больничному коридору возле операционной.
– Чего я тогда только не передумала! Вам звонить не решалась до окончания операции, хотелось сразу утешить хорошим исходом дела, себя всячески проклинала за невнимательность: он, оказывается, третий день терпел, чтобы его из состава сборной не вычеркнули перед соревнованиями; и одновременно удивлялась: сколько же в этом маленьком человечке мужества и силы воли, превозмогать такую боль!
– Терпению его любой мог бы позавидовать, – включилась в разговор Светлана Николаевна, погружаясь уже в свои воспоминания и пытаясь не просто примерить на себя, но и забрать всю боль своего единственного ребенка, даже ту, которую он испытал в страшный момент гибели, но она все равно была ничтожна по сравнению с ее собственной и ни на секунду не заглушала ее.
– Он даже когда совсем маленьким был, никогда не плакал, – продолжала она, – терпел, что бы ни случилось. А когда стал серьезно спортом заниматься, так и вовсе ни на какие раны и ссадины внимания не обращал. «Главное – воля к победе и желание достичь новых результатов» – вот его девиз. А знаете, Лариса Ивановна, он мне уже после училища признался, что тогда с аппендицитом выдержать смог бы что угодно, только чтобы в Первенстве победить, только вот сильно ему хотелось булочку с изюмом, прямо в невмоготу.
– Помню, он тогда на больничной диете похудел сильно, даже пришлось специально вес набирать для следующих соревнований, вот булочками мы его и «откармливали»! – продолжила я, пытаясь прийти в себя, перебравшись на кухню и наливая себе кружечку чая.
И новая история унесла меня в воспоминания, когда одним зимним воскресным вечером половина ребят была еще в увольнении, а на полдник давали ароматные сахарные рогалики с повидлом внутри. Рогаликов оставалось так много, что тетя Маша, наша повариха, раздавала ребятам добавку. «Кушайте-кушайте, – причитала она, – вам расти надо. Вы же будущие защитники Родины». Многие добавку не брали, а Андрей хозяйственно сложил все в полиэтиленовый пакетик и прихватил с собой. Ну, думаю, пускай вечером в корпусе чайку попьют. А когда мы вышли на улицу на построение, он вдруг куда-то запропастился. Мы с ребятами все обыскали; я уже, если честно, не знала, что и подумать – куда мог деться ребенок на закрытой территории с пакетом рогаликов? И вот захожу за хозяйственный корпус, а он сидит там на коленках прямо на снегу, разложил перед собой мешочек с коржиками, кормит бездомного щенка и приговаривает: «Кушай-кушай, тебе расти нужно, будешь училище охранять».
Как выяснилось позже, щенка этого он давненько заприметил и подкармливал каждый вечер, а тот и рад-радешенек такому обстоятельству, сам уже ждет у забора, когда ему угощения принесут. Сердиться на то, что он без спросу ушел, я уже не могла, да это было бы и неправильно с моей стороны. Отнесли мы щенка в гараж, а дежурный водитель пообещал его к себе в деревню увезти и в добрые руки пристроить.
– Он у меня такой добрый был, внимательный; и птиц, и зверей – всех любил и всех жалел, – продолжала разговор Светлана Николаевна, охотнее отстраняясь от гнетущих мыслей и с головой погружаясь в мир, где Андрей был жив. – Он однажды пса дворового вытащил из канализационного люка, выходил, выкормил, прятал от меня, а потом так переживал, когда тот удрал.
Вечер воспоминаний незаметно перерос в глубокую ночь. Стрелки часов медленно подтягивались к отметке с цифрой три, а на другом конце провода был почти час, но спать нам обеим совсем не хотелось или не моглось, и разговор продолжался.
– Друзей у него много… осталось. Вот и ребята ваши звонят весь день, спрашивают, когда прощание, чем помочь.
– Класс у нас действительно хороший, дружный, а компания, которая с первых дней в училище собралась вокруг Андрея, отличалась своей слаженностью, настоящей мальчишеской дружбой и кадетским братством. Мы даже прозвали эту неразлучную четверку «Д’Артаньян и три мушкетера».
Прозвище это появилось у них после первого новогоднего костюмированного представления. Совпало так, что настольной книгой нашего класса в этот период как раз стал роман Александра Дюма «Три мушкетера», и все мальчишки мечтали получить костюмы любимых героев, поэтому пришлось устраивать своеобразный кастинг на «лучшего Д’Артаньяна». Каждый претендент должен был собрать себе команду из трех друзей и разыграть сценку из книги или фильма о храброй королевской страже. И тут Андрей каким-то чудом уговорил преподавателя по фехтованию выдать ему на время четыре рапиры. Превзойти сцену дуэли Д’Артаньяна с мушкетерами в монастыре «Кармелиток», разыгранную закадычными друзьями да еще с настоящим оружием, никому не удалось, так и остались они для всех мушкетерами до самого выпуска.
– А на балу в девятом классе у них появилась своя Констанция, – продолжала я. – Но эта романтическая история заслуживает отдельного разговора.
– Я помню эту милую девчушку, – моя собеседница вдруг встрепенулась, засуетилась, пытаясь найти нечто важное – то, что всегда было на виду, а сейчас куда-то пропало. – Андрей танцевал с ней на выпускном, и у нас даже сохранилась где-то ее фотография.
В трубке слышались шорох, перекладывание каких-то вещей, скрежет ножек стула по голому полу – по всему было слышно, что человек что-то ищет.
– Вот она, – продолжила Светлана Николаевна, запыхавшись от неожиданных, но успешных поисков и начиная описывать содержание найденной фотографии. – Обнимаются, улыбаются, такие счастливые… Тут надпись еще: «Моему Д’Артаньяну с любовью от Виктории». Теперь понятно, почему Андрей убрал ее подальше, видимо, не хотел смущать Марину – это его девушка. Она добрая и милая, он ее очень любит… точнее, уже любил... Даже предложение сделал перед самым отъездом на СВО.
Предрассветная тишина принесла с собой какой-то холод и пустоту, которая окутала все вокруг, но я не могла ей позволить проникнуть в свое сердце и захватить его в плен уныния. Конечно, мне хотелось плакать, кричать, рыдать, а нужно было, обязательно нужно было продолжить разговор, чтобы человек, который позвонил мне, для того чтобы выговорится, не сошел с ума от одиночества.
– А Марина, где она сейчас? – спросила я, взяв себя в руки, утирая слезы, бесконтрольно бегущие по щекам, и пытаясь сдерживать всхлипывания носом.
– Спит. В его комнате. Плакала весь день. Устала.
– Вам тоже следует отдохнуть, – предложила я, снова посмотрев на часы, начинающие отсчет раннего утра.
– Ой, я, наверное, совсем вас утомила своей болтовнёй, – забеспокоилась Светлана Николаевна. – Простите меня, ради бога… но мне совершенно не с кем поговорить.
– Нет-нет, ну что вы, я все равно не уснула бы сегодня… – чувствуя, что теперь моя измученная терзаниями собеседница готова к откровению, я продолжила. – Вам известно, как это случилось? Расскажите, вам станет легче…
– Если честно, мы и сами толком ничего не знаем, – вздохнув, начала она. – С утра позвонили из военкомата. Сказали, что в ходе наступательной операции под Херсоном наш сын, Новичков Андрей Викторович, спасая раненого в бою товарища, героически погиб. Потом сказали, что похороны и поминальный обед они берут на себя, и чтобы мы ни о чем не беспокоились. Завтра должны привезти моего мальчика, так я литургию заказала. Сейчас рассветет и ехать надо в Свято-Вознесенский собор, а отец-то никак не может в себя прийти, все сидит молча, ни слова не проронил и меня как будто не замечает. А я вот обзваниваю родных и друзей, чтоб хоть проводить Андрюшу как следует…
Андрей Новичков похоронен 5 ноября 2022 года на Аллее Славы среди воинов, отдавших свою жизнь за Отчизну. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, представлен к ордену Мужества. Имя его увековечено на мемориале «Родина-мать» у Вечного огня в городе Набережные Челны.
Народная мудрость гласит: «Пока о человеке помнят, он живет».
Помните о нем – кареглазом кадете с пшеничными волосами, курносым носом и обаятельной улыбкой, от которой на щеках появлялись забавные ямочки.
Помните о нем – настоящем мужчине, который делом своей жизни выбрал воинскую службу и до последнего вздоха оставался верен присяге.
Помните о нем – любящем сыне, который положил свою жизнь за родных, за близких, за Отечество!
Помните о нем…

Дарья ЩЕДРИНА
По профессии – врач и психолог, живет и работает в Петербурге. Член Российского союза писателей (с 2017 г.), литературной мастерской «Новое слово» (г. Москва), литературного клуба «Творчество и потенциал»(Санкт-Петербург). Литературным творчеством увлекалась с детства. Долго писала «в стол». В 2015 г. набралась смелости и показала свои рассказы писателю, поэтессе, члену РСП Е. А. Родченковой, которые неожиданно понравились. С тех пор активно публикуется. Победитель конкурса «Издаем свой сценарий» издательства «Дикси Пресс», серия «Прорыв» (2018 г.). Финалист национальной премии «Писатель года 2020». Признана «Автором года» по версии издательства «Четыре» (2022 г.). Участник литературных альманахов издательства «Новое слово» «Все будет хорошо!» и «Премьера». Книги Дарьи Щедриной выходят в издательствах «Ридеро» и «Четыре».
По профессии – врач и психолог, живет и работает в Петербурге. Член Российского союза писателей (с 2017 г.), литературной мастерской «Новое слово» (г. Москва), литературного клуба «Творчество и потенциал»(Санкт-Петербург). Литературным творчеством увлекалась с детства. Долго писала «в стол». В 2015 г. набралась смелости и показала свои рассказы писателю, поэтессе, члену РСП Е. А. Родченковой, которые неожиданно понравились. С тех пор активно публикуется. Победитель конкурса «Издаем свой сценарий» издательства «Дикси Пресс», серия «Прорыв» (2018 г.). Финалист национальной премии «Писатель года 2020». Признана «Автором года» по версии издательства «Четыре» (2022 г.). Участник литературных альманахов издательства «Новое слово» «Все будет хорошо!» и «Премьера». Книги Дарьи Щедриной выходят в издательствах «Ридеро» и «Четыре».
ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК
Снаряд рухнул совсем близко. По ногам резануло десятком острых ножей, и Кот упал, не сдержав крика боли. Вокруг летели осколки и падали боевые товарищи.
«Добегался!» – подумал Кот, потянувшись дрожащими руками к посеченной осколками ноге. Ладонь тут же приобрела буро-красный цвет.
– Волк! – крикнул Кот, заметив уползающего на четвереньках товарища. – Я – триста! Помоги!!
Но тот только бросил на него дикий взгляд и пополз быстрее. Волк, старший группы, в которой Кот пошел на штурм укреплений орков, подхватив автомат, уходил назад, к своим, моля Бога, что остался жив в этой кровавой мясорубке.
А Кот так и лежал на поле боя. Пытаясь хоть как-то укрыться от летящей со всех сторон смерти, отполз и спрятался в ближайшей воронке от взрыва снаряда.
Едва стихли разрывы, кое-как перевязал свои раны и снова ткнулся лицом в коричневую землю и закрыл глаза. Русские в очередной раз отбили атаку, даже не дав подойти к своим укреплениям, нанеся упреждающий удар по скоплению противника, изготовившегося к броску.
Он третий день был на передовой, и казалось, все его тело каждой клеточкой впитало страх смерти. И теперь этот страх изливался из ран кровью, впитываясь в успевший оттаять после зимы чернозем. «За мной придут, – уговаривал себя Кот, – эвакуируют». Но тут же вспоминал взгляд Волка – дикий, страшный, говоривший: «Да иди ты! Самому бы спастись!»
Он не знал, сколько прошло времени, но день уже начал угасать, пуская длинные тени от огрызков деревьев бывшей лесополосы. А в голову лезли навязчивые воспоминания: как кричали женщины в городском автобусе, как ругались матом старики, когда военкомы из ТЦК выволакивали его, Кота, орущего, сопротивляющегося, из автобуса.
Тогда он чувствовал себя маленьким и беспомощным, попавшим в железные лапы огромной машины. Сейчас эта машина, скрипя и лязгая металлом, перемелет его. Только брызги крови будут лететь в разные стороны. А бездушный механизм выполнит свою привычную работу, выплюнет уже ненужные останки и потянется за следующей жертвой...
И вот уже три дня он на передовой. Всего три дня! Он скоро умрет, если его не эвакуируют с поля боя. На глаза навернулись слезы. Умирать в двадцать восемь лет совсем не хотелось. Чтобы не впасть в отчаяние, Кот убеждал себя, что помощь придет, обязательно придет.
Оператор БПЛА Малой вел авиаразведку. Камера дрона показывала остывающее поле боя, изрытое воронками, усеянное телами убитых солдат противника.
– Качественно их обработала арта! – удовлетворенно заключил Малой и толкнул плечом сидящего рядом напарника Иркута.
– Зуб даю, что не позднее завтрашнего дня они опять попрут, – заявил Иркут. Он был старше двадцатилетнего Малого всего на пять лет, но чувствовал себя взрослым и умудренным жизнью.
– Попрут! Тупо, бессмысленно, но попрут, – согласился Малой, и вдруг насторожился. – Кажись, кто-то живой... Смотри-ка, вон, в воронке один шевелится.
Оба склонились ниже над экраном коптера.
– Живой, только раненый! – подтвердил Иркут. – Опусти-ка «птичку» пониже.
– Интересно, когда его эвакуируют свои? – поинтересовался Малой.
– ЕСЛИ эвакуируют, – уточнил Иркут, – если…
Ночью Малой долго не мог уснуть, все думал про раненого хохла, оставшегося на поле боя. Вряд ли его эвакуируют. Наши артиллеристы головы не дают поднять укропам, не то что отправить группу эвакуации. Они с Иркутом сами несколько раз передавали координаты и бронетехники, перевозящей подкрепление, и скоплений пехоты, пытающихся провести ротацию. Да кто ж им даст, уродам?! Для того и работаем!
Но хохол был один и ранен... Без помощи он умрет если не от кровопотери, так от обезвоживания. А что такое сутками без воды – врагу не пожелаешь.
Малой наконец заснул. Но во сне ему снилось, будто он лежит на поле боя с израненными осколками ногами и умирает от жажды... Проснулся еще на рассвете в холодном поту.
Кот лежал, обхватив себя руками и мелко дрожа от холода. Зима вроде кончилась, но весна еще не спешила вступать в свои права. А ночи стояли зябкие, ветреные. Он молился, с трудом шевеля пересохшими губами. Очень хотелось пить, но воды не было. Он скоро умрет от нехватки воды, если его не спасут свои.
Он не спал, а проваливался в какие-то черные ямы беспамятства. Потом снова открывал глаза и видел рыхлую землю воронки перед глазами.
Утром его разбудил непонятный звук. Что-то жужжало, как большой неуклюжий шмель. «Коптер!» – понял Кот и весь сжался от ужаса. В роте говорили, что в последнее время русские совсем не жалеют дроны, охотясь буквально за каждым солдатом.
Ему хотелось вжаться в чернозем так, чтобы спрятаться, закопаться на глубину. Но, преодолевая страх, Кот взглянул на парящий прямо над головой дрон. Под брюхом летательной машинки что-то болталось. Граната?.. Сейчас сбросит прямо на него и все... Он крепко зажмурился, считая про себя последние секунды своей жизни.
Что-то шмякнулось рядом, упав на мягкую землю и... не взорвалось. Кот приоткрыл глаза: в нескольких сантиметрах от его лица лежала небольшая бутылка воды, обмотанная какой-то бумажкой, закрепленной резинкой. Вода!! Руки сами потянулись к бутылке.
Он глотал прозрачную чистую воду, как будто это была амброзия или манна небесная. Благодать с каждым глотком разливалась внутри, заставляя раскинувшуюся там пустыню Сахару скукоживаться, сокращаться, уступая место живому и влажному.
Только напившись и облегченно вздохнув, Кот взял бумажку и прочитал.
Это был призыв сдаться в плен, так как других шансов выжить у него не было. Кот полежал немного, подумал, опять вспомнил лютый взгляд Волка и решился...
Он полз в сторону укреплений противника, волоча израненные ноги, закусив губу от боли, но полз, отчего-то веря, что двигается в сторону жизни.
Вместо того, чтобы сразу после разведки посадить коптер, Малой направил его чуть в сторону. Чтобы посмотреть на «своего подопечного», медленно ползущего к нашим позициям. Как там этот хохол? Жив еще?
Отчего-то сердце в груди дрогнуло, едва на экране появилось изображение вспаханного снарядами поля и маленькой человеческой фигурки на нем. Фигурка, отталкиваясь локтями, перемещалась к нашим позициям.
Оператор с трудом сдержал радостную улыбку: живой, собака! Надо ему шприц с обезболивающим скинуть, а то боль от ран мешает ползти быстрее. А еще надо бы подкинуть шоколадный батончик. Шоколад же дает энергию, силы. А сил, чтобы доползти, парню потребуется еще много.
Вот только как бы это скрыть от Иркута? Не хотел Малой перед старшим товарищем показывать свою странную заинтересованность в спасении врага. Он и себе самому не мог объяснить, почему так хотел, чтобы тот непременно добрался до их позиций.
Кот полз, и с каждым метром силы как будто прибавлялись, движения становились увереннее. Этому способствовал и шоколад, сброшенный ему незнакомыми ребятами-операторами БПЛА. И ему казалось, что вкус шоколада – это вкус жизни.
Лесополоса, в которой размещались позиции русских, приближалась медленно, но приближалась. Дважды солнце всходило и заходило за горизонт. Кот отдыхал, набираясь сил, и снова полз, влекомый надеждой. Он сдастся в плен и останется жив! Русские не станут над ним издеваться. Это все вранье, что о них говорят по телевизору и по радио. Чушь собачья! Если они сейчас ему помогают, а не взорвали одной гранатой в самом начале, то значит, им не нужна его смерть.
Война скоро кончится, и он вернется домой. Вот мать удивится, увидев его на пороге! Еще в обморок упадет от неожиданности. Лучше ее предупредить заранее, а то у нее ж давление, опасное дело. И на работу свою он больше не пойдет, слишком скучно и нудно, да и не нужно никому. А пойдет строителем – восстанавливать разрушенные вой-ной города. Самая нужная работа на ближайшие годы! А ведь он всегда любил работать руками.
Кот полз и мечтал о будущем, уже не замечая боли в израненных ногах, усталости, словно сброшенный с неба сладкий батончик обладал волшебной силой. До окопов русских оставалось совсем немного.
Он лег передохнуть, повернувшись на спину, и уставился в высокое весеннее небо. Его накрыл сверкающий голубой купол. Солнечный диск золотым одуванчиком сиял почти в зените, разогнав все облака. И столько простора было в этом высоком небе, столько свободы, что захотелось закричать что-нибудь или запеть.
По голубому полотну неба в сторону Кота метнулась черная каракатица с четырьмя винтами и примотанным снизу снарядом от РПГ. Кот не успел осознать, что это летит, когда дрон-камикадзе вонзился в землю рядом с ним. И рыхлый чернозем, жадно впитывающий солнечное тепло после зимы, столбом поднялся в сияющее синее небо...
Вопль «Суки!!» заставил Иркута оторваться от ремонта поврежденного дрона. Он собирался взять детали от превращенного противником в груду «металлолома» коптера и починить другой, слегка «пораненный». Но полный отчаяния крик заставил его бросить работу и выбежать из блиндажа.
Малого он нашел в сухой прошлогодней траве, откуда тот запускал своих «птичек».
– Ты чего орешь? – спросил Иркут, опускаясь на колени рядом с сидящем на земле товарищем и растерянно моргая: лицо парня было таким бледным, словно его только что ранили.
– Эти суки подорвали своего же дроном-камикадзе, – дрогнувшим голосом пробормотал Малой.
Иркут вытащил из рук напарника пульт управления коптером и внимательно рассмотрел картинку на экране... После такого взрыва не остается ничего. Совсем ничего.
– Вот звери, – вздохнул он. – А я-то надеялся, что тебе удастся его вытащить.
Малой вскинул на напарника увлажнившиеся глаза.
– Ты знал?..
– А ты как думал? – ответил вопросом на вопрос Иркут и обнял товарища за плечи, опустив на колени пульт управления.
Дрон-разведчик, тихо жужжа моторами, медленно опустился на коричневую землю. В нескольких сантиметрах от него валялся обрывок от упаковки шоколадного батончика. Весенний ветер теребил его, норовя поднять и унести в высокое синее небо, куда уже летела душа украинского солдата с позывным «Кот»...
Снаряд рухнул совсем близко. По ногам резануло десятком острых ножей, и Кот упал, не сдержав крика боли. Вокруг летели осколки и падали боевые товарищи.
«Добегался!» – подумал Кот, потянувшись дрожащими руками к посеченной осколками ноге. Ладонь тут же приобрела буро-красный цвет.
– Волк! – крикнул Кот, заметив уползающего на четвереньках товарища. – Я – триста! Помоги!!
Но тот только бросил на него дикий взгляд и пополз быстрее. Волк, старший группы, в которой Кот пошел на штурм укреплений орков, подхватив автомат, уходил назад, к своим, моля Бога, что остался жив в этой кровавой мясорубке.
А Кот так и лежал на поле боя. Пытаясь хоть как-то укрыться от летящей со всех сторон смерти, отполз и спрятался в ближайшей воронке от взрыва снаряда.
Едва стихли разрывы, кое-как перевязал свои раны и снова ткнулся лицом в коричневую землю и закрыл глаза. Русские в очередной раз отбили атаку, даже не дав подойти к своим укреплениям, нанеся упреждающий удар по скоплению противника, изготовившегося к броску.
Он третий день был на передовой, и казалось, все его тело каждой клеточкой впитало страх смерти. И теперь этот страх изливался из ран кровью, впитываясь в успевший оттаять после зимы чернозем. «За мной придут, – уговаривал себя Кот, – эвакуируют». Но тут же вспоминал взгляд Волка – дикий, страшный, говоривший: «Да иди ты! Самому бы спастись!»
Он не знал, сколько прошло времени, но день уже начал угасать, пуская длинные тени от огрызков деревьев бывшей лесополосы. А в голову лезли навязчивые воспоминания: как кричали женщины в городском автобусе, как ругались матом старики, когда военкомы из ТЦК выволакивали его, Кота, орущего, сопротивляющегося, из автобуса.
Тогда он чувствовал себя маленьким и беспомощным, попавшим в железные лапы огромной машины. Сейчас эта машина, скрипя и лязгая металлом, перемелет его. Только брызги крови будут лететь в разные стороны. А бездушный механизм выполнит свою привычную работу, выплюнет уже ненужные останки и потянется за следующей жертвой...
И вот уже три дня он на передовой. Всего три дня! Он скоро умрет, если его не эвакуируют с поля боя. На глаза навернулись слезы. Умирать в двадцать восемь лет совсем не хотелось. Чтобы не впасть в отчаяние, Кот убеждал себя, что помощь придет, обязательно придет.
Оператор БПЛА Малой вел авиаразведку. Камера дрона показывала остывающее поле боя, изрытое воронками, усеянное телами убитых солдат противника.
– Качественно их обработала арта! – удовлетворенно заключил Малой и толкнул плечом сидящего рядом напарника Иркута.
– Зуб даю, что не позднее завтрашнего дня они опять попрут, – заявил Иркут. Он был старше двадцатилетнего Малого всего на пять лет, но чувствовал себя взрослым и умудренным жизнью.
– Попрут! Тупо, бессмысленно, но попрут, – согласился Малой, и вдруг насторожился. – Кажись, кто-то живой... Смотри-ка, вон, в воронке один шевелится.
Оба склонились ниже над экраном коптера.
– Живой, только раненый! – подтвердил Иркут. – Опусти-ка «птичку» пониже.
– Интересно, когда его эвакуируют свои? – поинтересовался Малой.
– ЕСЛИ эвакуируют, – уточнил Иркут, – если…
Ночью Малой долго не мог уснуть, все думал про раненого хохла, оставшегося на поле боя. Вряд ли его эвакуируют. Наши артиллеристы головы не дают поднять укропам, не то что отправить группу эвакуации. Они с Иркутом сами несколько раз передавали координаты и бронетехники, перевозящей подкрепление, и скоплений пехоты, пытающихся провести ротацию. Да кто ж им даст, уродам?! Для того и работаем!
Но хохол был один и ранен... Без помощи он умрет если не от кровопотери, так от обезвоживания. А что такое сутками без воды – врагу не пожелаешь.
Малой наконец заснул. Но во сне ему снилось, будто он лежит на поле боя с израненными осколками ногами и умирает от жажды... Проснулся еще на рассвете в холодном поту.
Кот лежал, обхватив себя руками и мелко дрожа от холода. Зима вроде кончилась, но весна еще не спешила вступать в свои права. А ночи стояли зябкие, ветреные. Он молился, с трудом шевеля пересохшими губами. Очень хотелось пить, но воды не было. Он скоро умрет от нехватки воды, если его не спасут свои.
Он не спал, а проваливался в какие-то черные ямы беспамятства. Потом снова открывал глаза и видел рыхлую землю воронки перед глазами.
Утром его разбудил непонятный звук. Что-то жужжало, как большой неуклюжий шмель. «Коптер!» – понял Кот и весь сжался от ужаса. В роте говорили, что в последнее время русские совсем не жалеют дроны, охотясь буквально за каждым солдатом.
Ему хотелось вжаться в чернозем так, чтобы спрятаться, закопаться на глубину. Но, преодолевая страх, Кот взглянул на парящий прямо над головой дрон. Под брюхом летательной машинки что-то болталось. Граната?.. Сейчас сбросит прямо на него и все... Он крепко зажмурился, считая про себя последние секунды своей жизни.
Что-то шмякнулось рядом, упав на мягкую землю и... не взорвалось. Кот приоткрыл глаза: в нескольких сантиметрах от его лица лежала небольшая бутылка воды, обмотанная какой-то бумажкой, закрепленной резинкой. Вода!! Руки сами потянулись к бутылке.
Он глотал прозрачную чистую воду, как будто это была амброзия или манна небесная. Благодать с каждым глотком разливалась внутри, заставляя раскинувшуюся там пустыню Сахару скукоживаться, сокращаться, уступая место живому и влажному.
Только напившись и облегченно вздохнув, Кот взял бумажку и прочитал.
Это был призыв сдаться в плен, так как других шансов выжить у него не было. Кот полежал немного, подумал, опять вспомнил лютый взгляд Волка и решился...
Он полз в сторону укреплений противника, волоча израненные ноги, закусив губу от боли, но полз, отчего-то веря, что двигается в сторону жизни.
Вместо того, чтобы сразу после разведки посадить коптер, Малой направил его чуть в сторону. Чтобы посмотреть на «своего подопечного», медленно ползущего к нашим позициям. Как там этот хохол? Жив еще?
Отчего-то сердце в груди дрогнуло, едва на экране появилось изображение вспаханного снарядами поля и маленькой человеческой фигурки на нем. Фигурка, отталкиваясь локтями, перемещалась к нашим позициям.
Оператор с трудом сдержал радостную улыбку: живой, собака! Надо ему шприц с обезболивающим скинуть, а то боль от ран мешает ползти быстрее. А еще надо бы подкинуть шоколадный батончик. Шоколад же дает энергию, силы. А сил, чтобы доползти, парню потребуется еще много.
Вот только как бы это скрыть от Иркута? Не хотел Малой перед старшим товарищем показывать свою странную заинтересованность в спасении врага. Он и себе самому не мог объяснить, почему так хотел, чтобы тот непременно добрался до их позиций.
Кот полз, и с каждым метром силы как будто прибавлялись, движения становились увереннее. Этому способствовал и шоколад, сброшенный ему незнакомыми ребятами-операторами БПЛА. И ему казалось, что вкус шоколада – это вкус жизни.
Лесополоса, в которой размещались позиции русских, приближалась медленно, но приближалась. Дважды солнце всходило и заходило за горизонт. Кот отдыхал, набираясь сил, и снова полз, влекомый надеждой. Он сдастся в плен и останется жив! Русские не станут над ним издеваться. Это все вранье, что о них говорят по телевизору и по радио. Чушь собачья! Если они сейчас ему помогают, а не взорвали одной гранатой в самом начале, то значит, им не нужна его смерть.
Война скоро кончится, и он вернется домой. Вот мать удивится, увидев его на пороге! Еще в обморок упадет от неожиданности. Лучше ее предупредить заранее, а то у нее ж давление, опасное дело. И на работу свою он больше не пойдет, слишком скучно и нудно, да и не нужно никому. А пойдет строителем – восстанавливать разрушенные вой-ной города. Самая нужная работа на ближайшие годы! А ведь он всегда любил работать руками.
Кот полз и мечтал о будущем, уже не замечая боли в израненных ногах, усталости, словно сброшенный с неба сладкий батончик обладал волшебной силой. До окопов русских оставалось совсем немного.
Он лег передохнуть, повернувшись на спину, и уставился в высокое весеннее небо. Его накрыл сверкающий голубой купол. Солнечный диск золотым одуванчиком сиял почти в зените, разогнав все облака. И столько простора было в этом высоком небе, столько свободы, что захотелось закричать что-нибудь или запеть.
По голубому полотну неба в сторону Кота метнулась черная каракатица с четырьмя винтами и примотанным снизу снарядом от РПГ. Кот не успел осознать, что это летит, когда дрон-камикадзе вонзился в землю рядом с ним. И рыхлый чернозем, жадно впитывающий солнечное тепло после зимы, столбом поднялся в сияющее синее небо...
Вопль «Суки!!» заставил Иркута оторваться от ремонта поврежденного дрона. Он собирался взять детали от превращенного противником в груду «металлолома» коптера и починить другой, слегка «пораненный». Но полный отчаяния крик заставил его бросить работу и выбежать из блиндажа.
Малого он нашел в сухой прошлогодней траве, откуда тот запускал своих «птичек».
– Ты чего орешь? – спросил Иркут, опускаясь на колени рядом с сидящем на земле товарищем и растерянно моргая: лицо парня было таким бледным, словно его только что ранили.
– Эти суки подорвали своего же дроном-камикадзе, – дрогнувшим голосом пробормотал Малой.
Иркут вытащил из рук напарника пульт управления коптером и внимательно рассмотрел картинку на экране... После такого взрыва не остается ничего. Совсем ничего.
– Вот звери, – вздохнул он. – А я-то надеялся, что тебе удастся его вытащить.
Малой вскинул на напарника увлажнившиеся глаза.
– Ты знал?..
– А ты как думал? – ответил вопросом на вопрос Иркут и обнял товарища за плечи, опустив на колени пульт управления.
Дрон-разведчик, тихо жужжа моторами, медленно опустился на коричневую землю. В нескольких сантиметрах от него валялся обрывок от упаковки шоколадного батончика. Весенний ветер теребил его, норовя поднять и унести в высокое синее небо, куда уже летела душа украинского солдата с позывным «Кот»...
Рубрика «МАСТЕРСКАЯ РАССКАЗА»

Вячеслав СУКАЧЕВ
Родился в 1945 году на севере Казахстана в с.Белое. Первой серьезной публикацией считает повесть «Огненный десант» в журнале «Дальний Восток», первой серьезной школой – семинар Виктора Астафьева в 1974 году. В 1975 вышла его первая книга «У светлой пристани» с предисловием Виктора Астафьева. В 1979 году окончил Высшие Литературные курсы. Автор более двадцати книг прозы. Член редколлегии «Литературной России» с 1976 по 1989 годы. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат губернаторской премии в области литературы, лауреат премии за лучший рассказ газеты «Труд», «Литературная Россия», журналов «Молодая Гвардия», «Советская женщина» и др. Член жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Член Союза Писателей СССР (России) с 1975 года. Главный редактор журнала «Дальний Восток». Книги В.Сукачева выходили в «Молодой гвардии», «Советской России» и др. издательствах. По его повести «Любава», опубликованной в «Роман-газете», был написан киносценарий, а по рассказам снято более десяти короткометражных фильмов.
Интервью с В.В.Сукачевым опубликовано на сайте издательства
Родился в 1945 году на севере Казахстана в с.Белое. Первой серьезной публикацией считает повесть «Огненный десант» в журнале «Дальний Восток», первой серьезной школой – семинар Виктора Астафьева в 1974 году. В 1975 вышла его первая книга «У светлой пристани» с предисловием Виктора Астафьева. В 1979 году окончил Высшие Литературные курсы. Автор более двадцати книг прозы. Член редколлегии «Литературной России» с 1976 по 1989 годы. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат губернаторской премии в области литературы, лауреат премии за лучший рассказ газеты «Труд», «Литературная Россия», журналов «Молодая Гвардия», «Советская женщина» и др. Член жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Член Союза Писателей СССР (России) с 1975 года. Главный редактор журнала «Дальний Восток». Книги В.Сукачева выходили в «Молодой гвардии», «Советской России» и др. издательствах. По его повести «Любава», опубликованной в «Роман-газете», был написан киносценарий, а по рассказам снято более десяти короткометражных фильмов.
Интервью с В.В.Сукачевым опубликовано на сайте издательства
Рассказ Вячеслава Викторовича Сукачева «Черепаха» впервые появился на страницах литературного сборника «Рассказ-77», выпущенного в издательстве «Современник».
Приобрести альманах можно по ссылке.
Составитель Ю. Галкин.
Москва. Современник. 1978 г.
477 с. Твердый переплет. Обычный формат.
Название: Рассказ-77.
Приобрести альманах можно по ссылке.
Составитель Ю. Галкин.
Москва. Современник. 1978 г.
477 с. Твердый переплет. Обычный формат.
Название: Рассказ-77.

ЧЕРЕПАХА
Василий Васильевич Лепядухин, директор сельской школы, человек лет сорока, успокоенный жизнью и обязанностями как служебными, так и семейными, неожиданно попал в город своего студенчества, юности своей. Сразу же после совещания, которое показалось ему и длинным, и слабо подготовленным, он ринулся в магазины за покупками, которые тщательно были обозначены в его записной книжке.
За два часа до отхода поезда Василий Васильевич вышел из последнего магазина, слегка покачиваясь, неся в руках портфель и сетку, до отказа забитые школьными готовальнями, учебниками, коробками с цветными карандашами. Черепаху для зоологического кружка Василий Васильевич временно сунул в карман пиджака, да так и забыл про нее.
День сморило, и в городе был час пик, о котором Василий Васильевич давно забыл, иначе бы он не стал ожидать автобус до вокзала, а пошел бы легонько пешком, благо, расстояние и время позволяли. Но он забыл про великий час и вместе со всеми кинулся на штурм автобуса, когда тот, жарко дыша и отфыркиваясь, притормозил у остановки. Желание попасть в автобус у Василия Васильевича было большое, но из этого желания ничего не получилось. Он уже было и взгромоздился последним на нижнюю ступеньку, и какая-то женщина отчаянно кричала ему: «Да нажимайте, нажимайте! Чего рот разинули!», но в том-то и дело, что нажимать он не мог – руки были заняты. Василий Васильевич отступил, и тут же автобус, изрыгнув из себя женщину, сухо и резко хлопнув створками, приседая и покачиваясь, укатил.
Женщина недовольно фыркнула на Василия Васильевича, поправила прическу и вдруг взглянула на него Таниными глазами. Это было так неожиданно и неправдоподобно, что Лепядухин невольно поморщился и часто замигал, словно желая смигнуть это внезапное видение с глаз. Красный, всклокоченный борьбой и деревенским раздражением против суетности городской жизни, с портфелем и сеткой в опущенных руках, он был немного смешон и жалок. Смешной казалась даже его солидность, строго подчеркнутая синим костюмом и узким галстуком с дешевым зажимом.
– Вася? – недоверчиво спросила женщина и еще раз поправила прическу, теперь уже совершенно непроизвольно коснувшись черных локонов вчерашней укладки тонкими гибкими пальцами.
Все с бо́льшим любопытством и удивлением смотрела она на Лепядухина, не замечая его смущения, сеток, узкого галстука и всклокоченной солидности.
– Вася! – еще раз сказала она, но уже твердо и почти сухо, не зная, как себя вести с ним. – Да ты что молчишь?
– Таня, – тихо откликнулся Лепядухин и сильно вздохнул. – Вот же как, в автобусе…
Они не виделись почти двадцать лет, с самого выпуска, и теперь, встретившись случайно, узнавая и не узнавая друг друга, не могли понять толком, благодарить или клясть им этот случай. Но постепенно все давнее и, казалось бы, забытое начало оживать, и вдруг они поразились тому, что встретились, как чужие. О том, что теперь и в самом деле чужие (да и теперь ли только?), они как-то не подумали, лихорадочно отыскивая в памяти то, что некогда объединяло их.
– Пойдем, Вася, пойдем, – потянула его Татьяна, – господи, какие мы уже старики!
Вот это грустное и обреченное «старики» вдруг возмутило Василия Васильевича, и он восстал против него искренне, с тем большей решительностью, что, может быть, почувствовал за ним правду.
– Да какие же мы старики, Таня? Я вот увидел тебя, и словно не было этих лет. Хоть снова в колхоз, на картошку.
– На картошку – это и старики могут, – улыбнулась Татьяна, – я о другом…
И Василий Васильевич вспомнил все. Вернее, догадался, что никогда и не забывал про это.
– Куда мы? – вдруг тихо спросил он.
– А шут его знает, – Таня остановилась и пристально посмотрела на него, и в ее глазах уже что-то теплилось такое, что-то влажно и грустно поблескивало. – Может быть, в ресторан?
– В ресторан? Мне в семь сорок – на поезд. Впрочем, давай в ресторан…
Заняв столик и распорядившись заказом, они вдруг опять примолкли, словно бы отстранившись друг от друга, теперь уже по-настоящему приглядываясь, сравнивая и тоскуя о прошлом. Впрочем, прошлое неожиданно быстро начало приближаться и уже не казалось им столь далеким, и уже припоминали они какие-то мелочи и внутренне умилялись им, как умиляются детским шалостям.
Заказ принесли, и они выпили за встречу, почему-то смущаясь и избегая взглядов, а есть и вовсе оба не стали. Василий Васильевич торопливо полез по карманам за куревом и тут обнаружил черепаху. Он перепугался, что она задохнулась в кармане, и поспешно извлек ее на свет божий, легонько пощелкал ногтем по твердому панцирю и виновато улыбнулся Татьяне.
– Что это? – изумилась женщина.
– Черепаха, – не без тайной гордости ответил Лепядухин.
– Черепаха! В кармане? Ну, Вася, ты все тот же!
Она засмеялась и с любопытством посмотрела на него.
– А на вид – совершенно другой, – уже грустно добавила, – похож на чиновника. Довольный такой и гладенький.
– Мы зоокружок организовали… Вот, везу.
Эта черепаха и сам Лепядухин, смущенный, виноватый Бог весть перед кем, с таким смешным галстуком и добрыми, слегка выпукловатыми глазами на круглом лице, растрогали женщину, и она неожиданно для себя спросила:
– Вася, а ты помнишь, как я тебя на улицу вызывала?
Василий Васильевич вздрогнул, быстро поднял голову и удивленно посмотрел на Таню. Словно бы судорога какая-то прошла по его лицу, и он опять было принялся заталкивать черепаху в карман, но спохватился, сунул ее в сетку между свертками и закурил, забыв спросить разрешения. Он никак не ожидал, что она спросит его об этом, и теперь с болью утраты и печалью припоминал этот случай, который было уже и стерся в памяти за давностью лет, но оставил после себя тайную грусть и боль.
Таня – та, прежняя, студенческая Таня – сидела напротив. Кажется, он только теперь до конца осознал это и с робостью взглянул на нее. Конечно, это была она. Все те же быстрые и немного насмешливые глаза, маленький рот и легонько вздернутый нос. Лепядухин заволновался, и боль, уже сегодняшняя боль, вдруг ударила его по сердцу, пронизала всего, и он прикрыл на мгновение глаза, справляясь с нею.
Помнит ли он о том случае? Что за вопрос, можно ли об этом спрашивать, если он всю жизнь и прожил-то этим только случаем!
Так теперь казалось Василию Васильевичу, так и никак иначе. Иначе просто быть не могло, потому что он любил Таню, любил тайно и сильно, любил все пять лет, пока они учились вместе, и любил все остальные годы, когда они уже не были вместе.
А случай? Да что – случай? Глупый был случай. Впрочем, как и все остальные. А ведь их было много – случаев, а настоящего так и не случилось. А почему не случилось? Да потому что вечно вокруг нее были обожатели – более красивые, ловкие, умные, и вечным был ее взгляд – насмешливый, подзадоривающий и предостерегающий вроде бы.
Случаи… Но нет, тот был особенным. Все остальные он придумывал сам, а этот придумала она. Он хорошо помнит, как рано ушла она с шубинских именин, а потом вдруг раздался телефонный звонок, и кто-то попросил его. Это была Таня. Она весело и беспечно спросила его, не сможет ли он уделить ей пять минут, и он, сразу же насупясь, ожидая подвоха и опасливо оглядываясь на товарищей, ответил ей: нет. Тогда она попросила к телефону Толика Рублева, и Толик тут же сбежал с именин, а он весь вечер мучился и проклинал себя. Вот и весь случай. Ничего особенного. По крайней мере, для нее. Зачем же она спрашивает? Что ей этот случай? Или и теперь она хочет посмеяться? Зачем?
И ответил Лепядухин бодро, с неискренним смешком, как бы вспоминая детскую шалость и смотря на нее теперь уже с высоты своего возраста:
– Как же не помнить? Помню. Я было и растерялся в первую минуту, а потом спихнул трубку Толику да и за стол побыстрее. Кстати, ты не знаешь, где он теперь и что?
– Нет, не знаю, – сухо ответила Таня и пристально посмотрела на Василия Васильевича.
Ей было неприятно и грустно, что он так дурашливо ответил на ее вопрос. Тем более что вопрос, сорвавшись случайно, был для нее далеко не случайным. Но в этом ответе она узнала прежнего Лепядухина, узнала его упрямство и задиристость, которые так забавно были в нем смешаны с застенчивостью и гордостью. Нет, ничто в этом мире не меняется. Все осталось прежним, за вычетом ничтожных деталей – ну, например, возраста да его солидности, да ее ранних седин. Всю его жизнь она могла бы теперь угадать, потому что не раз прожила эту жизнь с ним вместе. Еще тогда, в студенчестве, милой и далекой поре. А ведь любила она его. Любила? Любила! Теперь в этом можно сознаться. Даже и ему можно сказать. А он-то что, любил ли? Навряд. Все больше дулся, не замечал. Вот и тогда не вышел. Ему с Лилькой было лучше, в турпоходы вместе ходили, в бассейн. Ходят теперь куда-нибудь вместе? А Лилька-то: «У нас только дружба, девочки, и больше ничего…» А все-таки, если сказать ему? А может быть, он догадывался?.. И черепаха эта, и дуется точно так же…
– Дай мне сигарету, – вдруг попросила Таня.
– У меня «Шипка», без фильтра, – засуетился Василий Васильевич, – можно официантку попросить, у них…
– Да, господи, какая разница! Давай, что есть.
Она закурила и откинулась в кресле. Нога на ногу, легкий прищур глаз, локоть – небрежно в сторону. Она умела так. И тут же, словно струйки дыма в форточку, потянулись к ней взгляды.
Василий Васильевич поморщился и отвернулся, чувствуя, как забилось у него сердце, и давнишняя неприязнь к мужчинам, обращавшим на нее внимание, проснулась в нем. Особенно неприятно ему было, что таращились на Таню и два каких-то сопливых юнца. Он словно бы снова видел Таню молодой, насмешливой, и от этого становилось Лепядухину жутко как-то и радостно.
– А знаешь, Лепядухин, – ровно и спокойно сказала Таня, – ведь я тебя любила.
Он не сразу понял смысл ее слов, а просто по привычке, по давней привычке, недоверчиво и подозрительно глянул на нее. Потом он понял, что сказала она это всерьез, и неожиданно густо покраснел. Скрывая смущение и не зная, что сказать в ответ, Василий Васильевич торопливо разлил вино и залпом выпил. Вино вдруг показалось горьким и быстро ударило в голову.
– Может быть, не веришь? – усмехнулась Таня. – Спроси свою Лильку. Она знает.
Он ужаснулся, он вдруг почувствовал в этом какой-то дикий рок. Чтобы его жена, самый близкий ему человек, знала об этом? Не может быть! Она бы тогда еще все рассказала. А впрочем… Дальше он думать боялся. Дальше было просто страшно думать.
Нет, каково – она его любила! Значит, все было возможно. Все было возможно. Лепядухин чуть было не застонал. Боль, горькая и тоскливая боль переполнила его. Некуда было деться от нее, нечем заменить. И тогда он отчаянно и грубо сказал ей:
– И я тебя любил, Таня.
Теперь уже она с изумлением посмотрела на него. Василий Васильевич сидел хмурый и растерянный, и вдруг показался он ей таким близким и дорогим, что захотелось протянуть руку, дотронуться до него, погладить по щеке. Но она сдержалась и только вздохнула легонько, думая о том, что и сегодня бы пошла за Лепядухиным. Пошла бездумно, безоглядно, ничего не вспоминая и не унося с собой. Но… но, но, но…
– Вот такие закрутасы, дорогой Лепядухин, – печально сказала она, – ничего у нас не вышло. Не вышло, – задумчиво протянула она, – а ведь могло бы. Кто виноват? Да оба и виноваты. Ты дулся, я дурачилась, так вот и продурачили свое… Впрочем, все к лучшему делается в этом мире, а, Лепядухин?
Глаза ее вдруг лукаво зажглись, и она небрежно тряхнула головой.
«Смеется, – обжегся мыслью Лепядухин, – опять смеется. Конечно, столько лет прошло, если что и было, то давно все вылетело. Что им, женщинам? Им это – раз плюнуть, два – растереть. Другое дело у мужчин. Они постоянные. Что тут скрывать, от себя скрывать: любит он ее и теперь, может быть, еще сильнее любит. И на все бы теперь вот пошел, на все, да вот она…»
Лепядухин взглянул вдруг на часы, с трудом улыбнулся и опять неестественно бодрым голосом сказал:
– Да, Таня, была любовь, была, а теперь вот мне на поезд пора.
– А пешком бы дошел? – усмехнулась Таня.
– Куда? – не понял Василий Васильевич.
– Ну домой, к Лильке, разумеется.
– Зачем? – Лепядухин искренне удивился.
– Ладно, – Таня быстро поднялась, – пойдем, Лепядухин. Я шучу.
Они вышли на улицу и стали ловить такси. Мелькнул зеленый огонек, машина остановилась. Побежали оба. Лепядухин смешно размахивал сеткой и портфелем. Сели на заднее сиденье, совершенно случайно сели очень близко. Оба затихли, напряглись, усиленно разглядывая что-то каждый в своем окне. А что было разглядывать? Мелькали одинаковые дома с одинаковым бельем на балконах, пыльные, притомившиеся за лето деревья, полувытоптанные газоны, стеклянные будки постов ГАИ. Да они ничего этого и не замечали, грустя и вздыхая при каждом толчке, еще теснее соединяющем их.
В какое-то мгновение показалось Тане, что надо сейчас все сказать, все решить до конца, потому что следующей встречи может и не случиться. Она уже повернула голову к Лепядухину, уже открыла было рот, но Василий Васильевич вдруг взял из сетки черепаху и удивленно улыбнулся.
– Вот же – тварь, – задумчиво сказал он, – живет и ничего ей не надо. Другие в одиночестве умирают, а этой хоть бы что.
– Да, – легким, незаметным движением Таня отодвинулась, – действительно, ничего ей не надо…
На перрон они вступили молчаливыми и отчужденными. Минуты тянулись тягостно для обоих. Лепядухин вдруг вспомнил, что ничего не знает о ней, и спросил:
– Ну, а как ты, Таня, чем занимаешься?
– Собой, – грустно улыбнулась женщина, – собой и сыном.
– Большой?
– Четырнадцать лет.
– А муж?
– Мужа у меня нет, Вася, не случилось как-то замуж вый-
ти. Ты вот что, Вася, Лильке лучше не говори, что меня встретил, не надо…
– Да ты что, – было возмутился Лепядухин, – она же рада будет узнать, что…
Но Таня отвела глаза и тихо попросила:
– Не надо, Вася.
Дали первый звонок. Они ждали. Дали второй звонок, и Таня вдруг прикрыла глаза, отвернулась. Лепядухин растерянно смотрел на нее.
– Сыну-то, – вдруг заторопился Лепядухин, – сыну – подарок от меня…
Он схватил черепаху и сунул в Танины руки и что-то хотел сказать, но ничего не сказал, болезненно поморщился и пошел в вагон.
Интервью с В.В.Сукачевым опубликовано на сайте издательства
Василий Васильевич Лепядухин, директор сельской школы, человек лет сорока, успокоенный жизнью и обязанностями как служебными, так и семейными, неожиданно попал в город своего студенчества, юности своей. Сразу же после совещания, которое показалось ему и длинным, и слабо подготовленным, он ринулся в магазины за покупками, которые тщательно были обозначены в его записной книжке.
За два часа до отхода поезда Василий Васильевич вышел из последнего магазина, слегка покачиваясь, неся в руках портфель и сетку, до отказа забитые школьными готовальнями, учебниками, коробками с цветными карандашами. Черепаху для зоологического кружка Василий Васильевич временно сунул в карман пиджака, да так и забыл про нее.
День сморило, и в городе был час пик, о котором Василий Васильевич давно забыл, иначе бы он не стал ожидать автобус до вокзала, а пошел бы легонько пешком, благо, расстояние и время позволяли. Но он забыл про великий час и вместе со всеми кинулся на штурм автобуса, когда тот, жарко дыша и отфыркиваясь, притормозил у остановки. Желание попасть в автобус у Василия Васильевича было большое, но из этого желания ничего не получилось. Он уже было и взгромоздился последним на нижнюю ступеньку, и какая-то женщина отчаянно кричала ему: «Да нажимайте, нажимайте! Чего рот разинули!», но в том-то и дело, что нажимать он не мог – руки были заняты. Василий Васильевич отступил, и тут же автобус, изрыгнув из себя женщину, сухо и резко хлопнув створками, приседая и покачиваясь, укатил.
Женщина недовольно фыркнула на Василия Васильевича, поправила прическу и вдруг взглянула на него Таниными глазами. Это было так неожиданно и неправдоподобно, что Лепядухин невольно поморщился и часто замигал, словно желая смигнуть это внезапное видение с глаз. Красный, всклокоченный борьбой и деревенским раздражением против суетности городской жизни, с портфелем и сеткой в опущенных руках, он был немного смешон и жалок. Смешной казалась даже его солидность, строго подчеркнутая синим костюмом и узким галстуком с дешевым зажимом.
– Вася? – недоверчиво спросила женщина и еще раз поправила прическу, теперь уже совершенно непроизвольно коснувшись черных локонов вчерашней укладки тонкими гибкими пальцами.
Все с бо́льшим любопытством и удивлением смотрела она на Лепядухина, не замечая его смущения, сеток, узкого галстука и всклокоченной солидности.
– Вася! – еще раз сказала она, но уже твердо и почти сухо, не зная, как себя вести с ним. – Да ты что молчишь?
– Таня, – тихо откликнулся Лепядухин и сильно вздохнул. – Вот же как, в автобусе…
Они не виделись почти двадцать лет, с самого выпуска, и теперь, встретившись случайно, узнавая и не узнавая друг друга, не могли понять толком, благодарить или клясть им этот случай. Но постепенно все давнее и, казалось бы, забытое начало оживать, и вдруг они поразились тому, что встретились, как чужие. О том, что теперь и в самом деле чужие (да и теперь ли только?), они как-то не подумали, лихорадочно отыскивая в памяти то, что некогда объединяло их.
– Пойдем, Вася, пойдем, – потянула его Татьяна, – господи, какие мы уже старики!
Вот это грустное и обреченное «старики» вдруг возмутило Василия Васильевича, и он восстал против него искренне, с тем большей решительностью, что, может быть, почувствовал за ним правду.
– Да какие же мы старики, Таня? Я вот увидел тебя, и словно не было этих лет. Хоть снова в колхоз, на картошку.
– На картошку – это и старики могут, – улыбнулась Татьяна, – я о другом…
И Василий Васильевич вспомнил все. Вернее, догадался, что никогда и не забывал про это.
– Куда мы? – вдруг тихо спросил он.
– А шут его знает, – Таня остановилась и пристально посмотрела на него, и в ее глазах уже что-то теплилось такое, что-то влажно и грустно поблескивало. – Может быть, в ресторан?
– В ресторан? Мне в семь сорок – на поезд. Впрочем, давай в ресторан…
Заняв столик и распорядившись заказом, они вдруг опять примолкли, словно бы отстранившись друг от друга, теперь уже по-настоящему приглядываясь, сравнивая и тоскуя о прошлом. Впрочем, прошлое неожиданно быстро начало приближаться и уже не казалось им столь далеким, и уже припоминали они какие-то мелочи и внутренне умилялись им, как умиляются детским шалостям.
Заказ принесли, и они выпили за встречу, почему-то смущаясь и избегая взглядов, а есть и вовсе оба не стали. Василий Васильевич торопливо полез по карманам за куревом и тут обнаружил черепаху. Он перепугался, что она задохнулась в кармане, и поспешно извлек ее на свет божий, легонько пощелкал ногтем по твердому панцирю и виновато улыбнулся Татьяне.
– Что это? – изумилась женщина.
– Черепаха, – не без тайной гордости ответил Лепядухин.
– Черепаха! В кармане? Ну, Вася, ты все тот же!
Она засмеялась и с любопытством посмотрела на него.
– А на вид – совершенно другой, – уже грустно добавила, – похож на чиновника. Довольный такой и гладенький.
– Мы зоокружок организовали… Вот, везу.
Эта черепаха и сам Лепядухин, смущенный, виноватый Бог весть перед кем, с таким смешным галстуком и добрыми, слегка выпукловатыми глазами на круглом лице, растрогали женщину, и она неожиданно для себя спросила:
– Вася, а ты помнишь, как я тебя на улицу вызывала?
Василий Васильевич вздрогнул, быстро поднял голову и удивленно посмотрел на Таню. Словно бы судорога какая-то прошла по его лицу, и он опять было принялся заталкивать черепаху в карман, но спохватился, сунул ее в сетку между свертками и закурил, забыв спросить разрешения. Он никак не ожидал, что она спросит его об этом, и теперь с болью утраты и печалью припоминал этот случай, который было уже и стерся в памяти за давностью лет, но оставил после себя тайную грусть и боль.
Таня – та, прежняя, студенческая Таня – сидела напротив. Кажется, он только теперь до конца осознал это и с робостью взглянул на нее. Конечно, это была она. Все те же быстрые и немного насмешливые глаза, маленький рот и легонько вздернутый нос. Лепядухин заволновался, и боль, уже сегодняшняя боль, вдруг ударила его по сердцу, пронизала всего, и он прикрыл на мгновение глаза, справляясь с нею.
Помнит ли он о том случае? Что за вопрос, можно ли об этом спрашивать, если он всю жизнь и прожил-то этим только случаем!
Так теперь казалось Василию Васильевичу, так и никак иначе. Иначе просто быть не могло, потому что он любил Таню, любил тайно и сильно, любил все пять лет, пока они учились вместе, и любил все остальные годы, когда они уже не были вместе.
А случай? Да что – случай? Глупый был случай. Впрочем, как и все остальные. А ведь их было много – случаев, а настоящего так и не случилось. А почему не случилось? Да потому что вечно вокруг нее были обожатели – более красивые, ловкие, умные, и вечным был ее взгляд – насмешливый, подзадоривающий и предостерегающий вроде бы.
Случаи… Но нет, тот был особенным. Все остальные он придумывал сам, а этот придумала она. Он хорошо помнит, как рано ушла она с шубинских именин, а потом вдруг раздался телефонный звонок, и кто-то попросил его. Это была Таня. Она весело и беспечно спросила его, не сможет ли он уделить ей пять минут, и он, сразу же насупясь, ожидая подвоха и опасливо оглядываясь на товарищей, ответил ей: нет. Тогда она попросила к телефону Толика Рублева, и Толик тут же сбежал с именин, а он весь вечер мучился и проклинал себя. Вот и весь случай. Ничего особенного. По крайней мере, для нее. Зачем же она спрашивает? Что ей этот случай? Или и теперь она хочет посмеяться? Зачем?
И ответил Лепядухин бодро, с неискренним смешком, как бы вспоминая детскую шалость и смотря на нее теперь уже с высоты своего возраста:
– Как же не помнить? Помню. Я было и растерялся в первую минуту, а потом спихнул трубку Толику да и за стол побыстрее. Кстати, ты не знаешь, где он теперь и что?
– Нет, не знаю, – сухо ответила Таня и пристально посмотрела на Василия Васильевича.
Ей было неприятно и грустно, что он так дурашливо ответил на ее вопрос. Тем более что вопрос, сорвавшись случайно, был для нее далеко не случайным. Но в этом ответе она узнала прежнего Лепядухина, узнала его упрямство и задиристость, которые так забавно были в нем смешаны с застенчивостью и гордостью. Нет, ничто в этом мире не меняется. Все осталось прежним, за вычетом ничтожных деталей – ну, например, возраста да его солидности, да ее ранних седин. Всю его жизнь она могла бы теперь угадать, потому что не раз прожила эту жизнь с ним вместе. Еще тогда, в студенчестве, милой и далекой поре. А ведь любила она его. Любила? Любила! Теперь в этом можно сознаться. Даже и ему можно сказать. А он-то что, любил ли? Навряд. Все больше дулся, не замечал. Вот и тогда не вышел. Ему с Лилькой было лучше, в турпоходы вместе ходили, в бассейн. Ходят теперь куда-нибудь вместе? А Лилька-то: «У нас только дружба, девочки, и больше ничего…» А все-таки, если сказать ему? А может быть, он догадывался?.. И черепаха эта, и дуется точно так же…
– Дай мне сигарету, – вдруг попросила Таня.
– У меня «Шипка», без фильтра, – засуетился Василий Васильевич, – можно официантку попросить, у них…
– Да, господи, какая разница! Давай, что есть.
Она закурила и откинулась в кресле. Нога на ногу, легкий прищур глаз, локоть – небрежно в сторону. Она умела так. И тут же, словно струйки дыма в форточку, потянулись к ней взгляды.
Василий Васильевич поморщился и отвернулся, чувствуя, как забилось у него сердце, и давнишняя неприязнь к мужчинам, обращавшим на нее внимание, проснулась в нем. Особенно неприятно ему было, что таращились на Таню и два каких-то сопливых юнца. Он словно бы снова видел Таню молодой, насмешливой, и от этого становилось Лепядухину жутко как-то и радостно.
– А знаешь, Лепядухин, – ровно и спокойно сказала Таня, – ведь я тебя любила.
Он не сразу понял смысл ее слов, а просто по привычке, по давней привычке, недоверчиво и подозрительно глянул на нее. Потом он понял, что сказала она это всерьез, и неожиданно густо покраснел. Скрывая смущение и не зная, что сказать в ответ, Василий Васильевич торопливо разлил вино и залпом выпил. Вино вдруг показалось горьким и быстро ударило в голову.
– Может быть, не веришь? – усмехнулась Таня. – Спроси свою Лильку. Она знает.
Он ужаснулся, он вдруг почувствовал в этом какой-то дикий рок. Чтобы его жена, самый близкий ему человек, знала об этом? Не может быть! Она бы тогда еще все рассказала. А впрочем… Дальше он думать боялся. Дальше было просто страшно думать.
Нет, каково – она его любила! Значит, все было возможно. Все было возможно. Лепядухин чуть было не застонал. Боль, горькая и тоскливая боль переполнила его. Некуда было деться от нее, нечем заменить. И тогда он отчаянно и грубо сказал ей:
– И я тебя любил, Таня.
Теперь уже она с изумлением посмотрела на него. Василий Васильевич сидел хмурый и растерянный, и вдруг показался он ей таким близким и дорогим, что захотелось протянуть руку, дотронуться до него, погладить по щеке. Но она сдержалась и только вздохнула легонько, думая о том, что и сегодня бы пошла за Лепядухиным. Пошла бездумно, безоглядно, ничего не вспоминая и не унося с собой. Но… но, но, но…
– Вот такие закрутасы, дорогой Лепядухин, – печально сказала она, – ничего у нас не вышло. Не вышло, – задумчиво протянула она, – а ведь могло бы. Кто виноват? Да оба и виноваты. Ты дулся, я дурачилась, так вот и продурачили свое… Впрочем, все к лучшему делается в этом мире, а, Лепядухин?
Глаза ее вдруг лукаво зажглись, и она небрежно тряхнула головой.
«Смеется, – обжегся мыслью Лепядухин, – опять смеется. Конечно, столько лет прошло, если что и было, то давно все вылетело. Что им, женщинам? Им это – раз плюнуть, два – растереть. Другое дело у мужчин. Они постоянные. Что тут скрывать, от себя скрывать: любит он ее и теперь, может быть, еще сильнее любит. И на все бы теперь вот пошел, на все, да вот она…»
Лепядухин взглянул вдруг на часы, с трудом улыбнулся и опять неестественно бодрым голосом сказал:
– Да, Таня, была любовь, была, а теперь вот мне на поезд пора.
– А пешком бы дошел? – усмехнулась Таня.
– Куда? – не понял Василий Васильевич.
– Ну домой, к Лильке, разумеется.
– Зачем? – Лепядухин искренне удивился.
– Ладно, – Таня быстро поднялась, – пойдем, Лепядухин. Я шучу.
Они вышли на улицу и стали ловить такси. Мелькнул зеленый огонек, машина остановилась. Побежали оба. Лепядухин смешно размахивал сеткой и портфелем. Сели на заднее сиденье, совершенно случайно сели очень близко. Оба затихли, напряглись, усиленно разглядывая что-то каждый в своем окне. А что было разглядывать? Мелькали одинаковые дома с одинаковым бельем на балконах, пыльные, притомившиеся за лето деревья, полувытоптанные газоны, стеклянные будки постов ГАИ. Да они ничего этого и не замечали, грустя и вздыхая при каждом толчке, еще теснее соединяющем их.
В какое-то мгновение показалось Тане, что надо сейчас все сказать, все решить до конца, потому что следующей встречи может и не случиться. Она уже повернула голову к Лепядухину, уже открыла было рот, но Василий Васильевич вдруг взял из сетки черепаху и удивленно улыбнулся.
– Вот же – тварь, – задумчиво сказал он, – живет и ничего ей не надо. Другие в одиночестве умирают, а этой хоть бы что.
– Да, – легким, незаметным движением Таня отодвинулась, – действительно, ничего ей не надо…
На перрон они вступили молчаливыми и отчужденными. Минуты тянулись тягостно для обоих. Лепядухин вдруг вспомнил, что ничего не знает о ней, и спросил:
– Ну, а как ты, Таня, чем занимаешься?
– Собой, – грустно улыбнулась женщина, – собой и сыном.
– Большой?
– Четырнадцать лет.
– А муж?
– Мужа у меня нет, Вася, не случилось как-то замуж вый-
ти. Ты вот что, Вася, Лильке лучше не говори, что меня встретил, не надо…
– Да ты что, – было возмутился Лепядухин, – она же рада будет узнать, что…
Но Таня отвела глаза и тихо попросила:
– Не надо, Вася.
Дали первый звонок. Они ждали. Дали второй звонок, и Таня вдруг прикрыла глаза, отвернулась. Лепядухин растерянно смотрел на нее.
– Сыну-то, – вдруг заторопился Лепядухин, – сыну – подарок от меня…
Он схватил черепаху и сунул в Танины руки и что-то хотел сказать, но ничего не сказал, болезненно поморщился и пошел в вагон.
Интервью с В.В.Сукачевым опубликовано на сайте издательства
Рубрика «РАССКАЗЫ»
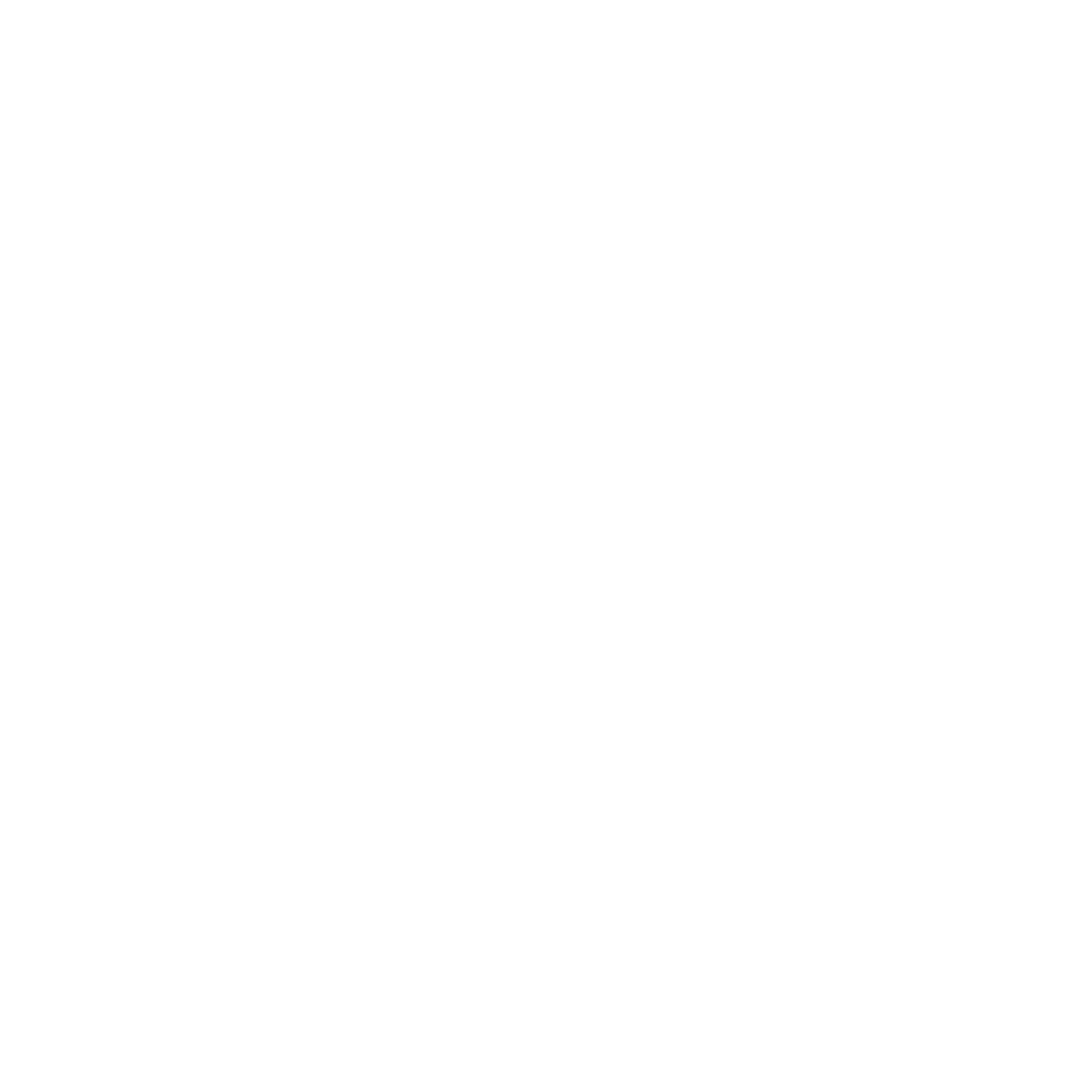
Лариса КЕФФЕЛЬ
Лариса Алексеевна Кеффель (творческий псевдоним, под которым публикуется: Лариса Кеффель-Наумова.) Москвичка. Окончила Московский государственный университет культуры (МГУКИ). Профессия – библиограф. Работала в должности заведующей сектором читального зала в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы. В 1993 г. вышла замуж и уехала в Германию. Живет в г. Майнц, земля Рейнланд-Пфальц, на юго-западе Германии. Работала библиографом в научной библиотеке Высшей католической школы Майнца. Хорошо владеет немецким, но пишет только на русском. Закончила Курсы литературного мастерства писателя А.В.Воронцова. Публикуется в периодических и сетевых изданиях Москвы и Санкт-Петербурга. В 2023 г. в московском издательстве «ФЕЛИСИОН» вышла первая книга рассказов и стихов «И небо – в чашечке цветка». Участвует в литературных конкурсах. Есть переводы рассказов на другие языки. Является участником литературной лаборатории «Красная строка» при ЛИТО «Точки»; Арт-клуба «Притяжение» Ларисы Прашкивской-Фелисион (при ЦДЛ). Член МГО СП РФ.
Лариса Алексеевна Кеффель (творческий псевдоним, под которым публикуется: Лариса Кеффель-Наумова.) Москвичка. Окончила Московский государственный университет культуры (МГУКИ). Профессия – библиограф. Работала в должности заведующей сектором читального зала в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы. В 1993 г. вышла замуж и уехала в Германию. Живет в г. Майнц, земля Рейнланд-Пфальц, на юго-западе Германии. Работала библиографом в научной библиотеке Высшей католической школы Майнца. Хорошо владеет немецким, но пишет только на русском. Закончила Курсы литературного мастерства писателя А.В.Воронцова. Публикуется в периодических и сетевых изданиях Москвы и Санкт-Петербурга. В 2023 г. в московском издательстве «ФЕЛИСИОН» вышла первая книга рассказов и стихов «И небо – в чашечке цветка». Участвует в литературных конкурсах. Есть переводы рассказов на другие языки. Является участником литературной лаборатории «Красная строка» при ЛИТО «Точки»; Арт-клуба «Притяжение» Ларисы Прашкивской-Фелисион (при ЦДЛ). Член МГО СП РФ.
АНГЕЛ
Ирина попрощалась с женихом. Буркхард, невысокий блондин в очках, то и дело обнимал пониже талии, показывая всем сидящим в автобусе, что, мол, моя, хотя ничего у них не было. Тощую сумку – кандидат в мужья пока не торопился обновлять гардероб невесты – запихнули в отсек под автобусом.
Ирина взглянула на первое место за водителем. Около окошка сидел старый дед в бейсболке. Немец ещё раз облобызал Рину, как все коротко её называли, и покинул автобус. Иринино место было у окна, но она не стала сгонять старика с места. Не всё ли равно? Будет смотреть в стекло водителя. Так даже лучше. Она плохо переносила автобусы. Слабый вестибулярный аппарат. Когда была маленькой, то очень страдала. Расстраивалась. Поездка в пионерский лагерь превращалась в кошмар, и пока она, бледная, мысленно моля о скорой остановке, мучилась на переднем сиденье, грызла спички, остальные пионеры заливали в себя литрами лимонад и лопали, чавкали, чмокали всю дорогу до лагеря, который находился под Михнево. Как будто их год не кормили. Как только автобус останавливался коротко, она пулей вылетала и бежала в сторонку.
Карусели с головокружительными виражами были ей недоступны. Она с завистью смотрела на празднике, как визжали от восторга другие дети, переворачиваясь вверх тормашками и взмывая к небу на новых чешских аттракционах. Сама она, прогулявшись с родителями по парку, со вздохом лезла в кабинку чёртова колеса. Только его и могла выдержать.
С возрастом организм окреп, и она стала легче переносить поездки. И всё же больше всего на свете она любила метро. Но на метро из Германии не уедешь. Рина улыбнулась, вспомнив старый анекдот. В вагон забегает явный сумасшедший, наставляет на машиниста перочинный нож и кричит: «Шеф, гони в Копенгаген!» Машинист пожимает плечами, закрывает двери и объявляет: «Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – Копенгаген».
Жених Буркхард купил ей билет только на автобус. Дешевле намного, и в аэропорт не надо ехать. Автобус отходил от городского вокзала.
Ирина поздоровалась с водителем – его звали Дима – и уселась в своё кресло.
Автобус тронулся. Она без энтузиазма помахала Буркхарду, облегчённо вздохнула и откинулась в кресле. Автобус проезжал безликий индустриальный район, слева тянулась унылая железнодорожная насыпь. Салон был переполнен, и в летнем разморенном воздухе смешивались запахи кресельной обивки, пота, мужских носков, дешёвого дезодоранта, еды, и добавлялось ещё амбре из туалета, если плотно не прикрывали дверь. Аппетита, впрочем, это путешественникам не портило. Они накинулись на принесённые котлеты и курицу-гриль, не успел автобус отъехать от стоянки. «Оголодали здесь, что ли?» – подумала усталая Ирина и вспомнила своё пионерское детство. Шуршали газеты и целлофановые мешки, разрывались упаковки и пшикали пробки от теплой газировки. У водителя работал добавочный вентилятор, и поэтому всё это не так било в нос, как в середине и в конце салона.
– Прости, дочка. Пропустишь?
Дед в смешной бейсболке, по бокам которой были нарисованы маленькие крылышки, привстал и ждал, когда она тоже встанет со своего места.
– Да. Конечно.
Ирина поднялась. Постояла, улыбнулась водителю. Дед вернулся. Уселся. Она чувствовала, что дед исподтишка разглядывает её. Попутчик немного погодя спросил:
– Ты, дочка, тоже домой едешь?
– Тоже.
– А сама откуда? Из Казахстана?
– Почему из Казахстана? – обиделась Ирина. – Из Москвы.
– Из Москвы? А здесь что делала? Родню навещала?
Словоохотливый дед, казалось, был настроен пообщаться.
– Нет. Замуж приехала выходить, – так устала, что врать не хотелось. Да и видит она этого незнакомого деда первый и последний раз в жизни.
– Замуж? – дед, казалось, был разочарован. – За кого? За нашего немца?
– Нет. За ихнего, – в тон ему ответила Ира, потихоньку начиная раздражаться на приставучего соседа. С таким ни книжку не удастся почитать, ни подремать, ни прокрутить в голове всё, что с ней случилось за последний месяц, а это было ей ой как надо.
В начале 90-х газеты запестрели объявлениями: «Найдём мужа в любой точке земного шара!» Подруга Галя нашла одно объявление. Поехали. Сотрудник брачной конторы открыл захламлённый подвал. На цементном грязном полу возвышалась гора писем.
– Письмо – сто рублей, – предупредил устало барыга и зевнул, придерживая тяжёлую стальную дверь подвала.
Взяли по пять писем. Написали. Галине, которая была намного старше Рины, достался швейцарец, а вот Рине не повезло. Приехав в город Ланген на западе Германии, она позвонила претенденту – Андреасу. Он примчался на вокзал. Рина забежала в туалет. Помылась и подкрасилась. Стояла, ожидая. Ввалился толстый тип. При ближайшем рассмотрении Рина заметила, что штаны были сзади не очень удачно расставлены. Внешность – тоже полный провал. На старой раздолбанной «Ауди» с давно не чищенным салоном он привез её в свой дом, заваленный старым хламьём, где он жил с матерью. Предложил перекусить. Есть у него совсем не хотелось. Когда дело дошло до дела, Рина сказала без обиняков: «Прости, Андреас. Ты мне не понравился. Но если ты поможешь мне дальше поискать мою судьбу, хорошего парня, то я тебе тоже помогу. Я могу у вас убираться. Помогать по хозяйству. Ну что? Договорились?»
Делать нечего. Стала трудиться по дому. У Андреаса была чудная мать. На половине постели она спала. А на другой половине лежала гора тряпья. Дом был запущен. Рина вымыла окна, работала в саду. Жила она в маленькой комнатушке. Спала на кресле-раскладушке. Иногда смотрела с Андреасом телевизор. Мало что понимала. Она осунулась, но это даже хорошо, раньше туго натянутые на ней джинсы спадали, можно просунуть кулак. Ей часто говорили, что она симпатичная. Большие глаза, высокие скулы, полные от природы губы, чуть вздёрнутый нос. Свои светлые волосы она собирала в хвост. На улице на неё оглядывались. А что толку? Немцы не знакомятся на улице.
Первый раз в этой хвалёной Германии. Деньги она поменяла на дойчмарки ещё в Москве – неудачно, по низкому курсу. Сумма получалась небольшая. Хотелось ей, конечно, попробовать немецкой еды, разбегались глаза при взгляде на витрины кондитерских, где стояли шварцвальдские торты с прослойкой из вишен, пирожные с желе и фруктами, слоёные сердечки с творогом и клубникой внутри. Но, налюбовавшись на сладкое изобилие, она шла в «Альди», где покупала упаковку самых дешёвых булочек, сыр и колбасу. Заходила Рина и в большие магазины одежды, запоминала модели. Примеряла, рылась в уценённых вещах прошлого сезона. Но и из этого ничего купить себе не могла. Увидела в киоске пару журналов «Бурда» с выкройками. Она хорошо шила. Вот приедет домой и сошьёт себе сногсшибательный комбинезон и платье-чулок с маками и с оборками понизу. Ткани у неё в Москве были. Бродила по немецким старинным улочкам, фотографировала своим аппаратом-мыльницей фахверковые постройки с коричневыми балками, церкви, маленькие магазинчики-бутики, где прямо на булыжную мостовую продавщицы выкатывали кронштейны с дорогой одеждой и аксессуарами. Гуляла мимо уличных кафе, ресторанов. Под большими полосатыми навесами немцы весело пили кофе или звенели вилками и ножами, пробуя свежую, жаренную на гриле рыбу с пёстрым рисом басмати, стейки с картофельными поджаристыми клёцками или шницели с картошкой-фри, и к этому – благоухающие рукколой и базиликом салаты. Она была чужая на этом празднике жизни. Пока она себе этого позволить не могла. Пока…
Андреас расщедрился и на выходной повёз её на фломаркт. На этой барахолке немцы, итальянцы, турки продавали подержанные вещи: посуду, велосипеды, микроволновки, ковры, лампы, книги и ещё много всякой всячины, от старинного угольного утюга до современных электроприборов. И всё это в разы дешевле, чем в магазинах. Она гуляла по развалам, смотрела, приценивалась. Нашла там подарок для мамы – измеритель давления на руку. Только без батареек. Андреас обещал ей поискать батарейки дома.
С разрешения своего «друга» звонила иногда на минутку в Москву. «Мам, у меня всё хорошо. Скоро приеду и всё расскажу», – скрывала Ирина своё непонятное положение. Зачем маму расстраивать?
Андреас откопал в какой-то из местных газет номер телефона для знакомств, и она наговорила стандартный текст своим голосом, которому попыталась придать нежный, доброжелательный тембр. Андреас помог с немецким: «Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я русская. Стройная. Мне 20 лет. Светлые волосы. Ищу мужчину для серьёзных отношений!» Потом прослушивала сообщения. Ничего интересного. Сексуально озабоченные типы.
Наконец позвонил вроде приличный. Представился. Сказал, что ищет серьёзную девушку для женитьбы. Увиделась с ним всего три раза. Андреас ревниво охранял свою подопечную. Сам привозил и увозил со свиданий. Придя на первую встречу в какой-то бар, она огляделась. Помятый тип в шортах и растянутой футболке вскочил из-за маленького столика и махнул ей рукой. «Ну почему мне так не везёт?» – в отчаянии подумала Ирина, подходя к нему. Предложил присесть. Угостил её гамбургером и колой. Так она познакомилась с Буркхардом. Виза заканчивалась. Он быстренько предложил ей руку и сердце. Ирина обещала подумать. Купил ей билет на автобус.
– Я пришлю тебе приглашение, ты приедешь, и мы поженимся.
Вроде неплохой парень. В банке работает. Марафон бегает. Вполне симпатичный, только неухоженный. Жена изменила и ушла к другому. Забрала дочку. Только одно терзало Ирину… Она его не любила. Ничего не ёкало. Разве можно так замуж выходить? С ума она сошла, что ли? А где её нравственность? Где читанные ею Тургенев и Чехов? Рина не чувствовала в новоиспечённом женихе ни романтики, ни уж тем более чего-то, похожего на интеллект. Это её раздражало. Может, она его просто мало знает? Зацепиться бы за что, да не за что… Их общение пока сводилось с его стороны к рассказам о предательнице-жене и об успехах дочки в бальных танцах. Она тоже много о себе не говорила. Нельзя же после этого вдруг начать целоваться с человеком, но нового знакомого это не смущало...
– Ты прости меня, дочка, если пристаю с расспросами. Дорога длинная. Хочешь, и ты меня о чём спроси? Раньше ведь все люди разговаривали друг с другом. А сейчас я в этой Германии насиделся молчальником. Как воды в рот набрал. И такая тоска. С этими говорить не хочется.
Рина улыбнулась.
– «С этими»... Они же вам по крови один народ.
Дед хмыкнул.
– Твоя правда. Когда-то были один народ, да уж мои предки – немцы с Волги. Сослали нас в Казахстан. Там потихоньку обосновались. Голые, босые. Русские очень помогали. Всё несли нам и одёжу, и валенки, и избу помогли срубить. И вот приехали мы туда чужими, а стали они нам своими, ближе некуда. Да какие мы немцы? – он помолчал. – Говорим на старонемецком, да и то только старики. Молодёжь – уже нет. Эти-то понимают с трудом и за своих нас в Германии тоже не считают. Вот так, дочка.
– А чего же вы там живёте, если не нравится, и за своих вас не считают?
– А я и не живу, – дед воздохнул, покашлял. – Домой еду.
– Как – домой? Куда?
– В Казахстан, – дед посмотрел на неё, лукаво прищурившись.
– А кто у вас там?
– Никого. Все сдуру сюда уехали. Русаки-соседи там дом наш купили. Говорят, обратно продадут. Эх, дочка. Знаешь, там какое приволье? Выйдешь на вечерней зорьке, сядешь на скамеечку. Один сосед идёт. Побалакает. Другой присядет, бабы остановятся, новости принесут. Всё своё, родное. А здесь… – дед досадливо махнул рукой. – Все лыбятся, а без сердца.
Рина изумилась.
– А жена у вас есть?
– А как же. Есть старуха. Полвека уж вместе, – он усмехнулся. – И дети есть, и внуки.
– А они назад поедут?
– А кто ж их знает? Это их дело. Я домой еду.
– А жена поедет? – не отставала Рина.
– Поедет. Куда она денется! – дед махнул рукой, показывая, что на этот счёт даже не волнуется. – А что жена?
Дед насупился. Немного погодя взорвался:
– Ну что это за жизнь? Посадили в квартиру тесную. Даже балкона нет. Какая-то решётка вместо балкона. Обставились, дети помогли. И сидим. Бабка – к окну. Я – к балкону. Бабка – на балкон этот дурной, я – к окну. Как волк в клетке. У детей своя жизнь. Заняты. Работают. Учатся. Редко приезжать стали. Некогда. И чужие какие-то стали. Вроде мы дураки деревенские и только им мешаем.
– Ну вы даёте! Такое решение принять одному?
– А кого мне спрашивать? Я – мужик. Один раз решил и уехал. Я вот – немец, дочка, а ты, видать, русская. Самая что ни на есть. Зачем ты в каторгу эту уезжаешь? Посмотрел я твоего жениха. Он тебя старше лет на десять!
– Как вас зовут? Меня Ирина. Рина.
– А я Кристоф Энгель.
– Рада познакомиться! – потрясла его Ирина за руку. – Какое у вас имя интересное! И фамилия.
Рину удивило и как-то даже расположило к деду то, что его так звали. «Надо же! Кристоф Энгель! Кристоф... Энгель... Христов ангел?!»
– Такое при рождении дали, – смущенно произнёс старик.
– Да сейчас и дома каторга. Продуктов нет, работы нет. Жизни никакой нет, – продолжила Рина.
– Ну уж и в Москве жизни нет? Не поверю.
– А вот и нет, и жить не на что, и одни бандиты и олигархи.
– Я тебе так скажу. Девушка ты красивая. Ищи на родине хорошего парня. А этих оставь. С ними свои только жить могут. Послушай меня. Не возвращайся к нему.
– Почему вы так говорите? И откуда вы всё знаете? – немножко обиделась Рина.
– Да уж знаю. Не один год промучился и много повидал, многого наслушался.
На дорогу опустилась ночь. Водители Дима и Толик менялись каждые четыре часа. Сопровождающая группы договаривалась, носила паспорта то немцам, то полякам, чтобы пропустили через границу. Так и ехали. Дед что-то весёлое рассказывал, в основном про своё деревенское житьё-бытьё ещё в Союзе, про немецкую реальность вспоминал неохотно. И чем больше она его узнавала, тем больше он ей нравился – простой русский дед. И правда, он совсем не похож на немца.
Было часа четыре утра. То просыпаясь, то вновь проваливаясь в сон, она видела, как они едут по Польше. По очень узкому шоссе, обсаженному здоровенными тополями. Сквозь стволы деревьев виднелись зеленеющие поля в предрассветной туманной мгле. Рина задремала. Вдруг она открыла глаза и увидела в окно, как на их автобус со встречной полосы на всей скорости мчался огромный грузовик. Они сидели с левой стороны, прямо за водителем. Это были секунды. Казалось, что столкновения не избежать. И пришлось бы оно как раз на кабину водителя и на них. От ужаса она открыла рот и посмотрела на старика. Дед Кристоф не спал. Он поднял руку, и летящая на них фура резко ушла от них влево. А их шофёр Дима, тоже, видно, задремавший, вильнул вправо. Дед обернулся к ней и сказал:
– Спи. Всё хорошо.
И она тут же уснула. Наутро она плохо всё помнила. Было это или ничего не было? Может, это ей привиделось в сидячей дрёме? Укачало её? Голова мотается из стороны в сторону. От частых пробуждений не знаешь, где ты и куда едешь. Но нет. Не может быть. Она точно помнила фары страшного огромного тягача на манер американского, его блестящие хромированные трубы, решётчатую пасть над бампером. И особенно тот момент, когда дед выставил руку вперёд, и из неё будто пошёл свет.
Весь последний день Рина пыталась разговорить старика. Ему ещё надо было пересаживаться на автобус в Казахстан и ехать почти неделю. Чем больше она всматривалась в его лукавые глаза, румяное лицо, которое время украсило добрыми морщинками, слушала его речь, шутки-прибаутки, тем больше она проникалась к нему симпатией и ночное происшествие не могла забыть.
– Дедушка Кристоф? Хотите, побудьте денька два у нас, отдохните. Я вас на Красную площадь свожу, в Кремль. А? – завлекала она его. Ей как будто не хотелось с ним расставаться.
– Нет, дочка. И так долго ехать. Друг ждёт. Полдеревни меня ждут. Сказал им, какого числа приеду.
Водители делали редкие остановки на заправочных станциях, чтобы залить бензина, дать возможность пассажирам размять ноги и купить какой-нибудь немудрящей еды там же, в кафе с яркими зонтиками. Дед Кристоф не выходил. А Ирина выбегала. Вернувшись, угощала его пирожками. Пили чай из пластиковых стаканчиков, который разливал Толик из титана, находящегося в конце автобуса.
…Полетели родные просторы. Рина с волнением узнавала пейзажи, словно ожившие картины Поленова, Шишкина. Так стосковалась. Проплывали за окнами в хороводах белоствольные берёзы на пригорках, мелькали церковки с голубыми куполами, придорожные неказистые деревеньки с летними террасками и покосившимися заборами, поленницами дров во дворах. Ближе к Москве по обеим сторонам начались новостройки, склады, запестрели автомобильные магазины с кричащими вывесками «Mersedes-Benz», «Audi», мебельные салоны. Чувствовалось, что всей мощью, кутерьмой людской надвигается на них столица. Пышет жаром.
Автобус остановился на площадке у Ярославского вокзала, недалеко от метро. Приехали. До людей вдруг дошло. Все засуетились и полезли вон из салона. Пассажиры стояли гуртом и один за другим, надрываясь от тяжести, вытягивали из усталого, не остывшего ещё чрева автобуса свои огромные баулы и чемоданы, среди которых затерялась Иринина тощая сумка. Получив её и вынырнув из толчеи, она оглянулась и стала искать глазами старика. Его нигде не было. Ни в автобусе, ни около. Он как будто испарился.
– Толик! – кричала она шофёру. – Ты не видел здесь дедушку, с которым я ехала?
– Какого дедушку? – Дима и Толик были заняты. Собирали документы с маршрута диспетчеру.
Так жаль, что она с ним не успела попрощаться. Вроде он мелькнул в толпе с рюкзачком за спиной и пропал.
А вдруг это был ангел?
ДЖАМБИЯ
Лада засиделась у подруги в Беляево. Устроила с ней нечто вроде прощального девичника. Вспоминали свои в общем-то невинные приключения, беззаботную юность, фотографировали друг дружку. Выпили немного шампанского за удачу. Кто знает? Может, разлучались они надолго. Лада вскоре уезжала в Германию. Возвращаться домой надо было около двух часов на другой конец города. Липы на аллее, по которой она бежала к метро, тревожно шелестели. Позднота-то какая! Ни одного человека. Дорогу перебежала тень. Кошка. В полутьме Лада не поняла, чёрная или нет. А плевать! Она не суеверна. Нырнула в подземку. Успела на пересадку. Доехала по кольцевой до «Новослободской». Рядом с метро была большая автобусная станция. Лада зябко поежилась. Был конец мая. К ночи посвежело, а на ней только топ да белая юбка с шитьём. Около метро шныряли какие-то странные типы, бродили сонные цыгане, вяло приставая к запоздавшим прохожим.
– Дай погадаю тебе, красавица! Всю правду как есть расскажу! – услышала она и вздрогнула.
Перед ней выросла как из-под земли цыганка. Блеснули в усмешке золотые зубы. На Ладу пахнуло затхлостью, смешанной с дешёвыми духами. Взгляд цыганки прожёг её насквозь. Вот ведь шельма! Ромала была обвязана шалью. Господи! Там же младенец!
– Ох, яхонтовая, всё вижу, – гадалка бесцеремонно схватила её руку, развернув ладонь. – Ай-ай! Беда над тобой кружит. Будь осторожной!
– Какая беда? – испугалась пуще прежнего Лада. И так поджилки трясутся.
– А вот дай три рублика, и всё узнаешь.
– Ещё чего! – возмутилась Лада таким расценкам. – Отвяжись!
Она буквально вырвала у настырной попрошайки руку и побежала к автобусу, плотнее прижимая к себе сумочку.
– Люди добрые! Посмотрите! Ай! Ребёнку на молоко пожалела! – запричитала привычно ей вслед нахальная Эсмеральда.
Лада остановилась. Пошарила в сумочке. Вернулась и сунула горластой бродяжке рубль с мелочью. Всё-таки ребёнок у неё.
– Вот спасибо, ясноглазая! Удачи тебе! – донеслось ей вслед.
Добежав до автобуса, она впорхнула в открытые двери. В салоне в час ночи было немноголюдно. Когда экспресс свернул с Дмитровки, высадив большую часть пассажиров, и пошёл, тормозя на каждой остановке, по бульвару, девушка стала боязливо оглядываться. Многие вылезли на «Торговом центре». Лада с тоской провожала выходящих и всё сильнее волновалась, постоянно считая оставшихся. Их число таяло. Вот их пятеро. Нет. Уже трое. Двое вышли у «Аптеки»…
Напротив, через проход, она заметила мужчину в светлых брюках и летнем спортивном пиджаке. Он с интересом посматривал на неё. Лицо его ей сразу не понравилось. Переломанный нос. Нет. Глаза. Нехорошие глаза. Что-то в них было отталкивающее. Она отвернулась и заставила себя смотреть в окно на мелькающую в фонарях листву ночного бульвара и ни о чём не думать. Когда автобус наконец дотащился до её тмутаракани, в салоне остались этот мужчина в пиджаке и она. Лада с опаской спрыгнула с подножки, мужчина последовал за ней. Она шла, всё время прислушиваясь и оглядываясь. До дома, в принципе, недалеко идти, наискось, по протоптанной людьми тропинке, но на улице – ни души. Она посмотрела на свои наручные часики. Почти два часа.
– Какая вы красивая девушка! – услышала она сзади. – Вся в белом.
Лада, то и дело озираясь на него, молчала и торопливо шла по направлению к своему подъезду. Незнакомец не отставал и шумно дышал ей в спину.
– Я всегда мечтал о такой девушке. Я в десанте служил. У меня чёрный пояс карате. Всегда ношу с собой подарок командира. Джамбия – арабский кинжал. Видели такой? Хотите, покажу?
Лада оглянулась на него. Да он сумасшедший! Настоящий маньяк! Безумный восторженный взгляд, в глубине которого таилась смерть. Планировка подъездов шансов выжить ей не оставляла: квартиры отделены от лифта коридором с запертыми дверями. Глухая лестница. Никто не услышит её мольбы о помощи. Изнасилует, а потом убьёт, представила себе Лада. Она поняла, что подъезд станет смертельной ловушкой, какой бы путь она ни выбрала. По лестнице убежать не удастся, и лифта пока дождёшься, пока он закроется… Лада обернулась к нему, пошли вровень. На губах девушки заиграла лёгкая улыбка.
– Вы десантник? Как интересно! Вы, наверное, побывали в тяжёлых передрягах, были на волосок от смерти? Да?
– Да. Ты права. Какая ты хорошая! – незнакомец ел её глазами.
У подъезда стояла скамейка. Лада села поближе к двери. Десантник плюхнулся около неё, касаясь локтем её голой руки. Лада слышала его прерывистое дыхание.
– Я всегда мечтал о такой девушке. Когда в Афгане был, то представлял, что у меня будет любимая. Вот как ты – вся в белом. И я буду назначать ей свидания, буду всегда дарить ей большущие букеты и целовать на последнем ряду в кино.
– Страшно было в Афгане?
– Душманы резали наших как овец. Ночью. Отрезали ребятам, что стояли в карауле, головы.
«Жаль, что тебе не отрезали», – зло про себя подумала Лада, но, прижав руки к груди, сочувственно покачала головой.
– Ну, вас там, наверное, тоже кое-чему научили?
– Научили.
Он страшно улыбнулся, скорее, даже оскалился. В свете фонаря блеснули его жёлтые, как у волка, зубы.
– Я шею одним движением свернуть могу. Обездвижить, нажимая на определённые точки. С одного раза всадить нож в самое сердце. Многому научился.
Лада поёжилась.
– А у тебя крестик… – он схватил своей лапищей маленький золотой крестик у неё на шее, висевший на тонкой цепочке. – Верующая или так носишь?
– Я крещёная. Православная. А вы?
– А! Давно верить перестал. Увидела бы ты, что я видел…
Лада отвела его руку и со страхом прижала рукой крестик к груди.
– Однажды нашу колонну в расщелине между горами обложили. Был сущий ад. Меня контузило. Долго валялся в госпитале, а потом комиссовали. Вернулся домой – никому не нужен. Девчонка знакомая мне писала, а замуж за другого выскочила. Стерва!
Лада заметила его мёртвый стеклянный взгляд и вздрогнула.
– Смотри! Я всё же тебе покажу, что подарил мне наш комбат. У какого-то важного душмана в бою взял.
И он откинул фалду пиджака. За широким ремнём джинсов сбоку торчала куцая ручка и верх, кажется, деревянного чехла. Видно, ему не терпелось похвастаться, вытащить смертоносный подарок и поиграть лезвием. «Скорее всего, врёт он и про командира, и про подарок, и про Афган. Такие всегда под ветеранов Афгана косят. Героями представляются!» – не верила Лада.
– Не надо! – вскрикнула Лада. – Ах, я не переношу оружия! Это вам, мужчинам, нравится всякое такое. Хороший, конечно, подарок в той ситуации, но сейчас, слава богу, мы не на войне, и вам не от кого меня защищать. Душманы сюда не придут.
Она улыбнулась. Внутри у неё все сжималось и разжималось, как меха гармошки. Надежда сменялась отчаянием. Воздуха, казалось, не хватало, но Лада усилием воли заставляла себя дышать ровно. Только бы он не заметил её ужаса и волнения.
– Это точно! Ты не бойся! Я тебя от любого отобью. Знаешь, я всегда хотел, чтобы у меня была такая девушка, как ты. Нежная, преданная, – повторял он одно и то же, как мантру.
– Я тоже всегда хотела познакомиться с таким героическим человеком! – поддакнула Лада. – А все знакомые ребята такие поверхностные, сопляки.
Лада скептически сморщила носик.
– Ещё пороха не нюхали. А вы – уже зрелый, серьёзный. Многое повидали.
– Правда? А другие девицы только шарахаются от меня.
«И правильно делают!» – подумала она. Надо успокоиться. Запудрить ему мозги.
– Ой, да они ничего не понимают в мужчинах, – польстила она ему, чтобы потянуть время, лихорадочно прикидывая, как вывернуться, что дальше делать.
Где-то открыли окно. Недовольный голос мужика просипел спросонья:
– Эй, хватит болтать! Спать не дают!
Ах, как она хотела бы крикнуть этому сиплому мужику: «Родненький! Помогите! Спасите! Спуститесь и защитите меня!» Но у этого психа был нож! Успеет порезать. Это ему, видно, пара пустяков.
– Меня зовут Миша.
Он придвинулся к ней, и она ощутила его дыхание на своей щеке.
– А я Галя! – произнесла она первое имя, что пришло в голову.
– Галя… Красивое имя. Вы не бойтесь меня, Галя.
– А я и не боюсь, – соврала Лада. – С таким героем меня никто не тронет.
Она улыбнулась ему ободряюще.
– Только поздно уже. Дома волнуются. Мне завтра рано вставать. Вот задержалась у подруги.
– На работу?
– Нет. Я учусь. В Полиграфическом, – опять соврала Лада, вспомнив своё неудавшееся поступление два года назад. Если спросит, она знала, где находится институт.
– А на кого там учат?
– Полиграфия. Печать. Типография. Корректура. Редактура, – выпалила Лада.
– Журналистом будете?
– Нет. В издательстве работать. А там – как уж получится. Может, и журналистом. Напишу о вашем подвиге, и вам дадут героя! Расскажете мне всё-всё, договорились?
– А ты дашь мне свой телефон?
– Конечно! Сейчас найду, на чём записать.
Лада поискала в сумочке, на салфетке написала номер, настоящий номер. Она где-то слышала, что сумасшедшие имеют интуицию, как у змеи. Ей казалось, что если она соврёт хоть одну цифру, то он догадается и убьёт её.
– Вот. Держите.
– Ну-ка, повтори твой номер? – вдруг недоверчиво спросил он, глядя в бумажку.
Она спокойно повторила.
– Я действительно рада знакомству с вами, Миша, и хочу с вами встретиться где-нибудь… – она оглянулась, – в более приятной обстановке. У нас будет ещё время поговорить.
Она поднялась со скамейки.
– Ну, мне пора. До свиданья, Миша. Спасибо, что проводили! Охраняли меня, а то с девушкой в белом всякое могло бы случиться, – как можно мягче проворковала Лада и подала ему руку.
Он тоже встал со скамейки. Почувствовав его разочарование, добавила:
– Мне правда пора. Не обижайтесь. Увидимся на днях.
Он дотянулся и поцеловал её в щёку.
– Я провожу вас! – он вскочил и открыл дверь подъезда.
– Нет. Не надо. У нас такие соседи! Ещё увидят! Неудобно. Потом сплетничать будут.
Он помрачнел, и она добавила:
– Звоните, Миша! Мы пойдём с вами в кино, и вы будете меня ждать с большущим букетом. Я люблю розы. Розовые розы, как в песне поётся.
– Да, и оденьте это белое платье. Как сейчас…
– Обязательно, если вам оно нравится, – Лада чуть приподняла кончиками пальцев, покрутила складки широкой юбки.
– Очень. Девушка в белом. Девушка моей мечты.
– Не смущайте меня.
– А какие фильмы вам нравятся?
Кажется, он поверил ей.
– Комедии, – сострила Лада – и, конечно…
Она посмотрела на него долгим нежным взглядом.
– Про любовь, девушки все про это любят, – добавила она, чтобы не сбить романтического настроя каратиста с тесаком за поясом.
Десантник близоруко и несколько беспомощно оглянулся.
– И правда, поздно уже. А где здесь автобусная остановка?
– Если пойдёте назад, к перекрёстку, то там и будет остановка. Там и такси иногда стоят.
– А где перекрёсток?
Лада усмехнулась, несмотря на ужас ситуации. Какой же ты десантник? Совсем не ориентируешься на местности. Ну, ночь ей в помощь. Завтра он уже и не вспомнит, где сейчас находится. Все многоэтажки были похожи одна на другую. Улица тянулась на километры, пересекая Дмитровское шоссе.
– До свиданья.
Он поцеловал ей руку.
Пока она поднималась по лестнице, он продолжал держать дверь подъезда. Лада, улыбаясь ему, нажала кнопку вызова. Десантник смотрел, как она стоит на площадке. Не уходил. «Ну, давай же, скорей приезжай, лифт! Вдруг он передумает и побежит за мной?»
У них в доме было два лифта. Пассажирский и грузовой. Лучше бы пришёл маленький. Но пришёл большой, грузовой. Она ещё раз помахала десантнику рукой и зашла в пустое гулкое пространство кабины. Нажала кнопку двенадцатого этажа. Она слышала, как дверь подъезда хлопнула. «Он вошёл или нет?» Лада не слышала его шагов по лестнице. В ушах шумело, громко стучало сердце. «Миленький, ну, шевелись, задвигай двери!» – шептала Лада. Если он передумает, то ещё успеет запрыгнуть в лифт. «Ангел мой! Будь со мной. Иди вперёд. Я – за тобой. Аминь», – проговорила она про себя коротенькую молитву своему Ангелу, которую знала с детства.
Дверь, поскрипывая, медленно закрылась. Лада вышла на двенадцатом этаже, боязливо огляделась, сняла босоножки, чтоб не цокали, и босиком, по боковой лестнице в темноте спустилась на третий, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, в эти секунды стараясь не дышать. На лестнице было тихо. Порылась в сумке и вытащила ключи. Открыла дверь в холл. Ей казалось, что он стоит сзади. Она резко оглянулась, но позади неё никого не было. Проскользнула туда и быстро повернула ручку щеколды. Потом, стараясь не шуметь, вошла в квартиру и закрылась на все замки, набросила цепочку. Всё! Постояла, прислонившись к двери. Мама сонно позвала из спальни:
– Ладка, это ты?
– Я, мамочка.
– Где тебя носит? Который час?
Лада поняла, что мама сейчас зажжёт ночник у кровати.
– Не включай свет! – зашипела Лада. – Всё в порядке. Я сейчас тоже лягу.
Вдруг тишину ночи разрезал телефонный звонок.
Лада подумала минуту. Вошла в спальню к маме.
– Мама, прости, но ты должна сейчас ответить тому, кто звонит. Ты должна сказать, что здесь нет никакой Гали. Никакая девушка здесь не живёт. Ты поняла? Только не включай свет. Вдруг он следит.
– Кто – он? – ничего не понимая, спросонья вопрошала мама.
– Я потом всё тебе объясню. Ну, давай, бери трубку!
Мама ответила. Он ещё пару раз позвонил. Мама спросила его, какой номер он набирает. Да. Это наш номер, но никакой Гали здесь нет. Мама снова ушла в спальню, ругаясь на непутёвую дочь.
Лада зашла в ванную. Разделась. Стёрла специальным лосьоном с лица косметику, увидела свои круглые от страха, как у совы, глаза в зеркале. Покрутила пальцем у виска. Да, подруга! Ну ты сегодня и отчебучила! Дура! Досиделась, что чуть не погибла. «Господи, благодарю тебя!» – и она с благодарностью нащупала крестик на шее.
Включила душ. Вода побежала по телу, смывая прикосновения этого урода. Она сегодня избежала смерти. Сейчас бы её уже не было в живых или её мучил бы и издевался, резал на кусочки своим дарёным ножом этот фальшивый десантник. Наверное, только на днях вышел из психушки. Запросто всадил бы в неё эту свою джамбию. Лада запомнила незнакомое слово.
Кураж прошёл. Лада закрыла лицо руками, дрожа всем телом. Ноги подогнулись, она осела в ванну и сдавленно зарыдала, закрывая себе рот рукой, чтобы не услышала мама. Струи воды хлестали по спине, стекали по волосам. Кровожадный ублюдок! Ножом пугал! Зажмурилась. Откуда-то из абсолюта на неё смотрели чёрные, как пропасти, глаза цыганки. А ведь та правду сказала. Она знала, всё знала…
Ирина попрощалась с женихом. Буркхард, невысокий блондин в очках, то и дело обнимал пониже талии, показывая всем сидящим в автобусе, что, мол, моя, хотя ничего у них не было. Тощую сумку – кандидат в мужья пока не торопился обновлять гардероб невесты – запихнули в отсек под автобусом.
Ирина взглянула на первое место за водителем. Около окошка сидел старый дед в бейсболке. Немец ещё раз облобызал Рину, как все коротко её называли, и покинул автобус. Иринино место было у окна, но она не стала сгонять старика с места. Не всё ли равно? Будет смотреть в стекло водителя. Так даже лучше. Она плохо переносила автобусы. Слабый вестибулярный аппарат. Когда была маленькой, то очень страдала. Расстраивалась. Поездка в пионерский лагерь превращалась в кошмар, и пока она, бледная, мысленно моля о скорой остановке, мучилась на переднем сиденье, грызла спички, остальные пионеры заливали в себя литрами лимонад и лопали, чавкали, чмокали всю дорогу до лагеря, который находился под Михнево. Как будто их год не кормили. Как только автобус останавливался коротко, она пулей вылетала и бежала в сторонку.
Карусели с головокружительными виражами были ей недоступны. Она с завистью смотрела на празднике, как визжали от восторга другие дети, переворачиваясь вверх тормашками и взмывая к небу на новых чешских аттракционах. Сама она, прогулявшись с родителями по парку, со вздохом лезла в кабинку чёртова колеса. Только его и могла выдержать.
С возрастом организм окреп, и она стала легче переносить поездки. И всё же больше всего на свете она любила метро. Но на метро из Германии не уедешь. Рина улыбнулась, вспомнив старый анекдот. В вагон забегает явный сумасшедший, наставляет на машиниста перочинный нож и кричит: «Шеф, гони в Копенгаген!» Машинист пожимает плечами, закрывает двери и объявляет: «Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция – Копенгаген».
Жених Буркхард купил ей билет только на автобус. Дешевле намного, и в аэропорт не надо ехать. Автобус отходил от городского вокзала.
Ирина поздоровалась с водителем – его звали Дима – и уселась в своё кресло.
Автобус тронулся. Она без энтузиазма помахала Буркхарду, облегчённо вздохнула и откинулась в кресле. Автобус проезжал безликий индустриальный район, слева тянулась унылая железнодорожная насыпь. Салон был переполнен, и в летнем разморенном воздухе смешивались запахи кресельной обивки, пота, мужских носков, дешёвого дезодоранта, еды, и добавлялось ещё амбре из туалета, если плотно не прикрывали дверь. Аппетита, впрочем, это путешественникам не портило. Они накинулись на принесённые котлеты и курицу-гриль, не успел автобус отъехать от стоянки. «Оголодали здесь, что ли?» – подумала усталая Ирина и вспомнила своё пионерское детство. Шуршали газеты и целлофановые мешки, разрывались упаковки и пшикали пробки от теплой газировки. У водителя работал добавочный вентилятор, и поэтому всё это не так било в нос, как в середине и в конце салона.
– Прости, дочка. Пропустишь?
Дед в смешной бейсболке, по бокам которой были нарисованы маленькие крылышки, привстал и ждал, когда она тоже встанет со своего места.
– Да. Конечно.
Ирина поднялась. Постояла, улыбнулась водителю. Дед вернулся. Уселся. Она чувствовала, что дед исподтишка разглядывает её. Попутчик немного погодя спросил:
– Ты, дочка, тоже домой едешь?
– Тоже.
– А сама откуда? Из Казахстана?
– Почему из Казахстана? – обиделась Ирина. – Из Москвы.
– Из Москвы? А здесь что делала? Родню навещала?
Словоохотливый дед, казалось, был настроен пообщаться.
– Нет. Замуж приехала выходить, – так устала, что врать не хотелось. Да и видит она этого незнакомого деда первый и последний раз в жизни.
– Замуж? – дед, казалось, был разочарован. – За кого? За нашего немца?
– Нет. За ихнего, – в тон ему ответила Ира, потихоньку начиная раздражаться на приставучего соседа. С таким ни книжку не удастся почитать, ни подремать, ни прокрутить в голове всё, что с ней случилось за последний месяц, а это было ей ой как надо.
В начале 90-х газеты запестрели объявлениями: «Найдём мужа в любой точке земного шара!» Подруга Галя нашла одно объявление. Поехали. Сотрудник брачной конторы открыл захламлённый подвал. На цементном грязном полу возвышалась гора писем.
– Письмо – сто рублей, – предупредил устало барыга и зевнул, придерживая тяжёлую стальную дверь подвала.
Взяли по пять писем. Написали. Галине, которая была намного старше Рины, достался швейцарец, а вот Рине не повезло. Приехав в город Ланген на западе Германии, она позвонила претенденту – Андреасу. Он примчался на вокзал. Рина забежала в туалет. Помылась и подкрасилась. Стояла, ожидая. Ввалился толстый тип. При ближайшем рассмотрении Рина заметила, что штаны были сзади не очень удачно расставлены. Внешность – тоже полный провал. На старой раздолбанной «Ауди» с давно не чищенным салоном он привез её в свой дом, заваленный старым хламьём, где он жил с матерью. Предложил перекусить. Есть у него совсем не хотелось. Когда дело дошло до дела, Рина сказала без обиняков: «Прости, Андреас. Ты мне не понравился. Но если ты поможешь мне дальше поискать мою судьбу, хорошего парня, то я тебе тоже помогу. Я могу у вас убираться. Помогать по хозяйству. Ну что? Договорились?»
Делать нечего. Стала трудиться по дому. У Андреаса была чудная мать. На половине постели она спала. А на другой половине лежала гора тряпья. Дом был запущен. Рина вымыла окна, работала в саду. Жила она в маленькой комнатушке. Спала на кресле-раскладушке. Иногда смотрела с Андреасом телевизор. Мало что понимала. Она осунулась, но это даже хорошо, раньше туго натянутые на ней джинсы спадали, можно просунуть кулак. Ей часто говорили, что она симпатичная. Большие глаза, высокие скулы, полные от природы губы, чуть вздёрнутый нос. Свои светлые волосы она собирала в хвост. На улице на неё оглядывались. А что толку? Немцы не знакомятся на улице.
Первый раз в этой хвалёной Германии. Деньги она поменяла на дойчмарки ещё в Москве – неудачно, по низкому курсу. Сумма получалась небольшая. Хотелось ей, конечно, попробовать немецкой еды, разбегались глаза при взгляде на витрины кондитерских, где стояли шварцвальдские торты с прослойкой из вишен, пирожные с желе и фруктами, слоёные сердечки с творогом и клубникой внутри. Но, налюбовавшись на сладкое изобилие, она шла в «Альди», где покупала упаковку самых дешёвых булочек, сыр и колбасу. Заходила Рина и в большие магазины одежды, запоминала модели. Примеряла, рылась в уценённых вещах прошлого сезона. Но и из этого ничего купить себе не могла. Увидела в киоске пару журналов «Бурда» с выкройками. Она хорошо шила. Вот приедет домой и сошьёт себе сногсшибательный комбинезон и платье-чулок с маками и с оборками понизу. Ткани у неё в Москве были. Бродила по немецким старинным улочкам, фотографировала своим аппаратом-мыльницей фахверковые постройки с коричневыми балками, церкви, маленькие магазинчики-бутики, где прямо на булыжную мостовую продавщицы выкатывали кронштейны с дорогой одеждой и аксессуарами. Гуляла мимо уличных кафе, ресторанов. Под большими полосатыми навесами немцы весело пили кофе или звенели вилками и ножами, пробуя свежую, жаренную на гриле рыбу с пёстрым рисом басмати, стейки с картофельными поджаристыми клёцками или шницели с картошкой-фри, и к этому – благоухающие рукколой и базиликом салаты. Она была чужая на этом празднике жизни. Пока она себе этого позволить не могла. Пока…
Андреас расщедрился и на выходной повёз её на фломаркт. На этой барахолке немцы, итальянцы, турки продавали подержанные вещи: посуду, велосипеды, микроволновки, ковры, лампы, книги и ещё много всякой всячины, от старинного угольного утюга до современных электроприборов. И всё это в разы дешевле, чем в магазинах. Она гуляла по развалам, смотрела, приценивалась. Нашла там подарок для мамы – измеритель давления на руку. Только без батареек. Андреас обещал ей поискать батарейки дома.
С разрешения своего «друга» звонила иногда на минутку в Москву. «Мам, у меня всё хорошо. Скоро приеду и всё расскажу», – скрывала Ирина своё непонятное положение. Зачем маму расстраивать?
Андреас откопал в какой-то из местных газет номер телефона для знакомств, и она наговорила стандартный текст своим голосом, которому попыталась придать нежный, доброжелательный тембр. Андреас помог с немецким: «Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я русская. Стройная. Мне 20 лет. Светлые волосы. Ищу мужчину для серьёзных отношений!» Потом прослушивала сообщения. Ничего интересного. Сексуально озабоченные типы.
Наконец позвонил вроде приличный. Представился. Сказал, что ищет серьёзную девушку для женитьбы. Увиделась с ним всего три раза. Андреас ревниво охранял свою подопечную. Сам привозил и увозил со свиданий. Придя на первую встречу в какой-то бар, она огляделась. Помятый тип в шортах и растянутой футболке вскочил из-за маленького столика и махнул ей рукой. «Ну почему мне так не везёт?» – в отчаянии подумала Ирина, подходя к нему. Предложил присесть. Угостил её гамбургером и колой. Так она познакомилась с Буркхардом. Виза заканчивалась. Он быстренько предложил ей руку и сердце. Ирина обещала подумать. Купил ей билет на автобус.
– Я пришлю тебе приглашение, ты приедешь, и мы поженимся.
Вроде неплохой парень. В банке работает. Марафон бегает. Вполне симпатичный, только неухоженный. Жена изменила и ушла к другому. Забрала дочку. Только одно терзало Ирину… Она его не любила. Ничего не ёкало. Разве можно так замуж выходить? С ума она сошла, что ли? А где её нравственность? Где читанные ею Тургенев и Чехов? Рина не чувствовала в новоиспечённом женихе ни романтики, ни уж тем более чего-то, похожего на интеллект. Это её раздражало. Может, она его просто мало знает? Зацепиться бы за что, да не за что… Их общение пока сводилось с его стороны к рассказам о предательнице-жене и об успехах дочки в бальных танцах. Она тоже много о себе не говорила. Нельзя же после этого вдруг начать целоваться с человеком, но нового знакомого это не смущало...
– Ты прости меня, дочка, если пристаю с расспросами. Дорога длинная. Хочешь, и ты меня о чём спроси? Раньше ведь все люди разговаривали друг с другом. А сейчас я в этой Германии насиделся молчальником. Как воды в рот набрал. И такая тоска. С этими говорить не хочется.
Рина улыбнулась.
– «С этими»... Они же вам по крови один народ.
Дед хмыкнул.
– Твоя правда. Когда-то были один народ, да уж мои предки – немцы с Волги. Сослали нас в Казахстан. Там потихоньку обосновались. Голые, босые. Русские очень помогали. Всё несли нам и одёжу, и валенки, и избу помогли срубить. И вот приехали мы туда чужими, а стали они нам своими, ближе некуда. Да какие мы немцы? – он помолчал. – Говорим на старонемецком, да и то только старики. Молодёжь – уже нет. Эти-то понимают с трудом и за своих нас в Германии тоже не считают. Вот так, дочка.
– А чего же вы там живёте, если не нравится, и за своих вас не считают?
– А я и не живу, – дед воздохнул, покашлял. – Домой еду.
– Как – домой? Куда?
– В Казахстан, – дед посмотрел на неё, лукаво прищурившись.
– А кто у вас там?
– Никого. Все сдуру сюда уехали. Русаки-соседи там дом наш купили. Говорят, обратно продадут. Эх, дочка. Знаешь, там какое приволье? Выйдешь на вечерней зорьке, сядешь на скамеечку. Один сосед идёт. Побалакает. Другой присядет, бабы остановятся, новости принесут. Всё своё, родное. А здесь… – дед досадливо махнул рукой. – Все лыбятся, а без сердца.
Рина изумилась.
– А жена у вас есть?
– А как же. Есть старуха. Полвека уж вместе, – он усмехнулся. – И дети есть, и внуки.
– А они назад поедут?
– А кто ж их знает? Это их дело. Я домой еду.
– А жена поедет? – не отставала Рина.
– Поедет. Куда она денется! – дед махнул рукой, показывая, что на этот счёт даже не волнуется. – А что жена?
Дед насупился. Немного погодя взорвался:
– Ну что это за жизнь? Посадили в квартиру тесную. Даже балкона нет. Какая-то решётка вместо балкона. Обставились, дети помогли. И сидим. Бабка – к окну. Я – к балкону. Бабка – на балкон этот дурной, я – к окну. Как волк в клетке. У детей своя жизнь. Заняты. Работают. Учатся. Редко приезжать стали. Некогда. И чужие какие-то стали. Вроде мы дураки деревенские и только им мешаем.
– Ну вы даёте! Такое решение принять одному?
– А кого мне спрашивать? Я – мужик. Один раз решил и уехал. Я вот – немец, дочка, а ты, видать, русская. Самая что ни на есть. Зачем ты в каторгу эту уезжаешь? Посмотрел я твоего жениха. Он тебя старше лет на десять!
– Как вас зовут? Меня Ирина. Рина.
– А я Кристоф Энгель.
– Рада познакомиться! – потрясла его Ирина за руку. – Какое у вас имя интересное! И фамилия.
Рину удивило и как-то даже расположило к деду то, что его так звали. «Надо же! Кристоф Энгель! Кристоф... Энгель... Христов ангел?!»
– Такое при рождении дали, – смущенно произнёс старик.
– Да сейчас и дома каторга. Продуктов нет, работы нет. Жизни никакой нет, – продолжила Рина.
– Ну уж и в Москве жизни нет? Не поверю.
– А вот и нет, и жить не на что, и одни бандиты и олигархи.
– Я тебе так скажу. Девушка ты красивая. Ищи на родине хорошего парня. А этих оставь. С ними свои только жить могут. Послушай меня. Не возвращайся к нему.
– Почему вы так говорите? И откуда вы всё знаете? – немножко обиделась Рина.
– Да уж знаю. Не один год промучился и много повидал, многого наслушался.
На дорогу опустилась ночь. Водители Дима и Толик менялись каждые четыре часа. Сопровождающая группы договаривалась, носила паспорта то немцам, то полякам, чтобы пропустили через границу. Так и ехали. Дед что-то весёлое рассказывал, в основном про своё деревенское житьё-бытьё ещё в Союзе, про немецкую реальность вспоминал неохотно. И чем больше она его узнавала, тем больше он ей нравился – простой русский дед. И правда, он совсем не похож на немца.
Было часа четыре утра. То просыпаясь, то вновь проваливаясь в сон, она видела, как они едут по Польше. По очень узкому шоссе, обсаженному здоровенными тополями. Сквозь стволы деревьев виднелись зеленеющие поля в предрассветной туманной мгле. Рина задремала. Вдруг она открыла глаза и увидела в окно, как на их автобус со встречной полосы на всей скорости мчался огромный грузовик. Они сидели с левой стороны, прямо за водителем. Это были секунды. Казалось, что столкновения не избежать. И пришлось бы оно как раз на кабину водителя и на них. От ужаса она открыла рот и посмотрела на старика. Дед Кристоф не спал. Он поднял руку, и летящая на них фура резко ушла от них влево. А их шофёр Дима, тоже, видно, задремавший, вильнул вправо. Дед обернулся к ней и сказал:
– Спи. Всё хорошо.
И она тут же уснула. Наутро она плохо всё помнила. Было это или ничего не было? Может, это ей привиделось в сидячей дрёме? Укачало её? Голова мотается из стороны в сторону. От частых пробуждений не знаешь, где ты и куда едешь. Но нет. Не может быть. Она точно помнила фары страшного огромного тягача на манер американского, его блестящие хромированные трубы, решётчатую пасть над бампером. И особенно тот момент, когда дед выставил руку вперёд, и из неё будто пошёл свет.
Весь последний день Рина пыталась разговорить старика. Ему ещё надо было пересаживаться на автобус в Казахстан и ехать почти неделю. Чем больше она всматривалась в его лукавые глаза, румяное лицо, которое время украсило добрыми морщинками, слушала его речь, шутки-прибаутки, тем больше она проникалась к нему симпатией и ночное происшествие не могла забыть.
– Дедушка Кристоф? Хотите, побудьте денька два у нас, отдохните. Я вас на Красную площадь свожу, в Кремль. А? – завлекала она его. Ей как будто не хотелось с ним расставаться.
– Нет, дочка. И так долго ехать. Друг ждёт. Полдеревни меня ждут. Сказал им, какого числа приеду.
Водители делали редкие остановки на заправочных станциях, чтобы залить бензина, дать возможность пассажирам размять ноги и купить какой-нибудь немудрящей еды там же, в кафе с яркими зонтиками. Дед Кристоф не выходил. А Ирина выбегала. Вернувшись, угощала его пирожками. Пили чай из пластиковых стаканчиков, который разливал Толик из титана, находящегося в конце автобуса.
…Полетели родные просторы. Рина с волнением узнавала пейзажи, словно ожившие картины Поленова, Шишкина. Так стосковалась. Проплывали за окнами в хороводах белоствольные берёзы на пригорках, мелькали церковки с голубыми куполами, придорожные неказистые деревеньки с летними террасками и покосившимися заборами, поленницами дров во дворах. Ближе к Москве по обеим сторонам начались новостройки, склады, запестрели автомобильные магазины с кричащими вывесками «Mersedes-Benz», «Audi», мебельные салоны. Чувствовалось, что всей мощью, кутерьмой людской надвигается на них столица. Пышет жаром.
Автобус остановился на площадке у Ярославского вокзала, недалеко от метро. Приехали. До людей вдруг дошло. Все засуетились и полезли вон из салона. Пассажиры стояли гуртом и один за другим, надрываясь от тяжести, вытягивали из усталого, не остывшего ещё чрева автобуса свои огромные баулы и чемоданы, среди которых затерялась Иринина тощая сумка. Получив её и вынырнув из толчеи, она оглянулась и стала искать глазами старика. Его нигде не было. Ни в автобусе, ни около. Он как будто испарился.
– Толик! – кричала она шофёру. – Ты не видел здесь дедушку, с которым я ехала?
– Какого дедушку? – Дима и Толик были заняты. Собирали документы с маршрута диспетчеру.
Так жаль, что она с ним не успела попрощаться. Вроде он мелькнул в толпе с рюкзачком за спиной и пропал.
А вдруг это был ангел?
ДЖАМБИЯ
Лада засиделась у подруги в Беляево. Устроила с ней нечто вроде прощального девичника. Вспоминали свои в общем-то невинные приключения, беззаботную юность, фотографировали друг дружку. Выпили немного шампанского за удачу. Кто знает? Может, разлучались они надолго. Лада вскоре уезжала в Германию. Возвращаться домой надо было около двух часов на другой конец города. Липы на аллее, по которой она бежала к метро, тревожно шелестели. Позднота-то какая! Ни одного человека. Дорогу перебежала тень. Кошка. В полутьме Лада не поняла, чёрная или нет. А плевать! Она не суеверна. Нырнула в подземку. Успела на пересадку. Доехала по кольцевой до «Новослободской». Рядом с метро была большая автобусная станция. Лада зябко поежилась. Был конец мая. К ночи посвежело, а на ней только топ да белая юбка с шитьём. Около метро шныряли какие-то странные типы, бродили сонные цыгане, вяло приставая к запоздавшим прохожим.
– Дай погадаю тебе, красавица! Всю правду как есть расскажу! – услышала она и вздрогнула.
Перед ней выросла как из-под земли цыганка. Блеснули в усмешке золотые зубы. На Ладу пахнуло затхлостью, смешанной с дешёвыми духами. Взгляд цыганки прожёг её насквозь. Вот ведь шельма! Ромала была обвязана шалью. Господи! Там же младенец!
– Ох, яхонтовая, всё вижу, – гадалка бесцеремонно схватила её руку, развернув ладонь. – Ай-ай! Беда над тобой кружит. Будь осторожной!
– Какая беда? – испугалась пуще прежнего Лада. И так поджилки трясутся.
– А вот дай три рублика, и всё узнаешь.
– Ещё чего! – возмутилась Лада таким расценкам. – Отвяжись!
Она буквально вырвала у настырной попрошайки руку и побежала к автобусу, плотнее прижимая к себе сумочку.
– Люди добрые! Посмотрите! Ай! Ребёнку на молоко пожалела! – запричитала привычно ей вслед нахальная Эсмеральда.
Лада остановилась. Пошарила в сумочке. Вернулась и сунула горластой бродяжке рубль с мелочью. Всё-таки ребёнок у неё.
– Вот спасибо, ясноглазая! Удачи тебе! – донеслось ей вслед.
Добежав до автобуса, она впорхнула в открытые двери. В салоне в час ночи было немноголюдно. Когда экспресс свернул с Дмитровки, высадив большую часть пассажиров, и пошёл, тормозя на каждой остановке, по бульвару, девушка стала боязливо оглядываться. Многие вылезли на «Торговом центре». Лада с тоской провожала выходящих и всё сильнее волновалась, постоянно считая оставшихся. Их число таяло. Вот их пятеро. Нет. Уже трое. Двое вышли у «Аптеки»…
Напротив, через проход, она заметила мужчину в светлых брюках и летнем спортивном пиджаке. Он с интересом посматривал на неё. Лицо его ей сразу не понравилось. Переломанный нос. Нет. Глаза. Нехорошие глаза. Что-то в них было отталкивающее. Она отвернулась и заставила себя смотреть в окно на мелькающую в фонарях листву ночного бульвара и ни о чём не думать. Когда автобус наконец дотащился до её тмутаракани, в салоне остались этот мужчина в пиджаке и она. Лада с опаской спрыгнула с подножки, мужчина последовал за ней. Она шла, всё время прислушиваясь и оглядываясь. До дома, в принципе, недалеко идти, наискось, по протоптанной людьми тропинке, но на улице – ни души. Она посмотрела на свои наручные часики. Почти два часа.
– Какая вы красивая девушка! – услышала она сзади. – Вся в белом.
Лада, то и дело озираясь на него, молчала и торопливо шла по направлению к своему подъезду. Незнакомец не отставал и шумно дышал ей в спину.
– Я всегда мечтал о такой девушке. Я в десанте служил. У меня чёрный пояс карате. Всегда ношу с собой подарок командира. Джамбия – арабский кинжал. Видели такой? Хотите, покажу?
Лада оглянулась на него. Да он сумасшедший! Настоящий маньяк! Безумный восторженный взгляд, в глубине которого таилась смерть. Планировка подъездов шансов выжить ей не оставляла: квартиры отделены от лифта коридором с запертыми дверями. Глухая лестница. Никто не услышит её мольбы о помощи. Изнасилует, а потом убьёт, представила себе Лада. Она поняла, что подъезд станет смертельной ловушкой, какой бы путь она ни выбрала. По лестнице убежать не удастся, и лифта пока дождёшься, пока он закроется… Лада обернулась к нему, пошли вровень. На губах девушки заиграла лёгкая улыбка.
– Вы десантник? Как интересно! Вы, наверное, побывали в тяжёлых передрягах, были на волосок от смерти? Да?
– Да. Ты права. Какая ты хорошая! – незнакомец ел её глазами.
У подъезда стояла скамейка. Лада села поближе к двери. Десантник плюхнулся около неё, касаясь локтем её голой руки. Лада слышала его прерывистое дыхание.
– Я всегда мечтал о такой девушке. Когда в Афгане был, то представлял, что у меня будет любимая. Вот как ты – вся в белом. И я буду назначать ей свидания, буду всегда дарить ей большущие букеты и целовать на последнем ряду в кино.
– Страшно было в Афгане?
– Душманы резали наших как овец. Ночью. Отрезали ребятам, что стояли в карауле, головы.
«Жаль, что тебе не отрезали», – зло про себя подумала Лада, но, прижав руки к груди, сочувственно покачала головой.
– Ну, вас там, наверное, тоже кое-чему научили?
– Научили.
Он страшно улыбнулся, скорее, даже оскалился. В свете фонаря блеснули его жёлтые, как у волка, зубы.
– Я шею одним движением свернуть могу. Обездвижить, нажимая на определённые точки. С одного раза всадить нож в самое сердце. Многому научился.
Лада поёжилась.
– А у тебя крестик… – он схватил своей лапищей маленький золотой крестик у неё на шее, висевший на тонкой цепочке. – Верующая или так носишь?
– Я крещёная. Православная. А вы?
– А! Давно верить перестал. Увидела бы ты, что я видел…
Лада отвела его руку и со страхом прижала рукой крестик к груди.
– Однажды нашу колонну в расщелине между горами обложили. Был сущий ад. Меня контузило. Долго валялся в госпитале, а потом комиссовали. Вернулся домой – никому не нужен. Девчонка знакомая мне писала, а замуж за другого выскочила. Стерва!
Лада заметила его мёртвый стеклянный взгляд и вздрогнула.
– Смотри! Я всё же тебе покажу, что подарил мне наш комбат. У какого-то важного душмана в бою взял.
И он откинул фалду пиджака. За широким ремнём джинсов сбоку торчала куцая ручка и верх, кажется, деревянного чехла. Видно, ему не терпелось похвастаться, вытащить смертоносный подарок и поиграть лезвием. «Скорее всего, врёт он и про командира, и про подарок, и про Афган. Такие всегда под ветеранов Афгана косят. Героями представляются!» – не верила Лада.
– Не надо! – вскрикнула Лада. – Ах, я не переношу оружия! Это вам, мужчинам, нравится всякое такое. Хороший, конечно, подарок в той ситуации, но сейчас, слава богу, мы не на войне, и вам не от кого меня защищать. Душманы сюда не придут.
Она улыбнулась. Внутри у неё все сжималось и разжималось, как меха гармошки. Надежда сменялась отчаянием. Воздуха, казалось, не хватало, но Лада усилием воли заставляла себя дышать ровно. Только бы он не заметил её ужаса и волнения.
– Это точно! Ты не бойся! Я тебя от любого отобью. Знаешь, я всегда хотел, чтобы у меня была такая девушка, как ты. Нежная, преданная, – повторял он одно и то же, как мантру.
– Я тоже всегда хотела познакомиться с таким героическим человеком! – поддакнула Лада. – А все знакомые ребята такие поверхностные, сопляки.
Лада скептически сморщила носик.
– Ещё пороха не нюхали. А вы – уже зрелый, серьёзный. Многое повидали.
– Правда? А другие девицы только шарахаются от меня.
«И правильно делают!» – подумала она. Надо успокоиться. Запудрить ему мозги.
– Ой, да они ничего не понимают в мужчинах, – польстила она ему, чтобы потянуть время, лихорадочно прикидывая, как вывернуться, что дальше делать.
Где-то открыли окно. Недовольный голос мужика просипел спросонья:
– Эй, хватит болтать! Спать не дают!
Ах, как она хотела бы крикнуть этому сиплому мужику: «Родненький! Помогите! Спасите! Спуститесь и защитите меня!» Но у этого психа был нож! Успеет порезать. Это ему, видно, пара пустяков.
– Меня зовут Миша.
Он придвинулся к ней, и она ощутила его дыхание на своей щеке.
– А я Галя! – произнесла она первое имя, что пришло в голову.
– Галя… Красивое имя. Вы не бойтесь меня, Галя.
– А я и не боюсь, – соврала Лада. – С таким героем меня никто не тронет.
Она улыбнулась ему ободряюще.
– Только поздно уже. Дома волнуются. Мне завтра рано вставать. Вот задержалась у подруги.
– На работу?
– Нет. Я учусь. В Полиграфическом, – опять соврала Лада, вспомнив своё неудавшееся поступление два года назад. Если спросит, она знала, где находится институт.
– А на кого там учат?
– Полиграфия. Печать. Типография. Корректура. Редактура, – выпалила Лада.
– Журналистом будете?
– Нет. В издательстве работать. А там – как уж получится. Может, и журналистом. Напишу о вашем подвиге, и вам дадут героя! Расскажете мне всё-всё, договорились?
– А ты дашь мне свой телефон?
– Конечно! Сейчас найду, на чём записать.
Лада поискала в сумочке, на салфетке написала номер, настоящий номер. Она где-то слышала, что сумасшедшие имеют интуицию, как у змеи. Ей казалось, что если она соврёт хоть одну цифру, то он догадается и убьёт её.
– Вот. Держите.
– Ну-ка, повтори твой номер? – вдруг недоверчиво спросил он, глядя в бумажку.
Она спокойно повторила.
– Я действительно рада знакомству с вами, Миша, и хочу с вами встретиться где-нибудь… – она оглянулась, – в более приятной обстановке. У нас будет ещё время поговорить.
Она поднялась со скамейки.
– Ну, мне пора. До свиданья, Миша. Спасибо, что проводили! Охраняли меня, а то с девушкой в белом всякое могло бы случиться, – как можно мягче проворковала Лада и подала ему руку.
Он тоже встал со скамейки. Почувствовав его разочарование, добавила:
– Мне правда пора. Не обижайтесь. Увидимся на днях.
Он дотянулся и поцеловал её в щёку.
– Я провожу вас! – он вскочил и открыл дверь подъезда.
– Нет. Не надо. У нас такие соседи! Ещё увидят! Неудобно. Потом сплетничать будут.
Он помрачнел, и она добавила:
– Звоните, Миша! Мы пойдём с вами в кино, и вы будете меня ждать с большущим букетом. Я люблю розы. Розовые розы, как в песне поётся.
– Да, и оденьте это белое платье. Как сейчас…
– Обязательно, если вам оно нравится, – Лада чуть приподняла кончиками пальцев, покрутила складки широкой юбки.
– Очень. Девушка в белом. Девушка моей мечты.
– Не смущайте меня.
– А какие фильмы вам нравятся?
Кажется, он поверил ей.
– Комедии, – сострила Лада – и, конечно…
Она посмотрела на него долгим нежным взглядом.
– Про любовь, девушки все про это любят, – добавила она, чтобы не сбить романтического настроя каратиста с тесаком за поясом.
Десантник близоруко и несколько беспомощно оглянулся.
– И правда, поздно уже. А где здесь автобусная остановка?
– Если пойдёте назад, к перекрёстку, то там и будет остановка. Там и такси иногда стоят.
– А где перекрёсток?
Лада усмехнулась, несмотря на ужас ситуации. Какой же ты десантник? Совсем не ориентируешься на местности. Ну, ночь ей в помощь. Завтра он уже и не вспомнит, где сейчас находится. Все многоэтажки были похожи одна на другую. Улица тянулась на километры, пересекая Дмитровское шоссе.
– До свиданья.
Он поцеловал ей руку.
Пока она поднималась по лестнице, он продолжал держать дверь подъезда. Лада, улыбаясь ему, нажала кнопку вызова. Десантник смотрел, как она стоит на площадке. Не уходил. «Ну, давай же, скорей приезжай, лифт! Вдруг он передумает и побежит за мной?»
У них в доме было два лифта. Пассажирский и грузовой. Лучше бы пришёл маленький. Но пришёл большой, грузовой. Она ещё раз помахала десантнику рукой и зашла в пустое гулкое пространство кабины. Нажала кнопку двенадцатого этажа. Она слышала, как дверь подъезда хлопнула. «Он вошёл или нет?» Лада не слышала его шагов по лестнице. В ушах шумело, громко стучало сердце. «Миленький, ну, шевелись, задвигай двери!» – шептала Лада. Если он передумает, то ещё успеет запрыгнуть в лифт. «Ангел мой! Будь со мной. Иди вперёд. Я – за тобой. Аминь», – проговорила она про себя коротенькую молитву своему Ангелу, которую знала с детства.
Дверь, поскрипывая, медленно закрылась. Лада вышла на двенадцатом этаже, боязливо огляделась, сняла босоножки, чтоб не цокали, и босиком, по боковой лестнице в темноте спустилась на третий, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, в эти секунды стараясь не дышать. На лестнице было тихо. Порылась в сумке и вытащила ключи. Открыла дверь в холл. Ей казалось, что он стоит сзади. Она резко оглянулась, но позади неё никого не было. Проскользнула туда и быстро повернула ручку щеколды. Потом, стараясь не шуметь, вошла в квартиру и закрылась на все замки, набросила цепочку. Всё! Постояла, прислонившись к двери. Мама сонно позвала из спальни:
– Ладка, это ты?
– Я, мамочка.
– Где тебя носит? Который час?
Лада поняла, что мама сейчас зажжёт ночник у кровати.
– Не включай свет! – зашипела Лада. – Всё в порядке. Я сейчас тоже лягу.
Вдруг тишину ночи разрезал телефонный звонок.
Лада подумала минуту. Вошла в спальню к маме.
– Мама, прости, но ты должна сейчас ответить тому, кто звонит. Ты должна сказать, что здесь нет никакой Гали. Никакая девушка здесь не живёт. Ты поняла? Только не включай свет. Вдруг он следит.
– Кто – он? – ничего не понимая, спросонья вопрошала мама.
– Я потом всё тебе объясню. Ну, давай, бери трубку!
Мама ответила. Он ещё пару раз позвонил. Мама спросила его, какой номер он набирает. Да. Это наш номер, но никакой Гали здесь нет. Мама снова ушла в спальню, ругаясь на непутёвую дочь.
Лада зашла в ванную. Разделась. Стёрла специальным лосьоном с лица косметику, увидела свои круглые от страха, как у совы, глаза в зеркале. Покрутила пальцем у виска. Да, подруга! Ну ты сегодня и отчебучила! Дура! Досиделась, что чуть не погибла. «Господи, благодарю тебя!» – и она с благодарностью нащупала крестик на шее.
Включила душ. Вода побежала по телу, смывая прикосновения этого урода. Она сегодня избежала смерти. Сейчас бы её уже не было в живых или её мучил бы и издевался, резал на кусочки своим дарёным ножом этот фальшивый десантник. Наверное, только на днях вышел из психушки. Запросто всадил бы в неё эту свою джамбию. Лада запомнила незнакомое слово.
Кураж прошёл. Лада закрыла лицо руками, дрожа всем телом. Ноги подогнулись, она осела в ванну и сдавленно зарыдала, закрывая себе рот рукой, чтобы не услышала мама. Струи воды хлестали по спине, стекали по волосам. Кровожадный ублюдок! Ножом пугал! Зажмурилась. Откуда-то из абсолюта на неё смотрели чёрные, как пропасти, глаза цыганки. А ведь та правду сказала. Она знала, всё знала…

Нина ШАМАРИНА
Родилась в Подмосковье, с юности жила, училась, работала в Москве,
по образованию химик-технолог. Двое детей, трое внуков. Член Союза Писателей России, автор книг «Двадцать семнадцать», «Синица в небе», «Мыс Доброй Надежды», готова к публикации книга «Чем пахнут звезды». Есть публикации в «толстых» журналах: «Аврора», «Невский проспект», «Московский вестник».
Родилась в Подмосковье, с юности жила, училась, работала в Москве,
по образованию химик-технолог. Двое детей, трое внуков. Член Союза Писателей России, автор книг «Двадцать семнадцать», «Синица в небе», «Мыс Доброй Надежды», готова к публикации книга «Чем пахнут звезды». Есть публикации в «толстых» журналах: «Аврора», «Невский проспект», «Московский вестник».
ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Дом, в котором жила Валентина, продувался насквозь. Щелястые плиты обшивки зимой трещали и лопались от мороза, и потому приходилось топить печку два раза в день. Вот и сегодня Валентина, сидя на низкой скамеечке, уложила дрова домиком и тонко нащипала лучину; огонь занялся сразу. Живот Валентине почти не мешал, хотя в последние дни он опустился очень низко, но по её расчётам, до родов было ещё далеко.
К своим двадцати пяти годам Валентина почти семь лет шоферила. Живот удавалось скрывать очень долго. Но однажды Николай, старший в автоколонне, сказал ей, отводя глаза от натянувшейся на животе телогрейки: «Ты, Валентина, это… на складе, что ль, поработай пока. Побереги дитё».
Неожиданно схватило поясницу. Острая боль пронзила и отпустила; Валентина отмахнулась от неё – мало ли причин для неожиданных ощущений, когда в тебе развивается новая жизнь, но через некоторое время боль повторилась, и Валентина теперь не сомневалась: схватки.
Чемоданчик с вещами для младенца давно стоял собранным: две пелёнки ситцевые, две пелёнки байковые, распашонка с зашитыми рукавчиками, чтобы ребёнок сам себя не поранил; чепчик, тёплая вязаная шапочка, марлевые подгузнички, два раза постиранные для мягкости; тёплое ватное одеяльце в кипенно-белом пододеяльнике и – гордость Валентины – уголок, вышитый незабудками. Уголок она стала вышивать летом, когда ребёнок первый раз повернулся в её утробе. Тогда же Валентина уговорилась с Николаем, что он отвезёт её в роддом: скорой в их деревне можно и не дождаться. Одно плохо: договаривались на конец декабря, а сейчас только ноябрь.
Валентина не стала больше подкладывать поленья в догорающее пламя печи, надела белые валенки, нарядное бостоновое тёмно-синее пальто с песцовым воротником, повязала пуховый платок, глядя в мутноватое зеркало в тяжёлой раме; подумав, надела и калоши: сейчас на улице морозно, валенки не промокнут и без калош, но что будет через неделю или когда там её выпишут, неизвестно.
Валентина вышла в темень опускающегося вечера, дохнула холодного воздуха – аж дух захватило! Переждала на крыльце очередную схватку и пошла в контору. Николай Николаем, но в больницу позвонить надо.
Дежурившая у телефона в конторе Марья, неприметная бабёнка с пегим пучком на макушке, вязала носок, кутаясь в клетчатую коричневую шаль. Завидев Валентину, она заохала-запричитала, накручивая диск телефона.
– Не дождёшься, Валюш, пусть наши ребята тебя отвезут. Скорая к сердечнику на другой край района выехала, а снегу-то, вишь, навалило, когда они ещё возвернутся! Родишь, того гляди.
Валентина поднялась со стула:
– Пойду к Николаю, так и так собиралась, к тебе для порядку заглянула.
На пустынной в этот час улице побрёхивали собаки, блестел под фонарём свежий снег. Снова накатила опоясывающая боль и долго не отпускала. Валентина уцепилась за ближайший штакетник, согнувшись, постояла, часто дыша.
Николай переминался с ноги на ногу, пылал щеками, отводил взор.
– Ты, Валентина, это… рано ж ещё. Я рюмочку выпил, не ждал, это, тебя сегодня.
Павой выплыла жена Николая – «царица Тамара», как звали её в деревне: степенная, статная, с венком кос из густых, чуть тронутых сединой волос, с золотыми серьгами, с золотым кольцом. Тамара торговала в магазине, но с бабами, гомонящими в очереди, никогда не вела праздных бесед и по одной ей ведомым причинам решала, кому давать продукты «под запись», а кому – нет.
– Что ж делать-то, а? – оглянулся Николай на жену, но тотчас выкрикнул:
– Серый!!
Из комнаты нехотя вышел их сын, привалился плечом к дверному косяку (вернувшись осенью из армии, он работал с отцом в автоколонне).
– Отвезёшь, это, Валентину в больницу. И поспешай! Родит ещё в дороге!
– Вот, Серёга отвезёт, – обернулся он к Валентине, – ты извиняй, это, принял я сегодня.
– Поживей собирайся, – зыркнула на сына и Тамара, – девка, видишь, еле стоит. Да поаккуратней вези, не ровён час…
Валентина не стала дожидаться, пока Сергей оденется, отправилась домой за чемоданчиком. Времени у неё было предостаточно. Пока Сергей дойдёт до гаража, пока зальет воды в радиатор, которую он, конечно, слил, ставя машину на ночную стоянку, как все шофера делали в морозы. А попробуй не слей! Наутро в лучшем случае отогревать придётся, а в худшем – и без машины останешься.
Дрова в печке догорели, и уголья затянулись седым пеплом. Значит, трубу можно закрывать. Валентина стукнулась к соседке, попросила пару раз протопить печь, пока Валентины не будет. Разрезала оставшийся хлеб, разложила на тряпице – на сухари, перелила молоко, оставшееся с вечера, в кастрюлю, оставила скисать, накинув марлю. Присела на «дорожку», припоминая, всё ли взяла.
* * *
Первое испытание ждало Валентину, как только она подошла к машине. Сергеев автомобиль – точно такой же, как у неё, ГАЗ-51, но подняться на подножку, на которую в обычное время Валентина заскакивала по семи раз на дню, и усесться наконец на тёплое, выпуклое, обтянутое коричневым дерматином сиденье удалось с большим трудом.
Сергей молчал, вцепившись в баранку, боязливо постреливал глазом в сторону Валентины. Она, поднявшись в кабину, как разве что на Эльбрус – так же трудно, – старалась не шевелиться. Схватки шли косяком, почти не оставляя времени на передышку.
Через полчаса Сергей свернул с шоссе на лесную дорогу. Напрямки, через лес, безусловно, было короче, но каждый корень, невидимый под снегом, каждую выбоину на просёлочной дороге ощущала Валентина. Подпрыгивая на пружинах сиденья и обнимая живот руками, едва сдерживала себя, чтобы не хвататься за руль в попытках объезжать ямы и колдобины, давя на отсутствующую с её стороны педаль тормоза.
Вдруг вспомнился Иван. Как вспомнился? Конечно, Валентина никогда его не забывала, но тут как будто в душу глянул: выдержишь?
После войны Валентина работала в захудалом совхозе. Все машины совхоза во время уборочной возили зерно на мукомольный комбинат. И не было худшей для шоферов работы! Зарплата считалась по количеству ходок, а мукомольный комбинат – один на весь район – принимал зерно медленно, и в очереди к весам стояли по несколько часов. Единственным развлечением была, собственно, разгрузка: у кузова открывались борта, зерно сначала лилось жёлтым потоком само по себе, потом крюком подъёмного крана поддевался лист фанеры, положенный в кузов перед погрузкой, и зерно с сухим шорохом стекало из кузова окончательно. И снова в совхоз, и снова в очередь…
На выезде из города на пригорке красовалась чайная, сюда многие заезжали погреться, выпить горячего чаю, поболтать. Здесь завязывались знакомства, здесь часто толклись вербовщики, переманивающие водителей в другие совхозы. В этой-то чайной и познакомилась Валентина с Иваном.
Красавица Валентина в чайной, впрочем, как и в любых других местах, держалась нарочито независимо, если не сказать надменно, дабы пресечь шуточки, смешки, ухаживания и даже приставания, и когда к ней подсел Иван, поначалу вела себя по привычке гордо. Но влюбилась в Ивана сразу, с первого слова. Иван, как самый что ни на есть заправский вербовщик, уверял, что в том совхозе, где работает он, зарплаты – выше, квартиру семейным парам дают сразу, и есть отличное место для Валентины – работать на хлебном автофургоне.
– Сама себе хозяйка: хлеб развезла по окрестным деревням и – свободна! В очереди не стоять, как здесь, – кивал Иван на вереницу машин, хвост которой терялся за поворотом.
Правда, по части очереди Иван то ли ошибся, то ли приврал: стояла Валентина в очереди на хлебозавод, и очередь была ничуть не меньше, чем на сдачу зерна. Но разве дело в очереди? С Иваном вместе они теперь просыпались и засыпали, рука об руку шли на работу, сидели вечерами за выскобленным столом долго-долго, смеялась Валентина бесконечным шуткам Ивана, и не было счастливее человека, чем она, до одной долгой летней ночи.
В ту звонкую ночь, когда вовсю наяривали соловьи, Иван не спал. Несколько раз вставал, выходил в сад курить. В другое время и Валентина выскочила бы за ним следом, кутаясь в тёплый платок, прижалась бы к его плечу щекой. Но сегодня страшилась, чувствуя неладное. Возвратившись, Иван лежал, сосредоточенно глядя в потолок, и замирала, делая вид, что спит, Валентина. Чуть свет Иван ушёл. Оглянулся от двери на Валентину, помедлил, но ничего не сказал. Сказал Николай:
– Ты, это, Валентина, не жди Ваньку-то. Рассчитался он. Я так мыслю, что, это, жена у него где-то есть. А ты работай, дочка, мы тебя не обидим.
Но и по сей день Валентина любила Ивана, несмотря на его поспешный предательский уход. А сейчас, когда стремительно рвалось наружу дитё – их с Иваном дитё – казалось Валентине, что всё обойдётся, всё как-нибудь устроится.
* * *
Между тем разогнуться она уже не могла; рвался из горла крик, но терпела, боялась Серёгу, мальчишку по сути, напугать ещё больше, он и так позеленел от страха, не поворачивая в её сторону головы.
Но вот даже не крик, а низкий звериный рык исторгся из груди, и неведомая сила потянула вниз и живот, и, казалось, как в воронку, саму Валентину. И ещё раз, и ещё… и почти одновременно с этим полилось по ногам, прямо в валенки, что-то тёплое и быстрое.
– Воды отошли, – угадала Валентина и на Сергея покосилась украдкой, а тот, распахнув дверь и молниеносно повернув ключ в замке зажигания, ринулся с подножки и помчался по снегу вглубь леса.
«Замёрзнет!» – мелькнула мысль, но тут же отступила под напором огромной, тянущей вниз незримой руки.
Хлынул в кабину морозный воздух. Второй раз за сегодняшний вечер зашлось дыхание.
Почти безотчётно Валентина потащила своё тяжёлое тело, напрягшийся скрученный живот на привычное водительское место. Села, ноги поставила на педали. Связно думать и прикидывать не получалось, но картинкой, кадром из неизвестного фильма привиделось: маленькое тельце падает вниз – туда, в педальный узел, и застывает там неподвижно. Не бывать такому!
Валентина попыталась лечь. Мешала ручка коробки передач. Поставленная на нейтралку, она болталась, конечно, и её можно было сдвинуть хоть немного, но всё равно, впиваясь в бок, ручка ужасно мешала.
«А вдруг поедет скорая? Дорога-то от больницы одна», – предположила Валентина и снова, превозмогая боль, села, нарочито дыша часто и неглубоко, «по-собачьи», как учила недавно докторша, рассказывая Валентине о предстоящих родах. Включила габаритки, ближний свет. Потянулась было закрыть дверцу, распахнутую Сергеем настежь, но не дотянулась, а вылезать из кабины поостереглась.
Валентина стянула мокрые валенки, сняла рейтузы вместе со штанами и трусами, обливаясь горячей волной смущения, скрутила всё это в ком, отметив краем сознания окровавленную изнанку белья. Расстегнула пальто и легла наконец, вытянувшись на всю длину сиденья, изогнувшись в сторону от мешающего рычага. Только ноги деть было некуда, но об этом Валентина думать уже не могла: та же незримая рука, что тянула вниз ставший жёстким живот, раздвигала, раздирала, распинала её лоно, не оставляя мыслей, не оставляя чувств, не обращая на неё, Валентину, никакого внимания.
– Дыши, дыши, дыши! – приказывала себе Валентина, одной рукой вцепившись в холодную ручку скоростей, сжимая в кулак другую – пустую, уже не помня о замерзающем Сергее, о бостоновом, ещё не перелицованном пальто, которое теперь, конечно, будет испорчено, даже об Иване.
– Дыши, дыши, дыши!!! – надсаживалась она всё громче и громче, вытаскивая себя в остывающую кабину грузовика из той пропасти бессознания, в которую норовила скатиться.
Сколько это продолжалось, Валентина не осознавала: час, неделю, век? Вдруг кабину залило ослепительным светом встречных фар, раздался оглушительный, непрекращающийся сигнал клаксона.
– Дыши, – увещевала себя Валентина, как будто забыв остальные слова.
Скрипя морозным снегом, к распахнутой двери подбежал человек.
– Это скорая! Пропустите скорую! Вы что, ополоумели – встали посреди дороги…
Он странно всхрапнул и замер на полуслове.
– Женщине плохо! – заорал он куда-то в сторону. – Юлька, быстрей давай!
Другая дверь рывком открылась.
– Рожает! Рожает, твою мать! Дуй за носилками! Хотя нет, не дотащим до нашей машины! Здесь будем рожать, – выкрикнул теперь женский голос с другой стороны кабины.
– Нас за тобой что ли послали? А как ты сюда доехала, сама за рулём? Как звать-то тебя? – без остановки говорил женский голос, в котором ничего не осталось от давешнего крика, а мягкие руки трогали Валентинин живот.
– Дай погляжу. Полное раскрытие! Как, говоришь, звать тебя?
– Да здесь уже голова болтается, – воскликнула она, вновь повернув голову к двери.
– Как зовут? Говори со мной! В обморок не скатись.
– Валентина. Валентиной зовут. Мальчик где-то – убежал, замёрзнет. Мальчика найдите.
– Бредишь что ли? Какой мальчик? Не родила ты ещё ни мальчика, ни девочки. Вовремя мы, ещё б немножко... Воды отошли, раскрытие полное, головка показалась. Рожаем потихоньку. Давай-давай. На, возьми пелёнку, сжимай её, тужься по моей команде. Тужься-тужься-тужься… Ма-ла-де-е-е-ец. Вздохни-вздохни-вздохни…
И от этого уютного голоса, от того, что началась какая-то работа, стало спокойно, и даже боль отступила, только показалось на минуту, что вот-вот разорвёт её, Валентину, до самой макушки. Но спустя мгновение, незримые руки ослабили хватку.
– Плечики вышли, дальше легче будет. Давай, ещё разок! Ну-у-у! Во-о-от она! Девочка у тебя, Валентина! Не дёргайся, ребёнок на пуповине, потерпи самую малость. Ох, показать не могу тебе, упаду с ней вместе. Поверь, всё как надо – ножки, ручки. Молчит только! Нахлебалась что ли?
Докторша потрясла маленькое синеватое тельце, подула в опущенную головку, звонко и с силой похлопала ребёнка по щекам. И тут раздался басовитый обиженный рёв.
И только сейчас увидела Валентина, что докторица стоит на подножке, на которую так давно, сто веков назад не могла взобраться Валентина.
– Видишь, девочка у тебя! Хорошенькая! А ты говорила – мальчик!
– Мальчик! Шофёр! Привёз меня. Убежал, испугался.
– Как убежал? Лёха! – заорала докторша в сторону улицы. Шофёра ищи! Нет, дай сперва, что у нас там есть? Одеяло какое-нибудь. Заморозим обеих. А, платок!
Она ловко пристроила ребенка на грудь Валентине, другой рукой стаскивая с её головы пуховый платок и накрывая им обеих.
Потом уже фары скорой светили меж стволов елей дальним светом, потом уж Лёха притащил чуть ли не на себе дрожащего, полуобморочного Сергея, потом уже тот же Лёха терзал чемоданчик с детским приданым, в которое врач укутывала девочку и Валентину. Всё это было потом. А сейчас Валентина лежала в абсолютной вселенской отстранённости и бесчувствии, не испытывая ни боли, ни радости, ни даже усталости. Только опустошённость и покой.
* * *
Кровать Валентины стояла у самой стенки – именно той, за которой находилась палата с младенцами. Рано-рано, часа в четыре за стенкой, постепенно разрастаясь, начинался детский ор, и мерещилось Валентине, что она слышит в общем плаче басовитый голос своей девочки. Детей на кормление приносила квадратная медсестра. Держа на каждой руке по младенцу, она, не замедляя шага, входила в палату, и сердце Валентины каждый раз ёкало: стукнет сейчас лобиком грудничка по створке двери, либо тем, что на правой руке, либо тем, что на левой. Но каждый раз обходилось.
Из жёсткого конверта, который с трепетом принимала Валентина, виднелось только личико и клочок смазанных медицинским маслом волос. Туго запелёнутая, в чепчике дочка походила скорее на маленькое полешко, чем на ребёнка. Хотелось расковырять этот конверт, влезть внутрь, потрогать нежное тельце, взявшееся, словно ниоткуда. Однажды Валентине повезло: из конверта высунулась ручка в рукаве распашонки. Валентина потрогала умилённо, погладила ладошку. Девочка цепко схватила её за палец, и впервые стиснуло в груди от материнской любви: дочка, кровиночка, безотцовщина…
– Ничего, ничего! Выдержу! Подниму, – спорила Валентина с кем-то невидимым, – не пропадём.
– С собой на хлебозавод брать буду. Положу на сиденьице, и поедем потихоньку, – обращалась она теперь к дочке, – там, знаешь, запах какой, на хлебозаводе! От одного только запаха сытой будешь. А постарше станешь, я для тебя батон с изюмом попрошу с конвейера. Горячий, душистый. Я такой зараз почти целиком съедаю. А кирпичик чёрного домой возьмём. Корка у него хрустящая, а внутри – мягкий-мягкий. Картошки-рассыпухи отварю, с молоком и горячим хлебом – царская еда! Не пропадём, выдюжим.
Девочка сосала грудь деловито и сосредоточенно, слушала. Но однажды, оторвавшись от соска, с которого продолжало капать молоко, долго и внимательно смотрела на Валентину недетским взглядом, как будто оценивая. И настолько несопоставимы были это тельце в казённом белье и всезнающие бездонные глаза, что Валентине стало не по себе.
– Подхожу? – спросила она нарочито небрежно, хотя не могла отделаться от чувства, что разговаривает с мудрой старушкой, а не ребёнком трёх дней от роду. Девочка одобрительно прикрыла глаза.
Однажды, сменившись с дежурства, к Валентине зашла Юлия Николаевна, врач со скорой, присела на край кровати.
– Молодец, Валентина! Девочка у тебя – я зашла сейчас, посмотрела – хорошенькая, здоровенькая. Как мы её не заморозили? – засмеялась тихим уютным смехом.
* * *
Забирать Валентину с дочкой на директорской голубой «Победе» приехали Николай и Тамара. За что ей, Валентине, такая честь?
Валентина вышла на крыльцо и зажмурилась: небо синее-синее, как в мае, зонтом распахнулось над нестерпимо белым снегом. Так же нестерпимо сиял пододеяльник на детском одеяльце. Незабудки, вышитые на кружевном уголочке, отражали небесную синь, подмигивали Валентине.
Девочку принял Николай, привычным жестом сунув что-то в ладошку медсестры; Тамара, стоя рядом, улыбалась, норовила заглянуть в белоснежный кулёк и вела себя совсем не по-царски.
– Это, в машину, в машину быстро, помёрзнете. Или вам, это, теперь холод не страшен? – посмеивался Николай. – Как девочку назовёшь, мамаша?
Валентина, чуть-чуть отогнув краешек уголка в незабудках, посмотрела в лицо дочки. Та не спала, смотрела серьёзно, точно спрашивая тоже: «Как назовёшь меня?»
– Юлией, – сказала Валентина твёрдо, глядя в младенческие глубокие глаза.
– Юлией Валентиновной, – добавила она, провожая взглядом отъезжающую скорую, из которой приветственно махала ей Юлия Николаевна, и повторила непреклонно. – Валентиновной.
Дом, в котором жила Валентина, продувался насквозь. Щелястые плиты обшивки зимой трещали и лопались от мороза, и потому приходилось топить печку два раза в день. Вот и сегодня Валентина, сидя на низкой скамеечке, уложила дрова домиком и тонко нащипала лучину; огонь занялся сразу. Живот Валентине почти не мешал, хотя в последние дни он опустился очень низко, но по её расчётам, до родов было ещё далеко.
К своим двадцати пяти годам Валентина почти семь лет шоферила. Живот удавалось скрывать очень долго. Но однажды Николай, старший в автоколонне, сказал ей, отводя глаза от натянувшейся на животе телогрейки: «Ты, Валентина, это… на складе, что ль, поработай пока. Побереги дитё».
Неожиданно схватило поясницу. Острая боль пронзила и отпустила; Валентина отмахнулась от неё – мало ли причин для неожиданных ощущений, когда в тебе развивается новая жизнь, но через некоторое время боль повторилась, и Валентина теперь не сомневалась: схватки.
Чемоданчик с вещами для младенца давно стоял собранным: две пелёнки ситцевые, две пелёнки байковые, распашонка с зашитыми рукавчиками, чтобы ребёнок сам себя не поранил; чепчик, тёплая вязаная шапочка, марлевые подгузнички, два раза постиранные для мягкости; тёплое ватное одеяльце в кипенно-белом пододеяльнике и – гордость Валентины – уголок, вышитый незабудками. Уголок она стала вышивать летом, когда ребёнок первый раз повернулся в её утробе. Тогда же Валентина уговорилась с Николаем, что он отвезёт её в роддом: скорой в их деревне можно и не дождаться. Одно плохо: договаривались на конец декабря, а сейчас только ноябрь.
Валентина не стала больше подкладывать поленья в догорающее пламя печи, надела белые валенки, нарядное бостоновое тёмно-синее пальто с песцовым воротником, повязала пуховый платок, глядя в мутноватое зеркало в тяжёлой раме; подумав, надела и калоши: сейчас на улице морозно, валенки не промокнут и без калош, но что будет через неделю или когда там её выпишут, неизвестно.
Валентина вышла в темень опускающегося вечера, дохнула холодного воздуха – аж дух захватило! Переждала на крыльце очередную схватку и пошла в контору. Николай Николаем, но в больницу позвонить надо.
Дежурившая у телефона в конторе Марья, неприметная бабёнка с пегим пучком на макушке, вязала носок, кутаясь в клетчатую коричневую шаль. Завидев Валентину, она заохала-запричитала, накручивая диск телефона.
– Не дождёшься, Валюш, пусть наши ребята тебя отвезут. Скорая к сердечнику на другой край района выехала, а снегу-то, вишь, навалило, когда они ещё возвернутся! Родишь, того гляди.
Валентина поднялась со стула:
– Пойду к Николаю, так и так собиралась, к тебе для порядку заглянула.
На пустынной в этот час улице побрёхивали собаки, блестел под фонарём свежий снег. Снова накатила опоясывающая боль и долго не отпускала. Валентина уцепилась за ближайший штакетник, согнувшись, постояла, часто дыша.
Николай переминался с ноги на ногу, пылал щеками, отводил взор.
– Ты, Валентина, это… рано ж ещё. Я рюмочку выпил, не ждал, это, тебя сегодня.
Павой выплыла жена Николая – «царица Тамара», как звали её в деревне: степенная, статная, с венком кос из густых, чуть тронутых сединой волос, с золотыми серьгами, с золотым кольцом. Тамара торговала в магазине, но с бабами, гомонящими в очереди, никогда не вела праздных бесед и по одной ей ведомым причинам решала, кому давать продукты «под запись», а кому – нет.
– Что ж делать-то, а? – оглянулся Николай на жену, но тотчас выкрикнул:
– Серый!!
Из комнаты нехотя вышел их сын, привалился плечом к дверному косяку (вернувшись осенью из армии, он работал с отцом в автоколонне).
– Отвезёшь, это, Валентину в больницу. И поспешай! Родит ещё в дороге!
– Вот, Серёга отвезёт, – обернулся он к Валентине, – ты извиняй, это, принял я сегодня.
– Поживей собирайся, – зыркнула на сына и Тамара, – девка, видишь, еле стоит. Да поаккуратней вези, не ровён час…
Валентина не стала дожидаться, пока Сергей оденется, отправилась домой за чемоданчиком. Времени у неё было предостаточно. Пока Сергей дойдёт до гаража, пока зальет воды в радиатор, которую он, конечно, слил, ставя машину на ночную стоянку, как все шофера делали в морозы. А попробуй не слей! Наутро в лучшем случае отогревать придётся, а в худшем – и без машины останешься.
Дрова в печке догорели, и уголья затянулись седым пеплом. Значит, трубу можно закрывать. Валентина стукнулась к соседке, попросила пару раз протопить печь, пока Валентины не будет. Разрезала оставшийся хлеб, разложила на тряпице – на сухари, перелила молоко, оставшееся с вечера, в кастрюлю, оставила скисать, накинув марлю. Присела на «дорожку», припоминая, всё ли взяла.
* * *
Первое испытание ждало Валентину, как только она подошла к машине. Сергеев автомобиль – точно такой же, как у неё, ГАЗ-51, но подняться на подножку, на которую в обычное время Валентина заскакивала по семи раз на дню, и усесться наконец на тёплое, выпуклое, обтянутое коричневым дерматином сиденье удалось с большим трудом.
Сергей молчал, вцепившись в баранку, боязливо постреливал глазом в сторону Валентины. Она, поднявшись в кабину, как разве что на Эльбрус – так же трудно, – старалась не шевелиться. Схватки шли косяком, почти не оставляя времени на передышку.
Через полчаса Сергей свернул с шоссе на лесную дорогу. Напрямки, через лес, безусловно, было короче, но каждый корень, невидимый под снегом, каждую выбоину на просёлочной дороге ощущала Валентина. Подпрыгивая на пружинах сиденья и обнимая живот руками, едва сдерживала себя, чтобы не хвататься за руль в попытках объезжать ямы и колдобины, давя на отсутствующую с её стороны педаль тормоза.
Вдруг вспомнился Иван. Как вспомнился? Конечно, Валентина никогда его не забывала, но тут как будто в душу глянул: выдержишь?
После войны Валентина работала в захудалом совхозе. Все машины совхоза во время уборочной возили зерно на мукомольный комбинат. И не было худшей для шоферов работы! Зарплата считалась по количеству ходок, а мукомольный комбинат – один на весь район – принимал зерно медленно, и в очереди к весам стояли по несколько часов. Единственным развлечением была, собственно, разгрузка: у кузова открывались борта, зерно сначала лилось жёлтым потоком само по себе, потом крюком подъёмного крана поддевался лист фанеры, положенный в кузов перед погрузкой, и зерно с сухим шорохом стекало из кузова окончательно. И снова в совхоз, и снова в очередь…
На выезде из города на пригорке красовалась чайная, сюда многие заезжали погреться, выпить горячего чаю, поболтать. Здесь завязывались знакомства, здесь часто толклись вербовщики, переманивающие водителей в другие совхозы. В этой-то чайной и познакомилась Валентина с Иваном.
Красавица Валентина в чайной, впрочем, как и в любых других местах, держалась нарочито независимо, если не сказать надменно, дабы пресечь шуточки, смешки, ухаживания и даже приставания, и когда к ней подсел Иван, поначалу вела себя по привычке гордо. Но влюбилась в Ивана сразу, с первого слова. Иван, как самый что ни на есть заправский вербовщик, уверял, что в том совхозе, где работает он, зарплаты – выше, квартиру семейным парам дают сразу, и есть отличное место для Валентины – работать на хлебном автофургоне.
– Сама себе хозяйка: хлеб развезла по окрестным деревням и – свободна! В очереди не стоять, как здесь, – кивал Иван на вереницу машин, хвост которой терялся за поворотом.
Правда, по части очереди Иван то ли ошибся, то ли приврал: стояла Валентина в очереди на хлебозавод, и очередь была ничуть не меньше, чем на сдачу зерна. Но разве дело в очереди? С Иваном вместе они теперь просыпались и засыпали, рука об руку шли на работу, сидели вечерами за выскобленным столом долго-долго, смеялась Валентина бесконечным шуткам Ивана, и не было счастливее человека, чем она, до одной долгой летней ночи.
В ту звонкую ночь, когда вовсю наяривали соловьи, Иван не спал. Несколько раз вставал, выходил в сад курить. В другое время и Валентина выскочила бы за ним следом, кутаясь в тёплый платок, прижалась бы к его плечу щекой. Но сегодня страшилась, чувствуя неладное. Возвратившись, Иван лежал, сосредоточенно глядя в потолок, и замирала, делая вид, что спит, Валентина. Чуть свет Иван ушёл. Оглянулся от двери на Валентину, помедлил, но ничего не сказал. Сказал Николай:
– Ты, это, Валентина, не жди Ваньку-то. Рассчитался он. Я так мыслю, что, это, жена у него где-то есть. А ты работай, дочка, мы тебя не обидим.
Но и по сей день Валентина любила Ивана, несмотря на его поспешный предательский уход. А сейчас, когда стремительно рвалось наружу дитё – их с Иваном дитё – казалось Валентине, что всё обойдётся, всё как-нибудь устроится.
* * *
Между тем разогнуться она уже не могла; рвался из горла крик, но терпела, боялась Серёгу, мальчишку по сути, напугать ещё больше, он и так позеленел от страха, не поворачивая в её сторону головы.
Но вот даже не крик, а низкий звериный рык исторгся из груди, и неведомая сила потянула вниз и живот, и, казалось, как в воронку, саму Валентину. И ещё раз, и ещё… и почти одновременно с этим полилось по ногам, прямо в валенки, что-то тёплое и быстрое.
– Воды отошли, – угадала Валентина и на Сергея покосилась украдкой, а тот, распахнув дверь и молниеносно повернув ключ в замке зажигания, ринулся с подножки и помчался по снегу вглубь леса.
«Замёрзнет!» – мелькнула мысль, но тут же отступила под напором огромной, тянущей вниз незримой руки.
Хлынул в кабину морозный воздух. Второй раз за сегодняшний вечер зашлось дыхание.
Почти безотчётно Валентина потащила своё тяжёлое тело, напрягшийся скрученный живот на привычное водительское место. Села, ноги поставила на педали. Связно думать и прикидывать не получалось, но картинкой, кадром из неизвестного фильма привиделось: маленькое тельце падает вниз – туда, в педальный узел, и застывает там неподвижно. Не бывать такому!
Валентина попыталась лечь. Мешала ручка коробки передач. Поставленная на нейтралку, она болталась, конечно, и её можно было сдвинуть хоть немного, но всё равно, впиваясь в бок, ручка ужасно мешала.
«А вдруг поедет скорая? Дорога-то от больницы одна», – предположила Валентина и снова, превозмогая боль, села, нарочито дыша часто и неглубоко, «по-собачьи», как учила недавно докторша, рассказывая Валентине о предстоящих родах. Включила габаритки, ближний свет. Потянулась было закрыть дверцу, распахнутую Сергеем настежь, но не дотянулась, а вылезать из кабины поостереглась.
Валентина стянула мокрые валенки, сняла рейтузы вместе со штанами и трусами, обливаясь горячей волной смущения, скрутила всё это в ком, отметив краем сознания окровавленную изнанку белья. Расстегнула пальто и легла наконец, вытянувшись на всю длину сиденья, изогнувшись в сторону от мешающего рычага. Только ноги деть было некуда, но об этом Валентина думать уже не могла: та же незримая рука, что тянула вниз ставший жёстким живот, раздвигала, раздирала, распинала её лоно, не оставляя мыслей, не оставляя чувств, не обращая на неё, Валентину, никакого внимания.
– Дыши, дыши, дыши! – приказывала себе Валентина, одной рукой вцепившись в холодную ручку скоростей, сжимая в кулак другую – пустую, уже не помня о замерзающем Сергее, о бостоновом, ещё не перелицованном пальто, которое теперь, конечно, будет испорчено, даже об Иване.
– Дыши, дыши, дыши!!! – надсаживалась она всё громче и громче, вытаскивая себя в остывающую кабину грузовика из той пропасти бессознания, в которую норовила скатиться.
Сколько это продолжалось, Валентина не осознавала: час, неделю, век? Вдруг кабину залило ослепительным светом встречных фар, раздался оглушительный, непрекращающийся сигнал клаксона.
– Дыши, – увещевала себя Валентина, как будто забыв остальные слова.
Скрипя морозным снегом, к распахнутой двери подбежал человек.
– Это скорая! Пропустите скорую! Вы что, ополоумели – встали посреди дороги…
Он странно всхрапнул и замер на полуслове.
– Женщине плохо! – заорал он куда-то в сторону. – Юлька, быстрей давай!
Другая дверь рывком открылась.
– Рожает! Рожает, твою мать! Дуй за носилками! Хотя нет, не дотащим до нашей машины! Здесь будем рожать, – выкрикнул теперь женский голос с другой стороны кабины.
– Нас за тобой что ли послали? А как ты сюда доехала, сама за рулём? Как звать-то тебя? – без остановки говорил женский голос, в котором ничего не осталось от давешнего крика, а мягкие руки трогали Валентинин живот.
– Дай погляжу. Полное раскрытие! Как, говоришь, звать тебя?
– Да здесь уже голова болтается, – воскликнула она, вновь повернув голову к двери.
– Как зовут? Говори со мной! В обморок не скатись.
– Валентина. Валентиной зовут. Мальчик где-то – убежал, замёрзнет. Мальчика найдите.
– Бредишь что ли? Какой мальчик? Не родила ты ещё ни мальчика, ни девочки. Вовремя мы, ещё б немножко... Воды отошли, раскрытие полное, головка показалась. Рожаем потихоньку. Давай-давай. На, возьми пелёнку, сжимай её, тужься по моей команде. Тужься-тужься-тужься… Ма-ла-де-е-е-ец. Вздохни-вздохни-вздохни…
И от этого уютного голоса, от того, что началась какая-то работа, стало спокойно, и даже боль отступила, только показалось на минуту, что вот-вот разорвёт её, Валентину, до самой макушки. Но спустя мгновение, незримые руки ослабили хватку.
– Плечики вышли, дальше легче будет. Давай, ещё разок! Ну-у-у! Во-о-от она! Девочка у тебя, Валентина! Не дёргайся, ребёнок на пуповине, потерпи самую малость. Ох, показать не могу тебе, упаду с ней вместе. Поверь, всё как надо – ножки, ручки. Молчит только! Нахлебалась что ли?
Докторша потрясла маленькое синеватое тельце, подула в опущенную головку, звонко и с силой похлопала ребёнка по щекам. И тут раздался басовитый обиженный рёв.
И только сейчас увидела Валентина, что докторица стоит на подножке, на которую так давно, сто веков назад не могла взобраться Валентина.
– Видишь, девочка у тебя! Хорошенькая! А ты говорила – мальчик!
– Мальчик! Шофёр! Привёз меня. Убежал, испугался.
– Как убежал? Лёха! – заорала докторша в сторону улицы. Шофёра ищи! Нет, дай сперва, что у нас там есть? Одеяло какое-нибудь. Заморозим обеих. А, платок!
Она ловко пристроила ребенка на грудь Валентине, другой рукой стаскивая с её головы пуховый платок и накрывая им обеих.
Потом уже фары скорой светили меж стволов елей дальним светом, потом уж Лёха притащил чуть ли не на себе дрожащего, полуобморочного Сергея, потом уже тот же Лёха терзал чемоданчик с детским приданым, в которое врач укутывала девочку и Валентину. Всё это было потом. А сейчас Валентина лежала в абсолютной вселенской отстранённости и бесчувствии, не испытывая ни боли, ни радости, ни даже усталости. Только опустошённость и покой.
* * *
Кровать Валентины стояла у самой стенки – именно той, за которой находилась палата с младенцами. Рано-рано, часа в четыре за стенкой, постепенно разрастаясь, начинался детский ор, и мерещилось Валентине, что она слышит в общем плаче басовитый голос своей девочки. Детей на кормление приносила квадратная медсестра. Держа на каждой руке по младенцу, она, не замедляя шага, входила в палату, и сердце Валентины каждый раз ёкало: стукнет сейчас лобиком грудничка по створке двери, либо тем, что на правой руке, либо тем, что на левой. Но каждый раз обходилось.
Из жёсткого конверта, который с трепетом принимала Валентина, виднелось только личико и клочок смазанных медицинским маслом волос. Туго запелёнутая, в чепчике дочка походила скорее на маленькое полешко, чем на ребёнка. Хотелось расковырять этот конверт, влезть внутрь, потрогать нежное тельце, взявшееся, словно ниоткуда. Однажды Валентине повезло: из конверта высунулась ручка в рукаве распашонки. Валентина потрогала умилённо, погладила ладошку. Девочка цепко схватила её за палец, и впервые стиснуло в груди от материнской любви: дочка, кровиночка, безотцовщина…
– Ничего, ничего! Выдержу! Подниму, – спорила Валентина с кем-то невидимым, – не пропадём.
– С собой на хлебозавод брать буду. Положу на сиденьице, и поедем потихоньку, – обращалась она теперь к дочке, – там, знаешь, запах какой, на хлебозаводе! От одного только запаха сытой будешь. А постарше станешь, я для тебя батон с изюмом попрошу с конвейера. Горячий, душистый. Я такой зараз почти целиком съедаю. А кирпичик чёрного домой возьмём. Корка у него хрустящая, а внутри – мягкий-мягкий. Картошки-рассыпухи отварю, с молоком и горячим хлебом – царская еда! Не пропадём, выдюжим.
Девочка сосала грудь деловито и сосредоточенно, слушала. Но однажды, оторвавшись от соска, с которого продолжало капать молоко, долго и внимательно смотрела на Валентину недетским взглядом, как будто оценивая. И настолько несопоставимы были это тельце в казённом белье и всезнающие бездонные глаза, что Валентине стало не по себе.
– Подхожу? – спросила она нарочито небрежно, хотя не могла отделаться от чувства, что разговаривает с мудрой старушкой, а не ребёнком трёх дней от роду. Девочка одобрительно прикрыла глаза.
Однажды, сменившись с дежурства, к Валентине зашла Юлия Николаевна, врач со скорой, присела на край кровати.
– Молодец, Валентина! Девочка у тебя – я зашла сейчас, посмотрела – хорошенькая, здоровенькая. Как мы её не заморозили? – засмеялась тихим уютным смехом.
* * *
Забирать Валентину с дочкой на директорской голубой «Победе» приехали Николай и Тамара. За что ей, Валентине, такая честь?
Валентина вышла на крыльцо и зажмурилась: небо синее-синее, как в мае, зонтом распахнулось над нестерпимо белым снегом. Так же нестерпимо сиял пододеяльник на детском одеяльце. Незабудки, вышитые на кружевном уголочке, отражали небесную синь, подмигивали Валентине.
Девочку принял Николай, привычным жестом сунув что-то в ладошку медсестры; Тамара, стоя рядом, улыбалась, норовила заглянуть в белоснежный кулёк и вела себя совсем не по-царски.
– Это, в машину, в машину быстро, помёрзнете. Или вам, это, теперь холод не страшен? – посмеивался Николай. – Как девочку назовёшь, мамаша?
Валентина, чуть-чуть отогнув краешек уголка в незабудках, посмотрела в лицо дочки. Та не спала, смотрела серьёзно, точно спрашивая тоже: «Как назовёшь меня?»
– Юлией, – сказала Валентина твёрдо, глядя в младенческие глубокие глаза.
– Юлией Валентиновной, – добавила она, провожая взглядом отъезжающую скорую, из которой приветственно махала ей Юлия Николаевна, и повторила непреклонно. – Валентиновной.

Дмитрий СЕНЧАКОВ
Родился в Москве в 1970 г. Опубликовал три книги: романы «Внимание… Марш!» (2020), «Стоп-кран» (2024) и детскую повесть-сказку «Приключение Горохового Гномика» (2021). Кроме того, автор ещё одного романа, опубликованного электронно: «Светлые дни и ночи» (1998), а также ряда рассказов, один из которых напечатан в альманахе «Новое слово» № 13, 2024.
Родился в Москве в 1970 г. Опубликовал три книги: романы «Внимание… Марш!» (2020), «Стоп-кран» (2024) и детскую повесть-сказку «Приключение Горохового Гномика» (2021). Кроме того, автор ещё одного романа, опубликованного электронно: «Светлые дни и ночи» (1998), а также ряда рассказов, один из которых напечатан в альманахе «Новое слово» № 13, 2024.
ГОРЬКИЕ КАБАЧКИ
Выдалось правильное лето. Такое, что ничегошеньки не хочется исправлять. Всё было: и полнолунные посеребрённые ночи, и жара солне́шная, и ливни проливе́нные. Пухла чернá земля. Дáровала. Народился урожай нарядный. Хрустел под усами сочный яркий редис «Сора» – ядрить закусочка к самогончику. Разрумянилась ремонтантная клубника «Королева Виктория» на радость внукам. Налились стручки «Сахарного» горошка, утянули тонкие веточки вниз, к маслянистому чернозёму.
А там – долго ли, коротко ли – приноровился и август тянуть ношу свою. Выдаёт на-горá денёчки ладные: один лепше другого. Всё хорошо, только соответствуй! Надулась, расталкивая друг дружку, сочная морковь «Канада». Угомонила свои лопухи и расселась по кочанам хрусткая капуста «Слава». Разбухали на грядке и кабачки «Мячик». Им особого приглашенья не нать.
Слáвил плодоносицу и искренне любил жизнь, мир, свою посконную деревню Непрявду, а также острого на словцо соседа и интеллигентную соседку отставной подполковник полевых войск, вдовец Касьян Демидович Гурчик.
Сосед Касьяна Демидовича по имени Тихон Лукич Бесполезняк – человек весьма отзывчивый и рукодельный. К фамилии своей характером не подходил и смыслу ейному не соответствовал. Напротив, являл собой образец мужчины полезного и компетентного, для связи с которым существовал широкий портал в виде отсутствующей секции штакетника.
Любуется Касьян Демидыч на Тишу своего через дыру в заборе, как тот активно косит траву традиционной крестьянской косой.
– Косим тут, понимаешь… Но не совсем ясно, кто кого, – размышляет вслух Тихон Лукич. – То ли я кошу траву, то ли она меня косит. Травы особо меньше не стало, зато сам хожу, как подкошенный.
– Газонокосилку дать? – интересуется Касьян Демидыч, ему не жалко.
Зато жалко соседа своего, который с детства физкультурой не особо интересовался, а тут с себя семь потов согнал. Вон, аж с усов капает!
– А ты не припомнишь, – перебил Тихон Лукич мысли его сердобольные, – мы в этом году уже на ремонт дороги сдавали?
Пожал плечами подполковник в отставке.
– Ща у Кларочки спросим.
– Нашёл, у кого спрашивать, – криво усмехнулся сосед, – она не помнит, что вчера было!
– А, кстати, что вчера было? – оживился Касьян Демидыч.
– Да хрен его знает.
К соседке Кларе Карловне Коралловой ведёт калиточка потайная, заросшая ежевикой. Захаживает к изящной пожилой женщине вдовец Касьян Демидыч без всякой задней мысли, зато с кулём Бабаевских конфет ладных, шоколадных. Интересуется, не сломалось ли чего? Ежели что починить надобно – в два счёта безотказного рукастого Тихона Лукича кликнет Касьян Демидыч через портал в заборе.
Клара Карловна искренне благодарит, от помощи по дому отказывается, а сама чаем гостя потчует чёрным с прошлогодним смородиновым вареньем. Повествует жизнь свою уединённую, богато инкрустированную кольцами годовыми и анализами в поликлинике. Стесняются уши Касьяна Демидыча отслушивать подробности. Сидит сосед, как истукан, на краешке стула. Кулёк конфет неловко застыл подле локтя его.
– Так и живу. У меня диагноз. Ни сладкого нельзя. Ни солёного нельзя. Подай мне, пожалуйста, конфетку.
– Вы, вот что, Клара Карловна… – заёрзал Касьян Демидыч. – Ссудите мне, пожалуйста, мясорубку вашу на денёк-другой. Я икру кабачковую метать собрался.
Занёс Касьян Демидыч мясорубку на свою летнюю кухню и решил из любопытства к Тише своему заглянуть, не поделывает ли интересного чего? Принялся хозяин нахваливать народившиеся у него на бахче арбузики диаметром с мячик для гандбола. Заверяет соседа, что всё в природе уравновешено, стандартизировано. Всяк сверчок смысл имеет, ради дела какого создан. Напрягся Касьян Демидович Гурчик. И рад бы согласиться, да только слишком уж покладисто по Тихону Лукичу выходит, а жизнь-то даже на природе да с природой в унисон совсем не такая сладкая и беззаботная: в ней и конфузы случаются.
– Да вовсе и не всё у природы продумано. Зачем, к примеру, нужен какой-нибудь там месяц нахерабрь?
– Ты забыл? – искренне удивился Тихон Лукич. – Чтобы на демонстрацию ходить на Красную площадь.
– Да уж. И что теперь, в год сто-энного-летия Октябрьской революции там демонстрировать? Колье на голой жэ?
– Не путай фундаментальный принцип с гримасой мимолётного безвременья.
– Ага. Скажи об этом Гавриле Принципу.
Пожал плечами Тихон Лукич Бесполезняк. Хоть и слыл он языком бескостным, но был покладист и споров не любил. Особенно идеологических, без подстилки из железобетонной истины того или иного физического закона. Нашёлся, сменил тему:
– Ну, как тебе мой подмосковный арбузик?
– Да. Вкусный арбуз. Хрена к нему не хватает.
– Да пошёл ты на три советские буквы!
На том до поры расстались.
Завершена церемония вечернего полива. Закрутил Тихон Лукич кран, сменил калоши на сланцы, разжарил на сковородке боровики да сыроежки, что насобирал накануне. Подхватил дымящуюся снедь, попёрся к соседу: ладно, мол, не дуюсь уже на тебя. Заглянула на жареное амбре и Клара Карловна, сославшись на то, что делать нечего, по телеку одни ток-шоу, от которых у неё голова раскалывается.
– Ох, я эти без толку-шоу давно не слушаю, – махнул рукой жующий Касьян Демидыч.
– А у меня телевизор пятнадцать лет назад сломался, так я вообще его не смотрю, – похвастался Тихон Лукич, накалывая на вилку сочную пёструю ножку.
– А шо ж ты его себе не починишь?
– Да там лампа накрылась, которую при царе Горохе выпускали. Я поначалу разыскивал замену, на Митинский рынок ездил, на Авито мониторил. Так и не нашёл. А потом задвинул тему, решил книжки перечитывать. И теперь мне по фигу на Останкино сделалось. Книжки интереснее.
– Без телевизора твой апофигоз проспит всё, что в мире творится, – проворчал Касьян Демидыч.
– Так в мире одно и то же творится: мир по кругу устроен. Вертится.
– Вот и потонешь в неожиданно нахлынувшем водовороте.
– А ты прям нет? – полез занимать позу Тихон Лукич.
– Ну, меня-то хоть по телеку предупредят.
– Так ежели тебя предупредят, ты, известное дело, тут же примчишься и меня предупреждать. Что я, тебя не знаю, что ли?
Клара Карловна простодушно поддержала соседа, подкармливающего её шоколадными конфетками:
– Телевизор помогает докопаться, что нынче чёрное, а где – белое. Без него поди, разберись.
– Держи карман шире, – пристыдил соседей проницательный Тихон Лукич. – Если вы уверены, что вами не манипулируют, поздравляю: вы – в надёжных руках профессионалов из ЦРУ.
И бровью не повела Клара Карловна. ЦРУ её не касалось. Жизнь Клары Карловны пробурлила в школьных застенках завучем по воспитательной части. Эх, где сейчас её любимая хлёсткая деревянная шестидесятисантиметровая линеечка? Даму побаивались и уважали. Впрочем, так же, как и теперь в дачном товариществе.
Прониклась Клара Карловна воспоминанием, как провела последнее собрание родительское перед выходом на пенсию:
– Представляете! В коридорах школы шептались: ужели Клара Карловна? Как же без неё будет-то? Кавалеры сбежались в школу – хоть одним глазком, хоть напоследок меня в памяти запечатлеть, ведь как наслышаны были за долгие учебные годы отпрысков своих непослушных… Да-да! Мужчин на том собрании было столько же, сколько и женщин, – помялась Клара Карловна, но не позволила себе соврать: – Но женщин больше!
– А шампанское разливали? – улыбнулся подобострастно Касьян Демидыч.
– О, да! В учительской. Представьте – уже в ночи! Полусладкое.
– Полугадкое, – поморщился несносный Тихон Лукич. – Пить надо брют. Всё остальное – с сахаром.
– Ну, если б у меня был миллион рублей, я бы пил исключительно брют, гран-крю, икс-о, блю лейбл и аньехо, – сумничал Касьян Демидыч Гурчик, продемонстрировав крайнюю осведомлённость в непролетарских напитках. – С дырой же в кармане приходится пить самогон.
– О, если б у меня был мечталлион рублей! – передразнил соседа Тихон Лукич. – Я бы заставил его размножаться процентами и кормил бы голодающих.
– Ага, пиццей из Макдональдса, – занервничал подполковник в отставке, косясь на Клару Карловну, расположение которой мог и утратить после такого популистского выпада соседа.
– В Маке не подают пиццу, – поморщилась Клара Карловна, заслуженный работник школьного воспитания, профессиональные знания которой распространялись и на молодёжный общепит, так как за годы службы понятия «воспитанный ребёнок» и «упитанный ребёнок» в её сознании причудливо переплелись.
Так за разговорами и подошли к концу жареные грибочки на закопчённой сковородочке. Спохватилась гражданка Кораллова, метнулась к себе на фазенду. Вернулась тут же – запыхавшаяся, розовощёкая (Касьян Демидыч аж залюбовался). В руках заботливо держит запыленную баночку литровую.
– А теперь отведайте сморчков моих маринованных.
– Пошла Клара на базар и купила грибной вар, – шепотом съехидничал Тихон Лукич.
– С тех пор, как я в прошлом году зевнула, чуть не вывихнув себе челюсть, я прекрасно всё слышу, – напомнила Клара Карловна тем самым тоном, которым воцаряла в классах полную тишину.
На следующий день, выкушав на завтрак овсяную кашку на воде, запустил Касьян Демидович Гурчик на своей летней кухне кипучий деятельный процесс. Потрошит кабачки с грядки, режет дольками, растирает в мясорубке. Прирастает бездонная алюминиевая кастрюля заветной мякотью.
К обеду умаялся. Сполоснул ладони в мойдодыре, воды напился, а тут и сосед заглянул сковородку свою забрать, вчерась ведь забыл про неё напрочь. Помыл Касьян Демидыч сковороду с пеной, та аж заблестела, как новая. Любуется работой своей, протягивает соседу. Благодарит Тихон Лукич, а сам косится на полуторавёдерный чан, на варево будущего, а в толк взять не может:
– Какого ж резону самому гнать, когда в «Пятёрочке» икра кабачковая «Красная цена» сто́ит копейки?
– Дурак ты, Тиша, жизни не знаешь. Своя икра если б в сельпо попала, знаешь, почём бы продавалась?
– Ха, только не брал бы её никто за такие бабки!
– То-то и оно! И вот такая дорогая натуральная икра будет только у меня. Вся партия! Ну и тебя, дурня, баночкой угощу.
Отмахнулся Тихон Лукич от увещевания Касьяна Демидыча.
– Ты мне лучше скажи, тебе в почтовый ящик жировку за июль опустили? А то я как ни залезу – там сплошная реклама: навоз, бетон, тротуарная плитка. Намедни ещё надувной бассейн предложили под ключ по акции.
– А мой почтовый ящик осы охраняют, – потёр руки самодовольный Касьян Демидович Гурчик. – Завели себе гнездо и нервничают, когда им туда бумажки суют. Так что жировки за свет мне наш председатель на руки доставляет. За июль не было пока.
Кивнул сосед, упорхнул с блестящей сковородочкой своей. Осмотрелся Касьян Демидыч: полный мойдодыр посуды! Ой, надо ж и мясорубку Кларочки помыть-почистить да и возвернуть при случае удобном. Навёл марафетик, вытер ладони свои натруженные вафельным полотенцем, косится на калиточку заветную. Ни единого шороха не доносится с Кларочкиного участка. Час прошёл, другой… Побрился Касьян Демидыч электрической бритвой «Харькiв», подбоченился у мутного зеркала в полный рост, подхватил под мышку мясорубку, толкнул калитку.
Клара Карловна обнаружилась поверженной поперёк дивана на тенистой веранде. Одолеваемая мигренями пожилая женщина держалась за лоб, периодически потирала виски. Метнулся испуганный Касьян Демидыч к Кларочке, уж не доктора ли вызвать в их любимую деревню Непрявду?
– Касьянушка, благородный ты мой, прикрой меня пледиком, пожалуйста.
– Кларочка, что с тобой, дорогая?
– У меня субфебрильный ознобиоз.
– А это очень опасно? – участвует Касьян Демидыч, заботливо подтыкая покрывало. – Может, лекарство какое подать?
– Анальгинку я уже съела.
– И как себя чувствуешь?
– Погоди, мне надо очахнуть.
Заел сосед, не понимает, как интерпретировать Кларочкины слова, чтоб от них могилой не пахло. Наконец осенило. Переспросил:
– Очухаться?
Кивнула Клара Карловна. Всё ж как хорошо, когда такое исключительное взаимопонимание случается между людьми! Посидели-помолчали. Ещё посидели, помолчав. Сменил позу Касьян Демидыч и стал сидеть заново. Молчит, боится тишины хрустальной гармонию разрушить. Кларочке явно лучше. Притихла Кларочка, не ворочается, дыхание уравновесилось.
«Заснула, стало быть… – решил Касьян Демидыч. – Ну, я пойду. Посикать надобно, а то уже в ушах хлюпает».
Поднялся со стула пенсионер, проделал пару шагов, скрипнула подгнившая половая доска… Распахнула очи Клара Карловна.
– Ты уже уходишь, Кася?
Напугался Касьян Демидыч. Прохватил звонкий голос по спине его наждачкой прохладной. Оглянулся.
– Я вернусь, Кларочка!
Куда там! Подкрался на цыпочках вечерний полив. Пора сланцы на калоши переобувать и шланг садовый разматывать. Так бы день и миновал в трудах и заботах, да ворвался в одинокий мирок Касьяна Демидыча перевозбуждённый Тихон Лукич с давешней сковородкой в руках.
– Что с тобой, Тиша? Вида на тебе нету ни разу.
Молчит Тихон Лукич, лишь сглатывает надрывно, тычет в соседа сковородкой. Глянул Касьян Демидыч под крышку, а там греча, разжаренная на сливочном масле. Греча как греча: выглядит притягательно, пахнет аппетитно.
– Попробуй! – наконец, выдавил из себя подавленный Тихон.
Касьян Демидыч, хоть человек и гордый, но не настолько, чтобы от соседского угощения отказываться, пусть даже и от позавчерашней гречки. Подцепил знатную горочку заботливо вытертой об рукав вилочкой. Отправил в рот. Набросился на праздного, ничего не подозревающего подполковника в отставке изощрённый букетик из пятидесяти оттенков одного и того же вкуса: горше горького.
Выплюнул, а во рту всё одно: шипит пена, смесь хины со стеблями одуванчиков. А может, и с крысиным ядом. Жизненный опыт по горьким веществам у Касьяна Демидыча был весьма скуден, активно предпочитал он горькому солёное и маринованное. Вот и сейчас: приложился пенсионер к баночке с огурчиками к самогончику да хлебнул основательную дозу рассола. Прополоскал рот. Помогло слабо. Можно сказать, и вовсе не помогло.
– Сам ешь свою гречу. Я не отраваядный.
Тут на свою беду заглянул на летнюю кухню любопытный чёрный кот Апперкот. На самом деле никто не знал, как его зовут, хоть и носил он зелёный ошейник от клещей, как любой добропорядочный домашний зверь. Про кота было известно только, что гуляет он сам по себе, а является вроде бы с верхних участков. Оттого и был прозван подкованной молодёжью Upper-котом.
Тихон Лукич насыпал перед бродягой кучку ароматной гречки. Благодарный кот Апперкот присел смиренно полакомиться подачкой, отведал пару зёрнышек и громко вымяукался кошачьим матом.
– Выходит, взаправду, – пробормотал Тихон, – а вовсе не наваждение на мою сумасбродную голову.
– Причём тут наваждение? – встал на сторону обиженного кота обиженный Касьян Демидыч. – Шельмец ты, Тиша, никудышный из тебя повар. Обыкновенную гречку и ту загубил.
Ничего не ответил пристыженный Тихон Лукич. Уж больно нелепой приключилась история с этой гречкой. Подумаешь, позавчерашняя, ну и что с того? Сколько раз он и недельную гречку находил в холодильнике. Разжаривал на сковородочке, да с лучком. И ничего! Да и если бы прокисла эта злополучная гречка – оно ж понятно, логично, не обидно. А тут – чем горло ни полощи, горечь не выветривается изо рта, как будто не слюни вырабатываются в нём, а синильная кислота какая-нибудь. Вот и Касьяну рассольчик, очевидно, не помог: отплёвывается, места себе не находит, рожа злая.
– А если вовсе не в грече дело, – аккуратно прощупал почву Тихон Лукич, – это ты ж мою сковородку мыл!
– Не, ну какой ловкач! – тут уж Касьян Демидович Гурчик и взаправду обиделся. – Я ему сковороду до блеска отмыл, а он мне свои намёки грязные намекает.
Набычили лбы друг на друга пенсионеры. Затаили злобу. Тихон Лукич подозревал отставного подполковника, что тот ему в шутку сковородку микстурой какой обмазал. А Касьян Демидыч искренне не мог взять в толк, причём тут он, и не собирался смиренно попускать соседу агрессию.
В тот самый момент в дверях летней кухни нарисовалась Кларочка Карловна Кораллова собственной персоной. На голове – пучок, поверх пучка – косынка. В руках – глубокая тарелка с котлетками.
Обрадовались было мужчины, что сердобольная Кларочка явилась их покормить. Взглянули на даму благодарно, а та – сама не своя: челюсть перекошенная, губы облизывает, отплёвывается.
– Я не знаю, что там про сегодня звёзды наболтали, но, хотите верьте, хотите нет, я впервые в жизни пожарила горькие котлетки.
Переглянулись пенсионеры. Пожевали губами горечь неубиваемую, ничем изо рта невыполаскиваемую. Поставили рядышком сковородочку с гречей и тарелочку с котлетками и уставились на них в попытке распознать то ли здравый смысл случившегося, то ли нездоровую бессмыслицу, от которой, надо признаться, и до дурки – один ленивый тычок.
Не забыли и наверх посмотреть: а вдруг и в самом деле Бог есть? Следит оттуда за безбожными похождениями невоцерковленных детей минувшей эпохи научно-технического прогресса, когда храмы воспринимались исключительно архитектурными достопримечательностями. Может, пыльцу какую послал Всевышний, словно кару небесную? Жнут детки несмышлёные по всей волости кто горькие пельмешки, кто горькие пирожки, а кому и горький омлет ниспослан за грехи коллективные.
Первой заёрзала заслуженный работник школьного воспитания. Не входило в её планы сошествие с ума неизвестно куда. Ведь только-только человек на пенсию вышел! Вся жизнь, можно сказать, впереди! Вечно молодой, ядрёный и задорный дух требовал успокоиться и вдумчиво разобраться.
– Зачем человеку сто миллиардов нейронов и квадриллион синаптических связей? – вспомнилась Кларе Карловне одна из коронных заумных фразочек, которыми она достукивалась до сознания лодырей и двоечников.
В этот раз она достучалась до мозжечка Касьяна Демидыча:
– Ну! Шо мы сидим понурые, як в ночь перед грабежом?
Затем – до левого полушария Тихона Лукича:
– Давайте проанализируем, что может быть общего у гречки с котлетами?
– То, что они съедобные! – мгновенно сообразил гордый отставной офицер.
– В своеобычном состоянии, – напомнила ему Кларочка, покачав головой.
– Эдак мы ни к чему не придём, – пристыдил коллег по дедуктивному цеху Тихон Лукич, – предстоит найти неочевидную связь.
Будучи человеком среднеобразованным, зато широких практических взглядов, обладающим юркой природной смекалкой и поглотившим тонны библиотечных книг, Тихон Лукич Бесполезняк попытался заглянуть в самый корень произошедшего казуса, словно в головоломку на странице журнала «Наука и жизнь».
– Сковородку помыл Касьян прежде, чем я гречу разжарил.
– Опять ты за своё! – вознегодовал подполковник в отставке.
– Мясорубку мою – тоже! – всплеснула руками Кларочка.
– Вы меня в чём-то подозреваете? – насупился Касьян Демидыч, не ожидавший ножа в спину от дамы сердца.
Отчётливо мерещилось Тихону Лукичу, что витал искомый корень проблемы у него аккурат перед глазами. Да только никак не удавалось пенсионеру навести на него фокус, так как тот перемещался синхронно со слепым пятном. Пришлось действовать на ощупь.
– Касьян мне друг, но истина дороже! – перефразировал Тихон Лукич Сократа и решительно направился к мойдодыру.
Ощупал, осмотрел нехитрое устройство дачной водораздачи с ёмкостью под колодезную воду, где был предусмотрен электронагреватель. Исследовал краник и незатейливый слив в помойное ведро. Опустил голову в раковину и аккуратненько коснулся эмалированного металла самым кончиком языка. Тотчас отпрянул. Сплюнул через распахнутое окно.
– Есть! Оно!
– Горечь? – растерялся Касьян Демидович Гурчик.
– Ещё какáя!
– Как же так, Кася? – повернулась с укоризной Кларочка, и почва поплыла из-под ног бравого отставного подполковника.
Покраснел товарищ Гурчик, да только не ведал он за собой вины и не знал, как оправдываться. Впрочем, дотошный товарищ Бесполезняк вовсе и не пытался размазать соседа созданием коалиции против него. Он продолжил свои детективные изыскания до тех пор, пока не догадался изучить замызганную этикетку на флакончике «Фэйри». Ткнул пальцем в дату выпуска моющего средства для посуды.
– Кася, твой «Фэйри» уже четыре года как просрочен! – озвучила Тишин вердикт прямолинейная Кларочка.
– Да понял я уже… Ясно же видно.
– Ясновидящий, что ли? – подмигнул Тихон Лукич.
– Дык, кто ж их поймёт, все эти «Фэйри-тэйли» буржуиновые? Как по мне, убрал бы с глаз долой, как с телевизора, так и с полок магазинных. Что, у нас своих жидких мыл нет? Дожили! Посуду моем – людей травим.
– И котов! – добавил Тихон Лукич, потирая усы.
– И котов, – согласился Касьян Демидыч, – кстати, где он?
Побросали коллеги-дачники взгляды в противоположные стороны. Нет кота! Убёг.
– Дай мне волю, я бы всех этих химиков саксонских разогнал с позором. Дай мне власть, наполнил бы прилавки исключительно отечественными товарами.
Разошёлся уязвлённый офицер полевых родо́в войск. Ух, как обидно человеку, что вляпался в нелепость феерическую.
– «Пятёрочка» эта, будь она неладна. «Купи флакон, возьми второй бесплатно». Мне второй на фиг не сдался, мне и первого на три года хватило. Лучше бы один за полцены продали, если реально о людях заботятся. Так нет же! Сами кровососы буржуйские, ещё и нас крохоборами делают. Заманивают маркетологи ценниками пожелтевшими. Манипулируют нами, чтобы жмотились в ущерб себе.
– Верно! – поддержала Кларочка, восстанавливая порушенную было тонкую душевную связь. – Тебе, Касьян, публиковаться надо. Обличения писать! И обществу польза, и сам, гляди, разбогатеешь.
– Ну-ну, – усмехнулся себе в усы Тихон Лукич. – Старый во́рчун попал в Fortune.
Потонула здравая ирония друга во фрондёрском порыве отставного офицера с активной житейской оппозицией. Накипело, наболело да и попросту набежало событий у пенсионера. Мятежный дух требовал покорения трибуны, сведённый горечью рот рвался отплеваться к микрофону.
Разобрались граждане с проблемой. Выговорились, заодно перемыли вместе с мойдодыром всю Касьянову посуду обыкновенным хозяйственным мылом. Выдохнули, расслабились. Разбрелись по избушкам потчевать. Не довелось в тот день Касьяну Демидовичу по причине чрезвычайного происшествия довершить своё предприятие. Так и простояла алюминиевая царевна-кастрюля с размолотыми кабачками всю прохладную августовскую ночь, накрытая газетой с кроссвордом.
Наутро отставной подполковник улыбнулся юному солнышку, растёрся мокрым холодным полотенцем, выцедил кружку цикория с молоком и бодреньким приступил ко второй фазе производства. Водрузил Касьян Демидыч тяжёлый чан на газовую конфорку, отобрал лучок и морковь, принялся свистеть себе под нос детскую песенку про чебурашку и чистить овощи.
И вот закипела кастрюлька, хозяин прибрал огонёк. Выследил по часам момент закладки в будущую икру протёртого лучка с морковкой. А там за чередой помешиваний подкралась пора добавить по вкусу соль. Сыпанул Касьян Демидыч столовую ложку с гаком. Помялся, сыпанул ещё половинку. Но сомнения лишь пуще прежнего одолели старика. Осознал отставной офицер, что единственный способ удостовериться в норме солёности варева – это его попробовать.
Так отчего ж нет-то? Снял пробу большой деревянной ложкой Касьян Демидыч. Пригубил и поковрёжился. Мигом слетело с него лицо молодецкое, замерла на полно́те песенка насвистываемая. В голову ударила такая премиальная горечь, с которой Касьян Демидыч отродясь не сталкивался – даже вчерашняя Тишина греча, и та имела лишь жалкие отголоски.
Вот так буднично и прозаично обрушился на гражданина Гурчика невыносимый удар судьбы: пропал урожай кабачков, зря потрачен труд пары летних дней из девяноста двух, принесены в жертву ни в чём не повинные лучок с морковкой. Повезло лишь томатной пасте – до неё очередь не дошла. Сердце Касьяна Демидыча готово было остановиться от оскорбления и обиды. Разум категорически отказывался свыкаться со свершившимся, а это, как известно, путь в шизофрению. Морально низложенный и физически опустошённый пенсионер дотянулся до плиты, успел заглушить газ под алюминиевой кастрюлей и, возносимый настойчивым головокружением, рухнул подкошенным мимо единственного на летней кухне мягкого кресла. Погрузился словно в ложемент космического корабля «Союз» на марше: мгновенно ощутил те самые перегрузки. Покорно закрыл глаза.
На внутренних стенках век транслировался кинофильм о житие-бытие славного воина Касьяна, но отчего-то в обратную сторону. Подполковнику хотелось закричать, что кинопроектор неисправен, но свело голосовые связки у человека, даже хрипа собственного не слышит. Неподвластно и пошевелиться. Мельтешили воспоминания на стерео-сцене: похороны супруги, погибшей от оторвавшегося тромба; военный городок Таманской дивизии; командировка в Афган; малипусечная Людочка, доченька родненькая; суворовское училище. Затем – похороны матери, умершей от воспаления лёгких; деревянный барак и казённая школа; похороны бабушки, скончавшейся от грудной жабы; крутая улочка наднепрянского уездного городка и бабушкин борщ. Мелькнуло и то самое лицо, которого совсем не помнил Касьян Демидыч, но папку своего признал сразу. Узрел и себя, молокососа, в руках полных сил и любви счастливых родителей.
Услыхал голос неторопливый, будто озадачен кто судьбой его героической, но непутёвой:
– Касьянушка, Демидов сын, уж не ты ли? Не рановато ли к нам?
– Ещё б не рановато, – подумал кто-то за отставного офицера.
– У нас свободных номеров для тебя нету.
– Ни в раю, ни в аду? – на всякий случай поинтересовался Касьян Демидыч.
Усмехнулись собеседники, опахнули вспотевшего мужа крылами.
– Чай, ты словечек обесцвеченных понабрался.
– Как это? – не понял Касьян Демидыч.
– Так нет же разницы для души. Коли праведная – так и переносится праведной, коли грешная – грешной. Что ты сам о себе да о мироздании думаешь, то и ощутишь. Каждому – по вере его.
– Как это? – лишь повторил Касьян Демидыч. Не врубался он в суть того, о чём архангел толкует.
– Так! – отрезал второй архангел. – В аду адаптируются. В раю – районируются. Всё. Свободен. Гуляй с миром, Касьян, Демидов сын.
– И как мне быть? Что ж мне теперь делать-то?
– Как – что делать? – ответил первый архангел. – Не падать духом. Жить и работать. Ты ещё не всю свою любовь излюбил.
Попробовал Касьян Демидыч распахнуть глаза и вроде бы даже рукою пошевелил, да только не понял поначалу, изменилось ли чего?
На самом деле изменилось многое. Возлежал гражданин Гурчик на топчанчике. Столпились вокруг него дорогие Кларочка Карловна и Тиша Лукич. Оплёл задранные на подоконник ноги Касьяна Демидыча незлопамятный кот Апперкот. А уважаемая врач скорой помощи из уездного города Руза, накануне ловко поразившая иглою стариковскую вену, прилаживала к ходикам на стене капельницу с физраствором. Медленно прояснялось путешествующее сознание, наводился привычный фокус на домашнюю среду-суету. Под языком отставного подполковника обнаружилась сладковатая острота от чуть не добившей его шайбочки нитроглицерина.
– Что ж это ты, уважаемый, себе позволяешь? Погода хорошая, а ты над собой контроль теряешь на ровном месте, – совестит врач скорой помощи, дама доминирующая, жёсткая и руководящая, такая, что и Клара Карловна на её фоне – обыкновенная добрячка.
– Горе у него, – растолковал Тихон Лукич. – Чан икры кабачковой – на выброс.
– Как такое может быть?
– Горький кабачок попался, – кивнула Кларочка.
– Да в жизни не бывает такого! – отрицает скорая помощь.
– Всякое в жизни бывает, – бормочет Касьян Демидыч.
– Не верю ни единому слову. Где икра?
Махнул Тихон Лукич на алюминиевую кастрюлю, смиренно остывающую на газовой плите. Заглянула в неё Фома неверующая. В вареве лишь томатной пасты не хватает для цвета. Но пахнет вкусно. Зачерпнула ложкой и лизнула от души.
Нет, нитроглицерин не понадобился. Совладала доктор со своими ощущениями, обуздала эмоции. Выплюнула варево, прополоскала рот спиртом из дезинфекционного флакончика. Проснулась в даме личность исследовательская.
– Да уж, чистейший денатоний! – заявила она, блестяще сохраняя лицо.
– Как-как вы сказали? – уточнил любопытный Тихон Лукич.
– Бензоат денатония, он же «Битрекс» – самое горькое вещество, известное науке. От одной до десяти частиц на миллион сделают вашу еду полностью непригодной. Как бы вы ни старались и ни настраивались преодолеть горечь, спазм не позволит вам её проглотить.
– А мы было подумали, что это кара Божья, – признался свежеющий на глазах Касьян Демидыч.
– Кара божья? – удивилась скорая помощь.
– За безбожие наше повальное.
– Нет, это всего лишь химическое соединение, – с улыбкой развела руками докторша, чьи интересы помимо реанимационной медицины охватывали фармацевтику в частности и органическую химию в общем, но никак не богословие. – Ты вот что, уважаемый, вертайся на живот. Осмотр пер ректум. На предмет следов внутреннего кровотечения.
А сама белую латексную перчатку натянула и пальчиками теперь поигрывает. Делать нечего, оголил Касьян Демидыч стыдливый незагорелый зад. Благочестивые соседи-пенсионеры поспешно отвернулись.
– Собирайся, дорогуша, поедем в больничку.
– Как – в больничку? – напрягся Касьян Демидыч. – Я себя уже хорошо чувствую. Мне огород поливать пора.
– Обязана госпитализировать тебя. С обмороком не шутят.
– Нет-нет, зачем Касьяну в больницу? – заступилась Кларочка Карловна. – Мы его всем миром выходим. Я лично заботой окружу.
– И здоровым питанием! – погрозила врач. – Небось, не ел давно, а, гражданин Гурчик? Лечебным голоданием увлекаешься?
– Да, ужин мы вчера пропустили, – признал Тихон Лукич Бесполезняк, – в связи с чрезвычайным происшествием. Этот ваш денатоний уже тогда нас атаковал.
– Зато на завтрак я стакан цикория с молоком употребил, – вспомнил Касьян Демидыч.
– Вот я и говорю: покой и здоровое питание. Пиши отказ от госпитализации. Завтра дежурный врач из поликлиники заедет проведать тебя, папаша ты наш икроносный.
Выкапалась капельница, соскочила скукоженная с ходиков. Изъяла доктор из вены иголку, а из-под правой руки – документ за личной подписью пенсионера. Перечитала. Кивнула.
– Если пациент хочет жить, медицина бессильна.
На сём откланялась.
– Ну что, Касьян Демидыч, напугал ты нас, – положил руку на плечо соседа Тихон Лукич Бесполезняк. – Давление тебе намерили восемьдесят на пятьдесят. Мы тут уже прикидывали, что на похороны твои оденем. У меня, к примеру, единственный костюм и тот светло-серый.
– Типун тебе, Тихон, – поморщилась Кларочка.
– Как же вы догадались врача вызвать? – посмотрел благодарными глазами бравый подполковник на вздорного соседа и впервые осознал до глубины души, как сильно он его любит, прохвоста этакого.
– Дык, пожарный щит на нашей улице освежить пора, а то проверка какая нахлобучит. Дай, думаю, спрошу у Касьяна, не осталось ли у него с прошлого раза красной краски? А тут ты такой разлёгся в обмороке, как на курорте. Кларочке крикнул, прибежала, как на пожар…
– Ой, я так перепугалась! – свела сухонькие ладошки Клара Карловна. – Сунула тебе со страха нитроглицерин под язык: думала, сердце… Ну и мобилку схватила, принялась пальчиком тыкать, а у самой слёзы…
– Я как кастрюлю на плите приметил, сразу обо всём догадался. И отчего ты в отключке. И почему гречка с котлетками горькие были. Жаль, вчера не сообразил.
Переглянулись пенсионеры с особым теплом. Опахнуло их в тот момент крылом с белыми пёрышками. Наполнились закалённые сердца ощущением братства и сопричастности.
Вечером собрались друзья на уютной веранде Клары Карловны откушать чайку с самодеятельным пирогом, богато приправленным черносмородиновым вареньем. Похвалила хозяйка золотые руки Тихона Лукича за то, что тот намедни справно духовку отладил. И не коптит больше, и пироги не подгорают. Вот только газовый баллон уже заменить надобно. На последнем издыхании.
– Заменим, делов-то… – согласился покладистый Тихон Лукич Бесполезняк, облизывая сладкие усы.
– Вот приедет дочка Людочка меня проведать, сгоняем на её «Санта Фе», заправим твой баллон, – подтвердил Касьян Демидыч, а сам тихонько накрыл ладонью левую ручку Кларочки, которой она теребила на столе мятую салфетку.
А Кларочка наша Карловна вовсе не отпрянула, а даже наоборот: накрыла Касину руку своей правой ладонью. Поглаживает. Растворился мгновенно помолодевший Касьян Демидыч в уюте домашнем, много лет назад нелепо утраченном.
– Ты не ругай меня, Касьян, – собралась с мыслями Клара Карловна, – я ж в медицине полная дура. Доктор отчитала меня за нитроглицеринку, как двоечницу распоследнюю. Напугала, что убить тебя могла.
– А я и не ругаю. Спасибо тебе, что скорую вызвала.
Потекла в деревне Непрявде житуха размеренная ежедневная. Тихон Лукич Бесполезняк выкрасил пожарный щит. Да так раздухарился, что решил заодно вычерпать из пожарного пруда топляк да разрыть кочки камышовые, ведь сроду не чистили водоём.
К Касьяну Демидычу Гурчику наведался дежурный врач из поликлиники. На велосипеде прикатил. Сам безусый практикант ещё, учёбу не закончил, но лекцию о правильном и своевременном питании бравому отставному офицеру зачитал наизусть.
Клара Карловна посвятила себя наваристым супчикам и нажористому гуляшу с мясцом. А также регулярным дефиле под руку с Касьяном. Замечена парочка была даже на речке, в двух километрах от дома. Как-то раз по возвращению с прогулки завидели соседа мастерящим лавочку у палисадника своего. Вогнал Тихон Лукич последний саморез, уселся, вытер пот со лба.
– Это чтоб за вашими похождениями наблюдать, – говорит.
Покачала головой Клара Карловна и с ходу огорошила:
– Деревню нашу Непрявду надо переименовать в Горькие Кабачки.
– Это зачем же? – напрягся Тихон Лукич.
– Ну как же! Касьян чудо из чудес вырастил! Факт должен быть отражён в топонимике.
– Да, – кивнул Касьян Демидыч, вспомнив беседу с архангелами. – Может, у меня тут самый настоящий портал. Над угодьями ангелы крылом машут. А из огорода под землёй – кратчайший путь в преисподнюю. Корни растений иногда дотягиваются.
– Скажешь тоже, болезный, – поморщился на это Тихон Лукич, ибо практичный, рассудительный и рукастый гражданин чертовщинку недолюбливал с детства.
– Выходит, каждый кабачок перед употреблением пробовать на вкус надо. Лизнуть! – рассмеялась Кларочка голоском журчалочка. – Единственный, небось, и оказался горьким. Всю кастрюлю испортил!
– Как и яйца деревенские необходимо по одному разбивать над плошкой, чтобы яичницу не запороть, – подтвердил Тихон Лукич.
– Кстати, верно! – вспомнил Касьян Демидыч, как однажды уже выбросил целую сковородку желтков-белков, когда шестое яйцо оказалось протухшим.
– Поспешишь – друзей насмешишь, – кивнула улыбчивая Кларочка.
– Жаль, что даже личный эмпирический опыт нас ничему не учит, – подмигнул соседу Тихон Лукич Бесполезняк. Поклонился Кларе Карловне и отправился на огород поливать свои подмосковные арбузики-кургузики.
Выдалось правильное лето. Такое, что ничегошеньки не хочется исправлять. Всё было: и полнолунные посеребрённые ночи, и жара солне́шная, и ливни проливе́нные. Пухла чернá земля. Дáровала. Народился урожай нарядный. Хрустел под усами сочный яркий редис «Сора» – ядрить закусочка к самогончику. Разрумянилась ремонтантная клубника «Королева Виктория» на радость внукам. Налились стручки «Сахарного» горошка, утянули тонкие веточки вниз, к маслянистому чернозёму.
А там – долго ли, коротко ли – приноровился и август тянуть ношу свою. Выдаёт на-горá денёчки ладные: один лепше другого. Всё хорошо, только соответствуй! Надулась, расталкивая друг дружку, сочная морковь «Канада». Угомонила свои лопухи и расселась по кочанам хрусткая капуста «Слава». Разбухали на грядке и кабачки «Мячик». Им особого приглашенья не нать.
Слáвил плодоносицу и искренне любил жизнь, мир, свою посконную деревню Непрявду, а также острого на словцо соседа и интеллигентную соседку отставной подполковник полевых войск, вдовец Касьян Демидович Гурчик.
Сосед Касьяна Демидовича по имени Тихон Лукич Бесполезняк – человек весьма отзывчивый и рукодельный. К фамилии своей характером не подходил и смыслу ейному не соответствовал. Напротив, являл собой образец мужчины полезного и компетентного, для связи с которым существовал широкий портал в виде отсутствующей секции штакетника.
Любуется Касьян Демидыч на Тишу своего через дыру в заборе, как тот активно косит траву традиционной крестьянской косой.
– Косим тут, понимаешь… Но не совсем ясно, кто кого, – размышляет вслух Тихон Лукич. – То ли я кошу траву, то ли она меня косит. Травы особо меньше не стало, зато сам хожу, как подкошенный.
– Газонокосилку дать? – интересуется Касьян Демидыч, ему не жалко.
Зато жалко соседа своего, который с детства физкультурой не особо интересовался, а тут с себя семь потов согнал. Вон, аж с усов капает!
– А ты не припомнишь, – перебил Тихон Лукич мысли его сердобольные, – мы в этом году уже на ремонт дороги сдавали?
Пожал плечами подполковник в отставке.
– Ща у Кларочки спросим.
– Нашёл, у кого спрашивать, – криво усмехнулся сосед, – она не помнит, что вчера было!
– А, кстати, что вчера было? – оживился Касьян Демидыч.
– Да хрен его знает.
К соседке Кларе Карловне Коралловой ведёт калиточка потайная, заросшая ежевикой. Захаживает к изящной пожилой женщине вдовец Касьян Демидыч без всякой задней мысли, зато с кулём Бабаевских конфет ладных, шоколадных. Интересуется, не сломалось ли чего? Ежели что починить надобно – в два счёта безотказного рукастого Тихона Лукича кликнет Касьян Демидыч через портал в заборе.
Клара Карловна искренне благодарит, от помощи по дому отказывается, а сама чаем гостя потчует чёрным с прошлогодним смородиновым вареньем. Повествует жизнь свою уединённую, богато инкрустированную кольцами годовыми и анализами в поликлинике. Стесняются уши Касьяна Демидыча отслушивать подробности. Сидит сосед, как истукан, на краешке стула. Кулёк конфет неловко застыл подле локтя его.
– Так и живу. У меня диагноз. Ни сладкого нельзя. Ни солёного нельзя. Подай мне, пожалуйста, конфетку.
– Вы, вот что, Клара Карловна… – заёрзал Касьян Демидыч. – Ссудите мне, пожалуйста, мясорубку вашу на денёк-другой. Я икру кабачковую метать собрался.
Занёс Касьян Демидыч мясорубку на свою летнюю кухню и решил из любопытства к Тише своему заглянуть, не поделывает ли интересного чего? Принялся хозяин нахваливать народившиеся у него на бахче арбузики диаметром с мячик для гандбола. Заверяет соседа, что всё в природе уравновешено, стандартизировано. Всяк сверчок смысл имеет, ради дела какого создан. Напрягся Касьян Демидович Гурчик. И рад бы согласиться, да только слишком уж покладисто по Тихону Лукичу выходит, а жизнь-то даже на природе да с природой в унисон совсем не такая сладкая и беззаботная: в ней и конфузы случаются.
– Да вовсе и не всё у природы продумано. Зачем, к примеру, нужен какой-нибудь там месяц нахерабрь?
– Ты забыл? – искренне удивился Тихон Лукич. – Чтобы на демонстрацию ходить на Красную площадь.
– Да уж. И что теперь, в год сто-энного-летия Октябрьской революции там демонстрировать? Колье на голой жэ?
– Не путай фундаментальный принцип с гримасой мимолётного безвременья.
– Ага. Скажи об этом Гавриле Принципу.
Пожал плечами Тихон Лукич Бесполезняк. Хоть и слыл он языком бескостным, но был покладист и споров не любил. Особенно идеологических, без подстилки из железобетонной истины того или иного физического закона. Нашёлся, сменил тему:
– Ну, как тебе мой подмосковный арбузик?
– Да. Вкусный арбуз. Хрена к нему не хватает.
– Да пошёл ты на три советские буквы!
На том до поры расстались.
Завершена церемония вечернего полива. Закрутил Тихон Лукич кран, сменил калоши на сланцы, разжарил на сковородке боровики да сыроежки, что насобирал накануне. Подхватил дымящуюся снедь, попёрся к соседу: ладно, мол, не дуюсь уже на тебя. Заглянула на жареное амбре и Клара Карловна, сославшись на то, что делать нечего, по телеку одни ток-шоу, от которых у неё голова раскалывается.
– Ох, я эти без толку-шоу давно не слушаю, – махнул рукой жующий Касьян Демидыч.
– А у меня телевизор пятнадцать лет назад сломался, так я вообще его не смотрю, – похвастался Тихон Лукич, накалывая на вилку сочную пёструю ножку.
– А шо ж ты его себе не починишь?
– Да там лампа накрылась, которую при царе Горохе выпускали. Я поначалу разыскивал замену, на Митинский рынок ездил, на Авито мониторил. Так и не нашёл. А потом задвинул тему, решил книжки перечитывать. И теперь мне по фигу на Останкино сделалось. Книжки интереснее.
– Без телевизора твой апофигоз проспит всё, что в мире творится, – проворчал Касьян Демидыч.
– Так в мире одно и то же творится: мир по кругу устроен. Вертится.
– Вот и потонешь в неожиданно нахлынувшем водовороте.
– А ты прям нет? – полез занимать позу Тихон Лукич.
– Ну, меня-то хоть по телеку предупредят.
– Так ежели тебя предупредят, ты, известное дело, тут же примчишься и меня предупреждать. Что я, тебя не знаю, что ли?
Клара Карловна простодушно поддержала соседа, подкармливающего её шоколадными конфетками:
– Телевизор помогает докопаться, что нынче чёрное, а где – белое. Без него поди, разберись.
– Держи карман шире, – пристыдил соседей проницательный Тихон Лукич. – Если вы уверены, что вами не манипулируют, поздравляю: вы – в надёжных руках профессионалов из ЦРУ.
И бровью не повела Клара Карловна. ЦРУ её не касалось. Жизнь Клары Карловны пробурлила в школьных застенках завучем по воспитательной части. Эх, где сейчас её любимая хлёсткая деревянная шестидесятисантиметровая линеечка? Даму побаивались и уважали. Впрочем, так же, как и теперь в дачном товариществе.
Прониклась Клара Карловна воспоминанием, как провела последнее собрание родительское перед выходом на пенсию:
– Представляете! В коридорах школы шептались: ужели Клара Карловна? Как же без неё будет-то? Кавалеры сбежались в школу – хоть одним глазком, хоть напоследок меня в памяти запечатлеть, ведь как наслышаны были за долгие учебные годы отпрысков своих непослушных… Да-да! Мужчин на том собрании было столько же, сколько и женщин, – помялась Клара Карловна, но не позволила себе соврать: – Но женщин больше!
– А шампанское разливали? – улыбнулся подобострастно Касьян Демидыч.
– О, да! В учительской. Представьте – уже в ночи! Полусладкое.
– Полугадкое, – поморщился несносный Тихон Лукич. – Пить надо брют. Всё остальное – с сахаром.
– Ну, если б у меня был миллион рублей, я бы пил исключительно брют, гран-крю, икс-о, блю лейбл и аньехо, – сумничал Касьян Демидыч Гурчик, продемонстрировав крайнюю осведомлённость в непролетарских напитках. – С дырой же в кармане приходится пить самогон.
– О, если б у меня был мечталлион рублей! – передразнил соседа Тихон Лукич. – Я бы заставил его размножаться процентами и кормил бы голодающих.
– Ага, пиццей из Макдональдса, – занервничал подполковник в отставке, косясь на Клару Карловну, расположение которой мог и утратить после такого популистского выпада соседа.
– В Маке не подают пиццу, – поморщилась Клара Карловна, заслуженный работник школьного воспитания, профессиональные знания которой распространялись и на молодёжный общепит, так как за годы службы понятия «воспитанный ребёнок» и «упитанный ребёнок» в её сознании причудливо переплелись.
Так за разговорами и подошли к концу жареные грибочки на закопчённой сковородочке. Спохватилась гражданка Кораллова, метнулась к себе на фазенду. Вернулась тут же – запыхавшаяся, розовощёкая (Касьян Демидыч аж залюбовался). В руках заботливо держит запыленную баночку литровую.
– А теперь отведайте сморчков моих маринованных.
– Пошла Клара на базар и купила грибной вар, – шепотом съехидничал Тихон Лукич.
– С тех пор, как я в прошлом году зевнула, чуть не вывихнув себе челюсть, я прекрасно всё слышу, – напомнила Клара Карловна тем самым тоном, которым воцаряла в классах полную тишину.
На следующий день, выкушав на завтрак овсяную кашку на воде, запустил Касьян Демидович Гурчик на своей летней кухне кипучий деятельный процесс. Потрошит кабачки с грядки, режет дольками, растирает в мясорубке. Прирастает бездонная алюминиевая кастрюля заветной мякотью.
К обеду умаялся. Сполоснул ладони в мойдодыре, воды напился, а тут и сосед заглянул сковородку свою забрать, вчерась ведь забыл про неё напрочь. Помыл Касьян Демидыч сковороду с пеной, та аж заблестела, как новая. Любуется работой своей, протягивает соседу. Благодарит Тихон Лукич, а сам косится на полуторавёдерный чан, на варево будущего, а в толк взять не может:
– Какого ж резону самому гнать, когда в «Пятёрочке» икра кабачковая «Красная цена» сто́ит копейки?
– Дурак ты, Тиша, жизни не знаешь. Своя икра если б в сельпо попала, знаешь, почём бы продавалась?
– Ха, только не брал бы её никто за такие бабки!
– То-то и оно! И вот такая дорогая натуральная икра будет только у меня. Вся партия! Ну и тебя, дурня, баночкой угощу.
Отмахнулся Тихон Лукич от увещевания Касьяна Демидыча.
– Ты мне лучше скажи, тебе в почтовый ящик жировку за июль опустили? А то я как ни залезу – там сплошная реклама: навоз, бетон, тротуарная плитка. Намедни ещё надувной бассейн предложили под ключ по акции.
– А мой почтовый ящик осы охраняют, – потёр руки самодовольный Касьян Демидович Гурчик. – Завели себе гнездо и нервничают, когда им туда бумажки суют. Так что жировки за свет мне наш председатель на руки доставляет. За июль не было пока.
Кивнул сосед, упорхнул с блестящей сковородочкой своей. Осмотрелся Касьян Демидыч: полный мойдодыр посуды! Ой, надо ж и мясорубку Кларочки помыть-почистить да и возвернуть при случае удобном. Навёл марафетик, вытер ладони свои натруженные вафельным полотенцем, косится на калиточку заветную. Ни единого шороха не доносится с Кларочкиного участка. Час прошёл, другой… Побрился Касьян Демидыч электрической бритвой «Харькiв», подбоченился у мутного зеркала в полный рост, подхватил под мышку мясорубку, толкнул калитку.
Клара Карловна обнаружилась поверженной поперёк дивана на тенистой веранде. Одолеваемая мигренями пожилая женщина держалась за лоб, периодически потирала виски. Метнулся испуганный Касьян Демидыч к Кларочке, уж не доктора ли вызвать в их любимую деревню Непрявду?
– Касьянушка, благородный ты мой, прикрой меня пледиком, пожалуйста.
– Кларочка, что с тобой, дорогая?
– У меня субфебрильный ознобиоз.
– А это очень опасно? – участвует Касьян Демидыч, заботливо подтыкая покрывало. – Может, лекарство какое подать?
– Анальгинку я уже съела.
– И как себя чувствуешь?
– Погоди, мне надо очахнуть.
Заел сосед, не понимает, как интерпретировать Кларочкины слова, чтоб от них могилой не пахло. Наконец осенило. Переспросил:
– Очухаться?
Кивнула Клара Карловна. Всё ж как хорошо, когда такое исключительное взаимопонимание случается между людьми! Посидели-помолчали. Ещё посидели, помолчав. Сменил позу Касьян Демидыч и стал сидеть заново. Молчит, боится тишины хрустальной гармонию разрушить. Кларочке явно лучше. Притихла Кларочка, не ворочается, дыхание уравновесилось.
«Заснула, стало быть… – решил Касьян Демидыч. – Ну, я пойду. Посикать надобно, а то уже в ушах хлюпает».
Поднялся со стула пенсионер, проделал пару шагов, скрипнула подгнившая половая доска… Распахнула очи Клара Карловна.
– Ты уже уходишь, Кася?
Напугался Касьян Демидыч. Прохватил звонкий голос по спине его наждачкой прохладной. Оглянулся.
– Я вернусь, Кларочка!
Куда там! Подкрался на цыпочках вечерний полив. Пора сланцы на калоши переобувать и шланг садовый разматывать. Так бы день и миновал в трудах и заботах, да ворвался в одинокий мирок Касьяна Демидыча перевозбуждённый Тихон Лукич с давешней сковородкой в руках.
– Что с тобой, Тиша? Вида на тебе нету ни разу.
Молчит Тихон Лукич, лишь сглатывает надрывно, тычет в соседа сковородкой. Глянул Касьян Демидыч под крышку, а там греча, разжаренная на сливочном масле. Греча как греча: выглядит притягательно, пахнет аппетитно.
– Попробуй! – наконец, выдавил из себя подавленный Тихон.
Касьян Демидыч, хоть человек и гордый, но не настолько, чтобы от соседского угощения отказываться, пусть даже и от позавчерашней гречки. Подцепил знатную горочку заботливо вытертой об рукав вилочкой. Отправил в рот. Набросился на праздного, ничего не подозревающего подполковника в отставке изощрённый букетик из пятидесяти оттенков одного и того же вкуса: горше горького.
Выплюнул, а во рту всё одно: шипит пена, смесь хины со стеблями одуванчиков. А может, и с крысиным ядом. Жизненный опыт по горьким веществам у Касьяна Демидыча был весьма скуден, активно предпочитал он горькому солёное и маринованное. Вот и сейчас: приложился пенсионер к баночке с огурчиками к самогончику да хлебнул основательную дозу рассола. Прополоскал рот. Помогло слабо. Можно сказать, и вовсе не помогло.
– Сам ешь свою гречу. Я не отраваядный.
Тут на свою беду заглянул на летнюю кухню любопытный чёрный кот Апперкот. На самом деле никто не знал, как его зовут, хоть и носил он зелёный ошейник от клещей, как любой добропорядочный домашний зверь. Про кота было известно только, что гуляет он сам по себе, а является вроде бы с верхних участков. Оттого и был прозван подкованной молодёжью Upper-котом.
Тихон Лукич насыпал перед бродягой кучку ароматной гречки. Благодарный кот Апперкот присел смиренно полакомиться подачкой, отведал пару зёрнышек и громко вымяукался кошачьим матом.
– Выходит, взаправду, – пробормотал Тихон, – а вовсе не наваждение на мою сумасбродную голову.
– Причём тут наваждение? – встал на сторону обиженного кота обиженный Касьян Демидыч. – Шельмец ты, Тиша, никудышный из тебя повар. Обыкновенную гречку и ту загубил.
Ничего не ответил пристыженный Тихон Лукич. Уж больно нелепой приключилась история с этой гречкой. Подумаешь, позавчерашняя, ну и что с того? Сколько раз он и недельную гречку находил в холодильнике. Разжаривал на сковородочке, да с лучком. И ничего! Да и если бы прокисла эта злополучная гречка – оно ж понятно, логично, не обидно. А тут – чем горло ни полощи, горечь не выветривается изо рта, как будто не слюни вырабатываются в нём, а синильная кислота какая-нибудь. Вот и Касьяну рассольчик, очевидно, не помог: отплёвывается, места себе не находит, рожа злая.
– А если вовсе не в грече дело, – аккуратно прощупал почву Тихон Лукич, – это ты ж мою сковородку мыл!
– Не, ну какой ловкач! – тут уж Касьян Демидович Гурчик и взаправду обиделся. – Я ему сковороду до блеска отмыл, а он мне свои намёки грязные намекает.
Набычили лбы друг на друга пенсионеры. Затаили злобу. Тихон Лукич подозревал отставного подполковника, что тот ему в шутку сковородку микстурой какой обмазал. А Касьян Демидыч искренне не мог взять в толк, причём тут он, и не собирался смиренно попускать соседу агрессию.
В тот самый момент в дверях летней кухни нарисовалась Кларочка Карловна Кораллова собственной персоной. На голове – пучок, поверх пучка – косынка. В руках – глубокая тарелка с котлетками.
Обрадовались было мужчины, что сердобольная Кларочка явилась их покормить. Взглянули на даму благодарно, а та – сама не своя: челюсть перекошенная, губы облизывает, отплёвывается.
– Я не знаю, что там про сегодня звёзды наболтали, но, хотите верьте, хотите нет, я впервые в жизни пожарила горькие котлетки.
Переглянулись пенсионеры. Пожевали губами горечь неубиваемую, ничем изо рта невыполаскиваемую. Поставили рядышком сковородочку с гречей и тарелочку с котлетками и уставились на них в попытке распознать то ли здравый смысл случившегося, то ли нездоровую бессмыслицу, от которой, надо признаться, и до дурки – один ленивый тычок.
Не забыли и наверх посмотреть: а вдруг и в самом деле Бог есть? Следит оттуда за безбожными похождениями невоцерковленных детей минувшей эпохи научно-технического прогресса, когда храмы воспринимались исключительно архитектурными достопримечательностями. Может, пыльцу какую послал Всевышний, словно кару небесную? Жнут детки несмышлёные по всей волости кто горькие пельмешки, кто горькие пирожки, а кому и горький омлет ниспослан за грехи коллективные.
Первой заёрзала заслуженный работник школьного воспитания. Не входило в её планы сошествие с ума неизвестно куда. Ведь только-только человек на пенсию вышел! Вся жизнь, можно сказать, впереди! Вечно молодой, ядрёный и задорный дух требовал успокоиться и вдумчиво разобраться.
– Зачем человеку сто миллиардов нейронов и квадриллион синаптических связей? – вспомнилась Кларе Карловне одна из коронных заумных фразочек, которыми она достукивалась до сознания лодырей и двоечников.
В этот раз она достучалась до мозжечка Касьяна Демидыча:
– Ну! Шо мы сидим понурые, як в ночь перед грабежом?
Затем – до левого полушария Тихона Лукича:
– Давайте проанализируем, что может быть общего у гречки с котлетами?
– То, что они съедобные! – мгновенно сообразил гордый отставной офицер.
– В своеобычном состоянии, – напомнила ему Кларочка, покачав головой.
– Эдак мы ни к чему не придём, – пристыдил коллег по дедуктивному цеху Тихон Лукич, – предстоит найти неочевидную связь.
Будучи человеком среднеобразованным, зато широких практических взглядов, обладающим юркой природной смекалкой и поглотившим тонны библиотечных книг, Тихон Лукич Бесполезняк попытался заглянуть в самый корень произошедшего казуса, словно в головоломку на странице журнала «Наука и жизнь».
– Сковородку помыл Касьян прежде, чем я гречу разжарил.
– Опять ты за своё! – вознегодовал подполковник в отставке.
– Мясорубку мою – тоже! – всплеснула руками Кларочка.
– Вы меня в чём-то подозреваете? – насупился Касьян Демидыч, не ожидавший ножа в спину от дамы сердца.
Отчётливо мерещилось Тихону Лукичу, что витал искомый корень проблемы у него аккурат перед глазами. Да только никак не удавалось пенсионеру навести на него фокус, так как тот перемещался синхронно со слепым пятном. Пришлось действовать на ощупь.
– Касьян мне друг, но истина дороже! – перефразировал Тихон Лукич Сократа и решительно направился к мойдодыру.
Ощупал, осмотрел нехитрое устройство дачной водораздачи с ёмкостью под колодезную воду, где был предусмотрен электронагреватель. Исследовал краник и незатейливый слив в помойное ведро. Опустил голову в раковину и аккуратненько коснулся эмалированного металла самым кончиком языка. Тотчас отпрянул. Сплюнул через распахнутое окно.
– Есть! Оно!
– Горечь? – растерялся Касьян Демидович Гурчик.
– Ещё какáя!
– Как же так, Кася? – повернулась с укоризной Кларочка, и почва поплыла из-под ног бравого отставного подполковника.
Покраснел товарищ Гурчик, да только не ведал он за собой вины и не знал, как оправдываться. Впрочем, дотошный товарищ Бесполезняк вовсе и не пытался размазать соседа созданием коалиции против него. Он продолжил свои детективные изыскания до тех пор, пока не догадался изучить замызганную этикетку на флакончике «Фэйри». Ткнул пальцем в дату выпуска моющего средства для посуды.
– Кася, твой «Фэйри» уже четыре года как просрочен! – озвучила Тишин вердикт прямолинейная Кларочка.
– Да понял я уже… Ясно же видно.
– Ясновидящий, что ли? – подмигнул Тихон Лукич.
– Дык, кто ж их поймёт, все эти «Фэйри-тэйли» буржуиновые? Как по мне, убрал бы с глаз долой, как с телевизора, так и с полок магазинных. Что, у нас своих жидких мыл нет? Дожили! Посуду моем – людей травим.
– И котов! – добавил Тихон Лукич, потирая усы.
– И котов, – согласился Касьян Демидыч, – кстати, где он?
Побросали коллеги-дачники взгляды в противоположные стороны. Нет кота! Убёг.
– Дай мне волю, я бы всех этих химиков саксонских разогнал с позором. Дай мне власть, наполнил бы прилавки исключительно отечественными товарами.
Разошёлся уязвлённый офицер полевых родо́в войск. Ух, как обидно человеку, что вляпался в нелепость феерическую.
– «Пятёрочка» эта, будь она неладна. «Купи флакон, возьми второй бесплатно». Мне второй на фиг не сдался, мне и первого на три года хватило. Лучше бы один за полцены продали, если реально о людях заботятся. Так нет же! Сами кровососы буржуйские, ещё и нас крохоборами делают. Заманивают маркетологи ценниками пожелтевшими. Манипулируют нами, чтобы жмотились в ущерб себе.
– Верно! – поддержала Кларочка, восстанавливая порушенную было тонкую душевную связь. – Тебе, Касьян, публиковаться надо. Обличения писать! И обществу польза, и сам, гляди, разбогатеешь.
– Ну-ну, – усмехнулся себе в усы Тихон Лукич. – Старый во́рчун попал в Fortune.
Потонула здравая ирония друга во фрондёрском порыве отставного офицера с активной житейской оппозицией. Накипело, наболело да и попросту набежало событий у пенсионера. Мятежный дух требовал покорения трибуны, сведённый горечью рот рвался отплеваться к микрофону.
Разобрались граждане с проблемой. Выговорились, заодно перемыли вместе с мойдодыром всю Касьянову посуду обыкновенным хозяйственным мылом. Выдохнули, расслабились. Разбрелись по избушкам потчевать. Не довелось в тот день Касьяну Демидовичу по причине чрезвычайного происшествия довершить своё предприятие. Так и простояла алюминиевая царевна-кастрюля с размолотыми кабачками всю прохладную августовскую ночь, накрытая газетой с кроссвордом.
Наутро отставной подполковник улыбнулся юному солнышку, растёрся мокрым холодным полотенцем, выцедил кружку цикория с молоком и бодреньким приступил ко второй фазе производства. Водрузил Касьян Демидыч тяжёлый чан на газовую конфорку, отобрал лучок и морковь, принялся свистеть себе под нос детскую песенку про чебурашку и чистить овощи.
И вот закипела кастрюлька, хозяин прибрал огонёк. Выследил по часам момент закладки в будущую икру протёртого лучка с морковкой. А там за чередой помешиваний подкралась пора добавить по вкусу соль. Сыпанул Касьян Демидыч столовую ложку с гаком. Помялся, сыпанул ещё половинку. Но сомнения лишь пуще прежнего одолели старика. Осознал отставной офицер, что единственный способ удостовериться в норме солёности варева – это его попробовать.
Так отчего ж нет-то? Снял пробу большой деревянной ложкой Касьян Демидыч. Пригубил и поковрёжился. Мигом слетело с него лицо молодецкое, замерла на полно́те песенка насвистываемая. В голову ударила такая премиальная горечь, с которой Касьян Демидыч отродясь не сталкивался – даже вчерашняя Тишина греча, и та имела лишь жалкие отголоски.
Вот так буднично и прозаично обрушился на гражданина Гурчика невыносимый удар судьбы: пропал урожай кабачков, зря потрачен труд пары летних дней из девяноста двух, принесены в жертву ни в чём не повинные лучок с морковкой. Повезло лишь томатной пасте – до неё очередь не дошла. Сердце Касьяна Демидыча готово было остановиться от оскорбления и обиды. Разум категорически отказывался свыкаться со свершившимся, а это, как известно, путь в шизофрению. Морально низложенный и физически опустошённый пенсионер дотянулся до плиты, успел заглушить газ под алюминиевой кастрюлей и, возносимый настойчивым головокружением, рухнул подкошенным мимо единственного на летней кухне мягкого кресла. Погрузился словно в ложемент космического корабля «Союз» на марше: мгновенно ощутил те самые перегрузки. Покорно закрыл глаза.
На внутренних стенках век транслировался кинофильм о житие-бытие славного воина Касьяна, но отчего-то в обратную сторону. Подполковнику хотелось закричать, что кинопроектор неисправен, но свело голосовые связки у человека, даже хрипа собственного не слышит. Неподвластно и пошевелиться. Мельтешили воспоминания на стерео-сцене: похороны супруги, погибшей от оторвавшегося тромба; военный городок Таманской дивизии; командировка в Афган; малипусечная Людочка, доченька родненькая; суворовское училище. Затем – похороны матери, умершей от воспаления лёгких; деревянный барак и казённая школа; похороны бабушки, скончавшейся от грудной жабы; крутая улочка наднепрянского уездного городка и бабушкин борщ. Мелькнуло и то самое лицо, которого совсем не помнил Касьян Демидыч, но папку своего признал сразу. Узрел и себя, молокососа, в руках полных сил и любви счастливых родителей.
Услыхал голос неторопливый, будто озадачен кто судьбой его героической, но непутёвой:
– Касьянушка, Демидов сын, уж не ты ли? Не рановато ли к нам?
– Ещё б не рановато, – подумал кто-то за отставного офицера.
– У нас свободных номеров для тебя нету.
– Ни в раю, ни в аду? – на всякий случай поинтересовался Касьян Демидыч.
Усмехнулись собеседники, опахнули вспотевшего мужа крылами.
– Чай, ты словечек обесцвеченных понабрался.
– Как это? – не понял Касьян Демидыч.
– Так нет же разницы для души. Коли праведная – так и переносится праведной, коли грешная – грешной. Что ты сам о себе да о мироздании думаешь, то и ощутишь. Каждому – по вере его.
– Как это? – лишь повторил Касьян Демидыч. Не врубался он в суть того, о чём архангел толкует.
– Так! – отрезал второй архангел. – В аду адаптируются. В раю – районируются. Всё. Свободен. Гуляй с миром, Касьян, Демидов сын.
– И как мне быть? Что ж мне теперь делать-то?
– Как – что делать? – ответил первый архангел. – Не падать духом. Жить и работать. Ты ещё не всю свою любовь излюбил.
Попробовал Касьян Демидыч распахнуть глаза и вроде бы даже рукою пошевелил, да только не понял поначалу, изменилось ли чего?
На самом деле изменилось многое. Возлежал гражданин Гурчик на топчанчике. Столпились вокруг него дорогие Кларочка Карловна и Тиша Лукич. Оплёл задранные на подоконник ноги Касьяна Демидыча незлопамятный кот Апперкот. А уважаемая врач скорой помощи из уездного города Руза, накануне ловко поразившая иглою стариковскую вену, прилаживала к ходикам на стене капельницу с физраствором. Медленно прояснялось путешествующее сознание, наводился привычный фокус на домашнюю среду-суету. Под языком отставного подполковника обнаружилась сладковатая острота от чуть не добившей его шайбочки нитроглицерина.
– Что ж это ты, уважаемый, себе позволяешь? Погода хорошая, а ты над собой контроль теряешь на ровном месте, – совестит врач скорой помощи, дама доминирующая, жёсткая и руководящая, такая, что и Клара Карловна на её фоне – обыкновенная добрячка.
– Горе у него, – растолковал Тихон Лукич. – Чан икры кабачковой – на выброс.
– Как такое может быть?
– Горький кабачок попался, – кивнула Кларочка.
– Да в жизни не бывает такого! – отрицает скорая помощь.
– Всякое в жизни бывает, – бормочет Касьян Демидыч.
– Не верю ни единому слову. Где икра?
Махнул Тихон Лукич на алюминиевую кастрюлю, смиренно остывающую на газовой плите. Заглянула в неё Фома неверующая. В вареве лишь томатной пасты не хватает для цвета. Но пахнет вкусно. Зачерпнула ложкой и лизнула от души.
Нет, нитроглицерин не понадобился. Совладала доктор со своими ощущениями, обуздала эмоции. Выплюнула варево, прополоскала рот спиртом из дезинфекционного флакончика. Проснулась в даме личность исследовательская.
– Да уж, чистейший денатоний! – заявила она, блестяще сохраняя лицо.
– Как-как вы сказали? – уточнил любопытный Тихон Лукич.
– Бензоат денатония, он же «Битрекс» – самое горькое вещество, известное науке. От одной до десяти частиц на миллион сделают вашу еду полностью непригодной. Как бы вы ни старались и ни настраивались преодолеть горечь, спазм не позволит вам её проглотить.
– А мы было подумали, что это кара Божья, – признался свежеющий на глазах Касьян Демидыч.
– Кара божья? – удивилась скорая помощь.
– За безбожие наше повальное.
– Нет, это всего лишь химическое соединение, – с улыбкой развела руками докторша, чьи интересы помимо реанимационной медицины охватывали фармацевтику в частности и органическую химию в общем, но никак не богословие. – Ты вот что, уважаемый, вертайся на живот. Осмотр пер ректум. На предмет следов внутреннего кровотечения.
А сама белую латексную перчатку натянула и пальчиками теперь поигрывает. Делать нечего, оголил Касьян Демидыч стыдливый незагорелый зад. Благочестивые соседи-пенсионеры поспешно отвернулись.
– Собирайся, дорогуша, поедем в больничку.
– Как – в больничку? – напрягся Касьян Демидыч. – Я себя уже хорошо чувствую. Мне огород поливать пора.
– Обязана госпитализировать тебя. С обмороком не шутят.
– Нет-нет, зачем Касьяну в больницу? – заступилась Кларочка Карловна. – Мы его всем миром выходим. Я лично заботой окружу.
– И здоровым питанием! – погрозила врач. – Небось, не ел давно, а, гражданин Гурчик? Лечебным голоданием увлекаешься?
– Да, ужин мы вчера пропустили, – признал Тихон Лукич Бесполезняк, – в связи с чрезвычайным происшествием. Этот ваш денатоний уже тогда нас атаковал.
– Зато на завтрак я стакан цикория с молоком употребил, – вспомнил Касьян Демидыч.
– Вот я и говорю: покой и здоровое питание. Пиши отказ от госпитализации. Завтра дежурный врач из поликлиники заедет проведать тебя, папаша ты наш икроносный.
Выкапалась капельница, соскочила скукоженная с ходиков. Изъяла доктор из вены иголку, а из-под правой руки – документ за личной подписью пенсионера. Перечитала. Кивнула.
– Если пациент хочет жить, медицина бессильна.
На сём откланялась.
– Ну что, Касьян Демидыч, напугал ты нас, – положил руку на плечо соседа Тихон Лукич Бесполезняк. – Давление тебе намерили восемьдесят на пятьдесят. Мы тут уже прикидывали, что на похороны твои оденем. У меня, к примеру, единственный костюм и тот светло-серый.
– Типун тебе, Тихон, – поморщилась Кларочка.
– Как же вы догадались врача вызвать? – посмотрел благодарными глазами бравый подполковник на вздорного соседа и впервые осознал до глубины души, как сильно он его любит, прохвоста этакого.
– Дык, пожарный щит на нашей улице освежить пора, а то проверка какая нахлобучит. Дай, думаю, спрошу у Касьяна, не осталось ли у него с прошлого раза красной краски? А тут ты такой разлёгся в обмороке, как на курорте. Кларочке крикнул, прибежала, как на пожар…
– Ой, я так перепугалась! – свела сухонькие ладошки Клара Карловна. – Сунула тебе со страха нитроглицерин под язык: думала, сердце… Ну и мобилку схватила, принялась пальчиком тыкать, а у самой слёзы…
– Я как кастрюлю на плите приметил, сразу обо всём догадался. И отчего ты в отключке. И почему гречка с котлетками горькие были. Жаль, вчера не сообразил.
Переглянулись пенсионеры с особым теплом. Опахнуло их в тот момент крылом с белыми пёрышками. Наполнились закалённые сердца ощущением братства и сопричастности.
Вечером собрались друзья на уютной веранде Клары Карловны откушать чайку с самодеятельным пирогом, богато приправленным черносмородиновым вареньем. Похвалила хозяйка золотые руки Тихона Лукича за то, что тот намедни справно духовку отладил. И не коптит больше, и пироги не подгорают. Вот только газовый баллон уже заменить надобно. На последнем издыхании.
– Заменим, делов-то… – согласился покладистый Тихон Лукич Бесполезняк, облизывая сладкие усы.
– Вот приедет дочка Людочка меня проведать, сгоняем на её «Санта Фе», заправим твой баллон, – подтвердил Касьян Демидыч, а сам тихонько накрыл ладонью левую ручку Кларочки, которой она теребила на столе мятую салфетку.
А Кларочка наша Карловна вовсе не отпрянула, а даже наоборот: накрыла Касину руку своей правой ладонью. Поглаживает. Растворился мгновенно помолодевший Касьян Демидыч в уюте домашнем, много лет назад нелепо утраченном.
– Ты не ругай меня, Касьян, – собралась с мыслями Клара Карловна, – я ж в медицине полная дура. Доктор отчитала меня за нитроглицеринку, как двоечницу распоследнюю. Напугала, что убить тебя могла.
– А я и не ругаю. Спасибо тебе, что скорую вызвала.
Потекла в деревне Непрявде житуха размеренная ежедневная. Тихон Лукич Бесполезняк выкрасил пожарный щит. Да так раздухарился, что решил заодно вычерпать из пожарного пруда топляк да разрыть кочки камышовые, ведь сроду не чистили водоём.
К Касьяну Демидычу Гурчику наведался дежурный врач из поликлиники. На велосипеде прикатил. Сам безусый практикант ещё, учёбу не закончил, но лекцию о правильном и своевременном питании бравому отставному офицеру зачитал наизусть.
Клара Карловна посвятила себя наваристым супчикам и нажористому гуляшу с мясцом. А также регулярным дефиле под руку с Касьяном. Замечена парочка была даже на речке, в двух километрах от дома. Как-то раз по возвращению с прогулки завидели соседа мастерящим лавочку у палисадника своего. Вогнал Тихон Лукич последний саморез, уселся, вытер пот со лба.
– Это чтоб за вашими похождениями наблюдать, – говорит.
Покачала головой Клара Карловна и с ходу огорошила:
– Деревню нашу Непрявду надо переименовать в Горькие Кабачки.
– Это зачем же? – напрягся Тихон Лукич.
– Ну как же! Касьян чудо из чудес вырастил! Факт должен быть отражён в топонимике.
– Да, – кивнул Касьян Демидыч, вспомнив беседу с архангелами. – Может, у меня тут самый настоящий портал. Над угодьями ангелы крылом машут. А из огорода под землёй – кратчайший путь в преисподнюю. Корни растений иногда дотягиваются.
– Скажешь тоже, болезный, – поморщился на это Тихон Лукич, ибо практичный, рассудительный и рукастый гражданин чертовщинку недолюбливал с детства.
– Выходит, каждый кабачок перед употреблением пробовать на вкус надо. Лизнуть! – рассмеялась Кларочка голоском журчалочка. – Единственный, небось, и оказался горьким. Всю кастрюлю испортил!
– Как и яйца деревенские необходимо по одному разбивать над плошкой, чтобы яичницу не запороть, – подтвердил Тихон Лукич.
– Кстати, верно! – вспомнил Касьян Демидыч, как однажды уже выбросил целую сковородку желтков-белков, когда шестое яйцо оказалось протухшим.
– Поспешишь – друзей насмешишь, – кивнула улыбчивая Кларочка.
– Жаль, что даже личный эмпирический опыт нас ничему не учит, – подмигнул соседу Тихон Лукич Бесполезняк. Поклонился Кларе Карловне и отправился на огород поливать свои подмосковные арбузики-кургузики.

Максим ФЕДОСОВ
Родился в 1970 г. Окончил литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького (мастерская А.В.Воронцова). Начал свою трудовую деятельность в 1988 году в типографии. В 90-х занимался дизайном в одном из первых российских рекламных агентств «Солидарность Паблишер», с 1996 по 2006 год работал в сфере маркетинга и рекламы. В 2008 году основал рекламное агентство «Новое Слово», в 2014 году – одноименное издательство. В 2016 году вышла книга «X» («Десять»), в 2018 – книга рассказов «Два билета на край света», которая в 2018 году была удостоена диплома областного писательского конкурса им. М.М.Пришвина в номинации «Проза». Сайт автора: maximfedosov.ru
Родился в 1970 г. Окончил литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького (мастерская А.В.Воронцова). Начал свою трудовую деятельность в 1988 году в типографии. В 90-х занимался дизайном в одном из первых российских рекламных агентств «Солидарность Паблишер», с 1996 по 2006 год работал в сфере маркетинга и рекламы. В 2008 году основал рекламное агентство «Новое Слово», в 2014 году – одноименное издательство. В 2016 году вышла книга «X» («Десять»), в 2018 – книга рассказов «Два билета на край света», которая в 2018 году была удостоена диплома областного писательского конкурса им. М.М.Пришвина в номинации «Проза». Сайт автора: maximfedosov.ru
РУКОПИСЬ
Дверь квартиры не открывалась. Павел Григорьевич тяжело дышал, надрывался, сухими пальцами пытаясь повернуть застрявший в замке ключ, приподнимая старую, тяжёлую дверь… Но вот замок хрустнул раз, другой. Но прежде чем открыть дверь, Павел Григорьевич тяжело вздохнул. Выдох получился необыкновенно глубоким – «качели» легких чуть задержались, толкнулись и летели всё выше, выше… Голова закружилась, сердце неожиданно застыло в ожидании вдоха… Прихожая квартиры Павла Григорьевича неестественно выгнулась, вешалки «уехали» дальше, коридор, ведущий в комнату, вытянулся в глубину квартиры, обувная тумбочка стала похожа на что-то круглое и мягкое... Двери комнат медленно и плавно раскрывались, словно кто-то невидимый листал страницы незримой книги. Едва различимо, словно в черно-белом кино, в глубине квартиры двигались незнакомые люди, гудели старые автомобили, хлопали красные знамёна, звенели победные марши, и звук их всё нарастал и нарастал, пока не заложило уши. Павел Григорьевич облокотился на дверь, медленно повис на ней, глухо пытаясь позвать на помощь. Пятый этаж, закопчённые мутные стекла, грязные стены, толстые металлические двери, а за ними – пустота. Никто не вышел. Никто не помог.
Он медленно опускался, держась за ручку двери…
* * *
Это утро казалось последним утром зимы. Рано, чуть свет пошёл сильный снег, к обеду выглянуло яркое солнце, защебетали птицы, и весь снег растаял буквально за час. «Ещё бы, 22 марта на дворе», – отрывая привычный листок календаря, подумал Павел Григорьевич.
С утра он был в хорошем расположении духа, был бодр и полон решимости доехать до издательства, чтобы выяснить судьбу своей рукописи. Достал из новенькой упаковки подаренную на юбилей электробритву, побрился, выпил большую чашку растворимого кофе. Подойдя к шкафу, достал свой единственный галстук, который почти не надевал. Приложил к рубашке, посмотрел в зеркало и, о чём-то задумавшись, медленно присел на диван…
Супруга его, Татьяна Николаевна, никогда не позволила бы ему надеть галстук к старой клетчатой рубашке. Нет, не позволила бы… Но Татьяны Николаевны уже третий год не было рядом. А детей у Павла Григорьевича не было. Вернее, были. От первого брака, лет сорок назад, а то и более… Детей тех он видел несколько раз, потом пути разошлись. Да что говорить…
Уложив в старый портфель распечатку романа с последними правками, он бережно собрал остальные бумаги со стола, аккуратно сложил их в открытый ящик тумбы и как-то неестественно ровно положил ручку, неожиданно для себя вспоминая, как лежат предметы на письменных столах в писательских музеях. Улыбнулся этой неожиданной мысли и заметил свою улыбку в зеркале напротив. «Есть в старости седой вкус молодости лет…» – вспомнил он строчку из чужого стихотворения, где-то недавно вычитанного. Из зеркала на него улыбался уже почти седой старик с глазами, полными юности.
«Ну, да… – подумал он. – Вкус молодости лет…»
Дорога прошла в сплошных воспоминаниях, благо троллейбусный маршрут пролегал мимо известного издательства, ехать примерно двадцать минут.
«Надо же, – думал Павел Григорьевич, – ведь уже четыре месяца ни звонка, ни ответа. Да… – прикидывал он, глядя в запотевшее окно на мокрый, грязный снег, который медленно месили автомобили. – А говорили, что позвонят, расскажут, что и как».
Вспомнил он, как охранник не хотел пускать его в издательство, встав грудью на «защиту родных рубежей». Павел Григорьевич тогда смеялся над ним, чем ещё сильнее рассердил его.
– Поймите же, дорогой мой человек, – говорил ему Павел Григорьевич, – ведь издательства издают книги, а мы их покупаем и читаем! Значит я – тот самый читатель, о котором вы печётесь, ради которого работаете. Неужели вы думаете, я пришёл вас взрывать?
– Я ничего не знаю. Не велено и всё! – бухтел охранник и набирал чей-то номер. – Вот звоните по телефону, вас вызовут…
– Ну да, вызовут… Как в суд…
Он пытался набрать телефон ответственного редактора, но никто не брал трубку. Было ощущение, что издательство – это пустые серые башни, закрытые от читателей железными дверями.
Ни одной живой души.
В конце концов, он дозвонился до кого-то, на том конце провода вежливо попросили не приносить рукописей, а прислать текст произведения по электронной почте.
– Ну, может быть, хоть познакомиться… – терпел вежливый отказ Павел Григорьевич. – Давайте я оставлю роман?
– У нас не принято знакомиться, да и хранить рукописи негде, – отвечал сухой и усталый голос. – Присылайте, а через три месяца можно будет о чём-то говорить.
Теперь, вздрагивая на выбоинах свежего московского асфальта в полупустом троллейбусе, Павел Григорьевич вспоминал звонок от редактора отдела прозы, который позвонил ему спустя несколько недель после его первого неудачного визита.
Разговор тогда снова не получился, но хотя бы начался.
– Вы обращались в наше издательство, мне скинули на почту вашу книгу… э-э-э… Павел Георгиевич, – молодой голос был уставшим, словно он сам не верил, что издательство вообще будет что-то читать.
– Григорьевич.
– А?
– Спасибо, что вы хотя бы позвонили. Скажите, есть надежда на то, что кто-то прочитает рукопись? Я уже про книгу не спрашиваю, понимаю, что все зависит от…
– Ну, вы же знаете, редакция не вступает в переписку… Мне просто передали, что вы в тот день хотели меня увидеть… Сказали, что вы – ветеран войны…
– Да, ветеран. Ветеран труда. А разве это имеет отношение к рукописи?
– Что вы говорите? Не расслышал?
– Как вас зовут, молодой человек?
– Моя фамилия Бе… Я редактор отдела про...
Разговор тогда не получился, Павел Григорьевич так и не дождался никакого вразумительного ответа кроме уважительного тона и признания прошлых заслуг всех ветеранов вместе взятых, каких-то общих слов ни о чём. Единственное, что он понял, что срок рассмотрения рукописи составляет три месяца. Он честно отсчитал по календарю ровно три, месячишко прибавил и в это свежее мартовское утро надел свой единственный галстук.
Троллейбус въехал в центр города и сразу же уткнулся в огромную пробку. Его металлическую тушу, вооруженную двумя токоприемниками, словно натянутыми вожжами то и дело подрезали бойкие иномарки; светофоры тормозили поток, пешеходы норовили перебежать на красный – словом, жизнь большого города всё больше и больше надувалась бесполезным хаосом и волнением, суетой и больше напоминала знаменитое «шаг вперед, два шага назад». Все сосредоточенно шагали, но куда именно, никто уже не задумывался. О том, куда шагали, говорили только в программе «Время» по вечерам, но из сухих сводок красиво одетых дикторов Павел Григорьевич ничего не понимал. Он слышал, что жизнь простых людей в стране становится лучше, что всё больше и больше… Но батон хлеба в ближайшем магазине месяц назад стал стоить на два рубля дороже, и Павел Григорьевич в последнее время телевизору уже не доверял.
И вообще – странно было смотреть ему на этот зажатый со всех сторон, суматошный город, ещё не отмытый после долгой и грязной зимы, он его помнил другим: чистым, зелёным, каким-то весёлым и раскрепощенным, несмотря на времена, вождей и настроение. Об этом он и писал в своей книге, текст которой лежал теперь в электронном почтовом ящике издательства. Так получилось, что эта книга стала первой в жизни Павла Григорьевича – он писал её более пятнадцати лет. Он даже не совсем понимал, что написал: о себе самом или о герое, похожем на него. О молодости – яркой, бурной, романтической молодости героя, где, конечно, было всё: и победы, и падения, и головокружительная карьера, и внезапное отстранение от должности распоряжением сверху, и влюбленности, и развод, и первые неудавшиеся попытки наладить отношения с бывшей супругой и собственным сыном. Жизнь, словно рукопись книги, умещалась в несколько сотен листочков мелкими буковками, и можно было мысленно перебирать знакомые пожелтевшие страницы этой исповеди, всматриваться в лица ушедших друзей, вслушиваться в эти звонкие имена и названия городов. От постоянного сворачивания рукопись стала похожа на старый ковер, который свернули, чтобы почистить на свежем снегу и убрать на антресоль. «Кому она теперь нужна… книга воспоминаний…» – вздыхал Павел Григорьевич. Но все-таки в глубине души он надеялся, что эта книга многим молодым поможет обрести себя в собственной жизни. Найти свой путь…
Троллейбус уже медленно подкатывал к серому зданию. Неспешно выйдя на остановке, он направился к зданию издательства, на фронтоне которого красовалась темно-красная звезда в обрамлении ярких рекламных вывесок. «Вот ведь – символ времени», – подумал Павел Григорьевич, поморщился и стал медленно подниматься по длинным ступеням ко входу. Каждый шаг отдавался где-то в груди мерным постукиванием, поэтому приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. «А ещё говорят, негде хранить рукописи, – он поднял голову, пытаясь разглядеть красивый шпиль наверху. – Так и историю негде будет хранить…»
Вход в издательство, которое выпускало несколько сотен изданий в год миллионными тиражами, охранялось тщательно: нужно было получить электронный пропуск и только после этого подняться к пропускным турникетам. Павел Григорьевич потоптался возле пропускного окошка, спросил редактора отдела прозы. Оказалось, что ответственный редактор отдела прозы буквально вчера был назначен заместителем директора издательства.
– Он мне сказал именно к нему подойти, – неуверенно преувеличивал Павел Григорьевич, понимая, что снова может уйти отсюда ни с чем.
Прямоугольник пропуска сработал безукоризненно: механические турникеты приветливо распахнулись, старенький лифт доставил его на третий этаж, двери холла мягко открылись, а вот заветный кабинет оказался заперт.
– Ну… как всегда, – только он успел присесть на стул, как мимо него в дверь уверенной походкой шагнул молодой человек тридцати с лишним лет с модной бородкой и с наушниками в ушах. Вытащив «одно ухо», молодой человек нагнулся к Павлу Григорьевичу:
– Вы ко мне?
– Да, меня зовут Павел Григорьевич… Серов. Четыре месяца назад я привозил сюда свою рукопись, её не приняли, попросили прислать по почте… этой… электронной. Я прислал – всё, как вы просили, – он замолчал на секунду. – Вот, прошло четыре месяца, как бы узнать…
– А… я, по-моему, помню… Заходите.
В просторном кабинете Павел Григорьевич присел на стул, а редактор занял мягкое кожаное кресло за столом, на котором было непривычно пусто.
– Сейчас, подождите, посмотрю… Как говорите, называется ваша книга? – редактор «зарылся» лицом в мониторе, внимательно переключая кнопки на клавиатуре.
– Гм… «Моя жизнь».
– Подождите, подождите… Вы, по-моему, как раз ветеран войны… Так?
– Ветеран труда.
– Ну, не важно. У нас просто есть квота для ветеранов, возможно… так… сейчас… – казалось, еще минута, и он провалится в монитор вместе с креслом. – Знаете, нет... Я не вижу такой книги в списках. Нету «Моей жизни»…
– Подождите, причем тут списки. Мне хотелось бы знать – кто-то прочитал рукопись? Если что, я вот тут… привез, – Павел Григорьевич полез в портфель.
– Нет, нет, не нужно. У нас все рукописи – в электронном виде.
– Понимаю. Негде хранить…
– Павел Григорьевич, – как можно мягче начал редактор, продолжая искать на экране нужный файл, – вы понимаете, какая сейчас ситуация на издательском рынке… все диктует конъюнктура, рынок…
– Понимаю, да… – Павел Григорьевич отвёл глаза, – раньше все диктовала партия… теперь – рынок.
– Ну, Павел Григорьевич, вы не обижайтесь, ваш роман… – редактор наконец нашел и открыл нужный файл на мониторе и прочитал заголовок, – вот, видите, роман о жизни… хороший роман, так сказать, воспоминания. Но поймите, сейчас другое время, другие обстоятельства... Вон, фантастику люди предпочитают.
Он показал на плакаты, развешанные по стенам. На плакатах один дракон с красными глазами пожирал другого, и где-то на фоне блестели мечи, и железными буквами с кровоподтеками красовалась надпись: «БИТВА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ».
– Видите, мы уже второй год специализируемся на этом жанре, знаете, хорошо идёт… в смысле – хорошо продаётся.
Павел Григорьевич глубоко вздохнул и тихим голосом продолжил:
– Да… культура уходит. Нас когда-то учили, что книги… искусство возвышают душу человека, делают её более тонкой, что она должна…
– Ну, уважаемый Павел Григорьевич, никому она ничего не должна! Издательский бизнес – такой же бизнес, как и все другие. Если выгодно, мы печатаем, если нет… Ну, поймите нас правильно, для нас же это убыток!
– Разве может быть убыток, когда человек рассказывает историю своей жизни, чтобы научить, помочь, предостеречь…
– Павел Григорьевич, – тон редактора становился все более веселее и развязнее, – ну не может литература предостеречь! Вы многого требуете от неё. Искусство слова – это всего лишь искусство, это, к сожалению, последние семьдесят лет искусство выполняло роль пропагандиста… светлое будущее и всё такое, а на самом деле… Посмотрите.
Редактор вскинул руку в сторону открытого окна.
– И где оно, это ваше светлое будущее? Знаете, мы с вами такие разные… нам друг друга никогда не понять.
– Ну почему же наше… светлое будущее? – Павел Григорьевич откашлялся и тихо продолжил. – Ваше… Так мы закончим тем, что наши дети вообще перестанут читать. Я и не прошу понять меня. Я просто прошу прочитать рукопись!
– Я вам в который раз объясняю, – уверенно врал редактор, – я прочитал рукопись и не могу ничего сказать основательно. Пока напечатать мы её не сможем, – голос редактора вдруг стал жестче, было понятно, что он ставит точку в разговоре.
Павел Григорьевич снова откашлялся, оглянулся на драконов, положил визитку редактора в карман и молча стал подниматься со стула.
– Вы, Павел Григорьевич, только не обижайтесь, примите это как… Ну, может быть, на будущий год мы сможем протолкнуть вас по квоте…
– Хм, протолкнуть… – улыбнулся сквозь слёзы Павел Григорьевич, махнул рукой и вышел из кабинета. – Зря только галстук одевал.
Дверь за ним мягко закрылась, откуда-то подуло весенней прохладой – кто-то открыл окно в коридоре. Павел Григорьевич спустился в лифте на первый этаж, сдал пропуск и вышел на улицу. Действительно, по улице полноправно шагала весна: мокрый снег таял под ногами, превращаясь в жижу, солнце слепило глаза, и легкий ветерок приносил необычайно вкусный запах чего-то свежего и нового.
– Ну, а чем не светлое… будущее, – Павел Григорьевич ещё раз вздохнул, оглянулся вокруг и набрал полную грудь свежего весеннего воздуха.
Он ещё раз посмотрел на визитку, прочитал внимательно фамилию и имя: «Белов Юрий Павлович. Редактор». Что-то кольнуло внутри, под лопаткой. Где он мог слышать эту фамилию, до боли знакомую?
Только в троллейбусе он понял, что нужно обязательно вернуться. Белова – это была фамилия его первой жены. И кто мог знать, может быть, только что перед ним сидел… его родной сын, которого он мог и не узнать. «Возможно ли это? – сам себя спрашивал Павел Григорьевич. – Прошло тридцать с лишним лет, почти сорок, наверное, он ведь уже вырос, уже, наверно, завел семью и детей. Нет, не может быть… Не может быть… Но все-таки нужно бы выяснить. Нужно бы перезвонить… Не может быть… Не может быть…»
* * *
Юрий Павлович, оставшись один в кабинете, почему-то расстроился. Что-то особое было в этом престарелом посетителе, что-то было необыкновенное, гнетущее и одновременно близкое. Он и сам осознавал, что нехорошо получилось – роман-то он не открывал. И никто не открывал этот файл в издательстве. Как-то пропустили... Проморгали… «Нехорошо, надо было открыть, посмотреть…» Он снова потянулся к экрану, пролистал несколько страниц, ткнул в середину текста и обомлел…
Автор в точности описывал его мать, Людмилу Николаевну Белову, чью фамилию он взял с момента совершеннолетия. А до этого по записям в метрике Юрий Павлович носил фамилию Серов…
– Не может быть… – повторял про себя Юрий Павлович, листая страницу за страницей рукопись книги… своего отца, который только что сидел перед ним.
– Не может быть… – повторял и повторял он.
Вечером он долго крутил перед собой записку с телефоном Павла Григорьевича, собираясь с духом, чтобы позвонить и выяснить, действительно ли было так, как он себе представил. Но руки упрямо не слушались, сердце не могло согласиться с тем, что голова решила уже несколько часов назад. Он зашёл в комнату к сыну, обнял его, вспоминая глаза Павла Григорьевича, потом встал, пытаясь совладать с волнением.
– Павлик, ты все уроки сделал? – уточнил он у сына-пятиклассника.
– Да, пап. Да там ничего и не задавали… – уныло буркнул сын, не отвлекаясь от битвы драконов на экране компьютерной приставки.
– Ты, давай это… заканчивай. Почитал бы чего… – предложил отец.
– Ага. Пап, я вчера читал. Слушай, а ты битву драконов до какого уровня прошёл? А, пап?
– До седьмого. Там на седьмом уровне… красный дракон, большой такой, его не пройдёшь. Меня там, на седьмом и убили… А ты на каком?
– На третьем ещё. Сейчас, пап, доиграю…
– Давай это... за книги садись.
– Ага.
Проходя мимо зеркала, Юрий Павлович заметил какую-то железобетонную усталость в своих глазах и недовольно отвернулся. Вечером он все-таки решился позвонить по указанному телефону Павлу Григорьевичу, но унылый механический голос сообщил несколько раз, что «абонент находится вне зоны действия сети».
* * *
Через год роман Павла Григорьевича Серова «Моя жизнь» вышел в издательстве небольшим тиражом.
Дверь квартиры не открывалась. Павел Григорьевич тяжело дышал, надрывался, сухими пальцами пытаясь повернуть застрявший в замке ключ, приподнимая старую, тяжёлую дверь… Но вот замок хрустнул раз, другой. Но прежде чем открыть дверь, Павел Григорьевич тяжело вздохнул. Выдох получился необыкновенно глубоким – «качели» легких чуть задержались, толкнулись и летели всё выше, выше… Голова закружилась, сердце неожиданно застыло в ожидании вдоха… Прихожая квартиры Павла Григорьевича неестественно выгнулась, вешалки «уехали» дальше, коридор, ведущий в комнату, вытянулся в глубину квартиры, обувная тумбочка стала похожа на что-то круглое и мягкое... Двери комнат медленно и плавно раскрывались, словно кто-то невидимый листал страницы незримой книги. Едва различимо, словно в черно-белом кино, в глубине квартиры двигались незнакомые люди, гудели старые автомобили, хлопали красные знамёна, звенели победные марши, и звук их всё нарастал и нарастал, пока не заложило уши. Павел Григорьевич облокотился на дверь, медленно повис на ней, глухо пытаясь позвать на помощь. Пятый этаж, закопчённые мутные стекла, грязные стены, толстые металлические двери, а за ними – пустота. Никто не вышел. Никто не помог.
Он медленно опускался, держась за ручку двери…
* * *
Это утро казалось последним утром зимы. Рано, чуть свет пошёл сильный снег, к обеду выглянуло яркое солнце, защебетали птицы, и весь снег растаял буквально за час. «Ещё бы, 22 марта на дворе», – отрывая привычный листок календаря, подумал Павел Григорьевич.
С утра он был в хорошем расположении духа, был бодр и полон решимости доехать до издательства, чтобы выяснить судьбу своей рукописи. Достал из новенькой упаковки подаренную на юбилей электробритву, побрился, выпил большую чашку растворимого кофе. Подойдя к шкафу, достал свой единственный галстук, который почти не надевал. Приложил к рубашке, посмотрел в зеркало и, о чём-то задумавшись, медленно присел на диван…
Супруга его, Татьяна Николаевна, никогда не позволила бы ему надеть галстук к старой клетчатой рубашке. Нет, не позволила бы… Но Татьяны Николаевны уже третий год не было рядом. А детей у Павла Григорьевича не было. Вернее, были. От первого брака, лет сорок назад, а то и более… Детей тех он видел несколько раз, потом пути разошлись. Да что говорить…
Уложив в старый портфель распечатку романа с последними правками, он бережно собрал остальные бумаги со стола, аккуратно сложил их в открытый ящик тумбы и как-то неестественно ровно положил ручку, неожиданно для себя вспоминая, как лежат предметы на письменных столах в писательских музеях. Улыбнулся этой неожиданной мысли и заметил свою улыбку в зеркале напротив. «Есть в старости седой вкус молодости лет…» – вспомнил он строчку из чужого стихотворения, где-то недавно вычитанного. Из зеркала на него улыбался уже почти седой старик с глазами, полными юности.
«Ну, да… – подумал он. – Вкус молодости лет…»
Дорога прошла в сплошных воспоминаниях, благо троллейбусный маршрут пролегал мимо известного издательства, ехать примерно двадцать минут.
«Надо же, – думал Павел Григорьевич, – ведь уже четыре месяца ни звонка, ни ответа. Да… – прикидывал он, глядя в запотевшее окно на мокрый, грязный снег, который медленно месили автомобили. – А говорили, что позвонят, расскажут, что и как».
Вспомнил он, как охранник не хотел пускать его в издательство, встав грудью на «защиту родных рубежей». Павел Григорьевич тогда смеялся над ним, чем ещё сильнее рассердил его.
– Поймите же, дорогой мой человек, – говорил ему Павел Григорьевич, – ведь издательства издают книги, а мы их покупаем и читаем! Значит я – тот самый читатель, о котором вы печётесь, ради которого работаете. Неужели вы думаете, я пришёл вас взрывать?
– Я ничего не знаю. Не велено и всё! – бухтел охранник и набирал чей-то номер. – Вот звоните по телефону, вас вызовут…
– Ну да, вызовут… Как в суд…
Он пытался набрать телефон ответственного редактора, но никто не брал трубку. Было ощущение, что издательство – это пустые серые башни, закрытые от читателей железными дверями.
Ни одной живой души.
В конце концов, он дозвонился до кого-то, на том конце провода вежливо попросили не приносить рукописей, а прислать текст произведения по электронной почте.
– Ну, может быть, хоть познакомиться… – терпел вежливый отказ Павел Григорьевич. – Давайте я оставлю роман?
– У нас не принято знакомиться, да и хранить рукописи негде, – отвечал сухой и усталый голос. – Присылайте, а через три месяца можно будет о чём-то говорить.
Теперь, вздрагивая на выбоинах свежего московского асфальта в полупустом троллейбусе, Павел Григорьевич вспоминал звонок от редактора отдела прозы, который позвонил ему спустя несколько недель после его первого неудачного визита.
Разговор тогда снова не получился, но хотя бы начался.
– Вы обращались в наше издательство, мне скинули на почту вашу книгу… э-э-э… Павел Георгиевич, – молодой голос был уставшим, словно он сам не верил, что издательство вообще будет что-то читать.
– Григорьевич.
– А?
– Спасибо, что вы хотя бы позвонили. Скажите, есть надежда на то, что кто-то прочитает рукопись? Я уже про книгу не спрашиваю, понимаю, что все зависит от…
– Ну, вы же знаете, редакция не вступает в переписку… Мне просто передали, что вы в тот день хотели меня увидеть… Сказали, что вы – ветеран войны…
– Да, ветеран. Ветеран труда. А разве это имеет отношение к рукописи?
– Что вы говорите? Не расслышал?
– Как вас зовут, молодой человек?
– Моя фамилия Бе… Я редактор отдела про...
Разговор тогда не получился, Павел Григорьевич так и не дождался никакого вразумительного ответа кроме уважительного тона и признания прошлых заслуг всех ветеранов вместе взятых, каких-то общих слов ни о чём. Единственное, что он понял, что срок рассмотрения рукописи составляет три месяца. Он честно отсчитал по календарю ровно три, месячишко прибавил и в это свежее мартовское утро надел свой единственный галстук.
Троллейбус въехал в центр города и сразу же уткнулся в огромную пробку. Его металлическую тушу, вооруженную двумя токоприемниками, словно натянутыми вожжами то и дело подрезали бойкие иномарки; светофоры тормозили поток, пешеходы норовили перебежать на красный – словом, жизнь большого города всё больше и больше надувалась бесполезным хаосом и волнением, суетой и больше напоминала знаменитое «шаг вперед, два шага назад». Все сосредоточенно шагали, но куда именно, никто уже не задумывался. О том, куда шагали, говорили только в программе «Время» по вечерам, но из сухих сводок красиво одетых дикторов Павел Григорьевич ничего не понимал. Он слышал, что жизнь простых людей в стране становится лучше, что всё больше и больше… Но батон хлеба в ближайшем магазине месяц назад стал стоить на два рубля дороже, и Павел Григорьевич в последнее время телевизору уже не доверял.
И вообще – странно было смотреть ему на этот зажатый со всех сторон, суматошный город, ещё не отмытый после долгой и грязной зимы, он его помнил другим: чистым, зелёным, каким-то весёлым и раскрепощенным, несмотря на времена, вождей и настроение. Об этом он и писал в своей книге, текст которой лежал теперь в электронном почтовом ящике издательства. Так получилось, что эта книга стала первой в жизни Павла Григорьевича – он писал её более пятнадцати лет. Он даже не совсем понимал, что написал: о себе самом или о герое, похожем на него. О молодости – яркой, бурной, романтической молодости героя, где, конечно, было всё: и победы, и падения, и головокружительная карьера, и внезапное отстранение от должности распоряжением сверху, и влюбленности, и развод, и первые неудавшиеся попытки наладить отношения с бывшей супругой и собственным сыном. Жизнь, словно рукопись книги, умещалась в несколько сотен листочков мелкими буковками, и можно было мысленно перебирать знакомые пожелтевшие страницы этой исповеди, всматриваться в лица ушедших друзей, вслушиваться в эти звонкие имена и названия городов. От постоянного сворачивания рукопись стала похожа на старый ковер, который свернули, чтобы почистить на свежем снегу и убрать на антресоль. «Кому она теперь нужна… книга воспоминаний…» – вздыхал Павел Григорьевич. Но все-таки в глубине души он надеялся, что эта книга многим молодым поможет обрести себя в собственной жизни. Найти свой путь…
Троллейбус уже медленно подкатывал к серому зданию. Неспешно выйдя на остановке, он направился к зданию издательства, на фронтоне которого красовалась темно-красная звезда в обрамлении ярких рекламных вывесок. «Вот ведь – символ времени», – подумал Павел Григорьевич, поморщился и стал медленно подниматься по длинным ступеням ко входу. Каждый шаг отдавался где-то в груди мерным постукиванием, поэтому приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. «А ещё говорят, негде хранить рукописи, – он поднял голову, пытаясь разглядеть красивый шпиль наверху. – Так и историю негде будет хранить…»
Вход в издательство, которое выпускало несколько сотен изданий в год миллионными тиражами, охранялось тщательно: нужно было получить электронный пропуск и только после этого подняться к пропускным турникетам. Павел Григорьевич потоптался возле пропускного окошка, спросил редактора отдела прозы. Оказалось, что ответственный редактор отдела прозы буквально вчера был назначен заместителем директора издательства.
– Он мне сказал именно к нему подойти, – неуверенно преувеличивал Павел Григорьевич, понимая, что снова может уйти отсюда ни с чем.
Прямоугольник пропуска сработал безукоризненно: механические турникеты приветливо распахнулись, старенький лифт доставил его на третий этаж, двери холла мягко открылись, а вот заветный кабинет оказался заперт.
– Ну… как всегда, – только он успел присесть на стул, как мимо него в дверь уверенной походкой шагнул молодой человек тридцати с лишним лет с модной бородкой и с наушниками в ушах. Вытащив «одно ухо», молодой человек нагнулся к Павлу Григорьевичу:
– Вы ко мне?
– Да, меня зовут Павел Григорьевич… Серов. Четыре месяца назад я привозил сюда свою рукопись, её не приняли, попросили прислать по почте… этой… электронной. Я прислал – всё, как вы просили, – он замолчал на секунду. – Вот, прошло четыре месяца, как бы узнать…
– А… я, по-моему, помню… Заходите.
В просторном кабинете Павел Григорьевич присел на стул, а редактор занял мягкое кожаное кресло за столом, на котором было непривычно пусто.
– Сейчас, подождите, посмотрю… Как говорите, называется ваша книга? – редактор «зарылся» лицом в мониторе, внимательно переключая кнопки на клавиатуре.
– Гм… «Моя жизнь».
– Подождите, подождите… Вы, по-моему, как раз ветеран войны… Так?
– Ветеран труда.
– Ну, не важно. У нас просто есть квота для ветеранов, возможно… так… сейчас… – казалось, еще минута, и он провалится в монитор вместе с креслом. – Знаете, нет... Я не вижу такой книги в списках. Нету «Моей жизни»…
– Подождите, причем тут списки. Мне хотелось бы знать – кто-то прочитал рукопись? Если что, я вот тут… привез, – Павел Григорьевич полез в портфель.
– Нет, нет, не нужно. У нас все рукописи – в электронном виде.
– Понимаю. Негде хранить…
– Павел Григорьевич, – как можно мягче начал редактор, продолжая искать на экране нужный файл, – вы понимаете, какая сейчас ситуация на издательском рынке… все диктует конъюнктура, рынок…
– Понимаю, да… – Павел Григорьевич отвёл глаза, – раньше все диктовала партия… теперь – рынок.
– Ну, Павел Григорьевич, вы не обижайтесь, ваш роман… – редактор наконец нашел и открыл нужный файл на мониторе и прочитал заголовок, – вот, видите, роман о жизни… хороший роман, так сказать, воспоминания. Но поймите, сейчас другое время, другие обстоятельства... Вон, фантастику люди предпочитают.
Он показал на плакаты, развешанные по стенам. На плакатах один дракон с красными глазами пожирал другого, и где-то на фоне блестели мечи, и железными буквами с кровоподтеками красовалась надпись: «БИТВА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ».
– Видите, мы уже второй год специализируемся на этом жанре, знаете, хорошо идёт… в смысле – хорошо продаётся.
Павел Григорьевич глубоко вздохнул и тихим голосом продолжил:
– Да… культура уходит. Нас когда-то учили, что книги… искусство возвышают душу человека, делают её более тонкой, что она должна…
– Ну, уважаемый Павел Григорьевич, никому она ничего не должна! Издательский бизнес – такой же бизнес, как и все другие. Если выгодно, мы печатаем, если нет… Ну, поймите нас правильно, для нас же это убыток!
– Разве может быть убыток, когда человек рассказывает историю своей жизни, чтобы научить, помочь, предостеречь…
– Павел Григорьевич, – тон редактора становился все более веселее и развязнее, – ну не может литература предостеречь! Вы многого требуете от неё. Искусство слова – это всего лишь искусство, это, к сожалению, последние семьдесят лет искусство выполняло роль пропагандиста… светлое будущее и всё такое, а на самом деле… Посмотрите.
Редактор вскинул руку в сторону открытого окна.
– И где оно, это ваше светлое будущее? Знаете, мы с вами такие разные… нам друг друга никогда не понять.
– Ну почему же наше… светлое будущее? – Павел Григорьевич откашлялся и тихо продолжил. – Ваше… Так мы закончим тем, что наши дети вообще перестанут читать. Я и не прошу понять меня. Я просто прошу прочитать рукопись!
– Я вам в который раз объясняю, – уверенно врал редактор, – я прочитал рукопись и не могу ничего сказать основательно. Пока напечатать мы её не сможем, – голос редактора вдруг стал жестче, было понятно, что он ставит точку в разговоре.
Павел Григорьевич снова откашлялся, оглянулся на драконов, положил визитку редактора в карман и молча стал подниматься со стула.
– Вы, Павел Григорьевич, только не обижайтесь, примите это как… Ну, может быть, на будущий год мы сможем протолкнуть вас по квоте…
– Хм, протолкнуть… – улыбнулся сквозь слёзы Павел Григорьевич, махнул рукой и вышел из кабинета. – Зря только галстук одевал.
Дверь за ним мягко закрылась, откуда-то подуло весенней прохладой – кто-то открыл окно в коридоре. Павел Григорьевич спустился в лифте на первый этаж, сдал пропуск и вышел на улицу. Действительно, по улице полноправно шагала весна: мокрый снег таял под ногами, превращаясь в жижу, солнце слепило глаза, и легкий ветерок приносил необычайно вкусный запах чего-то свежего и нового.
– Ну, а чем не светлое… будущее, – Павел Григорьевич ещё раз вздохнул, оглянулся вокруг и набрал полную грудь свежего весеннего воздуха.
Он ещё раз посмотрел на визитку, прочитал внимательно фамилию и имя: «Белов Юрий Павлович. Редактор». Что-то кольнуло внутри, под лопаткой. Где он мог слышать эту фамилию, до боли знакомую?
Только в троллейбусе он понял, что нужно обязательно вернуться. Белова – это была фамилия его первой жены. И кто мог знать, может быть, только что перед ним сидел… его родной сын, которого он мог и не узнать. «Возможно ли это? – сам себя спрашивал Павел Григорьевич. – Прошло тридцать с лишним лет, почти сорок, наверное, он ведь уже вырос, уже, наверно, завел семью и детей. Нет, не может быть… Не может быть… Но все-таки нужно бы выяснить. Нужно бы перезвонить… Не может быть… Не может быть…»
* * *
Юрий Павлович, оставшись один в кабинете, почему-то расстроился. Что-то особое было в этом престарелом посетителе, что-то было необыкновенное, гнетущее и одновременно близкое. Он и сам осознавал, что нехорошо получилось – роман-то он не открывал. И никто не открывал этот файл в издательстве. Как-то пропустили... Проморгали… «Нехорошо, надо было открыть, посмотреть…» Он снова потянулся к экрану, пролистал несколько страниц, ткнул в середину текста и обомлел…
Автор в точности описывал его мать, Людмилу Николаевну Белову, чью фамилию он взял с момента совершеннолетия. А до этого по записям в метрике Юрий Павлович носил фамилию Серов…
– Не может быть… – повторял про себя Юрий Павлович, листая страницу за страницей рукопись книги… своего отца, который только что сидел перед ним.
– Не может быть… – повторял и повторял он.
Вечером он долго крутил перед собой записку с телефоном Павла Григорьевича, собираясь с духом, чтобы позвонить и выяснить, действительно ли было так, как он себе представил. Но руки упрямо не слушались, сердце не могло согласиться с тем, что голова решила уже несколько часов назад. Он зашёл в комнату к сыну, обнял его, вспоминая глаза Павла Григорьевича, потом встал, пытаясь совладать с волнением.
– Павлик, ты все уроки сделал? – уточнил он у сына-пятиклассника.
– Да, пап. Да там ничего и не задавали… – уныло буркнул сын, не отвлекаясь от битвы драконов на экране компьютерной приставки.
– Ты, давай это… заканчивай. Почитал бы чего… – предложил отец.
– Ага. Пап, я вчера читал. Слушай, а ты битву драконов до какого уровня прошёл? А, пап?
– До седьмого. Там на седьмом уровне… красный дракон, большой такой, его не пройдёшь. Меня там, на седьмом и убили… А ты на каком?
– На третьем ещё. Сейчас, пап, доиграю…
– Давай это... за книги садись.
– Ага.
Проходя мимо зеркала, Юрий Павлович заметил какую-то железобетонную усталость в своих глазах и недовольно отвернулся. Вечером он все-таки решился позвонить по указанному телефону Павлу Григорьевичу, но унылый механический голос сообщил несколько раз, что «абонент находится вне зоны действия сети».
* * *
Через год роман Павла Григорьевича Серова «Моя жизнь» вышел в издательстве небольшим тиражом.

Татьяна ИСАЕВА
Родом с Дальневосточных таёжных краёв, 1975 г., Комсомольск-на-Амуре.
По образованию и профессии финансист. Последнее время живу и работаю на Брянщине, в хрустальном городе Дятьково. Пишу стихи и рисую с детства. Рассказы и повести начала писать уже в более зрелом возрасте. Аббревиатура ИТШ под произведением или в углу картины указывает на моё авторство. В 2005 вышел первый небольшой сборник стихов «Небо». Печаталась в местных газетах, участвовала в местных литературных объединениях. С недавнего времени размещаю стихи на портале Стихи.ру. Почему решила начать печататься сейчас? Наверное, чтобы мои не придуманные истории остались запечатлёнными не просто в моих тетрадях, а имели доступ к обширной публике.
Родом с Дальневосточных таёжных краёв, 1975 г., Комсомольск-на-Амуре.
По образованию и профессии финансист. Последнее время живу и работаю на Брянщине, в хрустальном городе Дятьково. Пишу стихи и рисую с детства. Рассказы и повести начала писать уже в более зрелом возрасте. Аббревиатура ИТШ под произведением или в углу картины указывает на моё авторство. В 2005 вышел первый небольшой сборник стихов «Небо». Печаталась в местных газетах, участвовала в местных литературных объединениях. С недавнего времени размещаю стихи на портале Стихи.ру. Почему решила начать печататься сейчас? Наверное, чтобы мои не придуманные истории остались запечатлёнными не просто в моих тетрадях, а имели доступ к обширной публике.
ПОВЕСТЬ О ПАШКЕ
– О, гляди-ка, побежал…. – с заметным чувством легкого пренебрежения буркнула М., затянув покрепче своими морщинистыми, натруженными руками узелок видавшего виды платочка под загорелым подбородком.
– Да кто? Пашка что ли? – сощурив глаз, пытаясь разглядеть топающую быстрым шагом фигуру, спросила другая женщина. В окне магазина промелькнула фигура подтянутого, хорошо сложенного мужчины средних лет с начинающимися проявляться признаками сытой, спокойной семейной жизни в телосложении.
– Свою, наверное, опять побежал встречать с работы. Идти два шага, а он все бегает, как будто она заблудится… – грустно ухмыльнулась М., очевидно, вспомнив свою молодость, работу, детей, хозяйство, как было трудно, голодно, а про встречания да провожания и речи быть не могло, да и когда? Ведь она все свое время, всю себя отдавала мужу, детям, коровам и колхозу…
Был день, как всегда, солнечный и яркий в этих краях. В магазине, единственном на хуторе, где давали продукты под запись, до зарплаты, толпился народ. Шла праздничная пасхальная неделя.
Пашка торопливым шагом направлялся к небольшому двухэтажному зданию, где располагалась местная администрация, встретить жену с работы. Ох же ты, уже ровно четыре, сейчас будет лопотать, что ждать пришлось меня… Ну ничего, думал Пашка, я ей мороженое куплю ее любимое, долго не сможет бурчать. Обычно, когда Светлана выплывала из своей конторы с деловым видом, полным уверенности в своей неотразимости, Пашка уже висел на невысоком декоративном заборе конторы и приветливо здоровался с выходящими.
– Ты чего копаешься всегда, – нахмурившись, спросила Светка, выплывая из дверей здания.
– Опять что ли мылся-брился-наряжался, чтобы пройтись пять минут со мной по центру, – ядовито бросила она. На что Пашка хотел было сказать, что он только что вылез из парника, куда высадил несметное количество рассады, весь потный и в земле по уши; и хотел было прыгнуть в душ, но там, как всегда, было занято Колькой, седьмым ребенком в их семье, у которого снова разыгрался понос, очевидно, от очередного опробованного им на вкус червячка, и что она, Светка, первая заверещала бы, что от него пахнет потом и лоб грязный, да и как он посмел в таком виде прийти за ней, когда кругом люди, и ей за него неловко… Но Пашка был мудрым, пережившим не по годам тяжелые жизненные испытания человеком, и потому просто приобнял свою Светку и тихонечко прошептал ей в ушко: пойдем в магазин, купим тебе твою любимую морожку, сегодня Якубович по телеку, посидим, отдохнем, ноги свесим с дивана.
Вечер пятницы завершал трудные будни, впереди – долгожданные выходные, можно выспаться и никуда не бежать, не торопиться с завтраком, чтобы всех накормить и выпроводить из дома… Пашка любил вечер пятницы. Обычно его будний день начинался с вытаскивания из кровати Светки, и когда та шлепала в ванну – сонная, прищурив глаз, лохматая, в своей смешной пижаме с медведями, по пути жалуясь на свою невыспанную жизнь – он уже бежал вытягивать за ноги из кроватей старших детей, чтобы те помогли ему с завтраком, хозяйством и младшими. У Пашки было девять детей, десятым был сын Светки, общего ребенка не было, но особо горевать им по этому поводу было просто некогда.
В воспоминаниях о своей прошлой жизни Пашка старался долго не задерживаться, иначе опять что-то начинало щемить и крутить в груди от них, да и время проходит, постепенно воспоминания притупляются, быт заглатывает сегодняшним днем все больше и больше, с головы до пят. Он жалел лишь о том, сколько же он недодал, недодарил, недосказал своей первой жене, умершей родами девятого ребенка. Они жили очень бедно, и единственное, что он мог позволить себе, это пахучий полевой букет, сорванный по дороге с работы…
Сегодня время другое, другие обстоятельства и другая женщина рядом. Другая. Капризная Светка росла обласканная родителями в зажиточной семье, не то что Пашка – в военно-полевых условиях, мог выспаться только на рыбалке или у бабушки в деревне, где не было орущего пьяного отца и плачущей уставшей матери.
Частенько Пашка думал, что это какая-то насмешка судьбы, эта сегодняшняя его жизнь. Или подарок. Но в его голове не могло уложится, как такая недосягаемая Светка, избалованная мужским вниманием и светским обществом, и он, простой Пашка, худющий, жилистый алтарник с жиденькой бородкой, вечно спешащий куда-то в бушлате верхом на велосипеде, оказались мужем и женой.
Кто бы мог подумать! Воистину пути Господни неисповедимы, думали другой раз Пашка со Светкой, смотря друг на друга.
Светку и ее семью он знал давно, еще в прошлой жизни, как он теперь называл то время. Изредка семейство Брянцевых приглашало их с женой и тогда еще четырьмя детьми в гости на какой-нибудь очередной юбилей. Пашка с женой и детьми приходили поесть салатиков и вкусной колбаски и после, насмотревшись на разряженных, сытых, довольных жизнью хозяев, как-то неловко извинившись, уходили в свой уютный деревянный домик с нетопленой печкой – другая жизнь, другие люди, другие интересы…
– О, гляди-ка, идут; сейчас опять наберут тонну мороженого, печенья и лука, – посмеиваясь, буркнула М. На что стоящая рядом подруга ее оборвала:
– Тебе-то что? Пусть хоть вагон, ему можно. Настрадался человек в жизни, а сейчас, смотри, как будто жить заново начал, прям даже как и выше ростом стал… Чего прицепилась?
– Ой, настрадался! – передернулась М. – Знаем мы его страдания, как детей наклепал, так, наверное, не страдаючи, весело было, а как жену в могилу свел, так и живет теперь припеваючи с новой женой. Вон она, гляди, его хоть в люди вывела, а то бегал тут худющий весь, черный, с бородой по пояс…
– Здра-авствуйте, – окинув взглядом с ног до головы, протяжно затянула М., завидев появившегося в дверях магазина Пашку с дамской сумочкой жены в руках, следом зашла и Светка. Светка всегда смущалась неприкрытого интереса, с которым ее рассматривали местные, и как можно аккуратнее подбирала слова, зная, что каждое слово слышит весь магазин.
– Что возьмем? – заглядывая в глаза Пашке, полушепотом спросила Светка. – Мороженку, печенья и тебе лука? Или нам что-то нужно еще?
Надо сказать, Пашка был луковым маньяком: он очень любил лук и добавлял его во все, что бы он ни готовил. А Пашка готовил, и вкусно готовил. То, что он сидел дома на пенсии, вовсе не означало, что он лежит на диване с газеткой в руках. Пашка-то знал не понаслышке, что такое женская домашняя работа во всей ее красе, и потому всячески ограждал от нее свою Светку.
Шесть лет назад Пашка неожиданно остался один с девятью детьми на руках, из которых более-менее самостоятельной была только старшая дочь, да и та училась в городе, изредка приезжая на выходные. На руках у Пашки остались новорожденная Лидочка, Гошка полутора лет, двое дошкольников и четверо школьников-погодок. Как он не сошел с ума, один Господь знает. Он и помогал ему все время. Иначе трудно объяснить, как он с детьми пережил такую трагедию.
Этот день он помнит поминутно: как они с женой поговорили по телефону, как она сказала, что отказалась от кесарева, потому что нужно было быстрее выйти из больницы, чтобы снять с ее книжки шесть тысяч, которые такие нужные, но так не вовремя пришли. Как ее повезли в родзал, последний звонок от нее… Как через пару часов к нему в калитку зашли глава района и глава местной администрации и еще кто-то… Как сообщили. Как наступила тишина, и весь мир, все его существование потеряло смысл. Сказать, что случилась трагедия для Пашкиной семьи, это не сказать ничего. Нет такого слова в человеческом языке, которое могло описать Пашкино состояние в тот момент.
На похоронах много было народа, весь хутор выходил провожать процессию. Приезжала Светка, которая долго не могла поверить в случившееся, ведь она буквально неделю назад уехала от них, погостевав с сыном в отпуске. Надо сказать, Светка была единственной, кто нашелся после переезда Пашки с женой в южные степи из родной средней полосы. Нашлась и, более того, стала с его женой лучшими подругами, приезжая уже каждый свой отпуск к ним на отдых. Как говорила тогда сама Светка, отогреваться душой, так ей нравилась Пашкина семья, воспитанные скромные детки и добрая умница-жена. Сам Пашка никогда не был ей интересен как мужчина: худющий, с жиденькой бородкой – скорее, это даже отталкивающе как-то действовало на нее, но отношения в семье, та любовь, которая сквозила во всех жестах, заставляли вздыхать и сожалеть о своей жизни, в которой этого не было, а так хотелось не пафоса на людях, а простых человеческих отношений дома.
Надо сказать, что до переезда Пашки они не очень-то и дружили, просто были общиной одного храма, одного батюшки. А для тоскующих по родине Пашкиных домочадцев да и самого Пашки Светка стала глотком родного воздуха.
После смерти жены Пашка стал роботом. На автомате пеленал, кормил, мыл, менял подгузники, бегал с бутылочками для Гошки и Лиды, засыпал, качая пустую коляску. С первоклассником Колькой заниматься было катастрофически некогда, на Пашку свалилось все и сразу. Все, что раньше так незаметно, безропотно, с уютной доброй улыбкой на лице и, может, где-то небольшой грустинкой в глазах тащила на себе его жена, миловидная, уютная и добрая женщина, молча и терпеливо. Она была из тех, возле которых хотелось погреться именно душой.
На автомате Пашка драил полы и гладил пеленки в ожидании очередного визита важного вида тетенек из опеки, которые бесцеремонно лазили по дому, рассматривая условия проживания и питания детей в семье… Появились благотворители, сочувствующие ему люди, присылали посылки с одеждой и предметами быта, кто-то перечислял деньги, откликнулись на беду благотворительные фонды. А Пашка не знал, что делать со всем этим, он никогда не принимал решения один, всегда вдвоем, а тут такие суммы перечислили. Ну и пошел Пашка, набрал коробками пирожные, печенья, шоколадные конфеты – всё то, что раньше его дети по праздникам и то редко видели, от чего на сердце еще больше защемило.
Так вот Пашка и переживал те дни и годы одиночества. Конечно, появилась на какое-то время женщина с ним – да просто рядом с такими свалившимися на Пашку суммами не могла не появится она. Жанна была небольшого роста, круглолицая толстушка на любителя, с выбеленными, коротко стриженными жесткими волосами и яркими веснушками на лице, но при всем при этом считающая себя неотразимой покорительницей мужских сердец. Пашка ухватился за нее как за соломинку, его не напрягало ее трепетное отношение к его кошельку, он до последнего надеялся, что Жанка поможет с детьми, возьмет часть забот на свои плечи, и они заживут мирно и спокойно, и он наконец-то просто выспится… Но чуда не произошло. Финансовая помощь была не вечной, да и к тому же Жанне наскучил этот быт, она целыми днями просиживала в Интернете или на лавочке у дома с сигаретой в зубах – на что ей этот Пашка? Собралась и уехала. Москву покорять. Пашка не ожидал такой подлости. Тут до него дошло, что им просто поправили свое материальное положение и ничего больше.
Надо сказать, что жена у Пашки была единственной женщиной, и с женским коварством он не был знаком, оттого и пребывал в недоумении. Хорошо, Светка легла в больницу, и с ней наконец-то можно было поговорить за жизнь, не в присутствии ее мужа. Этих разговоров ему все больше и больше не хватало. А Светка смеялась, шутила, вытаскивала его из пропасти уныния, как могла, Пашка заменил ей ее умершую подругу.
Однажды, когда у Пашки наступил край, и он готов был совершить глупость, Светке пришлось сказать, что зря он затеял неугодное дело, может, им еще вместе пожить придется.
– А что, вот возьму и приеду к тебе жить! – смеялась Светка. – А ты тут – жить не хочу! Да она, может, только начинается!
Пашка взял и опомнился. И занадеялся.
– Что будем брать, молодые люди? – подошла Пашкина очередь. Светка уже стояла с мороженым в руках рядом.
– Десять вот этих, кило «Ювелирного» и пакет лука, – сказала Светка и добавила. – А сыр есть?
– Есть.
– Полкило, пожалуйста.
М., складывающую покупки в сумку, передернуло. «Сыр они покупают, я себе сыр не могу позволить, а они покупают…» – бормотала она себе под нос.
А когда-то на хлеб не было даже… И никому не интересно, что у Пашкиной семьи закончился долгий и строгий сорокадневный пост, что они весь пост ходили в магазин только за хлебом и овощами, что у них сейчас любимый и чтимый праздник, и сыр – это, в принципе, такая малость. Да в хуторе вообще мало кто знал об истинной жизни Пашки и его семьи, люди ведь говорят, что видят. А видят они холеного Пашку с красавицей-женой, хорошо и не бедно одетых, обласканных детишек, машину-иномарку, которую они купили (хоть и подержанную) и после этого перестали ходить по дворам кланяться в поисках машины в случае необходимости доехать до райцентра. И прочее, и прочее…
Хутор Н. вовсю радовался весне: не успели расцвести вишни, как на смену им зацвели яблони и множество всевозможных для этой жаркой степной местности кустарников. В воздухе пахло полынью и цветущими садами, неугомонно щебетали мелкие птахи, высокое ясное небо как будто заглядывало в глаза своей синью и обещало, что все будет хорошо, ведь такой праздник – Пасха Христова, казалось, что вся природа своим весенним нарядом славит воскресшего Господа.
Пашка нес в обеих руках пакеты, полные провизии, и Светкину дамскую сумочку под мышкой. Светка шла рядом, держа его за рукав одной рукой, а другой рисовала какие-то неизвестные фигуры в воздухе, описывая, очевидно, очередное событие, рассказанное кем-то на работе. Со стороны казалось, что вот он – типичный подкаблучник, и только Пашке было наплевать на все это, он оберегал свою Светку от всего тяжелого и не очень просто потому что любил ее. Ему не в тягость было пробежаться по туфелькам губкой с блеском перед тем, как Светка побежит на работу, проводить до калитки и незаметно перекрестить на дорогу (последнее ей казалось особенно трогательным) и ждать, ждать свою Светку со вкусным, ароматным, горячим борщом ровно в двенадцать, на обед. А Светка всегда спешила, она никогда в жизни так не хотела домой, к мужу, как к Пашке, к его борщу, его приветливой улыбке с порога, вопросам, как прошел ее день, как она себя чувствует, как она, она…
Но время шло, дети взрослели: вот младшие поочередно пошли в школу; особенно Света гордилась своей новой младшей дочерью – с каким желанием Лидочка бежала в «нулевку» и как трогательно старалась вывести первые буквы в прописях. Светка бережно собирала все детские каракули и нелепые рисунки-открытки, написанные с кучей ошибок, но от всего чистого детского сердечка о любви к мамочке – маме Свете.
Так незаметно бежали дни – жаркие ли, дождливые или зимние, слякотные; ручейками уносились тяжелые воспоминания из головы Пашки, спокойная, размеренная семейная жизнь обретала новые формы в Пашкином телосложении. Да и возраст все-таки – уже далеко за сорок.
– Мама-а-а! – неслась навстречу родителям Лидочка. – А у меня сегодня три молодца в дневнике! – хвалилась она на бегу.
– Умница моя, – отвечала Светка, открывая перед мужем калитку во двор.
Пашка с сумками протиснулся в проход, поднял вверх голову и как будто бы улыбнулся кому-то там, наверху, одному ему знакомому; и побежал дальше…
– О, гляди-ка, побежал…. – с заметным чувством легкого пренебрежения буркнула М., затянув покрепче своими морщинистыми, натруженными руками узелок видавшего виды платочка под загорелым подбородком.
– Да кто? Пашка что ли? – сощурив глаз, пытаясь разглядеть топающую быстрым шагом фигуру, спросила другая женщина. В окне магазина промелькнула фигура подтянутого, хорошо сложенного мужчины средних лет с начинающимися проявляться признаками сытой, спокойной семейной жизни в телосложении.
– Свою, наверное, опять побежал встречать с работы. Идти два шага, а он все бегает, как будто она заблудится… – грустно ухмыльнулась М., очевидно, вспомнив свою молодость, работу, детей, хозяйство, как было трудно, голодно, а про встречания да провожания и речи быть не могло, да и когда? Ведь она все свое время, всю себя отдавала мужу, детям, коровам и колхозу…
Был день, как всегда, солнечный и яркий в этих краях. В магазине, единственном на хуторе, где давали продукты под запись, до зарплаты, толпился народ. Шла праздничная пасхальная неделя.
Пашка торопливым шагом направлялся к небольшому двухэтажному зданию, где располагалась местная администрация, встретить жену с работы. Ох же ты, уже ровно четыре, сейчас будет лопотать, что ждать пришлось меня… Ну ничего, думал Пашка, я ей мороженое куплю ее любимое, долго не сможет бурчать. Обычно, когда Светлана выплывала из своей конторы с деловым видом, полным уверенности в своей неотразимости, Пашка уже висел на невысоком декоративном заборе конторы и приветливо здоровался с выходящими.
– Ты чего копаешься всегда, – нахмурившись, спросила Светка, выплывая из дверей здания.
– Опять что ли мылся-брился-наряжался, чтобы пройтись пять минут со мной по центру, – ядовито бросила она. На что Пашка хотел было сказать, что он только что вылез из парника, куда высадил несметное количество рассады, весь потный и в земле по уши; и хотел было прыгнуть в душ, но там, как всегда, было занято Колькой, седьмым ребенком в их семье, у которого снова разыгрался понос, очевидно, от очередного опробованного им на вкус червячка, и что она, Светка, первая заверещала бы, что от него пахнет потом и лоб грязный, да и как он посмел в таком виде прийти за ней, когда кругом люди, и ей за него неловко… Но Пашка был мудрым, пережившим не по годам тяжелые жизненные испытания человеком, и потому просто приобнял свою Светку и тихонечко прошептал ей в ушко: пойдем в магазин, купим тебе твою любимую морожку, сегодня Якубович по телеку, посидим, отдохнем, ноги свесим с дивана.
Вечер пятницы завершал трудные будни, впереди – долгожданные выходные, можно выспаться и никуда не бежать, не торопиться с завтраком, чтобы всех накормить и выпроводить из дома… Пашка любил вечер пятницы. Обычно его будний день начинался с вытаскивания из кровати Светки, и когда та шлепала в ванну – сонная, прищурив глаз, лохматая, в своей смешной пижаме с медведями, по пути жалуясь на свою невыспанную жизнь – он уже бежал вытягивать за ноги из кроватей старших детей, чтобы те помогли ему с завтраком, хозяйством и младшими. У Пашки было девять детей, десятым был сын Светки, общего ребенка не было, но особо горевать им по этому поводу было просто некогда.
В воспоминаниях о своей прошлой жизни Пашка старался долго не задерживаться, иначе опять что-то начинало щемить и крутить в груди от них, да и время проходит, постепенно воспоминания притупляются, быт заглатывает сегодняшним днем все больше и больше, с головы до пят. Он жалел лишь о том, сколько же он недодал, недодарил, недосказал своей первой жене, умершей родами девятого ребенка. Они жили очень бедно, и единственное, что он мог позволить себе, это пахучий полевой букет, сорванный по дороге с работы…
Сегодня время другое, другие обстоятельства и другая женщина рядом. Другая. Капризная Светка росла обласканная родителями в зажиточной семье, не то что Пашка – в военно-полевых условиях, мог выспаться только на рыбалке или у бабушки в деревне, где не было орущего пьяного отца и плачущей уставшей матери.
Частенько Пашка думал, что это какая-то насмешка судьбы, эта сегодняшняя его жизнь. Или подарок. Но в его голове не могло уложится, как такая недосягаемая Светка, избалованная мужским вниманием и светским обществом, и он, простой Пашка, худющий, жилистый алтарник с жиденькой бородкой, вечно спешащий куда-то в бушлате верхом на велосипеде, оказались мужем и женой.
Кто бы мог подумать! Воистину пути Господни неисповедимы, думали другой раз Пашка со Светкой, смотря друг на друга.
Светку и ее семью он знал давно, еще в прошлой жизни, как он теперь называл то время. Изредка семейство Брянцевых приглашало их с женой и тогда еще четырьмя детьми в гости на какой-нибудь очередной юбилей. Пашка с женой и детьми приходили поесть салатиков и вкусной колбаски и после, насмотревшись на разряженных, сытых, довольных жизнью хозяев, как-то неловко извинившись, уходили в свой уютный деревянный домик с нетопленой печкой – другая жизнь, другие люди, другие интересы…
– О, гляди-ка, идут; сейчас опять наберут тонну мороженого, печенья и лука, – посмеиваясь, буркнула М. На что стоящая рядом подруга ее оборвала:
– Тебе-то что? Пусть хоть вагон, ему можно. Настрадался человек в жизни, а сейчас, смотри, как будто жить заново начал, прям даже как и выше ростом стал… Чего прицепилась?
– Ой, настрадался! – передернулась М. – Знаем мы его страдания, как детей наклепал, так, наверное, не страдаючи, весело было, а как жену в могилу свел, так и живет теперь припеваючи с новой женой. Вон она, гляди, его хоть в люди вывела, а то бегал тут худющий весь, черный, с бородой по пояс…
– Здра-авствуйте, – окинув взглядом с ног до головы, протяжно затянула М., завидев появившегося в дверях магазина Пашку с дамской сумочкой жены в руках, следом зашла и Светка. Светка всегда смущалась неприкрытого интереса, с которым ее рассматривали местные, и как можно аккуратнее подбирала слова, зная, что каждое слово слышит весь магазин.
– Что возьмем? – заглядывая в глаза Пашке, полушепотом спросила Светка. – Мороженку, печенья и тебе лука? Или нам что-то нужно еще?
Надо сказать, Пашка был луковым маньяком: он очень любил лук и добавлял его во все, что бы он ни готовил. А Пашка готовил, и вкусно готовил. То, что он сидел дома на пенсии, вовсе не означало, что он лежит на диване с газеткой в руках. Пашка-то знал не понаслышке, что такое женская домашняя работа во всей ее красе, и потому всячески ограждал от нее свою Светку.
Шесть лет назад Пашка неожиданно остался один с девятью детьми на руках, из которых более-менее самостоятельной была только старшая дочь, да и та училась в городе, изредка приезжая на выходные. На руках у Пашки остались новорожденная Лидочка, Гошка полутора лет, двое дошкольников и четверо школьников-погодок. Как он не сошел с ума, один Господь знает. Он и помогал ему все время. Иначе трудно объяснить, как он с детьми пережил такую трагедию.
Этот день он помнит поминутно: как они с женой поговорили по телефону, как она сказала, что отказалась от кесарева, потому что нужно было быстрее выйти из больницы, чтобы снять с ее книжки шесть тысяч, которые такие нужные, но так не вовремя пришли. Как ее повезли в родзал, последний звонок от нее… Как через пару часов к нему в калитку зашли глава района и глава местной администрации и еще кто-то… Как сообщили. Как наступила тишина, и весь мир, все его существование потеряло смысл. Сказать, что случилась трагедия для Пашкиной семьи, это не сказать ничего. Нет такого слова в человеческом языке, которое могло описать Пашкино состояние в тот момент.
На похоронах много было народа, весь хутор выходил провожать процессию. Приезжала Светка, которая долго не могла поверить в случившееся, ведь она буквально неделю назад уехала от них, погостевав с сыном в отпуске. Надо сказать, Светка была единственной, кто нашелся после переезда Пашки с женой в южные степи из родной средней полосы. Нашлась и, более того, стала с его женой лучшими подругами, приезжая уже каждый свой отпуск к ним на отдых. Как говорила тогда сама Светка, отогреваться душой, так ей нравилась Пашкина семья, воспитанные скромные детки и добрая умница-жена. Сам Пашка никогда не был ей интересен как мужчина: худющий, с жиденькой бородкой – скорее, это даже отталкивающе как-то действовало на нее, но отношения в семье, та любовь, которая сквозила во всех жестах, заставляли вздыхать и сожалеть о своей жизни, в которой этого не было, а так хотелось не пафоса на людях, а простых человеческих отношений дома.
Надо сказать, что до переезда Пашки они не очень-то и дружили, просто были общиной одного храма, одного батюшки. А для тоскующих по родине Пашкиных домочадцев да и самого Пашки Светка стала глотком родного воздуха.
После смерти жены Пашка стал роботом. На автомате пеленал, кормил, мыл, менял подгузники, бегал с бутылочками для Гошки и Лиды, засыпал, качая пустую коляску. С первоклассником Колькой заниматься было катастрофически некогда, на Пашку свалилось все и сразу. Все, что раньше так незаметно, безропотно, с уютной доброй улыбкой на лице и, может, где-то небольшой грустинкой в глазах тащила на себе его жена, миловидная, уютная и добрая женщина, молча и терпеливо. Она была из тех, возле которых хотелось погреться именно душой.
На автомате Пашка драил полы и гладил пеленки в ожидании очередного визита важного вида тетенек из опеки, которые бесцеремонно лазили по дому, рассматривая условия проживания и питания детей в семье… Появились благотворители, сочувствующие ему люди, присылали посылки с одеждой и предметами быта, кто-то перечислял деньги, откликнулись на беду благотворительные фонды. А Пашка не знал, что делать со всем этим, он никогда не принимал решения один, всегда вдвоем, а тут такие суммы перечислили. Ну и пошел Пашка, набрал коробками пирожные, печенья, шоколадные конфеты – всё то, что раньше его дети по праздникам и то редко видели, от чего на сердце еще больше защемило.
Так вот Пашка и переживал те дни и годы одиночества. Конечно, появилась на какое-то время женщина с ним – да просто рядом с такими свалившимися на Пашку суммами не могла не появится она. Жанна была небольшого роста, круглолицая толстушка на любителя, с выбеленными, коротко стриженными жесткими волосами и яркими веснушками на лице, но при всем при этом считающая себя неотразимой покорительницей мужских сердец. Пашка ухватился за нее как за соломинку, его не напрягало ее трепетное отношение к его кошельку, он до последнего надеялся, что Жанка поможет с детьми, возьмет часть забот на свои плечи, и они заживут мирно и спокойно, и он наконец-то просто выспится… Но чуда не произошло. Финансовая помощь была не вечной, да и к тому же Жанне наскучил этот быт, она целыми днями просиживала в Интернете или на лавочке у дома с сигаретой в зубах – на что ей этот Пашка? Собралась и уехала. Москву покорять. Пашка не ожидал такой подлости. Тут до него дошло, что им просто поправили свое материальное положение и ничего больше.
Надо сказать, что жена у Пашки была единственной женщиной, и с женским коварством он не был знаком, оттого и пребывал в недоумении. Хорошо, Светка легла в больницу, и с ней наконец-то можно было поговорить за жизнь, не в присутствии ее мужа. Этих разговоров ему все больше и больше не хватало. А Светка смеялась, шутила, вытаскивала его из пропасти уныния, как могла, Пашка заменил ей ее умершую подругу.
Однажды, когда у Пашки наступил край, и он готов был совершить глупость, Светке пришлось сказать, что зря он затеял неугодное дело, может, им еще вместе пожить придется.
– А что, вот возьму и приеду к тебе жить! – смеялась Светка. – А ты тут – жить не хочу! Да она, может, только начинается!
Пашка взял и опомнился. И занадеялся.
– Что будем брать, молодые люди? – подошла Пашкина очередь. Светка уже стояла с мороженым в руках рядом.
– Десять вот этих, кило «Ювелирного» и пакет лука, – сказала Светка и добавила. – А сыр есть?
– Есть.
– Полкило, пожалуйста.
М., складывающую покупки в сумку, передернуло. «Сыр они покупают, я себе сыр не могу позволить, а они покупают…» – бормотала она себе под нос.
А когда-то на хлеб не было даже… И никому не интересно, что у Пашкиной семьи закончился долгий и строгий сорокадневный пост, что они весь пост ходили в магазин только за хлебом и овощами, что у них сейчас любимый и чтимый праздник, и сыр – это, в принципе, такая малость. Да в хуторе вообще мало кто знал об истинной жизни Пашки и его семьи, люди ведь говорят, что видят. А видят они холеного Пашку с красавицей-женой, хорошо и не бедно одетых, обласканных детишек, машину-иномарку, которую они купили (хоть и подержанную) и после этого перестали ходить по дворам кланяться в поисках машины в случае необходимости доехать до райцентра. И прочее, и прочее…
Хутор Н. вовсю радовался весне: не успели расцвести вишни, как на смену им зацвели яблони и множество всевозможных для этой жаркой степной местности кустарников. В воздухе пахло полынью и цветущими садами, неугомонно щебетали мелкие птахи, высокое ясное небо как будто заглядывало в глаза своей синью и обещало, что все будет хорошо, ведь такой праздник – Пасха Христова, казалось, что вся природа своим весенним нарядом славит воскресшего Господа.
Пашка нес в обеих руках пакеты, полные провизии, и Светкину дамскую сумочку под мышкой. Светка шла рядом, держа его за рукав одной рукой, а другой рисовала какие-то неизвестные фигуры в воздухе, описывая, очевидно, очередное событие, рассказанное кем-то на работе. Со стороны казалось, что вот он – типичный подкаблучник, и только Пашке было наплевать на все это, он оберегал свою Светку от всего тяжелого и не очень просто потому что любил ее. Ему не в тягость было пробежаться по туфелькам губкой с блеском перед тем, как Светка побежит на работу, проводить до калитки и незаметно перекрестить на дорогу (последнее ей казалось особенно трогательным) и ждать, ждать свою Светку со вкусным, ароматным, горячим борщом ровно в двенадцать, на обед. А Светка всегда спешила, она никогда в жизни так не хотела домой, к мужу, как к Пашке, к его борщу, его приветливой улыбке с порога, вопросам, как прошел ее день, как она себя чувствует, как она, она…
Но время шло, дети взрослели: вот младшие поочередно пошли в школу; особенно Света гордилась своей новой младшей дочерью – с каким желанием Лидочка бежала в «нулевку» и как трогательно старалась вывести первые буквы в прописях. Светка бережно собирала все детские каракули и нелепые рисунки-открытки, написанные с кучей ошибок, но от всего чистого детского сердечка о любви к мамочке – маме Свете.
Так незаметно бежали дни – жаркие ли, дождливые или зимние, слякотные; ручейками уносились тяжелые воспоминания из головы Пашки, спокойная, размеренная семейная жизнь обретала новые формы в Пашкином телосложении. Да и возраст все-таки – уже далеко за сорок.
– Мама-а-а! – неслась навстречу родителям Лидочка. – А у меня сегодня три молодца в дневнике! – хвалилась она на бегу.
– Умница моя, – отвечала Светка, открывая перед мужем калитку во двор.
Пашка с сумками протиснулся в проход, поднял вверх голову и как будто бы улыбнулся кому-то там, наверху, одному ему знакомому; и побежал дальше…

Евгения БЕЛОВА
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г.Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2022». Член Московского союза литераторов.
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г.Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2022». Член Московского союза литераторов.
ХОЗЯИН
Огромным сочным апельсином солнце закатывалось за лес, и когда вершина самой большой ёлки зацепилась за его бок, из солнца вдруг брызнул яркий сок и начал расцвечивать снизу лёгкие облачка, переходящие от одного к другому. Сок этот сгущался на свободе и из золотистого становился красным и оранжевым, как будто там, вдали, разгорался пожар. Но Ванятку обмануть было невозможно. Уж он-то хорошо знал, что сначала вдали должен был показаться чёрный дым, а уж потом огонь, как это было года два назад, когда горела соседняя деревня.
Ванятка стоял, поражённый невиданным закатом, когда вдруг на горизонте показалась странная туча, которая, словно живая, быстро менялась в размере и по краям. Туча приближалась и стала теперь похожа на ветхую полупрозрачную тряпку, которой Сенька, его сосед, гонял голубей. Через минуту загадочная чёрно-серая тряпка вытянулась в широкую извилистую полосу и двинулась прямо на Ванятку. Теперь уже ясно было видно, что это вовсе не тряпка, а сплошные чёрные птицы, которые, сбившись в одну огромную стаю, пролетали молча над его головой.
– Фь-у-у, – свистнул Ванятка, – это сколько же пшена надо, чтобы их прокормить! Телеги две, наверное, не хватит.
Но тут он вспомнил, что мать давно уже велела ему накормить кур, тех самых двух старых и хромых кур, которые и яйца уж совсем почти не несли, но которых мать всё не решалась зарезать.
– Ма! – влетел Ванятка в избу. – Давай пшена. Пойду кур кормить.
– Эка! Пшена ему давай. Да было бы пшено, я б тебе первому из него кашу сварила, а не курям скармливала. Ты, вон, крапивки им поруби да покорми.
– Крапива жа-алится…
– Рукавицы надень. Уж не маленький. Соображать нужно.
Через короткое время мать услышала на дворе странные звуки. Выглянула и ахнула. Её Ванятка, разложив пуки крапивы на завалинке, отчаянно рубил их топором. От доски летели щепки вместе с остатками крапивы, а по двору, отчаянно кудахтая, метались иступлённые куры.
– Ванька, что ж ты делаешь, подлец ты эдакий? Всю скамейку изрубил. Да кто ж крапиву топором-то рубит? Ножом надо, ножом! Отца на тебя нет!
Немного смущённый, Ванятка пробормотал:
– Так бы и сказала: нарежь.
– Мал ты ещё мать учить-то…
Ванятка, вихрастый синеглазый мальчик семи лет, был единственным человеком в полуразрушенной деревне, кто не знал, есть ли у него отец или нет. За полтора года после войны потихоньку, по одному, в деревню возвращались мужики, кто целый, кто увечный. В несколько домов пришли бабам похоронки. И только Наталья, Ваняткина мать, не имела о своём Григории ровно никаких известий. Хозяйство давалось ей трудно, и под этим предлогом стал к Наталье наведываться Евдоким, вдовец. Наталья вела себя настороженно, на лесть не поддавалась, частично потому что ещё верила в мужнино возвращение, частично потому что видела, как часто Евдоким прикладывается к спиртному.
И однажды, когда он пьяный ввалился в избу и потребовал снять с него сапоги, Ванятка бросился к матери наперерез и закричал:
– Ты что, его слуга, что ли? Не снимай, мамка, пусть в сапогах дрыхнет!
Мать удивилась, но в глубине души и порадовалась, что сын не даёт её в обиду, хоть и маленький. А Ванятка после этого никого из мужиков не стал во двор пускать.
– Прямо, как пёс цепной, – жаловалась Наталья тётке Глаше. – Подождёт, когда кто забор починит или трубу прочистит, и начинает свою песню: «Ты бы, дяденька, уже шёл к себе домой. Мы с маманькой спать собираемся ложиться». И глаз не спускает, пока тот не уйдёт.
– Ты уж слишком воли много ему даёшь. Что он понимает-то? Не мужик ещё, вот и не понимает. Тоже мне – хозяин.
Всерьёз или в шутку, но за Ваняткой это прозвище – «хозяин» – осталось. Не обидное совсем, а наоборот, уважительное, и Ване очень нравилось. Грудь у него пошла колесом, какой-то басок появился, да и в самом деле, хоть его никто не учил, рука стала твёрже и более спорой. Он натаскивал в дом хвороста, чинил, где мог, прогнившую стену сарая или менял дощечку в заборе, собирал грибы, ловил рыбу и копал наравне с матерью картошку, да так зорко в ямку смотрел, что ни одна картофелина, хоть с горошину, от его глаза не могла упрятаться.
В школу он не ходил, потому что в деревне её просто не было, а читать по буквам учился у голубятника Сеньки, который, хоть и умел читать, в деревне слыл лентяем и «буржуем». Читал Сенька одну и ту же книгу – «Робинзон Крузо», которая неизвестно каким образом оказалась ещё до войны в его доме. Работать Сенька не любил и не работал, а гонял только голубей и мечтал стать настоящим пиратом. Был он с виду прост и безобиден, но за всем этим крылась какая-то хитрость, как у толстого домашнего кота, которому лень было ловить мышей. Белобрысый, совсем без ресниц и с красными глазами, Сенька был прожорлив, держал себя барином среди немногочисленной местной детворы и на голубях неплохо наживался.
Всякий, которому не терпелось минут пять погонять голубей, должен был приносить ему дань – лепёшку или морковку, украденную у матери, яблоко, гвоздь, а главное – папиросу. Папироса стоила дорого, за неё голубей можно было гонять дольше. Сенькин отец, такой же белобрысый, как сам Сенька, но только с ещё более красными глазами, вернулся с войны совсем больным и слабым и на Сеньку никакого влияния не оказывал, а у матери, обожающей сына, находился под каблуком.
Читал Сенька плохо и совсем неинтересно, по слогам, но содержание книги знал хорошо и в основном рассказывал, а заодно учил читать Ванятку. Показал как-то раз ему две буквы – «р» и «о» – и велел малышу искать эти буквы во всей книге, посулив назвать другую букву только когда Ванятка дойдёт до последней страницы. Это его устраивало и давало возможность не тратить силы на обучение. Чтение «Робинзона» оказывало на Сеньку и Ванятку совершенно разное действие. Сенька в глубине своей буржуйской души мечтал только о Пятнице, который подчинялся бы ему беспрекословно, а Ванятка втайне мечтал стать таким же сильным, упорным и сметливым, как Робинзон.
– Эх, – говорил он, – оказаться бы мне на необитаемом острове, я бы им всем показал… Только где этот остров возьмёшь-то?
– А вон, – однажды предложил Сенька, – на нашем острове чем плохо? Только ты там и трёх дней не выживешь.
Посреди реки, около которой стояла деревня, действительно был небольшой островок. По погожим дням оба на лодке переезжали на него ловить рыбу и поваляться у воды на песке. Рыба почти не ловилась, а долго валяться Ванятка себе не позволял, потому что боялся, что без него в дом проберётся Евдоким и поселится у них окончательно. Зорко следил Ванятка за матерью, чтобы Евдокима не приваживала. Однако замечание Сеньки, что ему, Ванятке, и трёх дней на столь знакомом острове не выжить, мальчика заметно укололо. Вся его мужская гордость и упрямство восстали против такого подозрения.
– А вот спорим, проживу, – в запале прокричал Ванятка. – Спорим, проживу!
Хитрый Сенька, глядя на Ванятку, захотел сразу за его счёт поживиться и тоже крикнул:
– На что?
– А на что хочешь!
У Сеньки сразу перед глазами мелькнул заветный компас, который ему не раз показывал Ванятка.
– А на компас давай!
Ударили по рукам – отчаянный Ванятка, выросший в безотцовщине, и хитрый Сенька, презиравший своего слабого отца. Договорились, что завтра же Сенька на лодке перевезёт на остров Ванятку, а тот будет жить совсем безо всего и голоса три дня подавать не будет. Но если закричит раньше, то компас уже будет Сенькин. На следующее утро, когда ещё над рекой стоял густой туман, Сенька перевёз Ванятку и оставил его там одного-одинёшенького. Ванятка был не робкого десятка, остров ему был знаком, слава Робинзона Крузо кружила голову, и мальчишка сразу принялся за обустройство жилища. Нарвать лапника труда не составило, и вскоре на берегу возвышалось ложе, на котором предстояло провести три дня. Однако к полудню захотелось есть, а ягод на острове почти не было.
Ванятка занялся рыбной ловлей. Он сразу отмёл мысль об остроге из-за отсутствия материала и стал ловить мальков своей рубашкой. Соорудив из неё подобие мешка с завязанными рукавами, он стоял на прогреваемой части речной воды около берега, раскинув руками свой сачок, и терпеливо ждал, когда хоть какая-нибудь рыбёшка туда заплывёт. Но рыбка не шла. Солнце палило спину нещадно. Ванятка поплавал немного, а потом опять растопырил в воде руки и ноги в тщетной попытке поймать рыбу. Часа через полтора он стал сердиться на упрямую рыбу, спокойно себе плавающую совсем под носом, и стал бросаться со своей рубашкой на стайки мальков. Но рубашка только громко хлопала воздушным пузырём по воде и пугала рыбу.
Совсем забыв о Робинзоне и уступая только страстному желанию положить что-нибудь в рот, Ванятка пристроил по течению свою рубашку, закрепив её на воткнутых глубоко в песок палках, и отправился вглубь острова в поисках чего-нибудь съестного. Вскоре наткнулся на знакомое кострище, где когда-то пекли картошку, но муравьи не оставили там и шкурки от картофелин. В глубине острова роились кусачие комары, и Ванятка, отмахиваясь от них изо всех сил веткой, готов был расплакаться. Что-то в душе его подсказывало, что прожить здесь три дня, не подавая голоса, не так-то просто. Две сыроежки его слегка взбодрили, потом вылез подберёзовик, который тоже отправился в рот, несколько мелких ягод дикой малины и чуть-чуть костяники.
Ванятка, привыкший к голоду, немного ожил и вернулся к реке, в которой по-прежнему, дразня его, играли в воде с тенью от рубашки маленькие рыбки. Мальчик вспомнил, что когда-то они с другими ребятами на противоположном берегу острова ловили раков, и отправился туда. Обгоревшая под солнцем и покусанная комарами спина отчаянно болела и чесалась, пока Ванятка не добрался наконец до рачьего царства. Опять вода на время залечила спину, но раки тоже куда-то попрятались.
Ванятка в их поисках отчаянно водил руками под корягами, топтался в не топком иле, но раков как ни бывало. И вдруг наконец увидел синюю спинку маленького, как будто уснувшего рака. Ваняткина рука протянулась, схватила быстро эту спинку, но вытащила только никому не нужный панцырь, от которого противно пахло. Уставший, голодный и порядком расстроенный Ванятка побрёл к своему лежбищу. Солнце клонилось к горизонту. Становилось прохладно. Но вскоре эта прохлада сменилась ощущением невероятного холода, желанием залезть куда-нибудь под одеяло, поближе к печке, надеть валенки, натянуть на голову мамкин ватник.
Ваню колотил озноб, его зубы непроизвольно бились друг о друга, голова кружилась, и мальчик потерял ощущение реальности. Он видел, как в его рубаху залез Евдоким, хищно оскалившись, как щука, как Сенька перелетал через океан на компасе, держась руками за стрелку и поворачивая её, как руль, в разные стороны. Было темно, но совсем не страшно, потому что мальчик потерял сознание.
Он не видел, как по берегу мечутся люди с огнями, не слышал, как они кричали на все голоса: «Ваня!», «Ива-ан!», «Мальчик мой!», как теребят Сеньку: «Скажи, куда он делся. Знаешь ведь, небось?» И не видел, как Сенька показывает на остров.
Очнулся Ванятка в совсем незнакомом, каком-то совершенно белом месте. Над ним склонилась мужская голова в очках, с коротенькой бородкой.
– Ну вот и ожил, – сказала голова, – а вы не верили. Не-ет, наш мужичок жилистый, обязательно должен выжить. Так что ли, Иван?
– А вы кто? – слабо прошептал Ванятка.
– Я-то? Доктор я. Ну, спи, спи. Сон, он полезный. Спи, брат, пока есть возможность.
Домой из города Ванятку привезли на телеге уже поздно осенью. Вёз на своей лошадёнке, старой, как и её хозяин, дед Егор. Дорога, наполовину в замёрзших на утренниках буграх, была жёсткой и неуютной. И Наталья, поддерживающая остриженную Ваняткину голову, только и причитала:
– Дедушка, ты бы полегче, что ли. Нельзя ему трястись-то, голубчику. И так уж одни кости. Неровен час, растрясёшь, опять разболеется сердечный.
– Да куда ж легче? Ты посмотри, как кляча-то плетётся. Ведь пешком и то скорее. Она у меня лошадь понятливая, обходит, где надо. У ей у самой ноги, глядишь, ревматические…
Наталья вздыхала и думала, как-то её дорогой Ванятка теперь дома распорядится? Евдоким не давал ей прохода, торопил объединиться. Даже выпивать стал меньше. Но Наталья отвечала, что пока сын в больнице, об этом и речи не идёт. Ходила в церковь вёрст за двадцать пару раз пешком, ставила свечку «за здравие» и всё думала, какая у неё жизнь неустроенная, и Ваняткиного решения ждала терпеливо и покорно, поскольку он один в её жизни мужчиной оставался.
Дома мать к Ванятке никого не пропускала. Пусть, мол, отлежится, отдохнёт от болезни и не тревожится. И как могла, кормила его, отрывая от себя последний кусок.
Однажды в окно к нему постучал Сенька. Он размахивал руками и кричал что-то за стеклом. Ванятка, как ни слаб был, сполз со своей кровати и открыл окно.
– О, здорово! – зашумел Сенька. – А я за компасом!
– За каким компасом?
– А который ты мне проспорил.
– Ничего я тебе не проспорил. Мне мамка сказывала, что ты нарочно всех на остров привёл меня искать, и меня взяли сонного.
– Да ты чего, Ванька? Да если бы не я, умер бы ты там уже давно. Так что давай компас-то.
– Подавись ты им! – сердито ответил Ванятка и полез за заветным компасом в свой сундучок под кроватью.
Сенька, глазом не моргнув, выскочил обратно в окно.
Осень подходила к концу. И тем дороже оказывались минуты, когда вдруг из разрыва между бродячими тучами, обременёнными невыпадающим ещё снегом, проникали на землю солнечные лучи. Все старики и кошки вылезали из домов на улицу погреться напоследок перед зимой. Не грелись лишь бабы, все свои силы бросившие на последние осенние работы.
Ванятка, пообещавший матери починить прогоревшую ручку ухвата, сидел на крыльце и тщательно обтачивал ножом конец толстой палки. Работа оказалась не слишком простой – то обтачивалось недостаточно, то слишком много, и тогда ухват не держался. Палка понемногу укорачивалась и приводила Ванятку в отчаяние. Он и не заметил, как в калитку прошёл высокий худой человек в полинявшей гимнастёрке, с солдатским мешком за плечом.
– Ишь ты! – удивился человек. – Ты кто ж такой будешь?
– Хозяин я, – деловито ответил Ванятка.
– Хозя-яин, – протянул солдат. – А как звать тебя, хозяин?
– Иван я. А ты, дяденька, кого ищешь?
– Гавриловых ищу.
– Ну, я – Гаврилов.
– Не-е. Я Наталью Гаврилову ищу. Она ведь здесь живет? Где она?
– Ну, здесь, – ответил Ванятка. – На кой она вам? Если вы свататься пришли, так нам этого не надо. Всякий свататься норовит! А мы с мамкой и без мужиков хорошо живём. Так что сразу и поворачивайте.
– Уж больно ты суров. А отец у тебя есть?
– Не-а. Я без него родился, а он не вернулся. Один только я за хозяина остался.
– Так ты что, сын мне, что ли? Может, в дом по этому поводу пустишь?
– Чего захотели! Вот мамка придёт, тогда и решим, пускать или не пускать.
В это время с улицы раздался женский, в котором было что-то Ванятке неведомое, крик, и во двор влетела Наталья. Но у самой калитки она вдруг остановилась, прижала обе руки к горлу и застыла, не способная поверить в чудо, которого столько лет ждала.
– Гриша? – полувопросительно, тихо произнесла она, но тут же сорвалась с места и бросилась ему на шею. – Гриша, Гришенька! Вернулся! Господи, да как же это? Где ж ты столько времени был? Ваня! Ванюшка, это ж твой отец пришёл. Господи, радость-то какая!
Григорий обернулся к Ивану:
– Ну что, пустишь, что ли, в дом, хозяин?
Ванятка с высоты крыльца, на котором сидел, посмотрел на солдата, на чьей груди сверкали ордена, смерил его взглядом и деловито произнёс:
– Ладно уж…Тогда проходите.
Огромным сочным апельсином солнце закатывалось за лес, и когда вершина самой большой ёлки зацепилась за его бок, из солнца вдруг брызнул яркий сок и начал расцвечивать снизу лёгкие облачка, переходящие от одного к другому. Сок этот сгущался на свободе и из золотистого становился красным и оранжевым, как будто там, вдали, разгорался пожар. Но Ванятку обмануть было невозможно. Уж он-то хорошо знал, что сначала вдали должен был показаться чёрный дым, а уж потом огонь, как это было года два назад, когда горела соседняя деревня.
Ванятка стоял, поражённый невиданным закатом, когда вдруг на горизонте показалась странная туча, которая, словно живая, быстро менялась в размере и по краям. Туча приближалась и стала теперь похожа на ветхую полупрозрачную тряпку, которой Сенька, его сосед, гонял голубей. Через минуту загадочная чёрно-серая тряпка вытянулась в широкую извилистую полосу и двинулась прямо на Ванятку. Теперь уже ясно было видно, что это вовсе не тряпка, а сплошные чёрные птицы, которые, сбившись в одну огромную стаю, пролетали молча над его головой.
– Фь-у-у, – свистнул Ванятка, – это сколько же пшена надо, чтобы их прокормить! Телеги две, наверное, не хватит.
Но тут он вспомнил, что мать давно уже велела ему накормить кур, тех самых двух старых и хромых кур, которые и яйца уж совсем почти не несли, но которых мать всё не решалась зарезать.
– Ма! – влетел Ванятка в избу. – Давай пшена. Пойду кур кормить.
– Эка! Пшена ему давай. Да было бы пшено, я б тебе первому из него кашу сварила, а не курям скармливала. Ты, вон, крапивки им поруби да покорми.
– Крапива жа-алится…
– Рукавицы надень. Уж не маленький. Соображать нужно.
Через короткое время мать услышала на дворе странные звуки. Выглянула и ахнула. Её Ванятка, разложив пуки крапивы на завалинке, отчаянно рубил их топором. От доски летели щепки вместе с остатками крапивы, а по двору, отчаянно кудахтая, метались иступлённые куры.
– Ванька, что ж ты делаешь, подлец ты эдакий? Всю скамейку изрубил. Да кто ж крапиву топором-то рубит? Ножом надо, ножом! Отца на тебя нет!
Немного смущённый, Ванятка пробормотал:
– Так бы и сказала: нарежь.
– Мал ты ещё мать учить-то…
Ванятка, вихрастый синеглазый мальчик семи лет, был единственным человеком в полуразрушенной деревне, кто не знал, есть ли у него отец или нет. За полтора года после войны потихоньку, по одному, в деревню возвращались мужики, кто целый, кто увечный. В несколько домов пришли бабам похоронки. И только Наталья, Ваняткина мать, не имела о своём Григории ровно никаких известий. Хозяйство давалось ей трудно, и под этим предлогом стал к Наталье наведываться Евдоким, вдовец. Наталья вела себя настороженно, на лесть не поддавалась, частично потому что ещё верила в мужнино возвращение, частично потому что видела, как часто Евдоким прикладывается к спиртному.
И однажды, когда он пьяный ввалился в избу и потребовал снять с него сапоги, Ванятка бросился к матери наперерез и закричал:
– Ты что, его слуга, что ли? Не снимай, мамка, пусть в сапогах дрыхнет!
Мать удивилась, но в глубине души и порадовалась, что сын не даёт её в обиду, хоть и маленький. А Ванятка после этого никого из мужиков не стал во двор пускать.
– Прямо, как пёс цепной, – жаловалась Наталья тётке Глаше. – Подождёт, когда кто забор починит или трубу прочистит, и начинает свою песню: «Ты бы, дяденька, уже шёл к себе домой. Мы с маманькой спать собираемся ложиться». И глаз не спускает, пока тот не уйдёт.
– Ты уж слишком воли много ему даёшь. Что он понимает-то? Не мужик ещё, вот и не понимает. Тоже мне – хозяин.
Всерьёз или в шутку, но за Ваняткой это прозвище – «хозяин» – осталось. Не обидное совсем, а наоборот, уважительное, и Ване очень нравилось. Грудь у него пошла колесом, какой-то басок появился, да и в самом деле, хоть его никто не учил, рука стала твёрже и более спорой. Он натаскивал в дом хвороста, чинил, где мог, прогнившую стену сарая или менял дощечку в заборе, собирал грибы, ловил рыбу и копал наравне с матерью картошку, да так зорко в ямку смотрел, что ни одна картофелина, хоть с горошину, от его глаза не могла упрятаться.
В школу он не ходил, потому что в деревне её просто не было, а читать по буквам учился у голубятника Сеньки, который, хоть и умел читать, в деревне слыл лентяем и «буржуем». Читал Сенька одну и ту же книгу – «Робинзон Крузо», которая неизвестно каким образом оказалась ещё до войны в его доме. Работать Сенька не любил и не работал, а гонял только голубей и мечтал стать настоящим пиратом. Был он с виду прост и безобиден, но за всем этим крылась какая-то хитрость, как у толстого домашнего кота, которому лень было ловить мышей. Белобрысый, совсем без ресниц и с красными глазами, Сенька был прожорлив, держал себя барином среди немногочисленной местной детворы и на голубях неплохо наживался.
Всякий, которому не терпелось минут пять погонять голубей, должен был приносить ему дань – лепёшку или морковку, украденную у матери, яблоко, гвоздь, а главное – папиросу. Папироса стоила дорого, за неё голубей можно было гонять дольше. Сенькин отец, такой же белобрысый, как сам Сенька, но только с ещё более красными глазами, вернулся с войны совсем больным и слабым и на Сеньку никакого влияния не оказывал, а у матери, обожающей сына, находился под каблуком.
Читал Сенька плохо и совсем неинтересно, по слогам, но содержание книги знал хорошо и в основном рассказывал, а заодно учил читать Ванятку. Показал как-то раз ему две буквы – «р» и «о» – и велел малышу искать эти буквы во всей книге, посулив назвать другую букву только когда Ванятка дойдёт до последней страницы. Это его устраивало и давало возможность не тратить силы на обучение. Чтение «Робинзона» оказывало на Сеньку и Ванятку совершенно разное действие. Сенька в глубине своей буржуйской души мечтал только о Пятнице, который подчинялся бы ему беспрекословно, а Ванятка втайне мечтал стать таким же сильным, упорным и сметливым, как Робинзон.
– Эх, – говорил он, – оказаться бы мне на необитаемом острове, я бы им всем показал… Только где этот остров возьмёшь-то?
– А вон, – однажды предложил Сенька, – на нашем острове чем плохо? Только ты там и трёх дней не выживешь.
Посреди реки, около которой стояла деревня, действительно был небольшой островок. По погожим дням оба на лодке переезжали на него ловить рыбу и поваляться у воды на песке. Рыба почти не ловилась, а долго валяться Ванятка себе не позволял, потому что боялся, что без него в дом проберётся Евдоким и поселится у них окончательно. Зорко следил Ванятка за матерью, чтобы Евдокима не приваживала. Однако замечание Сеньки, что ему, Ванятке, и трёх дней на столь знакомом острове не выжить, мальчика заметно укололо. Вся его мужская гордость и упрямство восстали против такого подозрения.
– А вот спорим, проживу, – в запале прокричал Ванятка. – Спорим, проживу!
Хитрый Сенька, глядя на Ванятку, захотел сразу за его счёт поживиться и тоже крикнул:
– На что?
– А на что хочешь!
У Сеньки сразу перед глазами мелькнул заветный компас, который ему не раз показывал Ванятка.
– А на компас давай!
Ударили по рукам – отчаянный Ванятка, выросший в безотцовщине, и хитрый Сенька, презиравший своего слабого отца. Договорились, что завтра же Сенька на лодке перевезёт на остров Ванятку, а тот будет жить совсем безо всего и голоса три дня подавать не будет. Но если закричит раньше, то компас уже будет Сенькин. На следующее утро, когда ещё над рекой стоял густой туман, Сенька перевёз Ванятку и оставил его там одного-одинёшенького. Ванятка был не робкого десятка, остров ему был знаком, слава Робинзона Крузо кружила голову, и мальчишка сразу принялся за обустройство жилища. Нарвать лапника труда не составило, и вскоре на берегу возвышалось ложе, на котором предстояло провести три дня. Однако к полудню захотелось есть, а ягод на острове почти не было.
Ванятка занялся рыбной ловлей. Он сразу отмёл мысль об остроге из-за отсутствия материала и стал ловить мальков своей рубашкой. Соорудив из неё подобие мешка с завязанными рукавами, он стоял на прогреваемой части речной воды около берега, раскинув руками свой сачок, и терпеливо ждал, когда хоть какая-нибудь рыбёшка туда заплывёт. Но рыбка не шла. Солнце палило спину нещадно. Ванятка поплавал немного, а потом опять растопырил в воде руки и ноги в тщетной попытке поймать рыбу. Часа через полтора он стал сердиться на упрямую рыбу, спокойно себе плавающую совсем под носом, и стал бросаться со своей рубашкой на стайки мальков. Но рубашка только громко хлопала воздушным пузырём по воде и пугала рыбу.
Совсем забыв о Робинзоне и уступая только страстному желанию положить что-нибудь в рот, Ванятка пристроил по течению свою рубашку, закрепив её на воткнутых глубоко в песок палках, и отправился вглубь острова в поисках чего-нибудь съестного. Вскоре наткнулся на знакомое кострище, где когда-то пекли картошку, но муравьи не оставили там и шкурки от картофелин. В глубине острова роились кусачие комары, и Ванятка, отмахиваясь от них изо всех сил веткой, готов был расплакаться. Что-то в душе его подсказывало, что прожить здесь три дня, не подавая голоса, не так-то просто. Две сыроежки его слегка взбодрили, потом вылез подберёзовик, который тоже отправился в рот, несколько мелких ягод дикой малины и чуть-чуть костяники.
Ванятка, привыкший к голоду, немного ожил и вернулся к реке, в которой по-прежнему, дразня его, играли в воде с тенью от рубашки маленькие рыбки. Мальчик вспомнил, что когда-то они с другими ребятами на противоположном берегу острова ловили раков, и отправился туда. Обгоревшая под солнцем и покусанная комарами спина отчаянно болела и чесалась, пока Ванятка не добрался наконец до рачьего царства. Опять вода на время залечила спину, но раки тоже куда-то попрятались.
Ванятка в их поисках отчаянно водил руками под корягами, топтался в не топком иле, но раков как ни бывало. И вдруг наконец увидел синюю спинку маленького, как будто уснувшего рака. Ваняткина рука протянулась, схватила быстро эту спинку, но вытащила только никому не нужный панцырь, от которого противно пахло. Уставший, голодный и порядком расстроенный Ванятка побрёл к своему лежбищу. Солнце клонилось к горизонту. Становилось прохладно. Но вскоре эта прохлада сменилась ощущением невероятного холода, желанием залезть куда-нибудь под одеяло, поближе к печке, надеть валенки, натянуть на голову мамкин ватник.
Ваню колотил озноб, его зубы непроизвольно бились друг о друга, голова кружилась, и мальчик потерял ощущение реальности. Он видел, как в его рубаху залез Евдоким, хищно оскалившись, как щука, как Сенька перелетал через океан на компасе, держась руками за стрелку и поворачивая её, как руль, в разные стороны. Было темно, но совсем не страшно, потому что мальчик потерял сознание.
Он не видел, как по берегу мечутся люди с огнями, не слышал, как они кричали на все голоса: «Ваня!», «Ива-ан!», «Мальчик мой!», как теребят Сеньку: «Скажи, куда он делся. Знаешь ведь, небось?» И не видел, как Сенька показывает на остров.
Очнулся Ванятка в совсем незнакомом, каком-то совершенно белом месте. Над ним склонилась мужская голова в очках, с коротенькой бородкой.
– Ну вот и ожил, – сказала голова, – а вы не верили. Не-ет, наш мужичок жилистый, обязательно должен выжить. Так что ли, Иван?
– А вы кто? – слабо прошептал Ванятка.
– Я-то? Доктор я. Ну, спи, спи. Сон, он полезный. Спи, брат, пока есть возможность.
Домой из города Ванятку привезли на телеге уже поздно осенью. Вёз на своей лошадёнке, старой, как и её хозяин, дед Егор. Дорога, наполовину в замёрзших на утренниках буграх, была жёсткой и неуютной. И Наталья, поддерживающая остриженную Ваняткину голову, только и причитала:
– Дедушка, ты бы полегче, что ли. Нельзя ему трястись-то, голубчику. И так уж одни кости. Неровен час, растрясёшь, опять разболеется сердечный.
– Да куда ж легче? Ты посмотри, как кляча-то плетётся. Ведь пешком и то скорее. Она у меня лошадь понятливая, обходит, где надо. У ей у самой ноги, глядишь, ревматические…
Наталья вздыхала и думала, как-то её дорогой Ванятка теперь дома распорядится? Евдоким не давал ей прохода, торопил объединиться. Даже выпивать стал меньше. Но Наталья отвечала, что пока сын в больнице, об этом и речи не идёт. Ходила в церковь вёрст за двадцать пару раз пешком, ставила свечку «за здравие» и всё думала, какая у неё жизнь неустроенная, и Ваняткиного решения ждала терпеливо и покорно, поскольку он один в её жизни мужчиной оставался.
Дома мать к Ванятке никого не пропускала. Пусть, мол, отлежится, отдохнёт от болезни и не тревожится. И как могла, кормила его, отрывая от себя последний кусок.
Однажды в окно к нему постучал Сенька. Он размахивал руками и кричал что-то за стеклом. Ванятка, как ни слаб был, сполз со своей кровати и открыл окно.
– О, здорово! – зашумел Сенька. – А я за компасом!
– За каким компасом?
– А который ты мне проспорил.
– Ничего я тебе не проспорил. Мне мамка сказывала, что ты нарочно всех на остров привёл меня искать, и меня взяли сонного.
– Да ты чего, Ванька? Да если бы не я, умер бы ты там уже давно. Так что давай компас-то.
– Подавись ты им! – сердито ответил Ванятка и полез за заветным компасом в свой сундучок под кроватью.
Сенька, глазом не моргнув, выскочил обратно в окно.
Осень подходила к концу. И тем дороже оказывались минуты, когда вдруг из разрыва между бродячими тучами, обременёнными невыпадающим ещё снегом, проникали на землю солнечные лучи. Все старики и кошки вылезали из домов на улицу погреться напоследок перед зимой. Не грелись лишь бабы, все свои силы бросившие на последние осенние работы.
Ванятка, пообещавший матери починить прогоревшую ручку ухвата, сидел на крыльце и тщательно обтачивал ножом конец толстой палки. Работа оказалась не слишком простой – то обтачивалось недостаточно, то слишком много, и тогда ухват не держался. Палка понемногу укорачивалась и приводила Ванятку в отчаяние. Он и не заметил, как в калитку прошёл высокий худой человек в полинявшей гимнастёрке, с солдатским мешком за плечом.
– Ишь ты! – удивился человек. – Ты кто ж такой будешь?
– Хозяин я, – деловито ответил Ванятка.
– Хозя-яин, – протянул солдат. – А как звать тебя, хозяин?
– Иван я. А ты, дяденька, кого ищешь?
– Гавриловых ищу.
– Ну, я – Гаврилов.
– Не-е. Я Наталью Гаврилову ищу. Она ведь здесь живет? Где она?
– Ну, здесь, – ответил Ванятка. – На кой она вам? Если вы свататься пришли, так нам этого не надо. Всякий свататься норовит! А мы с мамкой и без мужиков хорошо живём. Так что сразу и поворачивайте.
– Уж больно ты суров. А отец у тебя есть?
– Не-а. Я без него родился, а он не вернулся. Один только я за хозяина остался.
– Так ты что, сын мне, что ли? Может, в дом по этому поводу пустишь?
– Чего захотели! Вот мамка придёт, тогда и решим, пускать или не пускать.
В это время с улицы раздался женский, в котором было что-то Ванятке неведомое, крик, и во двор влетела Наталья. Но у самой калитки она вдруг остановилась, прижала обе руки к горлу и застыла, не способная поверить в чудо, которого столько лет ждала.
– Гриша? – полувопросительно, тихо произнесла она, но тут же сорвалась с места и бросилась ему на шею. – Гриша, Гришенька! Вернулся! Господи, да как же это? Где ж ты столько времени был? Ваня! Ванюшка, это ж твой отец пришёл. Господи, радость-то какая!
Григорий обернулся к Ивану:
– Ну что, пустишь, что ли, в дом, хозяин?
Ванятка с высоты крыльца, на котором сидел, посмотрел на солдата, на чьей груди сверкали ордена, смерил его взглядом и деловито произнёс:
– Ладно уж…Тогда проходите.

Ляйсан ФАЙЗУЛЛИНА
Родилась в г. Уфе, окончила Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Преподает английский язык в сельской школе. В 2023 году защитила магистерскую диссертацию в Уфимском университете науки и технологий. Прошла девятимесячный курс «Магия редактуры» писательницы Екатерины Оаро. Публикуется впервые.
Родилась в г. Уфе, окончила Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Преподает английский язык в сельской школе. В 2023 году защитила магистерскую диссертацию в Уфимском университете науки и технологий. Прошла девятимесячный курс «Магия редактуры» писательницы Екатерины Оаро. Публикуется впервые.
БРАСЛЕТ ИЗ КРАСНЫХ НИТОК С ТРЕМЯ МОНЕТКАМИ ПОСЕРЕДИНЕ
Лиза замерла у порога городской больницы. Ее темно-каштановые волосы, чуть прикрывая шею, спускались до плеч. В зеленом платье с кружевными краями до колен она казалась подтянутой. Золотистый шарф сползал с ее плеч, показывал яркость ее голубых глаз. Слышался тонкий запах пряного аромата с нотками карамели. На запястье левой руки висел мамин браслет из красных ниток с тремя монетками посередине.
Что-то внутри подсказывало ей: иди и не оглядывайся. Ты сильная и справишься, если что… Правая часть тела пыталась сделать шаг, левая сопротивлялась. Бисеринки пота выступали на лбу, бежали по коже до щёк. Зажатый в ладонь кулак. Пульсирующее сердце. Дрожащий шум в висках. Хочется стоять, идти, бежать. Выдохнула. Шагнула вперёд, белые туфли «Mary Jane» проносили ритмичное туканье по лестнице.
Дверь поддалась не сразу, после третьей попытки. Как только потянула к себе, в нос ударил запах хлорки и стерильных бинтов. Стены, потолок и пол больницы со времён советской власти не видели капитального ремонта, лишь несколько раз перекрашивались.
Кабинет врача под номером двадцать три находился на первом этаже, за регистратурой. Она медленно подошла к двери, приоткрыла. Солнечные лучи прорывались в темный коридор узкой дорожкой. Ее ноздри уловили запах антисептика. Просторный и светлый кабинет с открытыми шторами дополнялся парой столов, парой стульев, парой горшочков с цветами. Посередине стола возвышался треугольный механический маятник с качающейся из стороны в сторону красной стрелкой. Она бросила долгий взгляд на маятник, следила глазами за стрелкой, мысленно впадала в сон. Концентрация от стрелки плавно перешла на повисшее над маятником квадратное лицо человека. Это врач-онколог – лет сорока пяти, с небольшой сединой на висках и с хмурым, слегка помятым лицом от недосыпа, с запахом перегара и сигарет. Его пальцы динамично перебирали металлическую ручку. Большие овальные линзы очков скатывались до самого кончика носа. Игриво переливались между собой, блестели и ослепляли лучами солнца.
– Здравствуйте, я Елизавета Орлова, – судорожно сглотнув, произнесла Лиза. – Я получила от вас сообщение…
– Присаживайтесь, – сухо перебил Александр Сергеевич. – Добрый день. То есть…
Он кашлянул.
– Не очень добрый. У меня для вас плохие новости.
После слов врача Лиза машинально села на стул – так, словно ноги в коленках подломились, зажала в кулаке край платья.
–У меня плохие анализы? Что со мной? – спросила она с испуганно вибрирующей интонацией.
– У вас лейкоз второй стадии, – усталой скороговоркой заговорил Александр Сергеевич. – Потоотделение, постоянная слабость, вялое состояние – часть его симптомов. Но прошу вас не впадать в уныние. Медицина с каждым днём прогрессирует и не стоит на месте. Я вам выпишу направление на биопсию костного мозга.
Ее слова застряли между языком и небом…. Не проронила ни слова, бросилась к выходу, хлопнула дверью. Александр Сергеевич проводил взглядом убегающую Лизу и машинально продолжил перебирать бумаги, что-то записывать в карточке очередного больного.
Она оказалась на лестнице, у главного входа больницы. Предгрозовая духота сдавливала грудь. Уши расслышали небольшие раскаты грома, он тяжко перекатывал валуны, которые лениво ударялись друг о друга. Каждый волосок на ее голове, как антенна, издавал сигналы бедствия.
Ливень обрушился сплошным потоком. Ветер донёс едва уловимую землистую душистость. Люди привыкли к хмурому Петербургу. Все куда-то идут, бегут, мчатся. Кругом суета. Лица прохожих прятались от дождя. Мерцающий асфальт освежился после недельной засухи. Она жадно вдохнула воздух, капли дождя пробежали ровно по коже, будто релаксировала под душем.
«Нет, не может быть…Почему это произошло со мной? Сейчас я проснусь, обязательно проснусь. И все будет так, как было раньше», – мысли не давали ей успокоиться. От нервного потрясения ее живот урчал. Во время волнений и переживаний Лизе всегда хотелось перекусить. Рядом с больницей она заметила небольшое кафе с уютном названием «По-домашнему». Внутри кафе ее окружали диванчики, овальные столы с кружевными скатертями и самоварами, полки с книжками из детства; стены из бруса напоминали бабушкину избушку. Лизе приглянулся первый столик, возле окна.
К ее столику подошел официант, он передал меню в ее руки. Она заметила бейдж с именем «Саша». После двух минут молчания Саша спросил:
– Выбрали?
– Да, Саша. Я буду борщ и кулебяку с чаем.
После ее слов глаза его улыбнулись, и голос стал мягче. Мама всегда говорила Лизе, что нужно обращаться ко всем по имени – это проявление уважения к собеседнику.
– Хорошо, скоро ваш заказ будет готов, – забирая меню со стола, произнес добрым голосом Саша.
Запах борща и кулебяки перенес ее в детство, где бабушка из духовки достает пышную кулебяку, а на плите на медленном огне доваривается бабушкин борщ. Воспоминание из детства притупило боль. Но она снова возвращалась и все мучительнее ковыряла душу: «На работу? Домой? Нет. Пройдусь».
После кафе продолжила свой шаг по пустому Невскому проспекту. Всё стихло – и гул машин, и разговоры прохожих, и дождь. Воздух после дождя освежился, слышался запах озона.
Обыденный путь Лизы от дома до университета проходил через Невский проспект. Университет для неё не работа, а жизнь. Неудивительно, что выбор пал на преподавание. В детстве она усаживала кукол в два ряда и простым карандашом показывала картинки, через лист бумаги, прикреплённый на дверце шкафа, писала: «Классная работа» и говорила: «Тема нашего урока…»
Лиза росла без папы: он ушел из семьи, когда ей было пять лет. Мама всегда была рядом: когда резался первый зуб, когда пошла в первый класс, когда впервые влюбилась, когда впервые пережила предательство. И сейчас ее сердце вело к маме – к той, которая примет ее счастливой, разбитой, уставшей, разочарованной… Любой.
От Невского проспекта она свернула на площадь Александра Невского, прошла по мосту до Малоохтинского проспекта через Октябрьскую набережную к черным кованым воротам с надписью «Киновеевское кладбище».
«Мама, как дела, как ты?» – проговорила сквозь слезы, которые душили ее. Ноги не слушались, упала на колени перед надгробием мамы. Слезы не давали пробиться словам. Она бережным касанием руки протерла от капель дождя фото и надпись: «Орлова Надежда Евгеньевна (1954-2000). Любимой мамочке от дочки. Спи спокойно».
– Кладбище закрывается, деточка, – она услышала свистящий голос позади себя. Это был сторож, его звали дед Аркадий. Все его так называли. Не ответив ему, она протерла слезы с щек и встала с колен, которые были покрыты грязью. Не спеша взяла из сумочки салфетки и круговыми движениями протерла их.
«Не хочу в пустую квартиру», – подумала Лиза и свернула на набережную. Набережная для нее – особое место, здесь она может побыть одна. Эта единственная точка в Питере, где обновляется душа.
Лиза остановилась у сфинксов, подошла к воде. Она заметила стоящего рядом с ней мужчину. Он в чёрной куртке и джинсах, лет тридцати, смуглый, круглолицый, с родимым пятном на левой щеке размером с вишню, черноволосый, с холодно-бледной кожей. Смотрел опустошенным и потерянным взглядом сквозь вечерний воздух на Неву, лениво потягивал сигарету.
– Мечтаете? – незнакомый мужской голос перебил тишину.
Она подняла голову и посмотрела на него.
– На набережной можно только мечтать? – резко ответила Лиза.
– Нет, не только, – ближе подошел незнакомец. От него разило резким запахом пота, табака и масляных красок.
– Меня зовут Андрей. А вас? Что-то случилось? Выглядите не очень.
«Еще старается завести со мной разговор; мне не нужны ни он, ни его разговоры», – раздражаясь, Лиза отвернулась от него.
– Понимаю, я вам не понравился, – вздохнул Андрей.
– Нет, просто не время и не место, – с трудом произнесла она. Ее нижние и верхние зубы, соприкасаясь, издавали стук, плечи дрожали. Он снял куртку и накинул на ее спину. От неожиданности Лиза сделала шаг назад.
– Спасибо, – тихо произнесла она.
– Всегда мечтала попробовать настоящий круассан с кофе, побороть страх высоты, встретить закат на берегу океана, – после двухминутной тишины вдруг прошептала Лиза.
– Что вам мешает это воплотить? – спросил Андрей.
– Время… – грустно ответила и опустила глаза.
И две одинокие души примолкли, присматриваясь к тишине.
* * *
Сообщение!!!!! Сообщение???? Сообщение. И снова сообщение от онколога. Два месяца переписки с Александром Сергеевичем выливались в трёхтомный роман. Ее указательный палец промотал на начало переписки. В голове хаотично прыгали мысли: «Правильное ли решение я приняла?» Она с детства не любила тусклые больничные стены, которые пахнут страхом, злостью и ощущением бессилия. «Мама билась за жизнь, но ее не спасли ни врачи, ни стены, ни лекарства. И меня они не спасут. Да… Я приняла верное решение», – восклицал внутренний голос. Лиза не переступала порог с того дня, как ей поставили диагноз.
Закрыла окошко с сообщением, палец стремительно потянулся к галерее с фотографиями. Наткнулась на свежее фото: она стоит в легком белом платье. Солнце устремляется за горизонт на фоне фиолетово-красного неба. Волны океана играют с ней в догонялки: то касаются ее пяток, то скрываются от них вглубь. На следующем фото запечатлено скорченное от страха и адреналина смешное лицо Лизы во время прыжка с парашютом. Третье фото: селфи с высоты Эйфелевой башни, на заднем плане – туман затянул лёгкой дымкой Париж перед его пробуждением. Все это время Андрей был рядом. Рядом с ним она чувствовала умиротворение.
Положила телефон на стол. Глаза прошлись по комнате. Ее квартира напоминала поле боя: разбросанные вещи на диване, кресле; Эверест из книг и бумаг на столе, трехэтажная пыль.
Лизу неделю мучила высокая температура, отсутствовал аппетит. Ноги пошатнулись от неожиданного головокружения. Она свалилась без сознания.
Андрей навещал ее каждый день в одно и тоже время. Сегодняшний день не стал исключением. Он стремительно шагнул в сторону входной двери, надавил на кнопку дверного звонка; ни единый звук не достиг его ушей. Толкнул дверь, она приоткрылась сама. Посередине комнаты обнаружил ее слабое и неподвижное тело. Судорожно вытащил телефон из заднего кармана джинсов, набрал номер скорой помощи:
– Женщина… Упала в обморок… Приезжайте скорее… – с трясущимися руками произнёс он. – Адрес: Невский проспект, дом 117, квартира 4.
Медики с носилками переступили порог квартиры через десять минут; ему казалось, прошёл час. Суетливо уложили на носилки и удалились из квартиры. Андрей быстрыми шагами устремился за ними, выскочил на улицу.
Машина скорой помощи стояла прямо у входа в подъезд. Андрей влетел в машину со скоростью гепарда, скорая тронулась с места. Он взял руку Лизы: прощупывался слабый пульс. Она на мгновение приоткрыла глаза, прошептала слабым голосом:
– Спасибо… – ее веки тяжело опустились, и губы сомкнулись.
* * *
Андрей пришёл туда, где видел ее в последний раз счастливой, – на Набережную. Его лицо засветилось нежной улыбкой, а в глазах отражалась печаль. Он взял из кармана согнутый пополам и потертый портрет Лизы, расправил его. На изгибе лежал браслет из красных ниток с тремя монетками посередине – это её талисман. Лиза подарила его Андрею на удачу.
– Спасибо тебе за всё, – сказал он тихо, всматриваясь в ее лицо, теребил в руках браслет, надеялся на то, что она рядом и слышит его дыхание.
Лиза замерла у порога городской больницы. Ее темно-каштановые волосы, чуть прикрывая шею, спускались до плеч. В зеленом платье с кружевными краями до колен она казалась подтянутой. Золотистый шарф сползал с ее плеч, показывал яркость ее голубых глаз. Слышался тонкий запах пряного аромата с нотками карамели. На запястье левой руки висел мамин браслет из красных ниток с тремя монетками посередине.
Что-то внутри подсказывало ей: иди и не оглядывайся. Ты сильная и справишься, если что… Правая часть тела пыталась сделать шаг, левая сопротивлялась. Бисеринки пота выступали на лбу, бежали по коже до щёк. Зажатый в ладонь кулак. Пульсирующее сердце. Дрожащий шум в висках. Хочется стоять, идти, бежать. Выдохнула. Шагнула вперёд, белые туфли «Mary Jane» проносили ритмичное туканье по лестнице.
Дверь поддалась не сразу, после третьей попытки. Как только потянула к себе, в нос ударил запах хлорки и стерильных бинтов. Стены, потолок и пол больницы со времён советской власти не видели капитального ремонта, лишь несколько раз перекрашивались.
Кабинет врача под номером двадцать три находился на первом этаже, за регистратурой. Она медленно подошла к двери, приоткрыла. Солнечные лучи прорывались в темный коридор узкой дорожкой. Ее ноздри уловили запах антисептика. Просторный и светлый кабинет с открытыми шторами дополнялся парой столов, парой стульев, парой горшочков с цветами. Посередине стола возвышался треугольный механический маятник с качающейся из стороны в сторону красной стрелкой. Она бросила долгий взгляд на маятник, следила глазами за стрелкой, мысленно впадала в сон. Концентрация от стрелки плавно перешла на повисшее над маятником квадратное лицо человека. Это врач-онколог – лет сорока пяти, с небольшой сединой на висках и с хмурым, слегка помятым лицом от недосыпа, с запахом перегара и сигарет. Его пальцы динамично перебирали металлическую ручку. Большие овальные линзы очков скатывались до самого кончика носа. Игриво переливались между собой, блестели и ослепляли лучами солнца.
– Здравствуйте, я Елизавета Орлова, – судорожно сглотнув, произнесла Лиза. – Я получила от вас сообщение…
– Присаживайтесь, – сухо перебил Александр Сергеевич. – Добрый день. То есть…
Он кашлянул.
– Не очень добрый. У меня для вас плохие новости.
После слов врача Лиза машинально села на стул – так, словно ноги в коленках подломились, зажала в кулаке край платья.
–У меня плохие анализы? Что со мной? – спросила она с испуганно вибрирующей интонацией.
– У вас лейкоз второй стадии, – усталой скороговоркой заговорил Александр Сергеевич. – Потоотделение, постоянная слабость, вялое состояние – часть его симптомов. Но прошу вас не впадать в уныние. Медицина с каждым днём прогрессирует и не стоит на месте. Я вам выпишу направление на биопсию костного мозга.
Ее слова застряли между языком и небом…. Не проронила ни слова, бросилась к выходу, хлопнула дверью. Александр Сергеевич проводил взглядом убегающую Лизу и машинально продолжил перебирать бумаги, что-то записывать в карточке очередного больного.
Она оказалась на лестнице, у главного входа больницы. Предгрозовая духота сдавливала грудь. Уши расслышали небольшие раскаты грома, он тяжко перекатывал валуны, которые лениво ударялись друг о друга. Каждый волосок на ее голове, как антенна, издавал сигналы бедствия.
Ливень обрушился сплошным потоком. Ветер донёс едва уловимую землистую душистость. Люди привыкли к хмурому Петербургу. Все куда-то идут, бегут, мчатся. Кругом суета. Лица прохожих прятались от дождя. Мерцающий асфальт освежился после недельной засухи. Она жадно вдохнула воздух, капли дождя пробежали ровно по коже, будто релаксировала под душем.
«Нет, не может быть…Почему это произошло со мной? Сейчас я проснусь, обязательно проснусь. И все будет так, как было раньше», – мысли не давали ей успокоиться. От нервного потрясения ее живот урчал. Во время волнений и переживаний Лизе всегда хотелось перекусить. Рядом с больницей она заметила небольшое кафе с уютном названием «По-домашнему». Внутри кафе ее окружали диванчики, овальные столы с кружевными скатертями и самоварами, полки с книжками из детства; стены из бруса напоминали бабушкину избушку. Лизе приглянулся первый столик, возле окна.
К ее столику подошел официант, он передал меню в ее руки. Она заметила бейдж с именем «Саша». После двух минут молчания Саша спросил:
– Выбрали?
– Да, Саша. Я буду борщ и кулебяку с чаем.
После ее слов глаза его улыбнулись, и голос стал мягче. Мама всегда говорила Лизе, что нужно обращаться ко всем по имени – это проявление уважения к собеседнику.
– Хорошо, скоро ваш заказ будет готов, – забирая меню со стола, произнес добрым голосом Саша.
Запах борща и кулебяки перенес ее в детство, где бабушка из духовки достает пышную кулебяку, а на плите на медленном огне доваривается бабушкин борщ. Воспоминание из детства притупило боль. Но она снова возвращалась и все мучительнее ковыряла душу: «На работу? Домой? Нет. Пройдусь».
После кафе продолжила свой шаг по пустому Невскому проспекту. Всё стихло – и гул машин, и разговоры прохожих, и дождь. Воздух после дождя освежился, слышался запах озона.
Обыденный путь Лизы от дома до университета проходил через Невский проспект. Университет для неё не работа, а жизнь. Неудивительно, что выбор пал на преподавание. В детстве она усаживала кукол в два ряда и простым карандашом показывала картинки, через лист бумаги, прикреплённый на дверце шкафа, писала: «Классная работа» и говорила: «Тема нашего урока…»
Лиза росла без папы: он ушел из семьи, когда ей было пять лет. Мама всегда была рядом: когда резался первый зуб, когда пошла в первый класс, когда впервые влюбилась, когда впервые пережила предательство. И сейчас ее сердце вело к маме – к той, которая примет ее счастливой, разбитой, уставшей, разочарованной… Любой.
От Невского проспекта она свернула на площадь Александра Невского, прошла по мосту до Малоохтинского проспекта через Октябрьскую набережную к черным кованым воротам с надписью «Киновеевское кладбище».
«Мама, как дела, как ты?» – проговорила сквозь слезы, которые душили ее. Ноги не слушались, упала на колени перед надгробием мамы. Слезы не давали пробиться словам. Она бережным касанием руки протерла от капель дождя фото и надпись: «Орлова Надежда Евгеньевна (1954-2000). Любимой мамочке от дочки. Спи спокойно».
– Кладбище закрывается, деточка, – она услышала свистящий голос позади себя. Это был сторож, его звали дед Аркадий. Все его так называли. Не ответив ему, она протерла слезы с щек и встала с колен, которые были покрыты грязью. Не спеша взяла из сумочки салфетки и круговыми движениями протерла их.
«Не хочу в пустую квартиру», – подумала Лиза и свернула на набережную. Набережная для нее – особое место, здесь она может побыть одна. Эта единственная точка в Питере, где обновляется душа.
Лиза остановилась у сфинксов, подошла к воде. Она заметила стоящего рядом с ней мужчину. Он в чёрной куртке и джинсах, лет тридцати, смуглый, круглолицый, с родимым пятном на левой щеке размером с вишню, черноволосый, с холодно-бледной кожей. Смотрел опустошенным и потерянным взглядом сквозь вечерний воздух на Неву, лениво потягивал сигарету.
– Мечтаете? – незнакомый мужской голос перебил тишину.
Она подняла голову и посмотрела на него.
– На набережной можно только мечтать? – резко ответила Лиза.
– Нет, не только, – ближе подошел незнакомец. От него разило резким запахом пота, табака и масляных красок.
– Меня зовут Андрей. А вас? Что-то случилось? Выглядите не очень.
«Еще старается завести со мной разговор; мне не нужны ни он, ни его разговоры», – раздражаясь, Лиза отвернулась от него.
– Понимаю, я вам не понравился, – вздохнул Андрей.
– Нет, просто не время и не место, – с трудом произнесла она. Ее нижние и верхние зубы, соприкасаясь, издавали стук, плечи дрожали. Он снял куртку и накинул на ее спину. От неожиданности Лиза сделала шаг назад.
– Спасибо, – тихо произнесла она.
– Всегда мечтала попробовать настоящий круассан с кофе, побороть страх высоты, встретить закат на берегу океана, – после двухминутной тишины вдруг прошептала Лиза.
– Что вам мешает это воплотить? – спросил Андрей.
– Время… – грустно ответила и опустила глаза.
И две одинокие души примолкли, присматриваясь к тишине.
* * *
Сообщение!!!!! Сообщение???? Сообщение. И снова сообщение от онколога. Два месяца переписки с Александром Сергеевичем выливались в трёхтомный роман. Ее указательный палец промотал на начало переписки. В голове хаотично прыгали мысли: «Правильное ли решение я приняла?» Она с детства не любила тусклые больничные стены, которые пахнут страхом, злостью и ощущением бессилия. «Мама билась за жизнь, но ее не спасли ни врачи, ни стены, ни лекарства. И меня они не спасут. Да… Я приняла верное решение», – восклицал внутренний голос. Лиза не переступала порог с того дня, как ей поставили диагноз.
Закрыла окошко с сообщением, палец стремительно потянулся к галерее с фотографиями. Наткнулась на свежее фото: она стоит в легком белом платье. Солнце устремляется за горизонт на фоне фиолетово-красного неба. Волны океана играют с ней в догонялки: то касаются ее пяток, то скрываются от них вглубь. На следующем фото запечатлено скорченное от страха и адреналина смешное лицо Лизы во время прыжка с парашютом. Третье фото: селфи с высоты Эйфелевой башни, на заднем плане – туман затянул лёгкой дымкой Париж перед его пробуждением. Все это время Андрей был рядом. Рядом с ним она чувствовала умиротворение.
Положила телефон на стол. Глаза прошлись по комнате. Ее квартира напоминала поле боя: разбросанные вещи на диване, кресле; Эверест из книг и бумаг на столе, трехэтажная пыль.
Лизу неделю мучила высокая температура, отсутствовал аппетит. Ноги пошатнулись от неожиданного головокружения. Она свалилась без сознания.
Андрей навещал ее каждый день в одно и тоже время. Сегодняшний день не стал исключением. Он стремительно шагнул в сторону входной двери, надавил на кнопку дверного звонка; ни единый звук не достиг его ушей. Толкнул дверь, она приоткрылась сама. Посередине комнаты обнаружил ее слабое и неподвижное тело. Судорожно вытащил телефон из заднего кармана джинсов, набрал номер скорой помощи:
– Женщина… Упала в обморок… Приезжайте скорее… – с трясущимися руками произнёс он. – Адрес: Невский проспект, дом 117, квартира 4.
Медики с носилками переступили порог квартиры через десять минут; ему казалось, прошёл час. Суетливо уложили на носилки и удалились из квартиры. Андрей быстрыми шагами устремился за ними, выскочил на улицу.
Машина скорой помощи стояла прямо у входа в подъезд. Андрей влетел в машину со скоростью гепарда, скорая тронулась с места. Он взял руку Лизы: прощупывался слабый пульс. Она на мгновение приоткрыла глаза, прошептала слабым голосом:
– Спасибо… – ее веки тяжело опустились, и губы сомкнулись.
* * *
Андрей пришёл туда, где видел ее в последний раз счастливой, – на Набережную. Его лицо засветилось нежной улыбкой, а в глазах отражалась печаль. Он взял из кармана согнутый пополам и потертый портрет Лизы, расправил его. На изгибе лежал браслет из красных ниток с тремя монетками посередине – это её талисман. Лиза подарила его Андрею на удачу.
– Спасибо тебе за всё, – сказал он тихо, всматриваясь в ее лицо, теребил в руках браслет, надеялся на то, что она рядом и слышит его дыхание.

Елена ФАЕВА
Родилась в городе Ульяновске в 1976 году. 22 года преподавала русский язык и литературу в школе. Всегда занималась развитием творческих способностей своих учеников. Сегодня также продолжает заниматься этим трудным, но очень интересном делом и готовит выпускников к экзаменам, являясь онлайн-репетитором.
Родилась в городе Ульяновске в 1976 году. 22 года преподавала русский язык и литературу в школе. Всегда занималась развитием творческих способностей своих учеников. Сегодня также продолжает заниматься этим трудным, но очень интересном делом и готовит выпускников к экзаменам, являясь онлайн-репетитором.
ЛАВОЧКА
Бывают такие мгновения в жизни, вроде ничем не примечательные, но почему-то их помнишь всегда: ежедневно, ежечасно, ежеминутно...
Валя выбежала из школы вся в слезах – конфликт с учителем математики только набирал обороты, и, скорее всего, завтра мать вызовут в школу...А с матерью отношения у нее были не очень... Мать одна воспитывала их с братом и после того, как разошлась с отцом, всю свою обиду и злость вымещала на детях.
Да и разошлась она, так и не выйдя за отца замуж: несостоявшаяся свекровь не давала своему сыну жить с ней нормально и не разрешала официально жениться. То не из такой она семьи, то дочь, наверное, не от него, не похожа совсем...
Мать в отместку свекрови назвала дочь в честь нее – Валентиной... Как Валя ненавидела своё имя!!! В классе все были Таньками, Юльками, Наташками, Ленками... Ненавидела и... мать... и... своё имя... Девушка вздрогнула. Как-то страшно признаться было в этом самой себе... Быстрее бы уйти из школы...
Поступив в институт, Валя немного забылась и отвлеклась: училась она в педагогическом, на факультете начального обучения. Весёлая студенческая жизнь её закружила, и девушке это нравилось. Всё было новым и жутко интересным: общага, новые друзья, подруги...
Но щемящее чувство одиночества все равно не покидало её...И опять она одна с этим старомодным именем, одна на весь курс, да что там на курс – на весь факультет... Девчонки в группе советовали имя сменить. Валя не решалась, боялась. Вдруг будет ещё хуже, ведь говорят, что при смене имени судьба меняется...
А хуже уже не хотелось... Куда уж хуже...
Брат был в армии. К матери она не приезжала часто, только два раза в год – зимой и на летних каникулах. Она специально уехала поступать в другой город, пусть он и был поменьше, чем родной, но зато она теперь далеко от вечного нытья, недовольства и высказываний... Одно радовало Вальку: практика. Каждый день с общежития она ходила в одну из городских школ. Проводила уроки в первом классе. Конечно, под присмотром строгой опытной учительницы в очках с толстыми линзами, но доброй и весёлой. Строгой она была с учениками. А с Валькой – весёлой и разговорчивой. Полюбила Валька детишек и стала иногда мечтать, что своих у неё будет не меньше двух точно, а, может, и трех.
Однажды во время практики, после уроков в школе, решила посидеть Валентина в центральном городском парке на лавочке: захотелось немного отдохнуть после уроков в своём уже полюбившемся, но очень шумном первом классе. И вот сидит она и думает о том, что бы им, детишкам, придумать на завтра такое интересненькое. Тут вдруг краем глаза она видит, как с другой стороны на лавочку сел парень в зелёной вельветовой куртке. Он вкусно ел мороженое, читал газетку и хохотал.
Валентина, раскрыв глаза, смотрела на это явление, не отрываясь. А он всё хохотал. Да еще и бормотал чего-то там, как будто про себя. Поэтому так неожиданно прозвучало с его стороны:
– Привет! Мороженое будешь? – он протянул остаток своего пломбира в стаканчике. Девушка, фыркнув, покачала головой: ага, будет она после него доедать.
– Я тебя знаю. Ты – Валя, с начфака. А я – на географическом. Живёшь в общаге. Кстати, меня Борькой зовут.
Тут Валька прыснула: Валька да Борька. Как два поросёнка...
– Вот-вот...Смешно. Мне тоже смешно. Точнее, не смешно, но как бы смешно...Короче, я запутался, – Борис остановился, недоумённо глядя на Валю. А та смеялась, запрокинув голову назад, и не могла никак остановиться.
Валентина смеялась, а перед глазами проплывали картинки из детства: ссоры отца и матери, уход отца, вечно злая мать и плачущий брат, ехидная бабушка, смех и издевательства одноклассников из-за плохой одежды и из-за имени...
Смех перешел во всхлипывания. Девушка уже просто не могла остановиться. Закрыв лицо руками, она нагнулась к коленям и уже начала просто рыдать.
Борька понял, что у нее началась истерика. Выкинув потёкшее мороженое, которое так и не доел, он схватил Вальку, как-то неловко начал отрывать её руки от лица, просто прижал её к себе и зашептал:
– Всё, всё, всё...Ну ты что? Всё хорошо. Весна. Тепло. Все живы. Все здоровы...
Он там чего-то всё бубнил, шептал, и Валька успокоилась. Вдруг стало так тепло и уютно. Как с кем-то родным.
Ей стало неудобно. Она отвернулась, вытерла слёзы. Повернувшись, не смотря ему в лицо, тихо сказала:
– Извини.
– Да ладно. Всё нормально. Я бы тоже хотел вот так, но нельзя. Общественность не поймет. Все-таки я мужчина. Слушай, я пошёл, мне пора на работу. Опаздывать нельзя. Увидимся.
Они не виделись долго. Недели две. В один из дней Валька так же сидела на этой лавочке (всё-таки любила она там сидеть иногда), вдруг знакомая зелёная вельветовая куртка мелькнула где-то в толпе и очутилась перед ней.
– Привет. Это – тебе, – Борька протянул ей пломбир в стаканчике.
Валька молча взяла. Потом они молчали. Потому что ели мороженое. Валя узнала, что Борис живёт с дедом, родители разошлись и бросили его. Ну, не бросили. Просто так получилось. Но так ему даже лучше. Борька тревожно посмотрел ей в глаза: вдруг не верит. Сказал, что не хочет мешать родителям... Пусть каждый живет своей жизнью...
Пока он рассказывал, она рассматривала его: тёмные, почти черные волосы, тёмно-карие, тоже почти чёрные глаза, резко очерченные скулы. У него было какое-то усталое лицо. Усталое, как будто ему лет сорок. Валя никак не могла понять: что не так? Потом поняла и удивилась: морщинки. У глаз, вокруг губ... Вот почему он как будто усталый. А ведь старше всего на год....
Потом они снова долго не виделись. Когда же увиделись, она снова была на этой лавочке, а он – в своей куртке...
Они сидели рядом. Долго сидели. И молчали. Валя впервые в жизни поняла, что иногда молчать вместе тоже хорошо, даже лучше, чем разговаривать.
Еще несколько раз они гуляли по центру города, болтали ни о чем. Ели опять мороженое в стаканчиках.
Валя чувствовала, что эта весна будет самой важной весной в ее жизни. Что-то должно было случиться очень хорошее. Уже случилось...
А потом он ушёл в армию. У него было много «хвостов», и чтоб не отчислили, пришлось идти служить...
И всё. Больше Валя его не видела. Никогда. Никогда в жизни.
Они не целовались. Не объяснялись в любви. Не держались за руки.
Но Валя искала его. Искала всю свою дальнейшую жизнь. Нет, на какие-то мгновения она забывала о нем: однажды она познакомилась со своим будущим мужем, который полюбил её с первых минут – она чувствовала это – они поженились; родились два сына, она работала в школе уже очень много лет... Всё было хорошо, обычная семья. Нет, не просто обычная. Счастливая. Все подруги завидовали Вальке, теперь уже Валентине Вениаминовне (тьфу, Валька и отчество своё ненавидела, да и первоклашки в школе тоже его не любили, понятно было, почему).
Сыновья выросли. Старший женился. Второй был в армии. Муж занимал солидную должность. А у Вальки, у Валентины, нет-нет и кольнёт что-то в сердце.
Особенно это началось, когда им удалось подкопить денег (муж хорошо зарабатывал), продать старенькую квартиру, доставшуюся от его родителей, и купить новую на центральной улице города, рядом с тем парком, в котором находилась та самая лавочка...
Валентина видела её каждый день. Там часто сидели и молодые пары, и просто девушки, и обыкновенные мальчишки. Но с утра она всегда была свободной. Одинокой. Ее покрасили. Но Валентина не ходила в этот парк. Не сидела на этой лавочке. Не могла.
Но хотела. Ей казалось, что она только сядет, и сразу придет Борис. И начнет что-нибудь рассказывать. Смеяться. А глаза опять будут серьёзными и взрослыми...
В то же время она понимала, что не придёт. Она же искала его. Узнала, с кем учился. Расспрашивала. Оказывается, он болел. Серьёзно. У него была опухоль. Потом вылечился. И ушёл в армию.
А ей он ничего тогда не рассказал. Про болезнь. Почему? Вальке стало обидно. Вот почему он казался слишком взрослым. И эти морщинки. И эта странная, грустная и какая-то обречённо-наигранная жизнерадостность.
Валентина не понимала одного: как его в армию взяли. И почему? Но больше всего её мучил вопрос: почему он скрыл от неё свою болезнь... почему не рассказал... Значит, она не имела для него никакого значения. Так, знакомая на лавочке в парке... Ей от этой мысли становилось тяжело дышать, и сердце от обиды бухало у горла....
Валентина искала его. Периодически. В промежутках между заботами. Так получилось. Потому что жизнь внесла свои коррективы: муж, сыновья, работа, конечно, отнимали все силы и всё её время.
Но иногда она чувствовала, как тонюсенькая иголочка колола прямо в сердце ей и напоминала о том, что хотелось ей забыть...но не получалось...
Появился Интернет. Ни в одной из социальных сетей его не было. Валентина отчаялась. Вдруг он погиб? В армии он был в начале 90-х, вдруг попал в горячую точку... Вдруг снова заболел и...
Через знакомых, по связям, она пыталась добыть о нём информацию, но Бориса нигде не было: ни среди живых, ни среди мёртвых...
Она измучилась. Последние несколько лет ей особенно тяжело давались. На работе надо улыбаться, там дети. А дома... Дома муж, который, правда, ничего не замечал: его жена так и так всю жизнь была серьёзной. Он ее даже царевной Несмеяной называл. Сыновей она любила, помнила своё детство, поэтому сама себе поклялась еще в молодости, что у ее детей будет всё хорошо, не так, как у нее самой...
Каждый новый день похож на предыдущий: чашка кофе с утра, работа, дом... Да еще в магазин нужно забежать за продуктами...
И каждый день она проходит мимо этого парка. Парка, который когда-то познакомил её с Борисом...
Боже, хоть бы просто узнать, где он, жив ли, может, он счастлив, женат, дети, а, может, и внуки... Это было бы так здорово...
Валентина сходила с ума. Жила на автомате. Как ей хотелось вернуться в то время, в этот парк, на лавочку...
Однажды снова пришла весна.
В один из весенних дней она быстро оделась, схватила ключи, закрыла дверь и побежала вниз по ступенькам. Не захотела на лифте. Пока бежала, думала о том, какая она дура, куда бежит, к кому, зачем...
Прибежав в парк, она нашла ту лавочку. Она была свободной. Села. Сколько просидела, не знала. Время почему-то текло по-другому.
Когда стали наступать сумерки, Валентина поднялась и пошла домой.
Теперь её день был распланирован немного иначе: в школе после уроков она, Валентина Вениаминовна, быстренько проверяла тетрадки своих малышей, бежала домой, готовила ужин для мужа и – в парк.
И так теперь каждый день. Каждый день она вглядывалась в толпу и ждала, когда самый родной её сердцу человек выйдет из этой толпы (как тогда, почти тридцать лет назад), подойдет к ней, а она его всего зацелует глазами и скажет:
– Где ты был? Где же тебя так долго носило? Я тебя жду-жду, а ты всё не идёшь и не идёшь...
Бывают такие мгновения в жизни, вроде ничем не примечательные, но почему-то их помнишь всегда: ежедневно, ежечасно, ежеминутно...
Валя выбежала из школы вся в слезах – конфликт с учителем математики только набирал обороты, и, скорее всего, завтра мать вызовут в школу...А с матерью отношения у нее были не очень... Мать одна воспитывала их с братом и после того, как разошлась с отцом, всю свою обиду и злость вымещала на детях.
Да и разошлась она, так и не выйдя за отца замуж: несостоявшаяся свекровь не давала своему сыну жить с ней нормально и не разрешала официально жениться. То не из такой она семьи, то дочь, наверное, не от него, не похожа совсем...
Мать в отместку свекрови назвала дочь в честь нее – Валентиной... Как Валя ненавидела своё имя!!! В классе все были Таньками, Юльками, Наташками, Ленками... Ненавидела и... мать... и... своё имя... Девушка вздрогнула. Как-то страшно признаться было в этом самой себе... Быстрее бы уйти из школы...
Поступив в институт, Валя немного забылась и отвлеклась: училась она в педагогическом, на факультете начального обучения. Весёлая студенческая жизнь её закружила, и девушке это нравилось. Всё было новым и жутко интересным: общага, новые друзья, подруги...
Но щемящее чувство одиночества все равно не покидало её...И опять она одна с этим старомодным именем, одна на весь курс, да что там на курс – на весь факультет... Девчонки в группе советовали имя сменить. Валя не решалась, боялась. Вдруг будет ещё хуже, ведь говорят, что при смене имени судьба меняется...
А хуже уже не хотелось... Куда уж хуже...
Брат был в армии. К матери она не приезжала часто, только два раза в год – зимой и на летних каникулах. Она специально уехала поступать в другой город, пусть он и был поменьше, чем родной, но зато она теперь далеко от вечного нытья, недовольства и высказываний... Одно радовало Вальку: практика. Каждый день с общежития она ходила в одну из городских школ. Проводила уроки в первом классе. Конечно, под присмотром строгой опытной учительницы в очках с толстыми линзами, но доброй и весёлой. Строгой она была с учениками. А с Валькой – весёлой и разговорчивой. Полюбила Валька детишек и стала иногда мечтать, что своих у неё будет не меньше двух точно, а, может, и трех.
Однажды во время практики, после уроков в школе, решила посидеть Валентина в центральном городском парке на лавочке: захотелось немного отдохнуть после уроков в своём уже полюбившемся, но очень шумном первом классе. И вот сидит она и думает о том, что бы им, детишкам, придумать на завтра такое интересненькое. Тут вдруг краем глаза она видит, как с другой стороны на лавочку сел парень в зелёной вельветовой куртке. Он вкусно ел мороженое, читал газетку и хохотал.
Валентина, раскрыв глаза, смотрела на это явление, не отрываясь. А он всё хохотал. Да еще и бормотал чего-то там, как будто про себя. Поэтому так неожиданно прозвучало с его стороны:
– Привет! Мороженое будешь? – он протянул остаток своего пломбира в стаканчике. Девушка, фыркнув, покачала головой: ага, будет она после него доедать.
– Я тебя знаю. Ты – Валя, с начфака. А я – на географическом. Живёшь в общаге. Кстати, меня Борькой зовут.
Тут Валька прыснула: Валька да Борька. Как два поросёнка...
– Вот-вот...Смешно. Мне тоже смешно. Точнее, не смешно, но как бы смешно...Короче, я запутался, – Борис остановился, недоумённо глядя на Валю. А та смеялась, запрокинув голову назад, и не могла никак остановиться.
Валентина смеялась, а перед глазами проплывали картинки из детства: ссоры отца и матери, уход отца, вечно злая мать и плачущий брат, ехидная бабушка, смех и издевательства одноклассников из-за плохой одежды и из-за имени...
Смех перешел во всхлипывания. Девушка уже просто не могла остановиться. Закрыв лицо руками, она нагнулась к коленям и уже начала просто рыдать.
Борька понял, что у нее началась истерика. Выкинув потёкшее мороженое, которое так и не доел, он схватил Вальку, как-то неловко начал отрывать её руки от лица, просто прижал её к себе и зашептал:
– Всё, всё, всё...Ну ты что? Всё хорошо. Весна. Тепло. Все живы. Все здоровы...
Он там чего-то всё бубнил, шептал, и Валька успокоилась. Вдруг стало так тепло и уютно. Как с кем-то родным.
Ей стало неудобно. Она отвернулась, вытерла слёзы. Повернувшись, не смотря ему в лицо, тихо сказала:
– Извини.
– Да ладно. Всё нормально. Я бы тоже хотел вот так, но нельзя. Общественность не поймет. Все-таки я мужчина. Слушай, я пошёл, мне пора на работу. Опаздывать нельзя. Увидимся.
Они не виделись долго. Недели две. В один из дней Валька так же сидела на этой лавочке (всё-таки любила она там сидеть иногда), вдруг знакомая зелёная вельветовая куртка мелькнула где-то в толпе и очутилась перед ней.
– Привет. Это – тебе, – Борька протянул ей пломбир в стаканчике.
Валька молча взяла. Потом они молчали. Потому что ели мороженое. Валя узнала, что Борис живёт с дедом, родители разошлись и бросили его. Ну, не бросили. Просто так получилось. Но так ему даже лучше. Борька тревожно посмотрел ей в глаза: вдруг не верит. Сказал, что не хочет мешать родителям... Пусть каждый живет своей жизнью...
Пока он рассказывал, она рассматривала его: тёмные, почти черные волосы, тёмно-карие, тоже почти чёрные глаза, резко очерченные скулы. У него было какое-то усталое лицо. Усталое, как будто ему лет сорок. Валя никак не могла понять: что не так? Потом поняла и удивилась: морщинки. У глаз, вокруг губ... Вот почему он как будто усталый. А ведь старше всего на год....
Потом они снова долго не виделись. Когда же увиделись, она снова была на этой лавочке, а он – в своей куртке...
Они сидели рядом. Долго сидели. И молчали. Валя впервые в жизни поняла, что иногда молчать вместе тоже хорошо, даже лучше, чем разговаривать.
Еще несколько раз они гуляли по центру города, болтали ни о чем. Ели опять мороженое в стаканчиках.
Валя чувствовала, что эта весна будет самой важной весной в ее жизни. Что-то должно было случиться очень хорошее. Уже случилось...
А потом он ушёл в армию. У него было много «хвостов», и чтоб не отчислили, пришлось идти служить...
И всё. Больше Валя его не видела. Никогда. Никогда в жизни.
Они не целовались. Не объяснялись в любви. Не держались за руки.
Но Валя искала его. Искала всю свою дальнейшую жизнь. Нет, на какие-то мгновения она забывала о нем: однажды она познакомилась со своим будущим мужем, который полюбил её с первых минут – она чувствовала это – они поженились; родились два сына, она работала в школе уже очень много лет... Всё было хорошо, обычная семья. Нет, не просто обычная. Счастливая. Все подруги завидовали Вальке, теперь уже Валентине Вениаминовне (тьфу, Валька и отчество своё ненавидела, да и первоклашки в школе тоже его не любили, понятно было, почему).
Сыновья выросли. Старший женился. Второй был в армии. Муж занимал солидную должность. А у Вальки, у Валентины, нет-нет и кольнёт что-то в сердце.
Особенно это началось, когда им удалось подкопить денег (муж хорошо зарабатывал), продать старенькую квартиру, доставшуюся от его родителей, и купить новую на центральной улице города, рядом с тем парком, в котором находилась та самая лавочка...
Валентина видела её каждый день. Там часто сидели и молодые пары, и просто девушки, и обыкновенные мальчишки. Но с утра она всегда была свободной. Одинокой. Ее покрасили. Но Валентина не ходила в этот парк. Не сидела на этой лавочке. Не могла.
Но хотела. Ей казалось, что она только сядет, и сразу придет Борис. И начнет что-нибудь рассказывать. Смеяться. А глаза опять будут серьёзными и взрослыми...
В то же время она понимала, что не придёт. Она же искала его. Узнала, с кем учился. Расспрашивала. Оказывается, он болел. Серьёзно. У него была опухоль. Потом вылечился. И ушёл в армию.
А ей он ничего тогда не рассказал. Про болезнь. Почему? Вальке стало обидно. Вот почему он казался слишком взрослым. И эти морщинки. И эта странная, грустная и какая-то обречённо-наигранная жизнерадостность.
Валентина не понимала одного: как его в армию взяли. И почему? Но больше всего её мучил вопрос: почему он скрыл от неё свою болезнь... почему не рассказал... Значит, она не имела для него никакого значения. Так, знакомая на лавочке в парке... Ей от этой мысли становилось тяжело дышать, и сердце от обиды бухало у горла....
Валентина искала его. Периодически. В промежутках между заботами. Так получилось. Потому что жизнь внесла свои коррективы: муж, сыновья, работа, конечно, отнимали все силы и всё её время.
Но иногда она чувствовала, как тонюсенькая иголочка колола прямо в сердце ей и напоминала о том, что хотелось ей забыть...но не получалось...
Появился Интернет. Ни в одной из социальных сетей его не было. Валентина отчаялась. Вдруг он погиб? В армии он был в начале 90-х, вдруг попал в горячую точку... Вдруг снова заболел и...
Через знакомых, по связям, она пыталась добыть о нём информацию, но Бориса нигде не было: ни среди живых, ни среди мёртвых...
Она измучилась. Последние несколько лет ей особенно тяжело давались. На работе надо улыбаться, там дети. А дома... Дома муж, который, правда, ничего не замечал: его жена так и так всю жизнь была серьёзной. Он ее даже царевной Несмеяной называл. Сыновей она любила, помнила своё детство, поэтому сама себе поклялась еще в молодости, что у ее детей будет всё хорошо, не так, как у нее самой...
Каждый новый день похож на предыдущий: чашка кофе с утра, работа, дом... Да еще в магазин нужно забежать за продуктами...
И каждый день она проходит мимо этого парка. Парка, который когда-то познакомил её с Борисом...
Боже, хоть бы просто узнать, где он, жив ли, может, он счастлив, женат, дети, а, может, и внуки... Это было бы так здорово...
Валентина сходила с ума. Жила на автомате. Как ей хотелось вернуться в то время, в этот парк, на лавочку...
Однажды снова пришла весна.
В один из весенних дней она быстро оделась, схватила ключи, закрыла дверь и побежала вниз по ступенькам. Не захотела на лифте. Пока бежала, думала о том, какая она дура, куда бежит, к кому, зачем...
Прибежав в парк, она нашла ту лавочку. Она была свободной. Села. Сколько просидела, не знала. Время почему-то текло по-другому.
Когда стали наступать сумерки, Валентина поднялась и пошла домой.
Теперь её день был распланирован немного иначе: в школе после уроков она, Валентина Вениаминовна, быстренько проверяла тетрадки своих малышей, бежала домой, готовила ужин для мужа и – в парк.
И так теперь каждый день. Каждый день она вглядывалась в толпу и ждала, когда самый родной её сердцу человек выйдет из этой толпы (как тогда, почти тридцать лет назад), подойдет к ней, а она его всего зацелует глазами и скажет:
– Где ты был? Где же тебя так долго носило? Я тебя жду-жду, а ты всё не идёшь и не идёшь...

Златислава БАБМУКО
Родилась в 1994 году в поселке Железноводском Ставропольского края.
Долгое время занимается писательством, но совсем недавно решила печататься. Работы Златиславы можно почитать в 43 выпуске журнала «Художественное слово», а также в сборнике «Нежные строки» издательства «Кубик», которое только готовится к публикации. Также она начала вести свою страничку ВК «Стихи и проза/ Златислава Бамбуко».
Родилась в 1994 году в поселке Железноводском Ставропольского края.
Долгое время занимается писательством, но совсем недавно решила печататься. Работы Златиславы можно почитать в 43 выпуске журнала «Художественное слово», а также в сборнике «Нежные строки» издательства «Кубик», которое только готовится к публикации. Также она начала вести свою страничку ВК «Стихи и проза/ Златислава Бамбуко».
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ...
Мужчина в чёрной кожаной куртке вышел из офиса и нахмурился.
– Снова дождь, как же всё надоело…
Он достал сигарету и затянулся.
Это, наверно, была самая хмурая осень в его жизни. Каждый день шёл проливной дождь, да и на работе всё складывалось не лучшим образом. Мужчина вздохнул и пошёл на остановку.
Вокруг всё было серым и мрачным. Люди спешили куда-то, машины проносились мимо. Мужчина шёл, не глядя по сторонам. Все его мысли были заняты работой. Начальник в последнее время совсем озверел: урезал зарплату, нагрузил работой. Хотелось плюнуть на всё и уволиться. Но куда дальше?
Мужчина добрёл до остановки. Снова вздохнул. «Дома тоже никто не ждёт. Жизнь как будто проходит мимо меня», – подумал он и поднял глаза. То, что он увидел, поразило его. Немного в стороне, прямо под проливным дождём стояла девушка в летнем жёлтом платье.
Она выглядела странно, как будто была не из этого мира. С её лица не сходила улыбка. Казалось, что её совсем не пугал дождь, она наслаждалась им. У девушки были большие глаза, бледная кожа, тонкие руки. Возникало чувство, что это не человек, а фарфоровая кукла. Она была поразительно яркой в своём лёгком платьице на фоне серости окружающего мира. Мужчина невольно залюбовался ею.
Вдруг девушка посмотрела на него и сказала:
– Всё лучше, чем тебе кажется.
– Что? – не понял мужчина.
– Привет. Меня зовут Алёна, а тебя?
– Дмитрий. Что ты сказала до этого?
– Я говорю, что жизнь гораздо лучше, чем ты думаешь.
Она посмотрела ему в глаза и продолжила:
– Почему ты боишься уволиться?
– Я не понимаю, о чём речь, – нахмурился Дмитрий.
Алёна засмеялась.
– Ты странная, – проворчал мужчина.
– Я не странная, я просто счастливая. Не понимаю, почему люди не могут быть просто счастливыми?
Дмитрий молчал и смотрел на неё. «Нет, всё-таки она очень странная», – подумал он. Но почему-то заканчивать разговор совсем не хотелось.
– А если в жизни всё не складывается? Как быть счастливым?– спросил он, сам не понимая зачем.
– Ты сам строишь свою жизнь. Что держит тебя на этой работе? Что держит тебя в этом городе? Зачем ты живёшь здесь, если тебе всё настолько надоело?
Алёна улыбнулась и подставила лицо каплям дождя.
– Я привык здесь жить. В этом городе у меня квартира. У меня стабильная работа…
– Разве стабильность – это не скучно? – перебила его Алёна. – Разве тебе не хочется всё бросить и уехать? Понять, наконец, чего ты хочешь от жизни, что ты на самом деле любишь?
Дмитрий задумался и снова достал сигарету.
Алёна смешно поморщилась, но продолжила:
– Знаешь, чтобы изменить свою жизнь, можно даже не уезжать. Если боишься, можешь даже не увольняться.
– А как тогда? – Дмитрий убрал сигарету обратно в пачку.
– Оглянись вокруг. Всё не так плохо, как тебе кажется. Ты сам не позволяешь себе по-настоящему проживать эту жизнь.
– Я оглядываюсь, но всё что я вижу – мрачный и серый мир.
– Ну что ты, всё же совсем не так. Посмотри внимательней, неужели ты не видишь ничего хорошего? – Алёна всплеснула руками.
Дмитрий улыбнулся и сказал:
– Никак не пойму: ты мудрая, наивная или ненормальная?
Алёна снова рассмеялась.
– Ну вот, ты уже улыбаешься. А теперь присмотрись.
Мужчина вздохнул, но всё-таки обернулся.
– Что ты видишь? – спросила Алёна, подходя ближе.
– Вижу людей, которые спешат домой, вижу, что уехал мой автобус.
– Нет, всё не то, – топнула ногой девушка, – смотри ещё.
Дмитрий на секунду закрыл глаза, выдохнул и снова осмотрелся. Он старался увидеть что-то хорошее, почему-то не хотелось расстраивать эту ненормальную.
– Вижу, как дождь бьётся о крышу, и каждая капля разбивается на множество других капель, которые взлетают вверх.
– Уже лучше, на что это похоже?
– На фейерверк? – то ли спросил, то ли ответил Дмитрий.
– Да… Что ещё ты видишь?
– Вижу ребёнка, который прыгает по лужам и смеётся.
– Очень хорошо, – Алёна захлопала в ладоши.
– Вижу парня с девушкой. Они бегут куда-то под дождём, видимо, не взяли зонт. Но они держатся за руки и улыбаются. Их совсем не пугает дождь. Вижу людей, сидящих в кафе. Они смеются и совсем не торопятся домой… Как странно…
Дмитрий обернулся, но за его спиной никого не было. Он растерянно огляделся по сторонам.
– Я хотел сказать: как странно, кажется, что я один ненавижу дождь и осень. Остальные люди улыбаются и радуются жизни, – прошептал он, сам не понимая, к кому он обращается.
– Ты молодец, ты начал видеть то, что нужно. Главное, помни: ты сам строишь свою жизнь и сам решаешь, что тебе видеть, счастье – в мелочах, – раздался в его голове мелодичный голос Алёны.
– Кто ты? – прошептал он.
– Какая разница?
Дмитрий задумался.
– И правда, какая разница…
Ответа не последовало. Мужчина ухмыльнулся, достал пачку сигарет и выкинул её в мусорку. Ему это больше не нужно. Он сложил зонт и вышел под дождь.
«Странно, дождь тёплый. Как будто летний. Счастье и правда в мелочах…» – подумал он.
Дмитрий не стал ждать свой автобус, решил отправиться домой пешком. Он шёл и смотрел по сторонам. Не просто смотрел, а видел… Видел, как в окнах мелькают люди. Кто-то ужинал, кто-то ложился спать, кто-то смотрел телевизор. Он больше не видел мрачный и серый мир, он видел жизнь. Жизнь была везде: в проезжающих мимо машинах, в бегущих куда-то людях, в каплях дождя, падающих на землю. Каждый проживал эту жизнь, как умел, но в этом и было счастье.
Дмитрий поднял голову и подставил лицо дождю, как чуть раньше это делала Алёна. Он выдохнул и рассмеялся. «Счастье в мелочах», – подумал он.
* * *
Утром Дмитрий проснулся в прекрасном настроении. Распахнул шторы и выглянул в окно. Удивительно, но на улице светило солнце. Он посмотрел на лужи, в них очень красиво блестели солнечные лучи.
«Всё лучше, чем тебе кажется», – прошептал он сам себе.
Дмитрий не пытался понять, была ли встреча с Алёной реальностью или его воспалённый мозг всё придумал. Это было совершенно неважно.
Важно было то, что он научился жить, а не существовать.
«Разве стабильность – это не скучно?» – вспомнились ему слова Алёны.
«Действительно, – подумал он, – пора уже что-то менять».
* * *
Алёна зашла домой с усталой улыбкой. Она была очень довольна, у неё всё получилось.
– В каком из миров ты была на этот раз? – спросил её отец.
– Не знаю, – улыбнулась девушка. – Я просто была там, где нужен был свет.
* * *
Говорят, любая встреча – не случайная,
Говорят, что в каждой – скрытый смысл;
С кем-то встреча лечит от отчаянья,
С кем-то встреча тянет камнем вниз.
Каждый послан нам с какой-то целью,
Каждый преподносит нам урок,
Кто-то нас своим теплом согреет,
Ну, а кто – совсем наоборот.
Но любая встреча – это все же чудо.
Чудом ведь переплетаются пути.
И как суждено все, так и будет,
Встреча – это таинство судьбы.
Мужчина в чёрной кожаной куртке вышел из офиса и нахмурился.
– Снова дождь, как же всё надоело…
Он достал сигарету и затянулся.
Это, наверно, была самая хмурая осень в его жизни. Каждый день шёл проливной дождь, да и на работе всё складывалось не лучшим образом. Мужчина вздохнул и пошёл на остановку.
Вокруг всё было серым и мрачным. Люди спешили куда-то, машины проносились мимо. Мужчина шёл, не глядя по сторонам. Все его мысли были заняты работой. Начальник в последнее время совсем озверел: урезал зарплату, нагрузил работой. Хотелось плюнуть на всё и уволиться. Но куда дальше?
Мужчина добрёл до остановки. Снова вздохнул. «Дома тоже никто не ждёт. Жизнь как будто проходит мимо меня», – подумал он и поднял глаза. То, что он увидел, поразило его. Немного в стороне, прямо под проливным дождём стояла девушка в летнем жёлтом платье.
Она выглядела странно, как будто была не из этого мира. С её лица не сходила улыбка. Казалось, что её совсем не пугал дождь, она наслаждалась им. У девушки были большие глаза, бледная кожа, тонкие руки. Возникало чувство, что это не человек, а фарфоровая кукла. Она была поразительно яркой в своём лёгком платьице на фоне серости окружающего мира. Мужчина невольно залюбовался ею.
Вдруг девушка посмотрела на него и сказала:
– Всё лучше, чем тебе кажется.
– Что? – не понял мужчина.
– Привет. Меня зовут Алёна, а тебя?
– Дмитрий. Что ты сказала до этого?
– Я говорю, что жизнь гораздо лучше, чем ты думаешь.
Она посмотрела ему в глаза и продолжила:
– Почему ты боишься уволиться?
– Я не понимаю, о чём речь, – нахмурился Дмитрий.
Алёна засмеялась.
– Ты странная, – проворчал мужчина.
– Я не странная, я просто счастливая. Не понимаю, почему люди не могут быть просто счастливыми?
Дмитрий молчал и смотрел на неё. «Нет, всё-таки она очень странная», – подумал он. Но почему-то заканчивать разговор совсем не хотелось.
– А если в жизни всё не складывается? Как быть счастливым?– спросил он, сам не понимая зачем.
– Ты сам строишь свою жизнь. Что держит тебя на этой работе? Что держит тебя в этом городе? Зачем ты живёшь здесь, если тебе всё настолько надоело?
Алёна улыбнулась и подставила лицо каплям дождя.
– Я привык здесь жить. В этом городе у меня квартира. У меня стабильная работа…
– Разве стабильность – это не скучно? – перебила его Алёна. – Разве тебе не хочется всё бросить и уехать? Понять, наконец, чего ты хочешь от жизни, что ты на самом деле любишь?
Дмитрий задумался и снова достал сигарету.
Алёна смешно поморщилась, но продолжила:
– Знаешь, чтобы изменить свою жизнь, можно даже не уезжать. Если боишься, можешь даже не увольняться.
– А как тогда? – Дмитрий убрал сигарету обратно в пачку.
– Оглянись вокруг. Всё не так плохо, как тебе кажется. Ты сам не позволяешь себе по-настоящему проживать эту жизнь.
– Я оглядываюсь, но всё что я вижу – мрачный и серый мир.
– Ну что ты, всё же совсем не так. Посмотри внимательней, неужели ты не видишь ничего хорошего? – Алёна всплеснула руками.
Дмитрий улыбнулся и сказал:
– Никак не пойму: ты мудрая, наивная или ненормальная?
Алёна снова рассмеялась.
– Ну вот, ты уже улыбаешься. А теперь присмотрись.
Мужчина вздохнул, но всё-таки обернулся.
– Что ты видишь? – спросила Алёна, подходя ближе.
– Вижу людей, которые спешат домой, вижу, что уехал мой автобус.
– Нет, всё не то, – топнула ногой девушка, – смотри ещё.
Дмитрий на секунду закрыл глаза, выдохнул и снова осмотрелся. Он старался увидеть что-то хорошее, почему-то не хотелось расстраивать эту ненормальную.
– Вижу, как дождь бьётся о крышу, и каждая капля разбивается на множество других капель, которые взлетают вверх.
– Уже лучше, на что это похоже?
– На фейерверк? – то ли спросил, то ли ответил Дмитрий.
– Да… Что ещё ты видишь?
– Вижу ребёнка, который прыгает по лужам и смеётся.
– Очень хорошо, – Алёна захлопала в ладоши.
– Вижу парня с девушкой. Они бегут куда-то под дождём, видимо, не взяли зонт. Но они держатся за руки и улыбаются. Их совсем не пугает дождь. Вижу людей, сидящих в кафе. Они смеются и совсем не торопятся домой… Как странно…
Дмитрий обернулся, но за его спиной никого не было. Он растерянно огляделся по сторонам.
– Я хотел сказать: как странно, кажется, что я один ненавижу дождь и осень. Остальные люди улыбаются и радуются жизни, – прошептал он, сам не понимая, к кому он обращается.
– Ты молодец, ты начал видеть то, что нужно. Главное, помни: ты сам строишь свою жизнь и сам решаешь, что тебе видеть, счастье – в мелочах, – раздался в его голове мелодичный голос Алёны.
– Кто ты? – прошептал он.
– Какая разница?
Дмитрий задумался.
– И правда, какая разница…
Ответа не последовало. Мужчина ухмыльнулся, достал пачку сигарет и выкинул её в мусорку. Ему это больше не нужно. Он сложил зонт и вышел под дождь.
«Странно, дождь тёплый. Как будто летний. Счастье и правда в мелочах…» – подумал он.
Дмитрий не стал ждать свой автобус, решил отправиться домой пешком. Он шёл и смотрел по сторонам. Не просто смотрел, а видел… Видел, как в окнах мелькают люди. Кто-то ужинал, кто-то ложился спать, кто-то смотрел телевизор. Он больше не видел мрачный и серый мир, он видел жизнь. Жизнь была везде: в проезжающих мимо машинах, в бегущих куда-то людях, в каплях дождя, падающих на землю. Каждый проживал эту жизнь, как умел, но в этом и было счастье.
Дмитрий поднял голову и подставил лицо дождю, как чуть раньше это делала Алёна. Он выдохнул и рассмеялся. «Счастье в мелочах», – подумал он.
* * *
Утром Дмитрий проснулся в прекрасном настроении. Распахнул шторы и выглянул в окно. Удивительно, но на улице светило солнце. Он посмотрел на лужи, в них очень красиво блестели солнечные лучи.
«Всё лучше, чем тебе кажется», – прошептал он сам себе.
Дмитрий не пытался понять, была ли встреча с Алёной реальностью или его воспалённый мозг всё придумал. Это было совершенно неважно.
Важно было то, что он научился жить, а не существовать.
«Разве стабильность – это не скучно?» – вспомнились ему слова Алёны.
«Действительно, – подумал он, – пора уже что-то менять».
* * *
Алёна зашла домой с усталой улыбкой. Она была очень довольна, у неё всё получилось.
– В каком из миров ты была на этот раз? – спросил её отец.
– Не знаю, – улыбнулась девушка. – Я просто была там, где нужен был свет.
* * *
Говорят, любая встреча – не случайная,
Говорят, что в каждой – скрытый смысл;
С кем-то встреча лечит от отчаянья,
С кем-то встреча тянет камнем вниз.
Каждый послан нам с какой-то целью,
Каждый преподносит нам урок,
Кто-то нас своим теплом согреет,
Ну, а кто – совсем наоборот.
Но любая встреча – это все же чудо.
Чудом ведь переплетаются пути.
И как суждено все, так и будет,
Встреча – это таинство судьбы.

Максим ГОРБУНОВ
В 2022 году получил высшее образование, степень бакалавра по специальности «Международные политические процессы» в Удмуртском государственном университете. Сейчас продолжаю учиться в этом же учебном заведении в магистратуре, но в несколько противоположном направлении, а именно – «Информационные технологии». Записывать запоминающиеся мысли начал достаточно давно. Однако приступить к созданию чего-то цельного и смыслового решил лишь недавно.
В 2022 году получил высшее образование, степень бакалавра по специальности «Международные политические процессы» в Удмуртском государственном университете. Сейчас продолжаю учиться в этом же учебном заведении в магистратуре, но в несколько противоположном направлении, а именно – «Информационные технологии». Записывать запоминающиеся мысли начал достаточно давно. Однако приступить к созданию чего-то цельного и смыслового решил лишь недавно.
ОТДЫХ ДЛЯ ДВОИХ
Не таких уж и внушительных размеров оказался мужик на контроле у входа перед гардеробом. Но все-таки он был одет во все черное. Куда идти, гадать не приходится – коридор хоть и выставлен в подчеркнуто темных тонах, подпитан эффектно наслоенными механизмами теней, но достаточно не опускать стыдливого взгляда перед изящно извивающимися телами едва знакомых парочек, ни в коем случае не оборачиваться, и стены, кажущиеся откровенно голыми, обязательно приведут каждого к тому, за чем он пришел в ночной клуб.
«У барной стойки ее нет, а это значит, губительные образы под очаровывающую музыку вот-вот начнут собираться в его голове. Улыбчивого бармена спрашивать точно не стоит, он кривит рожей всем, успокаивается разве что только дома перед зеркалом».
Он плавно пробирался сквозь волнующихся молодых парней и девушек, различал их плавные, изящные, подпитанные напитками движения, но не различал их лиц. Не мог найти ее. Музыка подыгрывала разуму в такт, как разряды молний, она проходила через его тело, перетекала в неоновый пол и впитывалась в тела других, движения которых отдавались ее импульсами. «Где же она? Где ее тело?»
И вот в безобразных оттенках ему будто бы привиделись летящие открытые плечи и знакомые движения коротких, живых и изящных локонов. Даже в сером окружении он видел и плечи, и эти локоны в мягком и таком близком белом образе. За плавным поворотом лица по инерции разлились те самые белые пряди, среди этих волн он увидел любимые зеленые взгляды. Ни секунды не разбавляя свой разум на сомнения, он отправился за ней. Отходя от барной стойки, из рук покатился бокал, до того изображавший лишь его хорошие манеры перед барменом, а теперь и подавно ставший ему ненужным.
«Вот черт! У нее были такие пикантные плечи. Какими только приключениями она могла обзавестись в этом гадюшнике, принимая в расчет ее желанный образ, отборное поведение и, самое главное, переполняющие ее чувства самодостаточности, грусти и нечеловеческой решимости. Будь я на ее месте… Впрочем, неважно. Как бы не упустить ее белые плечи».
«Она улыбалась. Значит, дело плохо. Либо ее злоба уже отступила, либо только набирает ход, чтобы потом невольно рвануть в неприятное время в неприятной компании». Через каждое слово к ней тянул ехидные руки какой-то тип, явно промышлявший проскользнуть, как мыло, туда, где уже давно застыли косые взгляды. «Манера девушки вести себя ему отлично известна – она контролировала все либо же твердо делала вид, что это так и есть. Каждые наглые телодвижения паренька напротив она опережала и мирила своими колкими словами, завораживала ими и путала, а после играла с собеседником при помощи подкрашенных губ, длинных ресниц и открытой, нежной для глаз шеи. Блистательный образ, девочка моя!» Он даже не торопился вмешиваться. Точнее его кулака и носка на ноге били только ее взгляд и обманчивая речь.
«Надо же, какой у него противнейший смех!» Паренек разразился не то хохотом, не то фырканьем столь отталкивающим, будто бы то явилось не ртом, а прижимающейся к стулу частью тела. Это она несколькими словами нарушила всю программу паренька, грамотно и беспринципно обошла его в забаве обольщения, да так успешно, что тот бесповоротно попрощался с напористой моделью, твердившей несколько часов назад самой себе перед выходом из родительской квартиры о ключевых шагах в отношении девиц: «Сначала рассмешить, затем – расположить». И теперь и его руки перестали ластиться к ее талии, теперь они пытаются принять невнятную защитную позу, туловище начало сутулиться, глаза метались по орбитам, стараясь не напороться на атаку ее зеленых зарниц и уж тем более случайно не упасть на ее декольте. Через секунду после его слов, сомнительное содержание которых он все-таки смог вымолвить своим ртом, с трудом прикрыв раздражительный смех, он получил твердую оплеуху от уха до подбородка, отметившую окончательное первенство девиц.
– Очень хочется думать, что меня ты бьешь в разы сильнее.
Андрей подошел к ней сзади, зная, что его голоса она не испугается.
– На тебя сил я никогда не жалела.
Она немного повернулась на высоком стуле, принимая еще более похабную позу, в то же время по-прежнему оставаясь недоступной и привлекательной.
– Это я знаю, – ответил он, смело рассматривая ее плечи.
– Что пришел?
– За тобой. Хочу забрать тебя
– Поздно. С тобой я не пойду.
Широко улыбаясь, она взмахнула руками вверх, откинулась назад, пробормотала что-то и мелодично расхохоталась. Затем развернулась на круглом стуле, изящно вытянув одну ногу, словно в танце танго. Два парня, оказавшиеся перед ней, с неловким испугом в глазах уважительно улыбнулись ей так, словно их застала директриса в коридоре во время урока, и быстро ушли в толпу, пряча свои лица. Она же, продолжая ловкачить, перепрыгнула на освободившийся высокий табурет. Он пересел за ней. Она прыгнула еще через один. Быстро, но аккуратно и мягко он поймал ее руку – не за запястье, а уловил два ее маленьких пальца. То небольшое соприкосновение, что всегда оставалось манерой связи между ними, легким и нежным жестом внимания и исповеди. Она нисколечко не отпрянула, однако и не повернулась к нему, элегантной осанкой выпрямив спину и выпятив голые круглые плечи.
– Давно наблюдаешь?
– Давно.
– Знаешь, что он мне сказал?
– За что ты всадила ему по лицу? Нет, не знаю.
– Он сказал…
– Ариша… Мне не нужно знать, что сказала эта сволочь. Давай уйдем отсюда, и я извинюсь перед тобой, как подобает.
– А что уж тут извиняться-то? Тогда и мне следует извиниться перед тем. Что ты так на меня смотришь? Боишься за меня? Так я здесь не одна – вон там Маша танцует. Хочешь забрать меня? Так я не пойду. Хочешь что-то сказать еще? Так говори. Получишь и ты свое.
Искренность и ее красота у каждого проявляется по-своему в этом месте. По-своему прекрасно. Ее искренность была превосходна, хоть и сурова, и по справедливости необходима ей.
Откровенничать здесь ни с кем не нужно, всем все о тебе известно. Ты девушка, ты одна и для одной половины клуба ты крайне интересна. Это его и пугало. Пугало, ведь он такой ревнивец. А она была точно такой же моделью, что и он несколько минут назад перед дерзкой толпой, прежде чем он смог нащупать бар сквозь танец.
Он догнал ее в темном коридоре.
– Я была в уборной. Там никто ко мне не прижимался. Пока что.
Он застыл перед ней, не обращал внимания на других, смотрел на нее и на все их существующие воспоминания, видел ее здесь маленькой пятилетней девчонкой, широко улыбающейся первоклашкой с белыми бантами и холодными сентябрьскими цветами, двадцатилетней студенткой – дерзкой и рассудительной; глядел в ее глаза и знал, что что-то схожее проявляется и для нее.
– Я хочу отдохнуть, – опустив глаза, свозь губы процедила она.
– Ариша, ты ведь, должно быть, все прекрасно понимаешь.
– Возможно. А, возможно, и нет.
Она аккуратно, будто бы неохотно зашагала в сторону танцпола.
Будь то самое кульминационное послесловие в драм-постановке или отчаянная тяга к самому последнему из оставшегося, словно это его последний момент перед гибелью, он борзо и твердо схватил ее влажную ладонь и заранее сильно зажмурился, прежде чем ощутил звонкий хлопок по правой щеке. Даже после удара, в котором неизвестно чего было больше – мышечных усилий тонкой руки или обильных порывов гнева и обиды души, он не отпустил ее ладонь, продолжил исподлобья таращиться на нее краснеющими глазами, собрался было ухватить ее за вторую ладонь, прижать все ее тело к своему, но получил стремительный и нещадящий укол коленом в промежность, пронесшийся пронзительной болью через все его тело. Боль еще раз стрельнула в коленях, когда он упал перед ней. Она же, удивительно быстро исчерпав, вероятно, последние следы слепой ярости, очнувшись после рассеивающихся примитивных чувств, ощутила легкий массаж на своем животе и увидела его на коленях перед собой, ясно осознавая себя в его объятиях.
– Прости меня… прости, – повторял он, сжимая талию и напирая головой на мягкий живот.
– Андрей… Ты что? – рассеянный взгляд и расползающиеся слова выдавали в ней подступающую к горлу горечь.
– Молчи, дура! Я не перед тобой извиняюсь.
Она продолжала наблюдать, как он, стоя на коленях, нежно массировал лбом ее брюшко, повторяя и повторяя слова прощения, наглухо вплетавшиеся в ее кроп-топ.
Отольнув от его лица, Арина нарочито взмахнула светлыми кудряшками ему по носу и потянула его за собой сквозь темноту и одуряющие клубы кальянных испарений в сторону медленных движений толпы. Андрей твердо держал ее за руку, глядел на нее и только сейчас припомнил, что черный топ и легкие брюки «бананы», прямо сейчас красовавшиеся на ней, покупал именно он, после того как тайком нашел тетрадь, в которой Ариша записывала свои пожелания к праздникам и любимые идеи одежды. Он вспомнил, как придумал для нее подарок на день рождения, вспомнил, как недоумевал оттого, что брюки «бананы» по справедливости не могли соответствовать своему названию, вспомнил, как носился по магазинам, и еще раз счастливо улыбнулся прямо как тогда, когда представил ей подобранный образ одежд в день ее двадцатилетия.
Арина и Андрей плавно и умиротворенно кружились. Их танец, или вернее представить это как простые объятия, источал искренность и силу прощения. Здесь, прямо посреди откровенных и бесформенных танцев молодых девушек и парней, будто бы они внутри безудержных богем мелких беспозвоночных на полпути к пропасти темного морского дна, они не спеша гладили друг друга и признавались в любви. Арина безусловно плакала, а Андрей закрывал ее слезы своей грудью.
К утру молодая пара вышла на свежий воздух. Холодный рассвет, ослепительно падая на белую брусчатку, освещал им путь. Андрей уверенно вел мать его ребенка в их квартиру, а Арина крепко держала за руку молодого отца.
Катаклизм
Шесть дней как снег, не торопясь, покрывает город в свойственной ему размеренной январской или декабрьской манере. Однако в середине апреля вместо предновогоднего предвкушения торжеств медлительные километровые туманы снежинок кажутся ужасающими и не могут предвещать ничего, что могло бы стоять в порядке вещей.
Пробираясь через гладкие сугробы по узким и немногочисленным тропинкам, молодой парень остановился у фонарного столба, чтобы восстановить дыхание. «Кажется, еще вчера здесь проходила снегоуборочная техника», – подумал он. Опираясь на столб, он вскарабкался на кучу отвердевших снежных бесформенных камней. Довольно часто приходилось всматриваться свысока в прилегающие территории, чтобы мысленно проложить и хоть немного запомнить путь.
По многополосным дорогам шестую ночь подряд автоколонны здоровенных грузовиков выстраивались в лесенку и разъезжали по городу. Квартал за кварталом эти машины на скорости вздымали волны свежего, чистого снега, с помощью дуговой пластины, установленной впереди, укрощали их, отбрасывали по краям проезжей части и оставляли за собой улицу с неестественно высокими белыми уступами по обеим сторонам. Завороженный увиденным (промчался очередной боевой отряд грузовиков), парень шагом перешел широкую и чистую улицу.
Он замедлялся почти у каждого фонарного столба и осторожно осматривался в ночи. «Интересно, сколько уходит времени у мужей на то, чтобы утром откопать с первого раза именно их машину», – усмехнулся он про себя. Независимо от подобных мыслей и медленной расстилающийся метели, он не жалеет, что находится в столь поздний час на улице. В его квартире он был бы одинок, а сейчас его окружает живая и так невероятно тихо и мирно бушующая природная стихия. А цель, что им движет, радует и бодрит, каждый раз при этом процесс и, тем более, результат от проделанной работы в разы предвосхищают изначальное намерение вставать ночью, идти и помогать.
Крепко вцепившись в черенок лопаты, он принялся за работу. Отбрасывать рыхлый снег приходилось по сторонам и преимущественно на другие машины. Картина представлялась удивительно уникальной. Шестую ночь подряд снежная метель оставляет на утро покойные бархатные сугробы овальных и круглых форм в зависимости от имущества того или иного бедолаги, который понадеялся перед сном, что хотя бы этой ночью чертова метель возьмет передышку и не превратит его машину в очередную белую шапку. И только один ничем не примечательный автомобиль оставался более-менее очищен от белого месива, лишен метрового снежного покрывала и тем самым становился разборчив в своих формах. Парень старался не переусердствовать, первостепенной задачей он ставил обнаружить и откапать колеса, затем прокопать выход машины и напоследок убрать основную порцию снега с крыши, капота и лобового стекла. «Пусть не воображают чего лишнего. Она – молодая девушка, ей помощь никогда не помешает. А я делаю доброе дело. Этот катаклизм точно пойдет мне на руку. Будь здорова, Лена».
«Она здесь, стоит со мной. Она о чем-то молчит. Я заставил ее переключиться, и сейчас она наверняка думает о наших отношениях. У нее такой грустный вид. Лучше бы я не приходил. Зачем мучить нас? Зачем мучить ее?»
– Недавно прокололи колеса у машины, – спокойно и безразлично продолжала Лена.
– Как? Что ты делала?
– Что тут поделать. Взяли и прокололи шины за то, что я припарковалась не в том месте.
Он смотрел на нее раздосадованным взглядом. Хотел, чтобы она подняла свой взгляд, проявила эмоции.
– Я даже не сразу заметила. Завелась и поехала. Недолго. Ладно, успела съехать на обочину.
– Козлы.
– Видимо, я на их месте парковалась. Потом не удержалась и разрыдалась.
Она вдруг подняла взгляд на его лицо. В его голове было только одно: «Почему ты не позвонила мне? Почему не попросила помощи у меня?» Ответ был бы неутешительным для него и для нее.
– Как ты дальше справилась?
– Просто. Помогли.
Любой ответ был бы плачевным для него. В первую очередь – для него.
– А у тебя что нового? – не задерживая беседу, поинтересовалась она.
– Живу, работаю да учусь. Из нового – соседи сверху кричат.
– Что кричат?
– Ругаются.
– Полицию вызови.
– Я так и думаю. Паша говорит, сперва консьержке сообщить.
– Переложить ответственность.
– Надо как-то им помочь, разобраться с этим.
– Рома? – она вновь не выдержала никакой паузы и спросила.
– Да?
– Когда это закончится?
Ответ он подготавливал заранее, и он был неутешительным в первую очередь для нее.
– Я продолжу пытаться.
Она молчала.
«Когда же это все закончится?» – про себя спросил и он.
Дверь с треском отворилась.
– Паша, вызывай скорую.
– Чево?
Опешивший друг смотрел, как сгорбившийся сосед прочапал через всю квартиру и рухнул на диван.
– В скорую, черт, звони!
Паша молча проследовал за ним до дивана, на крики не реагировал.
– Звони, говорю. Не видишь, подыхаю.
– Как? Что с тобой случилось? – истерично взвизгнул Паша.
– Как-нибудь потом.
Рома лежал на правом боку, попеременно шевеля ногами, поднимал их к окровавленному животу, как деформированная пружина скручивался и раскручивался, принимая позу эмбриона. Паша вышел из оцепенения и рванул к телефону. Рома снова сжался в форму маленького ребеночка и достал левой рукой телефон из кармана брюк.
– Да, да! Я не знаю, что с ним! – услышал он крики друга из другой комнаты. Когда он включил телефон, левая рука не слушалась его, отказывалась переходить в телефонную книгу, могла лишь, как кисточка, рисовать на экране какие-то ребусы красного оттенка. Тогда он опустил руку к животу, перехватил телефон в другую. Правой рукой ему удалось найти нужный номер и придавить нужную кнопку.
– У него кровь на животе! – вопил Паша. – Он держит руки только на животе!
Гудки пролетели быстро. Или он просто закрыл глаза… Рома вытер их от чего-то мокрого и набрал номер снова. На этот раз отчетливо слышал все гудки.
– Что с тобой было-то?! – ревел Паша, вбегая в комнату.
Гудки закончились. Ответа не последовало.
– Меня пырнули ножом, Паша. Представляешь?
Паша ему не ответил. Он простонал что-то невнятное в трубку своего телефона.
«Я умру от его мальчишеской истерики», – четким голосом произнес про себя Рома. «Таких ужасов он представить себе не мог», – со смехом повторил голос. Он вновь набрал номер и принялся слушать гудки, отзывавшиеся странным красным свечением на экране телефона перед его глазами.
– Привет, Лена, – мягко сказал он.
– Привет, Рома, – услышал он спокойный ответ.
– Я бы хотел…
Крики Паши прервали его. Кажется, он пытался вспомнить адрес их дома.
– Что вы там кричите? – спросила Лена.
– Паша не может вспомнить, где мы живем.
Рома улыбался. Он вдруг загорелся желанием снова увидеть ее лицо.
– Что звонишь так поздно? – спросила Лена.
– Не знаю… как сказать.
– Я собираюсь спать.
Рома промолчал.
– Уже больше одиннадцати, – продолжала она.
В комнату снова ворвался Паша.
– Все! Все! Едет! Едут! – он говорил быстро. – Как же ты так?!
– Что с ним? Это Паша? – в голосе Лены что-то сменилось.
– Да, это он. Он такой трус, Лена. Такой трус, ты бы знала.
Рома продолжал улыбаться.
– Что делать-то? – вопил и метался по комнате Паша, стараясь не смотреть на друга.
– Что он кричит? – отозвался громкий голос из телефона.
– Ты по телефону решил поговорить! Ты ведь совсем ненормальный!
Вдруг Паша упал на колени перед Ромой.
– Крепче надо прижимать! Крепче!
Он схватил подушку и брезгливо положил ее Роме на живот.
– Тут все в крови! Ты весь в крови! Идиот!
Он вновь быстро убежал, спотыкаясь и падая.
– Рома, отчего он так кричит? – на этот раз угрожающе произнесла Лена.
– Он боится крови, – неторопливо ответил Рома. – Он трус и боится крови.
– Откуда у тебя кровь?
– Лена…
– Откуда у тебя кровь? Рома, ты вызвал скорую?
Он слегка приподнялся на правой руке, посмотрел на живот, затем быстро обратно лег.
– Весь диван в крови. Мягкий был диван.
– Что?! Рома! Жди скорую, прижимай рану!
– Лена…
– Рома, что с тобой случилось?! Почему ты мне звонишь?!
– Это все соседи… А это был дурацкий вопрос.
– Что?! Я тебя не понимаю. Откуда у тебя кровь, Рома?
– Из живота.
– Как же так?
– У придурка откуда-то взялся нож.
– О Господи, Рома! Пожалуйста, лежи!
Он слышал ее дрожащее дыхание и всхлипывающие слова.
– Лена. Это был я. Я убирал снег с твоей машины. Я не знал, как еще помочь тебе. И тут как на зло, в смысле удачно, снова пошел этот снег.
– Рома, лежи. Спокойно лежи, много не говори, прижимай рану.
Он вытер слезы окровавленной рукой. Левая рука онемела зажимать рану. Он положил телефон, включил громкую связь, сжал рукой сочную футболку в кулак и прижал этот сгусток к ране, затем придавил все это дело другой рукой.
– Прижал.
Он услышал невнятное рыдание и скулеж в телефоне.
– Лена?
Она молчала.
– Лена, ты плачешь?
– Ты тоже, я слышу.
Действительно, он тоже плакал. Слезы скатывались по щекам в его улыбку.
– Я так счастлив.
То он, то она всхлипывали, издавая горькие звуки.
– Рома?
– Да?
– Ты лежи. Лежи. Только лежи.
Они продолжали лежать – Рома на своем красном и уже не мягком диване, Лена на кровати, так крепко прижимая к себе бедную рыжую и пухлую кошку, как он держал ослабевающие руки у себя на животе. В комнату по-прежнему быстро вбежал Паша, но на этот раз уверенный, не суетившийся.
– Вот! Будем держать этим.
Он навалил на Рому комок из одежды и белья. Прижал все эти тряпки к мокрому животу и придавил руками. Он отвернулся и стал смотреть в окно. Больше он ничего не говорил.
– Лена?
– Да, Рома?
– Они ведь не успеют приехать.
Паша покряхтел.
– Почему? – тихим голосом произнесла она.
– Им ведь никто машину от снега не чистил.
Она засмеялась. Ее смех был таким легким и искренним. Давно он не слышал искренности от нее.
– Тогда давай я приеду.
Он услышал от нее второй непритворный знак.
– Приезжай. Я жду.
Паша, стиснув зубами щеки, смотрел, как за окном валит снег. Он молчал и думал: «За что ему этот злополучный снег».
Не таких уж и внушительных размеров оказался мужик на контроле у входа перед гардеробом. Но все-таки он был одет во все черное. Куда идти, гадать не приходится – коридор хоть и выставлен в подчеркнуто темных тонах, подпитан эффектно наслоенными механизмами теней, но достаточно не опускать стыдливого взгляда перед изящно извивающимися телами едва знакомых парочек, ни в коем случае не оборачиваться, и стены, кажущиеся откровенно голыми, обязательно приведут каждого к тому, за чем он пришел в ночной клуб.
«У барной стойки ее нет, а это значит, губительные образы под очаровывающую музыку вот-вот начнут собираться в его голове. Улыбчивого бармена спрашивать точно не стоит, он кривит рожей всем, успокаивается разве что только дома перед зеркалом».
Он плавно пробирался сквозь волнующихся молодых парней и девушек, различал их плавные, изящные, подпитанные напитками движения, но не различал их лиц. Не мог найти ее. Музыка подыгрывала разуму в такт, как разряды молний, она проходила через его тело, перетекала в неоновый пол и впитывалась в тела других, движения которых отдавались ее импульсами. «Где же она? Где ее тело?»
И вот в безобразных оттенках ему будто бы привиделись летящие открытые плечи и знакомые движения коротких, живых и изящных локонов. Даже в сером окружении он видел и плечи, и эти локоны в мягком и таком близком белом образе. За плавным поворотом лица по инерции разлились те самые белые пряди, среди этих волн он увидел любимые зеленые взгляды. Ни секунды не разбавляя свой разум на сомнения, он отправился за ней. Отходя от барной стойки, из рук покатился бокал, до того изображавший лишь его хорошие манеры перед барменом, а теперь и подавно ставший ему ненужным.
«Вот черт! У нее были такие пикантные плечи. Какими только приключениями она могла обзавестись в этом гадюшнике, принимая в расчет ее желанный образ, отборное поведение и, самое главное, переполняющие ее чувства самодостаточности, грусти и нечеловеческой решимости. Будь я на ее месте… Впрочем, неважно. Как бы не упустить ее белые плечи».
«Она улыбалась. Значит, дело плохо. Либо ее злоба уже отступила, либо только набирает ход, чтобы потом невольно рвануть в неприятное время в неприятной компании». Через каждое слово к ней тянул ехидные руки какой-то тип, явно промышлявший проскользнуть, как мыло, туда, где уже давно застыли косые взгляды. «Манера девушки вести себя ему отлично известна – она контролировала все либо же твердо делала вид, что это так и есть. Каждые наглые телодвижения паренька напротив она опережала и мирила своими колкими словами, завораживала ими и путала, а после играла с собеседником при помощи подкрашенных губ, длинных ресниц и открытой, нежной для глаз шеи. Блистательный образ, девочка моя!» Он даже не торопился вмешиваться. Точнее его кулака и носка на ноге били только ее взгляд и обманчивая речь.
«Надо же, какой у него противнейший смех!» Паренек разразился не то хохотом, не то фырканьем столь отталкивающим, будто бы то явилось не ртом, а прижимающейся к стулу частью тела. Это она несколькими словами нарушила всю программу паренька, грамотно и беспринципно обошла его в забаве обольщения, да так успешно, что тот бесповоротно попрощался с напористой моделью, твердившей несколько часов назад самой себе перед выходом из родительской квартиры о ключевых шагах в отношении девиц: «Сначала рассмешить, затем – расположить». И теперь и его руки перестали ластиться к ее талии, теперь они пытаются принять невнятную защитную позу, туловище начало сутулиться, глаза метались по орбитам, стараясь не напороться на атаку ее зеленых зарниц и уж тем более случайно не упасть на ее декольте. Через секунду после его слов, сомнительное содержание которых он все-таки смог вымолвить своим ртом, с трудом прикрыв раздражительный смех, он получил твердую оплеуху от уха до подбородка, отметившую окончательное первенство девиц.
– Очень хочется думать, что меня ты бьешь в разы сильнее.
Андрей подошел к ней сзади, зная, что его голоса она не испугается.
– На тебя сил я никогда не жалела.
Она немного повернулась на высоком стуле, принимая еще более похабную позу, в то же время по-прежнему оставаясь недоступной и привлекательной.
– Это я знаю, – ответил он, смело рассматривая ее плечи.
– Что пришел?
– За тобой. Хочу забрать тебя
– Поздно. С тобой я не пойду.
Широко улыбаясь, она взмахнула руками вверх, откинулась назад, пробормотала что-то и мелодично расхохоталась. Затем развернулась на круглом стуле, изящно вытянув одну ногу, словно в танце танго. Два парня, оказавшиеся перед ней, с неловким испугом в глазах уважительно улыбнулись ей так, словно их застала директриса в коридоре во время урока, и быстро ушли в толпу, пряча свои лица. Она же, продолжая ловкачить, перепрыгнула на освободившийся высокий табурет. Он пересел за ней. Она прыгнула еще через один. Быстро, но аккуратно и мягко он поймал ее руку – не за запястье, а уловил два ее маленьких пальца. То небольшое соприкосновение, что всегда оставалось манерой связи между ними, легким и нежным жестом внимания и исповеди. Она нисколечко не отпрянула, однако и не повернулась к нему, элегантной осанкой выпрямив спину и выпятив голые круглые плечи.
– Давно наблюдаешь?
– Давно.
– Знаешь, что он мне сказал?
– За что ты всадила ему по лицу? Нет, не знаю.
– Он сказал…
– Ариша… Мне не нужно знать, что сказала эта сволочь. Давай уйдем отсюда, и я извинюсь перед тобой, как подобает.
– А что уж тут извиняться-то? Тогда и мне следует извиниться перед тем. Что ты так на меня смотришь? Боишься за меня? Так я здесь не одна – вон там Маша танцует. Хочешь забрать меня? Так я не пойду. Хочешь что-то сказать еще? Так говори. Получишь и ты свое.
Искренность и ее красота у каждого проявляется по-своему в этом месте. По-своему прекрасно. Ее искренность была превосходна, хоть и сурова, и по справедливости необходима ей.
Откровенничать здесь ни с кем не нужно, всем все о тебе известно. Ты девушка, ты одна и для одной половины клуба ты крайне интересна. Это его и пугало. Пугало, ведь он такой ревнивец. А она была точно такой же моделью, что и он несколько минут назад перед дерзкой толпой, прежде чем он смог нащупать бар сквозь танец.
Он догнал ее в темном коридоре.
– Я была в уборной. Там никто ко мне не прижимался. Пока что.
Он застыл перед ней, не обращал внимания на других, смотрел на нее и на все их существующие воспоминания, видел ее здесь маленькой пятилетней девчонкой, широко улыбающейся первоклашкой с белыми бантами и холодными сентябрьскими цветами, двадцатилетней студенткой – дерзкой и рассудительной; глядел в ее глаза и знал, что что-то схожее проявляется и для нее.
– Я хочу отдохнуть, – опустив глаза, свозь губы процедила она.
– Ариша, ты ведь, должно быть, все прекрасно понимаешь.
– Возможно. А, возможно, и нет.
Она аккуратно, будто бы неохотно зашагала в сторону танцпола.
Будь то самое кульминационное послесловие в драм-постановке или отчаянная тяга к самому последнему из оставшегося, словно это его последний момент перед гибелью, он борзо и твердо схватил ее влажную ладонь и заранее сильно зажмурился, прежде чем ощутил звонкий хлопок по правой щеке. Даже после удара, в котором неизвестно чего было больше – мышечных усилий тонкой руки или обильных порывов гнева и обиды души, он не отпустил ее ладонь, продолжил исподлобья таращиться на нее краснеющими глазами, собрался было ухватить ее за вторую ладонь, прижать все ее тело к своему, но получил стремительный и нещадящий укол коленом в промежность, пронесшийся пронзительной болью через все его тело. Боль еще раз стрельнула в коленях, когда он упал перед ней. Она же, удивительно быстро исчерпав, вероятно, последние следы слепой ярости, очнувшись после рассеивающихся примитивных чувств, ощутила легкий массаж на своем животе и увидела его на коленях перед собой, ясно осознавая себя в его объятиях.
– Прости меня… прости, – повторял он, сжимая талию и напирая головой на мягкий живот.
– Андрей… Ты что? – рассеянный взгляд и расползающиеся слова выдавали в ней подступающую к горлу горечь.
– Молчи, дура! Я не перед тобой извиняюсь.
Она продолжала наблюдать, как он, стоя на коленях, нежно массировал лбом ее брюшко, повторяя и повторяя слова прощения, наглухо вплетавшиеся в ее кроп-топ.
Отольнув от его лица, Арина нарочито взмахнула светлыми кудряшками ему по носу и потянула его за собой сквозь темноту и одуряющие клубы кальянных испарений в сторону медленных движений толпы. Андрей твердо держал ее за руку, глядел на нее и только сейчас припомнил, что черный топ и легкие брюки «бананы», прямо сейчас красовавшиеся на ней, покупал именно он, после того как тайком нашел тетрадь, в которой Ариша записывала свои пожелания к праздникам и любимые идеи одежды. Он вспомнил, как придумал для нее подарок на день рождения, вспомнил, как недоумевал оттого, что брюки «бананы» по справедливости не могли соответствовать своему названию, вспомнил, как носился по магазинам, и еще раз счастливо улыбнулся прямо как тогда, когда представил ей подобранный образ одежд в день ее двадцатилетия.
Арина и Андрей плавно и умиротворенно кружились. Их танец, или вернее представить это как простые объятия, источал искренность и силу прощения. Здесь, прямо посреди откровенных и бесформенных танцев молодых девушек и парней, будто бы они внутри безудержных богем мелких беспозвоночных на полпути к пропасти темного морского дна, они не спеша гладили друг друга и признавались в любви. Арина безусловно плакала, а Андрей закрывал ее слезы своей грудью.
К утру молодая пара вышла на свежий воздух. Холодный рассвет, ослепительно падая на белую брусчатку, освещал им путь. Андрей уверенно вел мать его ребенка в их квартиру, а Арина крепко держала за руку молодого отца.
Катаклизм
Шесть дней как снег, не торопясь, покрывает город в свойственной ему размеренной январской или декабрьской манере. Однако в середине апреля вместо предновогоднего предвкушения торжеств медлительные километровые туманы снежинок кажутся ужасающими и не могут предвещать ничего, что могло бы стоять в порядке вещей.
Пробираясь через гладкие сугробы по узким и немногочисленным тропинкам, молодой парень остановился у фонарного столба, чтобы восстановить дыхание. «Кажется, еще вчера здесь проходила снегоуборочная техника», – подумал он. Опираясь на столб, он вскарабкался на кучу отвердевших снежных бесформенных камней. Довольно часто приходилось всматриваться свысока в прилегающие территории, чтобы мысленно проложить и хоть немного запомнить путь.
По многополосным дорогам шестую ночь подряд автоколонны здоровенных грузовиков выстраивались в лесенку и разъезжали по городу. Квартал за кварталом эти машины на скорости вздымали волны свежего, чистого снега, с помощью дуговой пластины, установленной впереди, укрощали их, отбрасывали по краям проезжей части и оставляли за собой улицу с неестественно высокими белыми уступами по обеим сторонам. Завороженный увиденным (промчался очередной боевой отряд грузовиков), парень шагом перешел широкую и чистую улицу.
Он замедлялся почти у каждого фонарного столба и осторожно осматривался в ночи. «Интересно, сколько уходит времени у мужей на то, чтобы утром откопать с первого раза именно их машину», – усмехнулся он про себя. Независимо от подобных мыслей и медленной расстилающийся метели, он не жалеет, что находится в столь поздний час на улице. В его квартире он был бы одинок, а сейчас его окружает живая и так невероятно тихо и мирно бушующая природная стихия. А цель, что им движет, радует и бодрит, каждый раз при этом процесс и, тем более, результат от проделанной работы в разы предвосхищают изначальное намерение вставать ночью, идти и помогать.
Крепко вцепившись в черенок лопаты, он принялся за работу. Отбрасывать рыхлый снег приходилось по сторонам и преимущественно на другие машины. Картина представлялась удивительно уникальной. Шестую ночь подряд снежная метель оставляет на утро покойные бархатные сугробы овальных и круглых форм в зависимости от имущества того или иного бедолаги, который понадеялся перед сном, что хотя бы этой ночью чертова метель возьмет передышку и не превратит его машину в очередную белую шапку. И только один ничем не примечательный автомобиль оставался более-менее очищен от белого месива, лишен метрового снежного покрывала и тем самым становился разборчив в своих формах. Парень старался не переусердствовать, первостепенной задачей он ставил обнаружить и откапать колеса, затем прокопать выход машины и напоследок убрать основную порцию снега с крыши, капота и лобового стекла. «Пусть не воображают чего лишнего. Она – молодая девушка, ей помощь никогда не помешает. А я делаю доброе дело. Этот катаклизм точно пойдет мне на руку. Будь здорова, Лена».
«Она здесь, стоит со мной. Она о чем-то молчит. Я заставил ее переключиться, и сейчас она наверняка думает о наших отношениях. У нее такой грустный вид. Лучше бы я не приходил. Зачем мучить нас? Зачем мучить ее?»
– Недавно прокололи колеса у машины, – спокойно и безразлично продолжала Лена.
– Как? Что ты делала?
– Что тут поделать. Взяли и прокололи шины за то, что я припарковалась не в том месте.
Он смотрел на нее раздосадованным взглядом. Хотел, чтобы она подняла свой взгляд, проявила эмоции.
– Я даже не сразу заметила. Завелась и поехала. Недолго. Ладно, успела съехать на обочину.
– Козлы.
– Видимо, я на их месте парковалась. Потом не удержалась и разрыдалась.
Она вдруг подняла взгляд на его лицо. В его голове было только одно: «Почему ты не позвонила мне? Почему не попросила помощи у меня?» Ответ был бы неутешительным для него и для нее.
– Как ты дальше справилась?
– Просто. Помогли.
Любой ответ был бы плачевным для него. В первую очередь – для него.
– А у тебя что нового? – не задерживая беседу, поинтересовалась она.
– Живу, работаю да учусь. Из нового – соседи сверху кричат.
– Что кричат?
– Ругаются.
– Полицию вызови.
– Я так и думаю. Паша говорит, сперва консьержке сообщить.
– Переложить ответственность.
– Надо как-то им помочь, разобраться с этим.
– Рома? – она вновь не выдержала никакой паузы и спросила.
– Да?
– Когда это закончится?
Ответ он подготавливал заранее, и он был неутешительным в первую очередь для нее.
– Я продолжу пытаться.
Она молчала.
«Когда же это все закончится?» – про себя спросил и он.
Дверь с треском отворилась.
– Паша, вызывай скорую.
– Чево?
Опешивший друг смотрел, как сгорбившийся сосед прочапал через всю квартиру и рухнул на диван.
– В скорую, черт, звони!
Паша молча проследовал за ним до дивана, на крики не реагировал.
– Звони, говорю. Не видишь, подыхаю.
– Как? Что с тобой случилось? – истерично взвизгнул Паша.
– Как-нибудь потом.
Рома лежал на правом боку, попеременно шевеля ногами, поднимал их к окровавленному животу, как деформированная пружина скручивался и раскручивался, принимая позу эмбриона. Паша вышел из оцепенения и рванул к телефону. Рома снова сжался в форму маленького ребеночка и достал левой рукой телефон из кармана брюк.
– Да, да! Я не знаю, что с ним! – услышал он крики друга из другой комнаты. Когда он включил телефон, левая рука не слушалась его, отказывалась переходить в телефонную книгу, могла лишь, как кисточка, рисовать на экране какие-то ребусы красного оттенка. Тогда он опустил руку к животу, перехватил телефон в другую. Правой рукой ему удалось найти нужный номер и придавить нужную кнопку.
– У него кровь на животе! – вопил Паша. – Он держит руки только на животе!
Гудки пролетели быстро. Или он просто закрыл глаза… Рома вытер их от чего-то мокрого и набрал номер снова. На этот раз отчетливо слышал все гудки.
– Что с тобой было-то?! – ревел Паша, вбегая в комнату.
Гудки закончились. Ответа не последовало.
– Меня пырнули ножом, Паша. Представляешь?
Паша ему не ответил. Он простонал что-то невнятное в трубку своего телефона.
«Я умру от его мальчишеской истерики», – четким голосом произнес про себя Рома. «Таких ужасов он представить себе не мог», – со смехом повторил голос. Он вновь набрал номер и принялся слушать гудки, отзывавшиеся странным красным свечением на экране телефона перед его глазами.
– Привет, Лена, – мягко сказал он.
– Привет, Рома, – услышал он спокойный ответ.
– Я бы хотел…
Крики Паши прервали его. Кажется, он пытался вспомнить адрес их дома.
– Что вы там кричите? – спросила Лена.
– Паша не может вспомнить, где мы живем.
Рома улыбался. Он вдруг загорелся желанием снова увидеть ее лицо.
– Что звонишь так поздно? – спросила Лена.
– Не знаю… как сказать.
– Я собираюсь спать.
Рома промолчал.
– Уже больше одиннадцати, – продолжала она.
В комнату снова ворвался Паша.
– Все! Все! Едет! Едут! – он говорил быстро. – Как же ты так?!
– Что с ним? Это Паша? – в голосе Лены что-то сменилось.
– Да, это он. Он такой трус, Лена. Такой трус, ты бы знала.
Рома продолжал улыбаться.
– Что делать-то? – вопил и метался по комнате Паша, стараясь не смотреть на друга.
– Что он кричит? – отозвался громкий голос из телефона.
– Ты по телефону решил поговорить! Ты ведь совсем ненормальный!
Вдруг Паша упал на колени перед Ромой.
– Крепче надо прижимать! Крепче!
Он схватил подушку и брезгливо положил ее Роме на живот.
– Тут все в крови! Ты весь в крови! Идиот!
Он вновь быстро убежал, спотыкаясь и падая.
– Рома, отчего он так кричит? – на этот раз угрожающе произнесла Лена.
– Он боится крови, – неторопливо ответил Рома. – Он трус и боится крови.
– Откуда у тебя кровь?
– Лена…
– Откуда у тебя кровь? Рома, ты вызвал скорую?
Он слегка приподнялся на правой руке, посмотрел на живот, затем быстро обратно лег.
– Весь диван в крови. Мягкий был диван.
– Что?! Рома! Жди скорую, прижимай рану!
– Лена…
– Рома, что с тобой случилось?! Почему ты мне звонишь?!
– Это все соседи… А это был дурацкий вопрос.
– Что?! Я тебя не понимаю. Откуда у тебя кровь, Рома?
– Из живота.
– Как же так?
– У придурка откуда-то взялся нож.
– О Господи, Рома! Пожалуйста, лежи!
Он слышал ее дрожащее дыхание и всхлипывающие слова.
– Лена. Это был я. Я убирал снег с твоей машины. Я не знал, как еще помочь тебе. И тут как на зло, в смысле удачно, снова пошел этот снег.
– Рома, лежи. Спокойно лежи, много не говори, прижимай рану.
Он вытер слезы окровавленной рукой. Левая рука онемела зажимать рану. Он положил телефон, включил громкую связь, сжал рукой сочную футболку в кулак и прижал этот сгусток к ране, затем придавил все это дело другой рукой.
– Прижал.
Он услышал невнятное рыдание и скулеж в телефоне.
– Лена?
Она молчала.
– Лена, ты плачешь?
– Ты тоже, я слышу.
Действительно, он тоже плакал. Слезы скатывались по щекам в его улыбку.
– Я так счастлив.
То он, то она всхлипывали, издавая горькие звуки.
– Рома?
– Да?
– Ты лежи. Лежи. Только лежи.
Они продолжали лежать – Рома на своем красном и уже не мягком диване, Лена на кровати, так крепко прижимая к себе бедную рыжую и пухлую кошку, как он держал ослабевающие руки у себя на животе. В комнату по-прежнему быстро вбежал Паша, но на этот раз уверенный, не суетившийся.
– Вот! Будем держать этим.
Он навалил на Рому комок из одежды и белья. Прижал все эти тряпки к мокрому животу и придавил руками. Он отвернулся и стал смотреть в окно. Больше он ничего не говорил.
– Лена?
– Да, Рома?
– Они ведь не успеют приехать.
Паша покряхтел.
– Почему? – тихим голосом произнесла она.
– Им ведь никто машину от снега не чистил.
Она засмеялась. Ее смех был таким легким и искренним. Давно он не слышал искренности от нее.
– Тогда давай я приеду.
Он услышал от нее второй непритворный знак.
– Приезжай. Я жду.
Паша, стиснув зубами щеки, смотрел, как за окном валит снег. Он молчал и думал: «За что ему этот злополучный снег».
Дмитрий САРВИН
Режиссер, художник-постановщик, актер, писатель. Родился в 1975 году в
г. Тула. Закончил Санкт-Петербургскую государственную
Академию театрального искусства, мастерская профессора И. А. Богданова. Специальность – режиссура. Режиссер-постановщик, художник-постановщик первого в мире мюзикла «Приключения барона Мюнхгаузена», создатель первого джазового спектакля с участием Билли Новика «Это Питер, детка!». Режиссер и художник музыкального спектакля «Мертвые души» по одноименному произведению Н.В. Гоголя. (Театр «Камерная сцена», Москва). Спектакль получил Гран-при на международном ХХIV молодежном театральном фестивале «Русская классика». Победитель в литературных конкурсах «Байки из логова» и «Новые истории про Винни Пуха», Дарвинский музей г. Москва. Эксперт жюри литературного конкурса «Город Луны» (2020 г.). Дипломант второй степени литературного конкурса «Золотое перо Алтая 2020» (серебряный призер) в номинации «Золотым пером о Граде-наукограде» – «Проза», рассказ «Поезд в небо» (2021 г.). Главный редактор альманаха «Театральная Премьера».
Режиссер, художник-постановщик, актер, писатель. Родился в 1975 году в
г. Тула. Закончил Санкт-Петербургскую государственную
Академию театрального искусства, мастерская профессора И. А. Богданова. Специальность – режиссура. Режиссер-постановщик, художник-постановщик первого в мире мюзикла «Приключения барона Мюнхгаузена», создатель первого джазового спектакля с участием Билли Новика «Это Питер, детка!». Режиссер и художник музыкального спектакля «Мертвые души» по одноименному произведению Н.В. Гоголя. (Театр «Камерная сцена», Москва). Спектакль получил Гран-при на международном ХХIV молодежном театральном фестивале «Русская классика». Победитель в литературных конкурсах «Байки из логова» и «Новые истории про Винни Пуха», Дарвинский музей г. Москва. Эксперт жюри литературного конкурса «Город Луны» (2020 г.). Дипломант второй степени литературного конкурса «Золотое перо Алтая 2020» (серебряный призер) в номинации «Золотым пером о Граде-наукограде» – «Проза», рассказ «Поезд в небо» (2021 г.). Главный редактор альманаха «Театральная Премьера».
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Откладывать было не в его характере – Супермен смачно плюнул на полосатую ковровую дорожку, обулся и пошёл. Проклиная извечную темноту в подъезде и характерный запах мочи, он толкнул железную дверь и, жмурясь от яркого солнца, вышел на крыльцо. Постоял, привыкая к солнечному свету, потом глубоко вздохнул, отметив про себя, что весной особенно хочется жить, и не спеша пошёл к темной громадине из стекла и бетона, возвышающейся над маленьким городом. Весенний ветер гнал по улице песчаную пыль, кусок туалетной бумаги и ощущение тепла. Городок оттаял от зимней спячки, но радоваться весне не торопился, как будто боялся снова накликать зиму. Снег сошёл, грязь высохла, а зелень только-только проклюнулась, и все живое с надеждой потянулось к отмытой синеве неба.
Асфальтовая дорога, по которой шёл Супермен, была в удручающем состоянии. Она была изрезана трещинами, местами встречались ямы. Когда трость застряла в трещине, Супермен ругнулся, но потом вспомнил, с чем были связанны все эти ухабы на дороге, вздохнул и молча продолжал свой путь. У маленького магазинчика с дерзким названием «Мир еды» он остановился, посмотрел сквозь витрину на жирные окорока, маняще лежащие на прилавке, затем перевёл взгляд на своё отражение. Некогда лихой завиток на его лбу превратился в седую беспорядочную прядь, волосы поредели, как, собственно, и зубы, усталые глаза залегли в темных впадинах, прикрывшись видавшими виды очками.
Одежда также не вызывала оптимизма. Красный шарф порос щетиной ниток и грустно болтался на худой шее. Сильно изношенный пиджак с оттопыренным карманом и обмахрившимися краями, из-под которых торчало синее трико с пузырящимися коленками – все это нельзя было назвать парадно-выходным, но, к сожалению, таковым являлось. Супермен уже не мог так лихо переодеваться и поэтому старался одеваться практично. Он отвернулся от жалкого старика, который отражался в пыльной витрине, ещё больше ссутулился и побрел к пункту назначения.
Цитадель зла уже была близко. Небо над серой громадиной темнело, в воздухе пахло грозой.
«Нужно разозлиться», – подумал Супермен и с силой потянул хромированную дверь на себя.
Его взору сразу предстали страждущие, привязанные или прикованные к своим местам, обреченно ожидающие своей очереди. Адская машина клеймила каждого, кто входил, затем ржавыми цепями скрепляли всех в единую цепь смиренного ожидания. Людская вереница тянулась к зловещим амбразурным окнам. Люди добровольно подходили к ним, а те, кто мешкал, подталкивались позади идущими. Супермен решительно шагнул внутрь, к нему сразу метнулось скользко-вихлястое саламандроподобное тельце.
– Халдей, – процедил Супермен, готовясь дать отпор.
– Ноаж, ноаж! – зашипело существо.
– Что?! – зло спросил человек с Криптона.
– Номер ваш, ваш номер.
– На! – и Супермен вытянул руку с туго скрученным кукишем прямо в осклизлую физиономию. Саламандра стушевалась, набрякла щеками и мгновенно ретировалась.
– Ух, крысы, вы у меня сейчас попляшете! – цедил сквозь зубы Супермен. Разрывая людскую цепь, он двинулся к ближайшему окну. Все присутствующие оживились, стали перешёптываться, а кто-то даже громко заговорил. В амбразуре окна сидела редкостная мымра. Её гусеничное тело, обернутое в трикотажную ткань пошлой расцветки, восседало на неком подобии стула, а часть её плоти свесилась, не умещаясь на сидении. Супермен почему-то вспомнил жирные окорока, которые он сегодня видел за витриной. Пухлые, короткие бородавчатые ручки с длинными багрово-красными ногтями бегали по пульсирующим нервным нитям арфа-образной клавиатуры.
– У меня вопрос, – и он тихонько постучал по дырчато-пупырчатой поверхности стекла, привлекая к себе внимание. Но на сером лице, зачем-то подкрашенном пудрой, не отразилось ни одной эмоции, мымра даже не шелохнулась, продолжая играть на нервных окончаниях клавиатуры.
– Ты там сдохла, что ли? – крикнул Супермен, стараясь поймать взгляд серой мымры.
– Не злите её, пожалуйста, – сказал бледный человек, который стоял возле окна, – а то она меня съест...
– Ещё посмотрим, кто кого съест! – и Супермен грохнул по дырчато-пузырчатому стеклу кулаком. Стекло и толпа загудели. Мымра подняла глаза, и Супермен увидел в её вертикальных змеиных глазах ненависть.
– Архашшшшшш! – зашипела мымра. Но Супермен не дал ей шанса и, нагнувшись к оконному отверстию, плюнул раскалённой слюной в её ощерившуюся пасть. Мымра покрылась пятнами, переходящими в багровые волдыри, завизжала, выбросив алый фонтан пенистой струи, и бросилась прочь, в глубину своей ячеистой норы.
Восторженные крики приветствовали Супермена, и это придало ему сил, он торжественно двинулся к следующему окну, разрывая путы, сковавшие находившихся в ловушке людей. Как только он приблизился ко второму амбразурному отверстию, оно тут же наглухо закрылось стальной мембраной. Супермен с силой ударил своей тростью в проклепанную поверхность. Трость оставила углубление в защитной створке. Терять время он не стал, двинулся к следующему окну. На его пути вырос чёрный глист. Садистская улыбка из мелкого частокола зубов и мутная нить слюны, сочившаяся от вожделения из его скривившегося рта, заставили Супермена вспомнить этого персонажа. Лет тридцать назад, спасая в очередной раз мир от Разрушителей, Супермен поверг в пыль главаря этих хитрых тварей, а его кодла в бессильной злобе набросилась на Супермена. Он расправился со всеми, а этот, что сейчас извивался перед ним, сумел убежать... и вот, сейчас трусливый глист намеривался отыграться.
Супермен левой рукой сделал выпад-удар в чешуйчатое тело глиста. Глист, радостно блеснув поросячьими глазками, перехватил руку Супермена и, делая захват, тут же получил в лоб тростью. Не дав ему опомниться, Супермен этой же тростью подцепил противника за опорную ногу и опрокинул его навзничь. Чёрный глист, хорошо приложившись о мраморный пол, конвульсивно дернулся и затих.
– Становится жарковато, – сказал Супермен, расстегивая пиджак. Толпа ахнула, увидев сияющую букву «S» на его груди – знак Супермена. Шарф, намотанный вокруг шеи, развязался, соскользнул вниз и, расправившись, стал алым плащом. Чёрная прядь вновь красовалась на высоком, без единой морщинки лбу. Глаза горели, щеки пылали румянцем.
– Супермен! Супермен! Супермен! – неистово скандировал народ. В зал мучительного ожидания вбежали три молодчика, как и поверженный глист, облачённые в чёрное. Вихлястая саламандра скрюченным пальцем истерично тыкала в Супермена.
– Надо было тебя сразу прищучить! – сказал Супермен, перекидывая трость в левую руку. Пружинящим шагом он пошёл на противника. Снова резкий бросок трости из левой руки в правую, затем – обманный удар в голову; чешуйчато-чёрный закрылся рукой, но трость, изменив траекторию, словно жало, впилась другому супостату под дых.
– Гнохххх! – зашипел он, оседая на колени. Трость, словно отрикошетив, ударила другого промеж ног, и тот, охнув, последовал примеру своего товарища по чёрной униформе. Третий вскинул руку, опутанную сетью голубых молний, и постарался ударить Супермена в бок, тем самым надеясь поджарить супергероя. Чудом уклонившись от разряда, Супермен отступил назад, а черно-чешуйчатый, изощрённо крутнувшись, все ж таки зацепил Супермена. Электрический разряд, словно щупальцами, обвил тело непокорного криптонянина. Свет брызнул из его глаз, расплавив очки, пиджак взорвался, разлетаясь в дымные лоскуты, а знак на груди стал ещё ярче!
– Ух-х-х! – и Супермен сдул чёрную фигурку, словно она была бумажным силуэтом. Затем он взлетел. Толпа взревела так, как будто Россия выиграла чемпионат мира по футболу.
–Ух-х-х! – и стёкла вылетели из окон цокольного этажа. Освобожденный народ бросился прочь из пленившего их здания. Взвыли сирены. Супермен заставил их умолкнуть навеки одним лишь взглядом. Взлетев выше, он упёрся руками в потолок и... В фундаменте здания что-то застонало, затем с оглушительным треском лопнули бетонные стены... Супермен напряг все свои силы. Медленно, очень медленно здание начало подниматься вверх. Серая громадина, со стоном, скрипом осыпаясь мелкими бетонными крошками, неуклонно ползла вверх – туда, где гудел ветер и метались молнии. Выстрел. Пуля, сделанная из камня с Криптона, пробила грудь Супермена.
– Ох, – выдохнул Супермен. Посмотрев вниз, он увидел стрелявшего. Мелкий частокол зубов и мутная нить слюны... Слабеющими руками Супермен направил серую громадину в сторону стрелявшего, тот бросил оружие и побежал, оставляя за собой скользкий след. Сначала тень накрыла трусливо бегущего глиста, а затем и вся громадина здания обрушилась, погребя под собой его тщедушное тело. Ветер усилился, Супермен медленно, очень медленно опустился в серую пыль котлована, смертельная усталость свалила его, заставив лечь на дно. Он последний раз взглянул в беснующееся молниями свинцовое небо, и его не стало... Световой поток метнулся в небо, разорвал тучевую завесу и обрушился вниз проливным дождем. Ливень, словно оплакивая героя, безудержно хлестал из светлеющих небес, шквальный ветер панихидно завывал, а люди молча собирались вокруг ямы, где упокоился Человек, всегда готовый помочь другим. Дождевая вода размочила бетонную пыль, и она превратилась в темный водный саван, который медленно укрывал тело погибшего.
Скорая приехала, чтоб констатировать смерть и забрать тело. Люди расступились, пропуская медработников. На мраморном полу ЖКХ, раскинув руки и глядя в серый потолок, утыканный лампами дневного освещения, лежал пожилой человек. Возле него стоял охранник в чёрной униформе, сжимая в потной ладошке электрошок, и участковый, внимательно осматривающий место происшествия.
– Его звали Алексей Сергеевич, – сказал человек с бледным лицом, обращаясь словно к самому себе, – последние годы он был старшим по подъезду, помогал людям, чем мог. Сегодня вот, пришел сюда, чтоб разобраться с «платежками» для одной пожилой женщины, которой регулярно приносили их с большой переплатой...
– Хороший был человек, – сказала женщина в сером платке, возле которой стоял её внук в потертой бейсболке, и, отвернувшись, вытерла слезу. Медработники буднично подняли старика и, переложив на носилки, понесли к машине. Красный шарф юркой змейкой шмыгнул на пол и упал к ногам мальчишки в потертой бейсболке. Тот поднял его и прижал к груди, словно маленькую реликвию. Люди начали расходиться. Холл опустел.
Весенний ветер разогнал обрывки лохматых туч, погудел в водосточные трубы, потом нашёл где-то шмоток туалетной бумаги и яростно погнал его по улице. Затем, словно понимая, что делает, швырнул этот шмоток в лицо охранника в чёрной форме. Тот хотел отмахнуться руками, но они были заведены за спину и закованы в наручники. Охранник замычал и брезгливо замотал головой. Участковый, наблюдая это, улыбнулся в седые усы, подтолкнул охранника к «полицейскому бобику» и, посмотрев на весеннее солнце, подумал, что весной, как никогда, хочется жить...
Откладывать было не в его характере – Супермен смачно плюнул на полосатую ковровую дорожку, обулся и пошёл. Проклиная извечную темноту в подъезде и характерный запах мочи, он толкнул железную дверь и, жмурясь от яркого солнца, вышел на крыльцо. Постоял, привыкая к солнечному свету, потом глубоко вздохнул, отметив про себя, что весной особенно хочется жить, и не спеша пошёл к темной громадине из стекла и бетона, возвышающейся над маленьким городом. Весенний ветер гнал по улице песчаную пыль, кусок туалетной бумаги и ощущение тепла. Городок оттаял от зимней спячки, но радоваться весне не торопился, как будто боялся снова накликать зиму. Снег сошёл, грязь высохла, а зелень только-только проклюнулась, и все живое с надеждой потянулось к отмытой синеве неба.
Асфальтовая дорога, по которой шёл Супермен, была в удручающем состоянии. Она была изрезана трещинами, местами встречались ямы. Когда трость застряла в трещине, Супермен ругнулся, но потом вспомнил, с чем были связанны все эти ухабы на дороге, вздохнул и молча продолжал свой путь. У маленького магазинчика с дерзким названием «Мир еды» он остановился, посмотрел сквозь витрину на жирные окорока, маняще лежащие на прилавке, затем перевёл взгляд на своё отражение. Некогда лихой завиток на его лбу превратился в седую беспорядочную прядь, волосы поредели, как, собственно, и зубы, усталые глаза залегли в темных впадинах, прикрывшись видавшими виды очками.
Одежда также не вызывала оптимизма. Красный шарф порос щетиной ниток и грустно болтался на худой шее. Сильно изношенный пиджак с оттопыренным карманом и обмахрившимися краями, из-под которых торчало синее трико с пузырящимися коленками – все это нельзя было назвать парадно-выходным, но, к сожалению, таковым являлось. Супермен уже не мог так лихо переодеваться и поэтому старался одеваться практично. Он отвернулся от жалкого старика, который отражался в пыльной витрине, ещё больше ссутулился и побрел к пункту назначения.
Цитадель зла уже была близко. Небо над серой громадиной темнело, в воздухе пахло грозой.
«Нужно разозлиться», – подумал Супермен и с силой потянул хромированную дверь на себя.
Его взору сразу предстали страждущие, привязанные или прикованные к своим местам, обреченно ожидающие своей очереди. Адская машина клеймила каждого, кто входил, затем ржавыми цепями скрепляли всех в единую цепь смиренного ожидания. Людская вереница тянулась к зловещим амбразурным окнам. Люди добровольно подходили к ним, а те, кто мешкал, подталкивались позади идущими. Супермен решительно шагнул внутрь, к нему сразу метнулось скользко-вихлястое саламандроподобное тельце.
– Халдей, – процедил Супермен, готовясь дать отпор.
– Ноаж, ноаж! – зашипело существо.
– Что?! – зло спросил человек с Криптона.
– Номер ваш, ваш номер.
– На! – и Супермен вытянул руку с туго скрученным кукишем прямо в осклизлую физиономию. Саламандра стушевалась, набрякла щеками и мгновенно ретировалась.
– Ух, крысы, вы у меня сейчас попляшете! – цедил сквозь зубы Супермен. Разрывая людскую цепь, он двинулся к ближайшему окну. Все присутствующие оживились, стали перешёптываться, а кто-то даже громко заговорил. В амбразуре окна сидела редкостная мымра. Её гусеничное тело, обернутое в трикотажную ткань пошлой расцветки, восседало на неком подобии стула, а часть её плоти свесилась, не умещаясь на сидении. Супермен почему-то вспомнил жирные окорока, которые он сегодня видел за витриной. Пухлые, короткие бородавчатые ручки с длинными багрово-красными ногтями бегали по пульсирующим нервным нитям арфа-образной клавиатуры.
– У меня вопрос, – и он тихонько постучал по дырчато-пупырчатой поверхности стекла, привлекая к себе внимание. Но на сером лице, зачем-то подкрашенном пудрой, не отразилось ни одной эмоции, мымра даже не шелохнулась, продолжая играть на нервных окончаниях клавиатуры.
– Ты там сдохла, что ли? – крикнул Супермен, стараясь поймать взгляд серой мымры.
– Не злите её, пожалуйста, – сказал бледный человек, который стоял возле окна, – а то она меня съест...
– Ещё посмотрим, кто кого съест! – и Супермен грохнул по дырчато-пузырчатому стеклу кулаком. Стекло и толпа загудели. Мымра подняла глаза, и Супермен увидел в её вертикальных змеиных глазах ненависть.
– Архашшшшшш! – зашипела мымра. Но Супермен не дал ей шанса и, нагнувшись к оконному отверстию, плюнул раскалённой слюной в её ощерившуюся пасть. Мымра покрылась пятнами, переходящими в багровые волдыри, завизжала, выбросив алый фонтан пенистой струи, и бросилась прочь, в глубину своей ячеистой норы.
Восторженные крики приветствовали Супермена, и это придало ему сил, он торжественно двинулся к следующему окну, разрывая путы, сковавшие находившихся в ловушке людей. Как только он приблизился ко второму амбразурному отверстию, оно тут же наглухо закрылось стальной мембраной. Супермен с силой ударил своей тростью в проклепанную поверхность. Трость оставила углубление в защитной створке. Терять время он не стал, двинулся к следующему окну. На его пути вырос чёрный глист. Садистская улыбка из мелкого частокола зубов и мутная нить слюны, сочившаяся от вожделения из его скривившегося рта, заставили Супермена вспомнить этого персонажа. Лет тридцать назад, спасая в очередной раз мир от Разрушителей, Супермен поверг в пыль главаря этих хитрых тварей, а его кодла в бессильной злобе набросилась на Супермена. Он расправился со всеми, а этот, что сейчас извивался перед ним, сумел убежать... и вот, сейчас трусливый глист намеривался отыграться.
Супермен левой рукой сделал выпад-удар в чешуйчатое тело глиста. Глист, радостно блеснув поросячьими глазками, перехватил руку Супермена и, делая захват, тут же получил в лоб тростью. Не дав ему опомниться, Супермен этой же тростью подцепил противника за опорную ногу и опрокинул его навзничь. Чёрный глист, хорошо приложившись о мраморный пол, конвульсивно дернулся и затих.
– Становится жарковато, – сказал Супермен, расстегивая пиджак. Толпа ахнула, увидев сияющую букву «S» на его груди – знак Супермена. Шарф, намотанный вокруг шеи, развязался, соскользнул вниз и, расправившись, стал алым плащом. Чёрная прядь вновь красовалась на высоком, без единой морщинки лбу. Глаза горели, щеки пылали румянцем.
– Супермен! Супермен! Супермен! – неистово скандировал народ. В зал мучительного ожидания вбежали три молодчика, как и поверженный глист, облачённые в чёрное. Вихлястая саламандра скрюченным пальцем истерично тыкала в Супермена.
– Надо было тебя сразу прищучить! – сказал Супермен, перекидывая трость в левую руку. Пружинящим шагом он пошёл на противника. Снова резкий бросок трости из левой руки в правую, затем – обманный удар в голову; чешуйчато-чёрный закрылся рукой, но трость, изменив траекторию, словно жало, впилась другому супостату под дых.
– Гнохххх! – зашипел он, оседая на колени. Трость, словно отрикошетив, ударила другого промеж ног, и тот, охнув, последовал примеру своего товарища по чёрной униформе. Третий вскинул руку, опутанную сетью голубых молний, и постарался ударить Супермена в бок, тем самым надеясь поджарить супергероя. Чудом уклонившись от разряда, Супермен отступил назад, а черно-чешуйчатый, изощрённо крутнувшись, все ж таки зацепил Супермена. Электрический разряд, словно щупальцами, обвил тело непокорного криптонянина. Свет брызнул из его глаз, расплавив очки, пиджак взорвался, разлетаясь в дымные лоскуты, а знак на груди стал ещё ярче!
– Ух-х-х! – и Супермен сдул чёрную фигурку, словно она была бумажным силуэтом. Затем он взлетел. Толпа взревела так, как будто Россия выиграла чемпионат мира по футболу.
–Ух-х-х! – и стёкла вылетели из окон цокольного этажа. Освобожденный народ бросился прочь из пленившего их здания. Взвыли сирены. Супермен заставил их умолкнуть навеки одним лишь взглядом. Взлетев выше, он упёрся руками в потолок и... В фундаменте здания что-то застонало, затем с оглушительным треском лопнули бетонные стены... Супермен напряг все свои силы. Медленно, очень медленно здание начало подниматься вверх. Серая громадина, со стоном, скрипом осыпаясь мелкими бетонными крошками, неуклонно ползла вверх – туда, где гудел ветер и метались молнии. Выстрел. Пуля, сделанная из камня с Криптона, пробила грудь Супермена.
– Ох, – выдохнул Супермен. Посмотрев вниз, он увидел стрелявшего. Мелкий частокол зубов и мутная нить слюны... Слабеющими руками Супермен направил серую громадину в сторону стрелявшего, тот бросил оружие и побежал, оставляя за собой скользкий след. Сначала тень накрыла трусливо бегущего глиста, а затем и вся громадина здания обрушилась, погребя под собой его тщедушное тело. Ветер усилился, Супермен медленно, очень медленно опустился в серую пыль котлована, смертельная усталость свалила его, заставив лечь на дно. Он последний раз взглянул в беснующееся молниями свинцовое небо, и его не стало... Световой поток метнулся в небо, разорвал тучевую завесу и обрушился вниз проливным дождем. Ливень, словно оплакивая героя, безудержно хлестал из светлеющих небес, шквальный ветер панихидно завывал, а люди молча собирались вокруг ямы, где упокоился Человек, всегда готовый помочь другим. Дождевая вода размочила бетонную пыль, и она превратилась в темный водный саван, который медленно укрывал тело погибшего.
Скорая приехала, чтоб констатировать смерть и забрать тело. Люди расступились, пропуская медработников. На мраморном полу ЖКХ, раскинув руки и глядя в серый потолок, утыканный лампами дневного освещения, лежал пожилой человек. Возле него стоял охранник в чёрной униформе, сжимая в потной ладошке электрошок, и участковый, внимательно осматривающий место происшествия.
– Его звали Алексей Сергеевич, – сказал человек с бледным лицом, обращаясь словно к самому себе, – последние годы он был старшим по подъезду, помогал людям, чем мог. Сегодня вот, пришел сюда, чтоб разобраться с «платежками» для одной пожилой женщины, которой регулярно приносили их с большой переплатой...
– Хороший был человек, – сказала женщина в сером платке, возле которой стоял её внук в потертой бейсболке, и, отвернувшись, вытерла слезу. Медработники буднично подняли старика и, переложив на носилки, понесли к машине. Красный шарф юркой змейкой шмыгнул на пол и упал к ногам мальчишки в потертой бейсболке. Тот поднял его и прижал к груди, словно маленькую реликвию. Люди начали расходиться. Холл опустел.
Весенний ветер разогнал обрывки лохматых туч, погудел в водосточные трубы, потом нашёл где-то шмоток туалетной бумаги и яростно погнал его по улице. Затем, словно понимая, что делает, швырнул этот шмоток в лицо охранника в чёрной форме. Тот хотел отмахнуться руками, но они были заведены за спину и закованы в наручники. Охранник замычал и брезгливо замотал головой. Участковый, наблюдая это, улыбнулся в седые усы, подтолкнул охранника к «полицейскому бобику» и, посмотрев на весеннее солнце, подумал, что весной, как никогда, хочется жить...

Марта ТАБУРОВА
Родилась в 1978 году в с.Новотроицкое Херсонской области. Автор начинающий и это её первое произведение, написанное в жанре рассказа в 2024 году. Публикаций, призов и наград на сегодняшний день не имеет.
Родилась в 1978 году в с.Новотроицкое Херсонской области. Автор начинающий и это её первое произведение, написанное в жанре рассказа в 2024 году. Публикаций, призов и наград на сегодняшний день не имеет.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРИЁМ
Новенький синий электробус тихо и плавно зарулил на остановку. Будущее наступило. Под днищем автобуса – подсветка, кнопка открывания дверей подмигивает зеленым огоньком, внутри кондиционер. Все здорово, но до тех пор, пока не попадется начинающий водитель. Сидит себе за стеклом и управляет, как будто всю жизнь дрова возил, а не людей. Тогда стоя ехать невозможно. Бурчу себе под нос и сажусь на сиденье у первой входной двери, чтобы видеть далеко вперед. Есть такой прием от укачивания: смотреть прямо. А смотреть есть на что.
Сильно клонит в сон, но спать себе не даю. Рядом сидит старушка. Делаю вид, что смотрю в окно справа, а сама рассматриваю ее.
В глаза бросилась ее серая вязаная кофточка, по которой вышиты красные мелкие цветочки. Видно, что старенькая. И бабушка, и кофточка. Потертая сумка лежит на коленях, а руками она ее прижимает к груди. На голове шляпка, маленькие бусинки-сережки в ушах, а на глазах — солнцезащитные очки без одной дужки. И в этом всем бабушка сидела с прямой спиной и гордым взглядом. Про взгляд я додумываю, глаз не видно, просто от нее самой исходила уверенность в себе.
Насмотрелась на нее и еще больше захотелось спать. Грустное зрелище. Старость, бедность. Все-таки покемарю. Вот только мост проедем. Люблю Живописный мост над Москвой-рекой.
Да что ж за водитель сегодня! Где их учат? Надо будет жалобу написать.
В сон я провалилась аккурат на мосту. И снится мне комната, примерно двадцать пять квадратных метров, много света от ламп на потолке. Народ в количестве человек пятнадцати толпится, как в коридорах МФЦ.
О, а вот и моя соседка по автобусу рядом со мной, опять прижимает к себе сумочку и очки не снимает. Интересно, какие у нее глаза? Маленькие, узкие, карие?
Слышу стук шпилек по кафелю. Идет молодая девушка в строгом черном костюме и объявляет таким же строгим голосом:
– Вас всех скоро примут. Будут вызывать. Ожидайте.
И осталась стоять на месте.
Народ засуетился. Вызвали первого человека, имени я не расслышала из-за шума в ушах.
Моя же старушка подошла к девушке на шпильках, сняла очки, положила их в сумочку и стала о чем-то говорить с ней. Ну вот, началось, думаю. Дела, как в поликлинике, мне, дескать, только спросить. Вечно они лезут. Так, ну а я куда спешу? Я даже не знаю, где я и зачем, да еще и во сне, а уже претензии появились и злость на бабушку, что лезет без очереди. Знать бы, куда лезет и что себе выпрашивает, и на меня рукой зачем-то показывает. Любопытство взыграло. Мой сон, а не все показывают.
Затем старушка достала из сумочки черно-белую фотографию, показывает и потом к груди прижимает. Трясущимися руками в воздухе какие-то фигуры выписывает.
Ничего не понимаю. Пойду в окно посмотрю. Окна нет, двери нет, ничего нет. Скамейка без спинки есть, посижу. Ну и сон, могли бы хоть кулер с водой организовать. Во рту сухо, как будто песок на зубах скрипит.
Кажется, снова задремала на этой скамейке. Во сне? Задремать? Вот это я устала. Ну, допустим, задремала во сне и проснулась оттого, что девушка на шпильках положила мне руку на плечо и говорит:
– Сегодня вас не примут, пора уходить.
– Уходить? Да ладно, в какую дверь, не подскажете?
Чертовски болит голова. Лежу на животе в неудобной позе, все тело стало тяжелым, как каменный валун. Я снова в автобусе, только теперь он весь скукожился. Желтый поручень упирается мне в нос. Надо развернуться, попробовать вылезти, руки-ноги чувствую. Кое-как повернула голову и встретилась глаза в глаза со своей соседкой-пассажиркой.
Панамы на ней не было. Глаза открыты, и огромные космически-темные зрачки смотрели на меня пустотой. Старушка улыбалась. Старенькая кофточка с мелкими цветочками порвалась на рукаве.
До сих пор я не научилась различать звуки сирен скорой, милиции и пожарной, но, кажется, сейчас звучали все.
Попытки вылезти я оставила, дотянулась свободной рукой до маленькой руки старушки. Кожа у нее сухая, как бумага для китайской живописи. Я смотрела ей в глаза. Они, оказывается, светло-серые, и мне стало стыдно, что там, в белой комнате, я плохо думала о ней. Полным песка ртом я изо всех сил закричала: «Простите!», но наружу вырывалось что-то воющее.
Чертовски больно. Больно где-то в том месте, где у человека должна быть душа.
Я уронила голову на пол или крышу и краем глаза увидела сумку, из которой выглядывала единственная дужка очков.
Новенький синий электробус тихо и плавно зарулил на остановку. Будущее наступило. Под днищем автобуса – подсветка, кнопка открывания дверей подмигивает зеленым огоньком, внутри кондиционер. Все здорово, но до тех пор, пока не попадется начинающий водитель. Сидит себе за стеклом и управляет, как будто всю жизнь дрова возил, а не людей. Тогда стоя ехать невозможно. Бурчу себе под нос и сажусь на сиденье у первой входной двери, чтобы видеть далеко вперед. Есть такой прием от укачивания: смотреть прямо. А смотреть есть на что.
Сильно клонит в сон, но спать себе не даю. Рядом сидит старушка. Делаю вид, что смотрю в окно справа, а сама рассматриваю ее.
В глаза бросилась ее серая вязаная кофточка, по которой вышиты красные мелкие цветочки. Видно, что старенькая. И бабушка, и кофточка. Потертая сумка лежит на коленях, а руками она ее прижимает к груди. На голове шляпка, маленькие бусинки-сережки в ушах, а на глазах — солнцезащитные очки без одной дужки. И в этом всем бабушка сидела с прямой спиной и гордым взглядом. Про взгляд я додумываю, глаз не видно, просто от нее самой исходила уверенность в себе.
Насмотрелась на нее и еще больше захотелось спать. Грустное зрелище. Старость, бедность. Все-таки покемарю. Вот только мост проедем. Люблю Живописный мост над Москвой-рекой.
Да что ж за водитель сегодня! Где их учат? Надо будет жалобу написать.
В сон я провалилась аккурат на мосту. И снится мне комната, примерно двадцать пять квадратных метров, много света от ламп на потолке. Народ в количестве человек пятнадцати толпится, как в коридорах МФЦ.
О, а вот и моя соседка по автобусу рядом со мной, опять прижимает к себе сумочку и очки не снимает. Интересно, какие у нее глаза? Маленькие, узкие, карие?
Слышу стук шпилек по кафелю. Идет молодая девушка в строгом черном костюме и объявляет таким же строгим голосом:
– Вас всех скоро примут. Будут вызывать. Ожидайте.
И осталась стоять на месте.
Народ засуетился. Вызвали первого человека, имени я не расслышала из-за шума в ушах.
Моя же старушка подошла к девушке на шпильках, сняла очки, положила их в сумочку и стала о чем-то говорить с ней. Ну вот, началось, думаю. Дела, как в поликлинике, мне, дескать, только спросить. Вечно они лезут. Так, ну а я куда спешу? Я даже не знаю, где я и зачем, да еще и во сне, а уже претензии появились и злость на бабушку, что лезет без очереди. Знать бы, куда лезет и что себе выпрашивает, и на меня рукой зачем-то показывает. Любопытство взыграло. Мой сон, а не все показывают.
Затем старушка достала из сумочки черно-белую фотографию, показывает и потом к груди прижимает. Трясущимися руками в воздухе какие-то фигуры выписывает.
Ничего не понимаю. Пойду в окно посмотрю. Окна нет, двери нет, ничего нет. Скамейка без спинки есть, посижу. Ну и сон, могли бы хоть кулер с водой организовать. Во рту сухо, как будто песок на зубах скрипит.
Кажется, снова задремала на этой скамейке. Во сне? Задремать? Вот это я устала. Ну, допустим, задремала во сне и проснулась оттого, что девушка на шпильках положила мне руку на плечо и говорит:
– Сегодня вас не примут, пора уходить.
– Уходить? Да ладно, в какую дверь, не подскажете?
Чертовски болит голова. Лежу на животе в неудобной позе, все тело стало тяжелым, как каменный валун. Я снова в автобусе, только теперь он весь скукожился. Желтый поручень упирается мне в нос. Надо развернуться, попробовать вылезти, руки-ноги чувствую. Кое-как повернула голову и встретилась глаза в глаза со своей соседкой-пассажиркой.
Панамы на ней не было. Глаза открыты, и огромные космически-темные зрачки смотрели на меня пустотой. Старушка улыбалась. Старенькая кофточка с мелкими цветочками порвалась на рукаве.
До сих пор я не научилась различать звуки сирен скорой, милиции и пожарной, но, кажется, сейчас звучали все.
Попытки вылезти я оставила, дотянулась свободной рукой до маленькой руки старушки. Кожа у нее сухая, как бумага для китайской живописи. Я смотрела ей в глаза. Они, оказывается, светло-серые, и мне стало стыдно, что там, в белой комнате, я плохо думала о ней. Полным песка ртом я изо всех сил закричала: «Простите!», но наружу вырывалось что-то воющее.
Чертовски больно. Больно где-то в том месте, где у человека должна быть душа.
Я уронила голову на пол или крышу и краем глаза увидела сумку, из которой выглядывала единственная дужка очков.

Михаил МОНАСТЫРСКИЙ
Родился в 1971 году в Таганроге. Окончил медицинскую академию, работал на скорой помощи и в реанимационном отделении городской больницы. С 2007 года – врач высшей категории. Литературным творчеством увлекся в студенческие годы. Пишет стихи и прозу, чаще всего работает с малыми формами – рассказами, новеллами, миниатюрами. Публиковался в альманахах Российского союза писателей. В 2012 году выпустил первую книгу. Увлекается поэзией, музыкой и кино. Член Российского Союза Писателей.
Родился в 1971 году в Таганроге. Окончил медицинскую академию, работал на скорой помощи и в реанимационном отделении городской больницы. С 2007 года – врач высшей категории. Литературным творчеством увлекся в студенческие годы. Пишет стихи и прозу, чаще всего работает с малыми формами – рассказами, новеллами, миниатюрами. Публиковался в альманахах Российского союза писателей. В 2012 году выпустил первую книгу. Увлекается поэзией, музыкой и кино. Член Российского Союза Писателей.
ПРОЩАЛЬНОЕ
Ты – мой герой,
Сталинград-Волгоградище.
Родина-мать
над городом-кладбищем.
Многие склонны в нём
к самолечению,
к счастью для всех
и слёзотечению.
С марта по майский парад
из всех квартир и оград
тянемся к Солнцу,
словно растения.
Во время летнего жаросвечения
жду не дождусь
сентября.
Эти глаза,
эти окна и здания.
Каждый достоин
любви и признания.
Боже, храни
этот город с рекою,
всё, что погибло,
и всё, что живое.
ТИХИЕ ВОДЫ ГЛУБОКИ
– Будь у нас с Тобой возможность поболтать обо всём, то я бы с удовольствием задал Тебе десяток вопросов, – пробормотал старик, сидя один в своей древней на вид, как и он сам, лодке.
Он смотрел вдаль, будто бы ждал чей-то ответ, внимательно всматриваясь в тёмное, но уже розовеющее летнее небо, готовое вот-вот быть пронизанным восходящими солнечными лучами над тихой гладью бескрайнего озера. Только Солнце успело дотронуться до края земли, чтобы подняться над ней и осветить всё, что веками находится здесь, как утренний молочный туман медленно начал таять вокруг остановившейся вдали от берега лодки старика.
– Ах, кабы я Тебя прижал к стенке! Не отвертелся бы Ты!
Насадив первого червя, он забросил удочку и уставился на еле заметный ярко-красный поплавок. Зрение у старика было слабое, но опыт его никогда не подводил. «Я всегда возвращаюсь с уловом! Вот те крест!» – сходу отвечал он каждому, кто интересовался у него о рыбалке в здешних местах. Действительно, старик говорил правду. Да он вообще не умел врать. И вот сейчас он побожился, сопровождая свои слова, как клятву, крестным знамением.
– Я бы у Тебя прямо, глядя в глаза, спросил обо всём, что для меня до сих пор непонятно, – продолжал рыбак бубнить себе под нос, дабы не спугнуть просыпающуюся в озере рыбу. – Вот, к примеру, зачем Ты забрал у меня всех родных и оставил коротать век одному? Что я тебе сделал плохого? А они? Они-то что сделали? Жили мы, как все. Трудились. И жили бы дальше. Порвал Ты ниточку мою тонкую, порвал легко и беспощадно. Сколько слёз выплакал я? Никому неизвестно.
Леска внезапно натянулась, поплавок вздрогнул, но рыба прошла мимо. Старик снова продолжил причитать.
– В чём же Твоя доброта, друг Ты мой сердечный? Уже десятый десяток к концу пошёл, а я всё тут маюсь изо дня в день, ночами не сплю, а так – ворочаюсь с бока на бок да жду, как шальной, час свой. Сколько же мне ещё так томиться? Чего ждёшь? Мне-то к своим охота. Устал я тут, надоело всё, не в радость стала жизнь моя, не в радость. Жалко только, что эти красоты не видать больше никогда. Знал бы кто, но не бывать иначе. А рук на себя никогда не наложу, знаешь же.
Леска снова натянулась, и поплавок резко ушёл под воду. Старик ловко подсёк наглеца и подтащил его к себе. Подняв молодого окунька над водой, он, взяв его за жабры, освободил от крючка и отпустил обратно.
– Хороших, значит, забираешь, а плохим позволяешь имя Твоё коверкать и жить весело. А меня оставил смотреть на это да сердечко рвать себе.
Вдруг лодка качнулась, и её корма под тяжестью опустилась немного вниз. Старик обернулся и увидел перед собой сидящего в лодке чёрта, да точно такого, каким его всегда себе представлял – худого, волосатого, с хвостом, острыми большими ушами, копытами на ногах и человеческими руками. Обмер старик и не заметил, как выпустил из рук удочку. Та плавно ушла под воду.
– Черти ада не гнушаются, они там живут, – хихикнул чёрт, глядя на старика. – А ты что, так меня испугался?
– Конечно! Бес ты или кто там такой? Первый раз тебя вижу, но ничего, уже не боюсь. Игривый ты, вижу, да озорной.
– Посмотри, какой смелый дед? – сверкнул зелёными зрачками чёрт и чуть наклонился вперёд, поближе к рыбаку.
– Да я в своей жизни и не таких видывал, – старик тоже подался вперёд. – Тебе чего от меня надо? Говори сразу или проваливай. Вон, удочку из-за тебя утопил. Тут глубина – не достать.
– Ух ты какой, – чёрт откинулся назад, развалившись и положив ногу на ногу.
Старик глянул на его копыта:
– Точно бес. Ты смотри.
Чёрт засмеялся:
– Услышал я, что ты с Богом поболтать хочешь?
– Время придёт и поболтаю, не тебе сказ мой.
– Так ты же сам только что сказал, что устал ждать. Может, Он, знаю, позабыл про тебя, других на земле полно. Вот ты, старый, и мыкаешься без пользы.
– Как же так – позабыл? – задумался старик. – Да если же и правда, то и пусть правда. Только тебе какое дело до меня?
– Помочь хочу...
Старик только сейчас заволновался, будто бы что-то ёкнуло у него в груди.
– Как это – помочь?
– Очень просто.
– Ну, говори, не томи ты меня, окаянный.
– Есть один способ с Ним тебе поговорить. Прямо сейчас. Хочешь?
– Сейчас?
– Ага...
– Какой ещё способ, чёрт тебя побери?!
– Не шуми, рыба услышит.
– Да не до рыбы, вижу, уже, – старик плюнул в сторону и махнул безнадежно обеими руками.
– Ладно, скажу тебе из-за сочувствия только. С самого раннего утра вот такое услышишь и жалко становится человека, понимаешь.
Рыбак склонил молча голову, руки его задрожали, на глаза накатили слёзы.
– Хватит, хватит, не хнычь. Скажу я тебе, что надо сделать, а там сам решай.
Старик покорно кивнул чёрту в ответ.
– Ну вот, другое дело. Значит так, запоминай.
Тот всё внимательно выслушал и, очень стараясь не забыть ни слова, даже не успел поблагодарить за полученный совет чёрта, который похлопал его по-товарищески по плечу и исчез.
Старик молча просидел без движения в лодке не менее получаса, обдумывая услышанное. Солнышко давно уже оторвалось от линии горизонта, но он первый раз в жизни не обратил на это никакого внимания. Клочья тумана бесследно испарялись над водой. Вокруг было необычно тихо. Птицы в это утро неестественно молчали, словно боялись помешать рыбаку совершить задуманное.
Крепко сжав вёсла в мозолистых ладонях, рыбак медленно поплыл ещё дальше от берега, который вскоре превратился в тоненькую ниточку, лежавшую между спокойной, прозрачной гладью озера и ярко-голубым небом.
Останавливая лодку, старик поднял вёсла и аккуратно уложил их. Он взял в руки якорь, обрезал мокрую старую верёвку остро наточенным лезвием своего рыбацкого ножа и завязал её узлом на своей морщинистой щетинистой шее. В этот момент вспомнились последние слова беса:
«Ты, главное, не трусь. Я же вижу, что ты не из таких. Только подальше на вёслах отойди, там глубже будет, и смотри, до полудня управься. Иначе, если опоздаешь, то ничего не выйдет».
Старик глубоко вздохнул и, стараясь не расшатать лодку, встал во весь рост, удерживая перед собой трясущимися руками тяжёлый якорь.
– Говоришь, поболтаем с Ним с глазу на глаз. Поглядим. Под водой и перекрещусь.
Однако страх перешагнуть через невысокий борт лодки оказался сильнее желания встретиться с Богом. Старик замер и боялся шевельнуться. Только он понял, что глупость всё это, как вдруг кто-то словно копытом толкнул его в спину, и рыбак камнем ушёл ко дну.
Через несколько минут лодка перестала раскачиваться и успокоилась, как и круги, расходившиеся от неё по воде. Всё утихло. Старика будто и не было здесь никогда. Только его пустая лодка одиноко стояла посреди озера. Вдалеке, у берега из камыша хором зашумели птицы и стаями ринулись в небо, свидетельствуя всей округе, что начался новый день.
А когда Солнце достигло середины неба, оно стало сильно припекать всё тело и особенно закрытые веки сладко спящего в лодке мальчика. Ему снился чудный сон, который он никак потом не смог вспомнить, сколько бы ни старался. Но человека, который причалил его лодку к берегу, он отчётливо, как наяву, помнил всю свою длинную жизнь.
Тогда лодка тихо ткнулась носом в песок, и мальчишка проснулся от прикосновения ладонью к его голове очень доброго человека.
– Просыпайся да ступай-ка ты, братец, домой, – сказал, улыбаясь, незнакомец. – Родители твои уже на стол обед подают, того и гляди, начнут беспокоиться о тебе.
– Хорошо, – ответил мальчик и с оглядкой выпрыгнул из лодки на берег. Он не мог оторвать глаз от этого удивительного и странного человека, таких он здесь никогда не встречал.
– И улов свой не забудь, рыбак.
Действительно, на дне лодки лежала целая куча живой рыбы.
– Хорошо, – снова повторил мальчишка, не веря своим глазам.
– А насчёт ниточки своей тоненькой не беспокойся. Всё будет в порядке.
Незнакомец ещё раз улыбнулся ребёнку и пошёл по воде, удаляясь всё дальше и дальше от берега, пока совсем не исчез вдалеке.
Ты – мой герой,
Сталинград-Волгоградище.
Родина-мать
над городом-кладбищем.
Многие склонны в нём
к самолечению,
к счастью для всех
и слёзотечению.
С марта по майский парад
из всех квартир и оград
тянемся к Солнцу,
словно растения.
Во время летнего жаросвечения
жду не дождусь
сентября.
Эти глаза,
эти окна и здания.
Каждый достоин
любви и признания.
Боже, храни
этот город с рекою,
всё, что погибло,
и всё, что живое.
ТИХИЕ ВОДЫ ГЛУБОКИ
– Будь у нас с Тобой возможность поболтать обо всём, то я бы с удовольствием задал Тебе десяток вопросов, – пробормотал старик, сидя один в своей древней на вид, как и он сам, лодке.
Он смотрел вдаль, будто бы ждал чей-то ответ, внимательно всматриваясь в тёмное, но уже розовеющее летнее небо, готовое вот-вот быть пронизанным восходящими солнечными лучами над тихой гладью бескрайнего озера. Только Солнце успело дотронуться до края земли, чтобы подняться над ней и осветить всё, что веками находится здесь, как утренний молочный туман медленно начал таять вокруг остановившейся вдали от берега лодки старика.
– Ах, кабы я Тебя прижал к стенке! Не отвертелся бы Ты!
Насадив первого червя, он забросил удочку и уставился на еле заметный ярко-красный поплавок. Зрение у старика было слабое, но опыт его никогда не подводил. «Я всегда возвращаюсь с уловом! Вот те крест!» – сходу отвечал он каждому, кто интересовался у него о рыбалке в здешних местах. Действительно, старик говорил правду. Да он вообще не умел врать. И вот сейчас он побожился, сопровождая свои слова, как клятву, крестным знамением.
– Я бы у Тебя прямо, глядя в глаза, спросил обо всём, что для меня до сих пор непонятно, – продолжал рыбак бубнить себе под нос, дабы не спугнуть просыпающуюся в озере рыбу. – Вот, к примеру, зачем Ты забрал у меня всех родных и оставил коротать век одному? Что я тебе сделал плохого? А они? Они-то что сделали? Жили мы, как все. Трудились. И жили бы дальше. Порвал Ты ниточку мою тонкую, порвал легко и беспощадно. Сколько слёз выплакал я? Никому неизвестно.
Леска внезапно натянулась, поплавок вздрогнул, но рыба прошла мимо. Старик снова продолжил причитать.
– В чём же Твоя доброта, друг Ты мой сердечный? Уже десятый десяток к концу пошёл, а я всё тут маюсь изо дня в день, ночами не сплю, а так – ворочаюсь с бока на бок да жду, как шальной, час свой. Сколько же мне ещё так томиться? Чего ждёшь? Мне-то к своим охота. Устал я тут, надоело всё, не в радость стала жизнь моя, не в радость. Жалко только, что эти красоты не видать больше никогда. Знал бы кто, но не бывать иначе. А рук на себя никогда не наложу, знаешь же.
Леска снова натянулась, и поплавок резко ушёл под воду. Старик ловко подсёк наглеца и подтащил его к себе. Подняв молодого окунька над водой, он, взяв его за жабры, освободил от крючка и отпустил обратно.
– Хороших, значит, забираешь, а плохим позволяешь имя Твоё коверкать и жить весело. А меня оставил смотреть на это да сердечко рвать себе.
Вдруг лодка качнулась, и её корма под тяжестью опустилась немного вниз. Старик обернулся и увидел перед собой сидящего в лодке чёрта, да точно такого, каким его всегда себе представлял – худого, волосатого, с хвостом, острыми большими ушами, копытами на ногах и человеческими руками. Обмер старик и не заметил, как выпустил из рук удочку. Та плавно ушла под воду.
– Черти ада не гнушаются, они там живут, – хихикнул чёрт, глядя на старика. – А ты что, так меня испугался?
– Конечно! Бес ты или кто там такой? Первый раз тебя вижу, но ничего, уже не боюсь. Игривый ты, вижу, да озорной.
– Посмотри, какой смелый дед? – сверкнул зелёными зрачками чёрт и чуть наклонился вперёд, поближе к рыбаку.
– Да я в своей жизни и не таких видывал, – старик тоже подался вперёд. – Тебе чего от меня надо? Говори сразу или проваливай. Вон, удочку из-за тебя утопил. Тут глубина – не достать.
– Ух ты какой, – чёрт откинулся назад, развалившись и положив ногу на ногу.
Старик глянул на его копыта:
– Точно бес. Ты смотри.
Чёрт засмеялся:
– Услышал я, что ты с Богом поболтать хочешь?
– Время придёт и поболтаю, не тебе сказ мой.
– Так ты же сам только что сказал, что устал ждать. Может, Он, знаю, позабыл про тебя, других на земле полно. Вот ты, старый, и мыкаешься без пользы.
– Как же так – позабыл? – задумался старик. – Да если же и правда, то и пусть правда. Только тебе какое дело до меня?
– Помочь хочу...
Старик только сейчас заволновался, будто бы что-то ёкнуло у него в груди.
– Как это – помочь?
– Очень просто.
– Ну, говори, не томи ты меня, окаянный.
– Есть один способ с Ним тебе поговорить. Прямо сейчас. Хочешь?
– Сейчас?
– Ага...
– Какой ещё способ, чёрт тебя побери?!
– Не шуми, рыба услышит.
– Да не до рыбы, вижу, уже, – старик плюнул в сторону и махнул безнадежно обеими руками.
– Ладно, скажу тебе из-за сочувствия только. С самого раннего утра вот такое услышишь и жалко становится человека, понимаешь.
Рыбак склонил молча голову, руки его задрожали, на глаза накатили слёзы.
– Хватит, хватит, не хнычь. Скажу я тебе, что надо сделать, а там сам решай.
Старик покорно кивнул чёрту в ответ.
– Ну вот, другое дело. Значит так, запоминай.
Тот всё внимательно выслушал и, очень стараясь не забыть ни слова, даже не успел поблагодарить за полученный совет чёрта, который похлопал его по-товарищески по плечу и исчез.
Старик молча просидел без движения в лодке не менее получаса, обдумывая услышанное. Солнышко давно уже оторвалось от линии горизонта, но он первый раз в жизни не обратил на это никакого внимания. Клочья тумана бесследно испарялись над водой. Вокруг было необычно тихо. Птицы в это утро неестественно молчали, словно боялись помешать рыбаку совершить задуманное.
Крепко сжав вёсла в мозолистых ладонях, рыбак медленно поплыл ещё дальше от берега, который вскоре превратился в тоненькую ниточку, лежавшую между спокойной, прозрачной гладью озера и ярко-голубым небом.
Останавливая лодку, старик поднял вёсла и аккуратно уложил их. Он взял в руки якорь, обрезал мокрую старую верёвку остро наточенным лезвием своего рыбацкого ножа и завязал её узлом на своей морщинистой щетинистой шее. В этот момент вспомнились последние слова беса:
«Ты, главное, не трусь. Я же вижу, что ты не из таких. Только подальше на вёслах отойди, там глубже будет, и смотри, до полудня управься. Иначе, если опоздаешь, то ничего не выйдет».
Старик глубоко вздохнул и, стараясь не расшатать лодку, встал во весь рост, удерживая перед собой трясущимися руками тяжёлый якорь.
– Говоришь, поболтаем с Ним с глазу на глаз. Поглядим. Под водой и перекрещусь.
Однако страх перешагнуть через невысокий борт лодки оказался сильнее желания встретиться с Богом. Старик замер и боялся шевельнуться. Только он понял, что глупость всё это, как вдруг кто-то словно копытом толкнул его в спину, и рыбак камнем ушёл ко дну.
Через несколько минут лодка перестала раскачиваться и успокоилась, как и круги, расходившиеся от неё по воде. Всё утихло. Старика будто и не было здесь никогда. Только его пустая лодка одиноко стояла посреди озера. Вдалеке, у берега из камыша хором зашумели птицы и стаями ринулись в небо, свидетельствуя всей округе, что начался новый день.
А когда Солнце достигло середины неба, оно стало сильно припекать всё тело и особенно закрытые веки сладко спящего в лодке мальчика. Ему снился чудный сон, который он никак потом не смог вспомнить, сколько бы ни старался. Но человека, который причалил его лодку к берегу, он отчётливо, как наяву, помнил всю свою длинную жизнь.
Тогда лодка тихо ткнулась носом в песок, и мальчишка проснулся от прикосновения ладонью к его голове очень доброго человека.
– Просыпайся да ступай-ка ты, братец, домой, – сказал, улыбаясь, незнакомец. – Родители твои уже на стол обед подают, того и гляди, начнут беспокоиться о тебе.
– Хорошо, – ответил мальчик и с оглядкой выпрыгнул из лодки на берег. Он не мог оторвать глаз от этого удивительного и странного человека, таких он здесь никогда не встречал.
– И улов свой не забудь, рыбак.
Действительно, на дне лодки лежала целая куча живой рыбы.
– Хорошо, – снова повторил мальчишка, не веря своим глазам.
– А насчёт ниточки своей тоненькой не беспокойся. Всё будет в порядке.
Незнакомец ещё раз улыбнулся ребёнку и пошёл по воде, удаляясь всё дальше и дальше от берега, пока совсем не исчез вдалеке.

Наталия САМОХИНА
Родилась в городе Стрый на Западной Украине в семье военнослужащего в лучшей в мире стране – Советском Союзе. Выросла в Воронеже. Большая и лучшая часть жизни прошла в Рязани. Рязанский край и есть то место, которое я считаю своей малой Родиной. Закончила с отличием Тамбовский филиал Московского Государственного Института Культуры по специальности библиография детской литературы. До приезда в Брисбен в 2008 году в течение долгих лет работала в Рязанской областной детской библиотеке. Тесно сотрудничала с профессиональным журналом «Библиотекарь». Имела авторские программы «Заморочка» и «Ларец историй» для детей среднего школьного возраста на местном телевидении. Член Австралийской Библиотечно-Информационной ассоциации (ALIA). Являюсь автором и официальным корреспондентом по штату Квинсленд старейшей русской газеты Австралии «Единение», основанной в 1950 году. В 2020 г стала дипломантом литературного конкурса газеты «Единение» «Океания говорит по-русски» в номинации «Проза». Некоторые из моих рассказов были опубликованы в альманахах «Дебют» и «Юмор» за 2023 г. Имею публикацию в альманахе «Записная книжка» издательской платформы «Новое слово». Лауреат Премии «Писатель года» за 2023 год в номинации «Дебют».
Родилась в городе Стрый на Западной Украине в семье военнослужащего в лучшей в мире стране – Советском Союзе. Выросла в Воронеже. Большая и лучшая часть жизни прошла в Рязани. Рязанский край и есть то место, которое я считаю своей малой Родиной. Закончила с отличием Тамбовский филиал Московского Государственного Института Культуры по специальности библиография детской литературы. До приезда в Брисбен в 2008 году в течение долгих лет работала в Рязанской областной детской библиотеке. Тесно сотрудничала с профессиональным журналом «Библиотекарь». Имела авторские программы «Заморочка» и «Ларец историй» для детей среднего школьного возраста на местном телевидении. Член Австралийской Библиотечно-Информационной ассоциации (ALIA). Являюсь автором и официальным корреспондентом по штату Квинсленд старейшей русской газеты Австралии «Единение», основанной в 1950 году. В 2020 г стала дипломантом литературного конкурса газеты «Единение» «Океания говорит по-русски» в номинации «Проза». Некоторые из моих рассказов были опубликованы в альманахах «Дебют» и «Юмор» за 2023 г. Имею публикацию в альманахе «Записная книжка» издательской платформы «Новое слово». Лауреат Премии «Писатель года» за 2023 год в номинации «Дебют».
ОСТАНОВИТЕ ТРОЛЛЕЙБУС
Проснувшись ранним утром и умывшись прохладным дождём, улица Весенняя начала прихорашиваться, чтобы соответствовать своему названию. Придирчиво примеряя один наряд за другим, она все-таки осталась недовольна и попросила у Мая, пролетающего мимо с огромной многоцветной палитрой, новых красок в подарок. Май тут же согласился, добавив к нежной пастели яблоневого цвета и золоту одуванчиков бархатную глубину лиловых кистей сирени.
Счастливые люди радостно перемещались в праздничном весеннем пространстве. Пожалуй, больше всех радовался красоте утра пятилетний мальчик, который называл себя Старшим Братом. Углядев зорким взором распустившуюся сирень, он громко возвестил, раскатывая букву «Р»: «Бабуля Лала, Тётя Киса, смотрите – с -и-р-р-р-е-н-ь!» На самом деле бабушку его звали Ларой. Имя Лала она получила в те времена, когда Старший Брат букву «Р» выговаривать ещё не мог. Умение пришло, а вот бабушкино имя менять почему-то не хотелось, возможно, в силу привычки. Но мальчик об этом особо не задумывался: помня о возложенной на него миссии приглядывать за младшей сестрёнкой, бойко вращающей педали маленького трехколёсного велосипеда, он закричал: «Красавица Народная, стой!» Девочка остановилась и, посмотрев на брата ясными глазами васильковой синевы, широко улыбнулась. В отличие от него, она много не разговаривала, заменяя слова действиями. И всё, что делала малышка, получалось удивительно ловко.
Старший Брат был выдумщиком и фантазёром и придумал собственные имена для всех членов семьи. Но вот как в лексикон пятилетнего мальчика попала фраза из комедии сталинских времён про «Красавицу народную, как море полноводную», оставалось загадкой даже для его тёти, которая сама любила сочинять не меньше Старшего Брата. Вчерашняя школьница ещё только искала свой стиль и со свойственным молоденьким девушкам упорством работала над улучшением внешности. Стремясь удлинить свои и без того продолговатые глаза, она ловко подводила их косметическим карандашом, из-за чего глаза приобретали сходство с кошачьими, внимательно следящими с циферблата ходиков за бегом мышей-секунд, чтобы в подходящий момент безжалостно их сцапать. Вот так Даша и получила новое имя – Тётя Киса, против которого ничего не имела. Как, впрочем, и Красавица Народная, у которой в действительности было цветочное имя Лиля. Да и есть ли на свете девочка, которая бы возражала против того, чтобы называться красавицей?
«Подтягиваемся, малыши! Не останавливаемся, идём на остановку. Вы ведь не хотите троллейбус пропустить, правда? Бабушка Люся нас, наверное, уже ждёт!» – скомандовала женщина, оглядев семейство яркими карими глазами. Их путь лежал в центр города, на улицу, гордо носящую имя основоположника реактивного движения, на которой жила родная сестра Бабули Лалы. Дойдя до остановки, молодая бабушка тут же углядела силуэт неуверенно приближающегося троллейбуса. «Не идёт, а крадётся!» – подумала Лариса Николаевна и материализовала свои мысли в волевой посыл. Троллейбус, получивший энергетический пинок, тут же перестал путаться в проводах и, ускорив ход, шустро подкатил к остановке, гостеприимно распахнув двери.
Войдя в троллейбус, семья заняла двойное сиденье напротив кресла кондуктора. Бабуля Лала усадила Лилю на место у окна, а сама села поближе к проходу. Даша со Старшим Братом примостились у них за спиной, чтобы приглядывать за припаркованным на задней площадке велосипедом малышки. Троллейбус второго маршрута бойко побежал по улице Чкалова, помня о том, что на него возложена почётная миссия по доставке пассажиров аж на два вокзала – южного и северного направлений. Ну и как тут было не возгордиться от осознания собственной значимости?
Внимание Даши привлёк мужчина с клеткой из тонких планок, передняя сторона которой была затянута металлической сеткой. Прямо за сеткой, держась за неё передними лапками, похожими на тонкие ручки в светлых перчатках, стоял ёжик.
– Рома, посмотри – ёжик! Симпатичный какой! Как ты думаешь, куда они едут? – обратилась Тётя Киса к племяннику.
– Наверное, хозяин его на рынок везёт продавать, – предположил Старший Брат.
– Продавать? Зачем? Кто же ежей покупает?
– Может, кому-нибудь ёжик для живого уголка нужен. Меня бабушка Люся сегодня стричься поведёт, а там, в парикмахерской, тоже обезьяна в клетке живёт.
– Логично рассуждаете, молодой человек! Я вот только обезьянкино имя забыла. Его ведь, по-моему, Джоником зовут?
– Нет, там теперь новый сидит, – ответил Старший Брат.
– А ты ему что-нибудь вкусненькое везёшь? Приберёг для друга?
– Нет, – признался Рома. – Его сладким кормить не разрешают, а яблоки я сам все съел…
– Бывает! – улыбнулась Даша. – Только мне почему-то кажется, что хозяин ежика на дачу везёт, может, мышей вместо кошки ловить. Тогда он должен выйти не у рынка, а у вокзала Рязань-1, чтобы потом на электричку пересесть. Спорим?
– Давай! А на что? Мороженое мне купишь?
– Обязательно куплю! А если я выиграю, то ты меня в щёчку поцелуешь, лады?
– Я тебя и так поцелую, даже если ты проиграешь, – ответил Старший Брат.
Даша обняла племянника и уткнулась носом в его пушистую макушку, пахнущую солнцем и весной. Так, обнявшись, они и продолжали разглядывать ёжика. Уставший от пристального внимания зверёк нахмурился и, сверкая бусинками глаз из-под нависшей колючей чёлки, принял бойцовскую стойку.
Между тем троллейбус остановился у величественного здания Северного вокзала, похожего на одну из сталинских высоток Москвы. Поток пассажиров выкатился к его подножию, словно морская волна на галечный пляж, унося с собой и рассерженного ёжика, и его владельца. Даша подставила Роме щёку для поцелуя, и Старший Брат с удовольствием выполнил данное любимой Тёте Кисе обещание.
Прокладывая путь через центр города, утопающего в нежной майской зелени и подсвеченного алыми всполохами тюльпанов, изрядно опустевший троллейбус завернул на улицу Маяковского, где гостеприимно раскрыл двери перед пассажирами, поджидающими его на остановке у Центрального рынка. Нагруженные покупками граждане начали стремительно занимать свободные места. Неопрятно одетый мужчина среднего возраста, уже с утра основательно принявший «на грудь», не сумел набрать требуемой в этом состязании скорости, в результате чего сиденья ему не досталось. Хмуро оглядевшись по сторонам в поисках жертвы, он остановил свой выбор на Бабуле Лале с внучкой, решив их потеснить.
С трудом сохраняя равновесие в набирающем скорость троллейбусе, подвыпивший пассажир наклонился к женщине, окутав её плотным облаком перегара. Бабуля Лала закашлялась, ощущая себя жительницей древних Помпей перед роковым извержением Везувия.
– Слышь, дамочка, – заплетающимся языком произнёс благоухающий гражданин, – передвинься-ка ты к окну и посади дочку на колени, а я рядом присяду. Я после ночной смены, устал, ноги уже не держат.
– Думаю, что ноги Вас по другой причине не держат: пить меньше надо! От Вас же, как из бочки с самогонкой, разит! Пересаживаться я не буду, и перестаньте ребёнка пугать. По-хорошему прошу – отойдите!
– Ух ты, какая храбрая! Вот возьму и не отойду, что ты мне тогда сделаешь, а? – оскалился выпивоха и положил потную руку со скорбной траурной каймой грязи под ногтями на крутое бедро красивой пассажирки.
Оттолкнув руку, Лариса Николаевна встала, гордо выпрямившись. Бабуля Лала уступила место решительной женщине, на голове которой стремительно материализовывалась корона, здорово смахивающая на медицинскую шапочку-колпачок. Привыкшая быстро принимать решения, заведующая образцово-показательной аптекой Рязани огляделась, оценивая обстановку. «Даша и Рома, берите Лилин велосипед и идите за нами к кабине водителя!» – скомандовала Лариса Николаевна, взяв девочку за руку. «Товарищи, позвольте нам пройти! В салоне пьяный дебошир, надо срочно меры принимать!» – обратилась женщина к людям, стоящим в проходе. Пассажиры расступились, освобождая ей дорогу.
Постучав в прозрачное окошко двери, отделяющей пассажирский салон от кабины водителя, Лариса Николаевна попросила его высадить выпивоху из троллейбуса. «Как Вы мне его высаживать прикажете? – отпарировал водитель. – Мне надо по маршруту ехать, а не с пассажирами драться. У меня разряда по самбо нет, чтобы мужиков из салона выбрасывать!» «Солидарность проявляет», – отметила женщина. Между тем троллейбус, слегка замедляя ход, уже въезжал на площадь Мичурина, где в окружении мрачных елей гордо возносились к небу колонны здания Управления внутренних дел. «Остановите троллейбус! – властно распорядилась необычная пассажирка. – Дайте мне с детьми выйти, заблокируйте двери и ждите моего возвращения. И только попробуйте уехать! В этом случае я гарантирую Вам большие неприятности по работе. Уж поверьте на слово – я своих обещаний никогда не нарушаю!» Вздёрнув соболиную бровь, Лариса Николаевна с семьёй вышла из троллейбуса и первым делом взяла «на карандаш» номер транспортного средства передвижения. Двери за ними с шумом захлопнулись – водитель, очевидно, понял, что с решительной пассажиркой шутки плохи.
– Даша, оставайся с детьми здесь, а я в УВД пойду, – обратилась Лариса Николаевна к дочери.
– Мама, может быть, не надо? Пусть уезжает, тут до Театральной площади рукой подать! День такой чудесный, давайте пройдёмся и забудем об этом! – взмолилась девушка.
– Дочка, хамов надо наказывать! Запомни: никогда и никому не позволяй себя унижать!
И Даша запомнила эти слова навсегда. Расправив плечи, она подумала: «У кого ещё есть такая замечательная и смелая мама? Когда-нибудь напишу рассказ обо всём, что случилось сегодня!» На душе сразу стало спокойно. «Интересно, что же будет дальше? – подумалось девушке. – Надо нам со Старшим Братом пофантазировать о маминых приключениях в УВД, а Лиля пусть пока на велике по тротуару покатается».
Решительным шагом Лариса Николаевна подошла к центральному входу в здание Управления внутренних дел. Высокие ели незамедлительно отдали ей честь, а затем распахнули массивные двери и бросили под ноги зелёную ковровую дорожку с тёмно-малиновыми полосами по краям. Женщина вошла под величественные своды вестибюля со стройными колоннами и отполированным до блеска паркетом, ощущая себя героиней фильма «Светлый путь», приехавшей в Кремлевский Дворец съездов на награждение. Только вот, в отличие от знатной ткачихи, примчала её сюда не крылатая «Победа», а старенький троллейбус второго маршрута.
Улыбнувшись собственным мыслям, Лариса Николаевна уверенно направилась к дежурному, сидящему за массивным столом у пропускного пункта. Подтянутый мужчина среднего возраста показался ей похожим на милитаризированного китайца своим плоским лицом и тёмными, тщательно приглаженными волосами. Впечатление рассеялось, когда «китаец» произнёс глубоким баритоном дивного тембра: «Добрый день! Чем я могу Вам помочь?» Мгновенно проникнувшись доверием к представителю власти, женщина рассказала ему о том, что ей пришлось остановить троллейбус у здания УВД, чтобы найти управу на распоясавшегося хама. Внимательно выслушав потерпевшую, дежурный позвонил кому-то по внутреннему телефону. Через пару минут к пропускному пункту уже подходили два высоких стройных офицера, одетых в новенькую, с иголочки, форму. Вежливо козырнув Ларисе Николаевне, они пошли вслед за ней к притихшему в ожидании развязки событий троллейбусу.
Стоявшие на тротуаре под высоким каштаном Даша с малышами, затаив дыхание, наблюдали, как офицеры вывели из троллейбуса мгновенно протрезвевшего дебошира, уже добровольно заложившего руки за спину, и повели его к зданию управления. А когда Лариса Николаевна помахала детям из окошка рукой, они дружно припустили к широко открытой двери. Присмиревший водитель вёл себя прямо-таки показательно вежливо, а пассажиры встретили их маленькую группу улыбками. Троллейбус, раскочегариваясь, покачал усами, а затем лихо рванул с места, набирая скорость.
Буквально через пять минут семья уже шла по утопающей в зелени лип улице Есенина, больше похожей на широкий бульвар своими красивыми газонами и уютными деревянными лавочками с причудливо изогнутыми чугунными подлокотниками. Завернув на прямую, словно стрела, улицу Циолковского, где жила бабушка Люся, они нос к носу столкнулись с Маем, только что раскрасившим в белый и бордовый цвета хохлатые головки пионов на клумбе перед Драматическим театром. «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом», – пропела Бабуля Лала, а затем предложила дочери и внукам: «А давайте-ка мы сейчас в «Сказку» пойдём и купим чего-нибудь вкусненького к чаю?» Возражать, конечно же, никто не стал.
Проснувшись ранним утром и умывшись прохладным дождём, улица Весенняя начала прихорашиваться, чтобы соответствовать своему названию. Придирчиво примеряя один наряд за другим, она все-таки осталась недовольна и попросила у Мая, пролетающего мимо с огромной многоцветной палитрой, новых красок в подарок. Май тут же согласился, добавив к нежной пастели яблоневого цвета и золоту одуванчиков бархатную глубину лиловых кистей сирени.
Счастливые люди радостно перемещались в праздничном весеннем пространстве. Пожалуй, больше всех радовался красоте утра пятилетний мальчик, который называл себя Старшим Братом. Углядев зорким взором распустившуюся сирень, он громко возвестил, раскатывая букву «Р»: «Бабуля Лала, Тётя Киса, смотрите – с -и-р-р-р-е-н-ь!» На самом деле бабушку его звали Ларой. Имя Лала она получила в те времена, когда Старший Брат букву «Р» выговаривать ещё не мог. Умение пришло, а вот бабушкино имя менять почему-то не хотелось, возможно, в силу привычки. Но мальчик об этом особо не задумывался: помня о возложенной на него миссии приглядывать за младшей сестрёнкой, бойко вращающей педали маленького трехколёсного велосипеда, он закричал: «Красавица Народная, стой!» Девочка остановилась и, посмотрев на брата ясными глазами васильковой синевы, широко улыбнулась. В отличие от него, она много не разговаривала, заменяя слова действиями. И всё, что делала малышка, получалось удивительно ловко.
Старший Брат был выдумщиком и фантазёром и придумал собственные имена для всех членов семьи. Но вот как в лексикон пятилетнего мальчика попала фраза из комедии сталинских времён про «Красавицу народную, как море полноводную», оставалось загадкой даже для его тёти, которая сама любила сочинять не меньше Старшего Брата. Вчерашняя школьница ещё только искала свой стиль и со свойственным молоденьким девушкам упорством работала над улучшением внешности. Стремясь удлинить свои и без того продолговатые глаза, она ловко подводила их косметическим карандашом, из-за чего глаза приобретали сходство с кошачьими, внимательно следящими с циферблата ходиков за бегом мышей-секунд, чтобы в подходящий момент безжалостно их сцапать. Вот так Даша и получила новое имя – Тётя Киса, против которого ничего не имела. Как, впрочем, и Красавица Народная, у которой в действительности было цветочное имя Лиля. Да и есть ли на свете девочка, которая бы возражала против того, чтобы называться красавицей?
«Подтягиваемся, малыши! Не останавливаемся, идём на остановку. Вы ведь не хотите троллейбус пропустить, правда? Бабушка Люся нас, наверное, уже ждёт!» – скомандовала женщина, оглядев семейство яркими карими глазами. Их путь лежал в центр города, на улицу, гордо носящую имя основоположника реактивного движения, на которой жила родная сестра Бабули Лалы. Дойдя до остановки, молодая бабушка тут же углядела силуэт неуверенно приближающегося троллейбуса. «Не идёт, а крадётся!» – подумала Лариса Николаевна и материализовала свои мысли в волевой посыл. Троллейбус, получивший энергетический пинок, тут же перестал путаться в проводах и, ускорив ход, шустро подкатил к остановке, гостеприимно распахнув двери.
Войдя в троллейбус, семья заняла двойное сиденье напротив кресла кондуктора. Бабуля Лала усадила Лилю на место у окна, а сама села поближе к проходу. Даша со Старшим Братом примостились у них за спиной, чтобы приглядывать за припаркованным на задней площадке велосипедом малышки. Троллейбус второго маршрута бойко побежал по улице Чкалова, помня о том, что на него возложена почётная миссия по доставке пассажиров аж на два вокзала – южного и северного направлений. Ну и как тут было не возгордиться от осознания собственной значимости?
Внимание Даши привлёк мужчина с клеткой из тонких планок, передняя сторона которой была затянута металлической сеткой. Прямо за сеткой, держась за неё передними лапками, похожими на тонкие ручки в светлых перчатках, стоял ёжик.
– Рома, посмотри – ёжик! Симпатичный какой! Как ты думаешь, куда они едут? – обратилась Тётя Киса к племяннику.
– Наверное, хозяин его на рынок везёт продавать, – предположил Старший Брат.
– Продавать? Зачем? Кто же ежей покупает?
– Может, кому-нибудь ёжик для живого уголка нужен. Меня бабушка Люся сегодня стричься поведёт, а там, в парикмахерской, тоже обезьяна в клетке живёт.
– Логично рассуждаете, молодой человек! Я вот только обезьянкино имя забыла. Его ведь, по-моему, Джоником зовут?
– Нет, там теперь новый сидит, – ответил Старший Брат.
– А ты ему что-нибудь вкусненькое везёшь? Приберёг для друга?
– Нет, – признался Рома. – Его сладким кормить не разрешают, а яблоки я сам все съел…
– Бывает! – улыбнулась Даша. – Только мне почему-то кажется, что хозяин ежика на дачу везёт, может, мышей вместо кошки ловить. Тогда он должен выйти не у рынка, а у вокзала Рязань-1, чтобы потом на электричку пересесть. Спорим?
– Давай! А на что? Мороженое мне купишь?
– Обязательно куплю! А если я выиграю, то ты меня в щёчку поцелуешь, лады?
– Я тебя и так поцелую, даже если ты проиграешь, – ответил Старший Брат.
Даша обняла племянника и уткнулась носом в его пушистую макушку, пахнущую солнцем и весной. Так, обнявшись, они и продолжали разглядывать ёжика. Уставший от пристального внимания зверёк нахмурился и, сверкая бусинками глаз из-под нависшей колючей чёлки, принял бойцовскую стойку.
Между тем троллейбус остановился у величественного здания Северного вокзала, похожего на одну из сталинских высоток Москвы. Поток пассажиров выкатился к его подножию, словно морская волна на галечный пляж, унося с собой и рассерженного ёжика, и его владельца. Даша подставила Роме щёку для поцелуя, и Старший Брат с удовольствием выполнил данное любимой Тёте Кисе обещание.
Прокладывая путь через центр города, утопающего в нежной майской зелени и подсвеченного алыми всполохами тюльпанов, изрядно опустевший троллейбус завернул на улицу Маяковского, где гостеприимно раскрыл двери перед пассажирами, поджидающими его на остановке у Центрального рынка. Нагруженные покупками граждане начали стремительно занимать свободные места. Неопрятно одетый мужчина среднего возраста, уже с утра основательно принявший «на грудь», не сумел набрать требуемой в этом состязании скорости, в результате чего сиденья ему не досталось. Хмуро оглядевшись по сторонам в поисках жертвы, он остановил свой выбор на Бабуле Лале с внучкой, решив их потеснить.
С трудом сохраняя равновесие в набирающем скорость троллейбусе, подвыпивший пассажир наклонился к женщине, окутав её плотным облаком перегара. Бабуля Лала закашлялась, ощущая себя жительницей древних Помпей перед роковым извержением Везувия.
– Слышь, дамочка, – заплетающимся языком произнёс благоухающий гражданин, – передвинься-ка ты к окну и посади дочку на колени, а я рядом присяду. Я после ночной смены, устал, ноги уже не держат.
– Думаю, что ноги Вас по другой причине не держат: пить меньше надо! От Вас же, как из бочки с самогонкой, разит! Пересаживаться я не буду, и перестаньте ребёнка пугать. По-хорошему прошу – отойдите!
– Ух ты, какая храбрая! Вот возьму и не отойду, что ты мне тогда сделаешь, а? – оскалился выпивоха и положил потную руку со скорбной траурной каймой грязи под ногтями на крутое бедро красивой пассажирки.
Оттолкнув руку, Лариса Николаевна встала, гордо выпрямившись. Бабуля Лала уступила место решительной женщине, на голове которой стремительно материализовывалась корона, здорово смахивающая на медицинскую шапочку-колпачок. Привыкшая быстро принимать решения, заведующая образцово-показательной аптекой Рязани огляделась, оценивая обстановку. «Даша и Рома, берите Лилин велосипед и идите за нами к кабине водителя!» – скомандовала Лариса Николаевна, взяв девочку за руку. «Товарищи, позвольте нам пройти! В салоне пьяный дебошир, надо срочно меры принимать!» – обратилась женщина к людям, стоящим в проходе. Пассажиры расступились, освобождая ей дорогу.
Постучав в прозрачное окошко двери, отделяющей пассажирский салон от кабины водителя, Лариса Николаевна попросила его высадить выпивоху из троллейбуса. «Как Вы мне его высаживать прикажете? – отпарировал водитель. – Мне надо по маршруту ехать, а не с пассажирами драться. У меня разряда по самбо нет, чтобы мужиков из салона выбрасывать!» «Солидарность проявляет», – отметила женщина. Между тем троллейбус, слегка замедляя ход, уже въезжал на площадь Мичурина, где в окружении мрачных елей гордо возносились к небу колонны здания Управления внутренних дел. «Остановите троллейбус! – властно распорядилась необычная пассажирка. – Дайте мне с детьми выйти, заблокируйте двери и ждите моего возвращения. И только попробуйте уехать! В этом случае я гарантирую Вам большие неприятности по работе. Уж поверьте на слово – я своих обещаний никогда не нарушаю!» Вздёрнув соболиную бровь, Лариса Николаевна с семьёй вышла из троллейбуса и первым делом взяла «на карандаш» номер транспортного средства передвижения. Двери за ними с шумом захлопнулись – водитель, очевидно, понял, что с решительной пассажиркой шутки плохи.
– Даша, оставайся с детьми здесь, а я в УВД пойду, – обратилась Лариса Николаевна к дочери.
– Мама, может быть, не надо? Пусть уезжает, тут до Театральной площади рукой подать! День такой чудесный, давайте пройдёмся и забудем об этом! – взмолилась девушка.
– Дочка, хамов надо наказывать! Запомни: никогда и никому не позволяй себя унижать!
И Даша запомнила эти слова навсегда. Расправив плечи, она подумала: «У кого ещё есть такая замечательная и смелая мама? Когда-нибудь напишу рассказ обо всём, что случилось сегодня!» На душе сразу стало спокойно. «Интересно, что же будет дальше? – подумалось девушке. – Надо нам со Старшим Братом пофантазировать о маминых приключениях в УВД, а Лиля пусть пока на велике по тротуару покатается».
Решительным шагом Лариса Николаевна подошла к центральному входу в здание Управления внутренних дел. Высокие ели незамедлительно отдали ей честь, а затем распахнули массивные двери и бросили под ноги зелёную ковровую дорожку с тёмно-малиновыми полосами по краям. Женщина вошла под величественные своды вестибюля со стройными колоннами и отполированным до блеска паркетом, ощущая себя героиней фильма «Светлый путь», приехавшей в Кремлевский Дворец съездов на награждение. Только вот, в отличие от знатной ткачихи, примчала её сюда не крылатая «Победа», а старенький троллейбус второго маршрута.
Улыбнувшись собственным мыслям, Лариса Николаевна уверенно направилась к дежурному, сидящему за массивным столом у пропускного пункта. Подтянутый мужчина среднего возраста показался ей похожим на милитаризированного китайца своим плоским лицом и тёмными, тщательно приглаженными волосами. Впечатление рассеялось, когда «китаец» произнёс глубоким баритоном дивного тембра: «Добрый день! Чем я могу Вам помочь?» Мгновенно проникнувшись доверием к представителю власти, женщина рассказала ему о том, что ей пришлось остановить троллейбус у здания УВД, чтобы найти управу на распоясавшегося хама. Внимательно выслушав потерпевшую, дежурный позвонил кому-то по внутреннему телефону. Через пару минут к пропускному пункту уже подходили два высоких стройных офицера, одетых в новенькую, с иголочки, форму. Вежливо козырнув Ларисе Николаевне, они пошли вслед за ней к притихшему в ожидании развязки событий троллейбусу.
Стоявшие на тротуаре под высоким каштаном Даша с малышами, затаив дыхание, наблюдали, как офицеры вывели из троллейбуса мгновенно протрезвевшего дебошира, уже добровольно заложившего руки за спину, и повели его к зданию управления. А когда Лариса Николаевна помахала детям из окошка рукой, они дружно припустили к широко открытой двери. Присмиревший водитель вёл себя прямо-таки показательно вежливо, а пассажиры встретили их маленькую группу улыбками. Троллейбус, раскочегариваясь, покачал усами, а затем лихо рванул с места, набирая скорость.
Буквально через пять минут семья уже шла по утопающей в зелени лип улице Есенина, больше похожей на широкий бульвар своими красивыми газонами и уютными деревянными лавочками с причудливо изогнутыми чугунными подлокотниками. Завернув на прямую, словно стрела, улицу Циолковского, где жила бабушка Люся, они нос к носу столкнулись с Маем, только что раскрасившим в белый и бордовый цвета хохлатые головки пионов на клумбе перед Драматическим театром. «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом», – пропела Бабуля Лала, а затем предложила дочери и внукам: «А давайте-ка мы сейчас в «Сказку» пойдём и купим чего-нибудь вкусненького к чаю?» Возражать, конечно же, никто не стал.

Лариса КАЛЬМАТКИНА
Родилась в 1972 году в Республике Коми. Окончила исторический факультет Сыктывкарского университета. Работала учителем Пыёлдинской средней школы. С 1994 по 2019 годы – сотрудник газеты «Маяк Сысолы». С 2019 по 2022 год – хранитель музейных предметов Музея истории и культуры Сысольского района. В настоящее время – педагог дополнительного образования в Визингской средней школе. Публиковалась в журналах «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), «Ротонда», альманахах «Новое слово» и «Белый бор», сборниках «Питер», «Остров Лето», «Авторы XXI века» и других. Дважды лауреат премии администрации муниципального района «Сысольский» в области литературы, дипломант нескольких конкурсов. Член Союза журналистов России. Живёт в с. Визинга Сысольского района Республики Коми.
Родилась в 1972 году в Республике Коми. Окончила исторический факультет Сыктывкарского университета. Работала учителем Пыёлдинской средней школы. С 1994 по 2019 годы – сотрудник газеты «Маяк Сысолы». С 2019 по 2022 год – хранитель музейных предметов Музея истории и культуры Сысольского района. В настоящее время – педагог дополнительного образования в Визингской средней школе. Публиковалась в журналах «Войвыв кодзув» («Северная звезда»), «Ротонда», альманахах «Новое слово» и «Белый бор», сборниках «Питер», «Остров Лето», «Авторы XXI века» и других. Дважды лауреат премии администрации муниципального района «Сысольский» в области литературы, дипломант нескольких конкурсов. Член Союза журналистов России. Живёт в с. Визинга Сысольского района Республики Коми.
БЕЛЫЕ РОЗЫ В СИНЕМ ВЕДРЕ
Чайник перегорел! И как раз сегодня, когда выходной и не хочется лишний раз высовываться на улицу. Да ещё и в такую рань. Сергей налил воды в белую эмалированную кастрюлю и поставил её на газовую плиту. Без кофе утро – не утро, день – не день.
Пока грелась вода, пошарил в барсетке, проверяя наличность. Пять тысяч одной красной бумажкой. Ладно, должно хватить.
И чего это Клео на него вчера обиделась? Слово ей не скажи! Не нравится ей, видите ли, его работа, вернее, график. Хотя её-то график ещё хлеще – преимущественно ночной. Неудивительно, что они редко видятся в последнее время.
Но что ни говори, теперь надо искать ключи примирения. Сергей всегда первым делает шаг навстречу. Он же мужчина. Он так воспитан, в конце концов. Цветы – подходящий ключ к сердцу женщины. Особенно красивые цветы. Розы – как она любит.
Клео – не настоящее её имя, а сценический псевдоним, перекочевавший в жизнь. На самом деле девушку Сергея зовут Капитолина. Редко в наше время так называют девочек. Но сокращённые формы имени – Капа и Лина – она не воспринимает. Клеопатра гораздо эффектнее звучит, считает она, и просит называть себя Клео. Клео так Клео, что же спорить с красивой девушкой.
Да, она красивая, талантливая, замечательно поёт. Не зря её взяли на работу в один из лучших ресторанов города – «Ласточкино гнездо». Кроме того, она играет в драмтеатре небольшие роли. Но театральный сезон ещё не начался, а лето как-то бездарно пролетело. Снова не удалось съездить на море, хотя он и обещал свозить Клео в Сочи. Всё же она права: «Тупой график – тупая жизнь». Сегодня Клео работает. Надо её навестить. И лучше с цветами.
Вода в кастрюльке закипела. Сергей насыпал в стеклянную кружку с надписью «Пятигорск» две ложки растворимого кофе, залил кипятком. Помешал пахучую жидкость ложечкой с надписью «Светлана». Мамина ложка. Он стащил её, когда уезжал из дома четыре года назад. На память. Мама об этом даже не знает. Сергей вздохнул и маленькими глотками выпил весь кофе.
Это хорошо, что он вчера не поленился дойти до банкомата, чтобы снять наличные. В конце улицы Зелёной есть дом, в котором живёт одна старушенция. Сама она утверждает, что ей больше ста лет. Приходится верить на слово. Не будешь же требовать паспорт в качестве доказательства. Тем более, у женщины да ещё и с таким именем – Офелия! Сергей вспомнил о Клео. А не так уж, оказывается, редки в его ближайшем окружении люди с оригинальными именами.
Офелия Ивановна живёт в небольшом деревянном доме, обшитом бежевым сайдингом. На крыше сохранился шифер советского времени. Под тремя окнами, выходящими на дорогу, небольшой огород, он почти весь засажен цветами. На петрушку и лук Офелия Ивановна выделила всего одну грядку. «Без витаминов в мои годы нельзя», – говорит она всякий раз, когда Сергей заглядывает к ней за букетом. Это его пятый визит к Офелии Ивановне. Все цветы Сергей добросовестно дарит Клео. Кому же ещё? Здесь, в чужом городе, она – единственный близкий человек, не считая компаньона Стаса и соседа по лестничной площадке Тимофея Сергеевича.
«Лучшие цветы для женщины – розы», – утверждает цветочница Офелия. Сергей с ней не спорит. Он в растениях мало что понимает. Что петрушка, что роза. Чувств у него они никаких не вызывают. Но таких ярких и пышных роз, как здесь, он даже на базаре не видел. Наверное, хитрая старушка поливает их отваром из черепашьих потрохов или ещё каким-нибудь снадобьем. Вот они и бугрят, и благоухают так, что не можешь надышаться густым сладким ароматом.
– В любом деле важно любить то, чем занимаешься. А с цветами надо ещё и разговаривать, как с детьми, – Офелия Ивановна срезает очередную розу и ставит её в синее пластмассовое ведро, на четверть заполненное водой.
– А о чём вы с ними говорите? – Сергей поправляет бутон.
– Ну как – о чём? Удивительный ты человек! Обо всём. О погоде, о дочери и её муже, о коте, о политике. Хотя цветы о политике не любят, сразу начинают унывать. Поэтому стараюсь находить темы более весёлые. Много рассказываю о театре. Я же там прослужила более полувека. Мне есть, что поведать миру. Но пока меня слушают только розы и Гамлет.
– Гамлет?
– Да, мой кот. Вот он, развалился на подоконнике.
На открытом окне возлежал упитанный рыжий кот. Он словно почувствовал, что речь идёт о нём. Лениво поднял морду, потянулся передними лапами и свернулся клубком, всем видом показывая, что ни цветы, ни люди его не интересуют.
Сергей улыбнулся. В этом доме всё по-шекспировски. Офелия, Гамлет, Маргарет – дочь хозяйки, которую он ни разу не видел.
Офелия Ивановна отродясь не заводила пластиковую карточку. Пенсию ей по старинке приносят домой бумажными купюрами. В доход добавляются средства от продажи цветов. За лето и осень набегает приличная сумма. На эти деньги Офелия Ивановна раз в год ездит на Байкал навестить могилу мужа, Антония Германовича. Он погиб во время рыбалки в далёком 1968 году. После происшествия, погоревав два года, Офелия вернулась на Дон – на родину.
– Сейчас мы срежем самые прекрасные цветы для твоей дамы, – суетилась хозяйка, то и дело наступая на свисающую с плеч чёрную вязаную шаль.
Вскоре ведро заполнилось цветами. Сергей протянул Офелии Ивановне деньги.
– Что ты?! – замахала она руками. – Такие деньжищи! Вся эта красота вмещается в две тысячи.
– Берите. У меня других денег нет. К тому же ваши цветы настолько прекрасны, что стоят даже дороже, – Сергей взял ведро.
– Погоди! Пойдём, хотя бы я тебя чаем угощу, – хозяйка завязала на груди концы шали.
Сергей сразу согласился:
– А давайте попьём! У меня как раз чайник сгорел.
– У меня чай самоварный, – Офелия Ивановна свернула за угол дома, где обнаружилась уютная полянка со столом, длинной крашеной лавкой. В центре стола стоял медный самовар. Вокруг него выстроились банки с мёдом, вареньем и четыре оранжевые, в белый горошек чашки.
Офелия Ивановна указала на лавку:
– Садись! Чай я из трав завариваю. Всё наши, южные. На Алтае, конечно, разнообразия больше. Я каждый год привожу оттуда пару мешочков разнотравья. Сюда их тоже добавила.
Хозяйка налила в чашки заварку из стеклянного чайника, Сергей добавил воды из самовара.
– Попробуй это варенье. Абрикосовое. Моё любимое. А это – вишнёвое, без косточек. Очень вкусное, сразу детство вспоминается, – Офелия Ивановна продолжала. – Намазывай на хлеб. Хлеб я в пекарне напротив беру, тёплый ещё.
Сергей попробовал все виды варенья и мёд. И сделал вывод:
– Как интересно связаны время и вкус. Действительно, детство вспоминается.
Хозяйка покивала в ответ, а потом спохватилась:
– Ты посиди здесь чуток. Я сейчас!
Сергей остался один. Но тут же почувствовал, что кто-то трётся об его ногу. Гамлет! Думает, может, и ему что-то перепадёт со стола. Но для кошачьих здесь ничего не припасено. Сергей погладил кота:
– Хороший, хороший котяра…
Тот замурлыкал, как трактор.
Появилась Офелия Ивановна. Она тащила в руках коробку:
– Вот! Ты говорил, у тебя чайник сгорел. Этот – совершенно новый! Дочь подарила на День пожилых людей. Знает же, что я этот праздник терпеть не могу, а всё равно поздравила. Чайник мне совершенно ни к чему. У меня есть самовары. Вот этот – уличный, и дома – электрический. Мне хватает. Так что бери, не стесняйся!
– Ну что вы, – начал отказываться Сергей. – Я куплю.
– Бери! – настойчиво пихала коробку Офелия Ивановна.
– А если ваша дочь спросит, где новый чайник?
– Да ну что ты? Она раз в год приезжает. А спросит, скажу, перегорел. У нынешних чайников срок короткий, сам знаешь.
– Ай-ай-ай, Офелия Ивановна. Нехорошо обманывать, – Сергей пытался вразумить хозяйку.
– Нехорошо мать раз в год навещать. Бери, кому говорят! – и всучила-таки коробку Сергею.
Пока они препирались, не заметили, как в сад вошла темноволосая полная женщина лет пятидесяти. В руках она волокла большие клетчатые сумки, в каких раньше челноки перевозили товар.
– Мама… – устало произнесла женщина.
– Ой, дочка приехала! Маргарет! – Офелия Ивановна засеменила к гостье. – А что же ты не сообщила о приезде?
– Мама, я тебе три дня звонила. Ты трубку не берёшь, – Маргарет поставила сумки на бетонный тротуар.
Женщины обнялись и какое-то время молчали.
– Да не слышу я этот чёртов телефон, – наконец выдохнула Офелия Ивановна, утирая непрошеную слезу. – А почему ты так рано приехала?
– Я ушла от Толи.
– Как ушла?! Совсем? Что случилось? – мать отступила на шаг, словно пытаясь лучше разглядеть сбежавшую от супруга дочь.
– Скорее, он сам ушёл. Ничего не объяснил. Собрал вещи, сел в машину и укатил. Уже две недели как. Мама! Я не могу там находиться одна. Я уже все слёзы выплакала, – Маргарет села на край лавки и замолчала.
– Но, может, он ещё вернётся? – в голосе Офелии Ивановны теплилась надежда.
Старушка как будто ещё больше состарилась. И, может, даже тянула на те самые сто с лишним лет.
– Нет, мама! – Маргарет зарыдала, закрыв лицо руками.
Офелия Ивановна, сухонькая старушка, обняла свою пышнотелую взрослую дочь. Она гладила её по голове и приговаривала:
– Ничего, дочка. Ничего…
Сергей не знал, что делать с коробкой, и слегка кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Офелия Ивановна оглянулась:
– А ты бери чайник, бери! Мы ещё купим. Верно, Маргарет?
Дочь всхлипнула и кивнула.
Сергей взял ведро с розами и направился к калитке. Он сразу поехал к ресторану «Ласточкино гнездо», хотя знал, что до выступления Клео ещё рано. Намотал несколько кругов вокруг здания. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, ложась на асфальт тёплыми пятнами. Лёгкий ветерок гонял по дороге первые жёлтые листья. Углубившись в свои мысли, Сергей не заметил, как выехал из центра и поехал на набережную.
Сентябрь был жарким. Впрочем, так и бывает в бархатный сезон. Но несмотря на выходной день, купающихся на реке было мало. Сергей вышел из машины, снял ботинки, рубашку, брюки. Одежду сложил на сиденье.
Горячий песок обжигал ступни. Сергей разбежался и прыгнул в воду. Нырнул. Мысли в голове растворились, будто сахар в чашке чая. Сергей чувствовал только живительную прохладу, свободу и давно забытую радость. Он и в детстве получал удовольствие от плавания, несмотря на то, что вода в северных водоёмах всегда холодная.
Купался долго, с наслаждением, до устали. Выбравшись на берег, долго лежал на животе с раскинутыми в сторону руками. И не заметил, как задремал. Проснулся от того, что кто-то лизнул его в ухо. Открыл глаза – чёрный щенок с белой кисточкой на конце хвоста. Сергей осмотрелся кругом. Пляж опустел. Людей рядом нет.
– Эй, ты! Ты чей? Где твои хозяева?
Сергей сел, взял щенка, погладил его. Обнаружил тоненький ошейник, но бирки с адресом хозяина на нём не было.
– И что мне с тобой теперь делать? – спросил он у щенка, который изо всех сил старался дотянуться до его носа, чтобы лизнуть.
– Ладно, пойдём.
В машине он устроил щенка на заднее сиденье. Ведро с розами переставил вперёд. Машина окольными путями выбралась на скоростное шоссе и взяла направление на восток. Через два дня, если очень постараться, можно оказаться дома, у мамы. И Сергей нажал на педаль газа.
Мимо неслись километры. На первой попавшейся заправке Сергей отправил сообщение Стасу: «Передай Андрею В., прошу отпуск на две недели по семейным обстоятельствам». Когда сообщение ушло, вытащил симку из телефона и выбросил её в кусты. Всё! Свободен!
Сергей ехал, не оглядываясь на обстоятельства, на обязательства. В салоне авто оглушительно пахло розами, сзади повизгивал щенок, но вскоре он угомонился и уснул.
* * *
Когда Сергей подъехал к родному дому, уже смеркалось. В большой комнате горел свет. Он увидел через полузанавешенное окно, как мама за швейной машинкой мастерит что-то из жёлтой ткани. На миг мама задумалась и посмотрела в окно, словно почувствовав, что за ней наблюдают. И снова принялась за шитьё.
Сергей взял ведро с розами в одну руку, щенка – в другую и пошёл к дому. Постучал в дверь. Мама откликнулась не сразу:
– Кто там?
– Это я, мама.
– Серёжа! – мать открыла дверь и обняла сына. – Серёжа. Серёжа...
Когда вошли в дом, Сергей поставил на стол ведро с цветами:
– Это тебе, мама!
– Какие красивые! И так много!
– А это – Шекспир! Наш новый друг, – Сергей опустил щенка на пол.
– Он что, из Англии? – улыбнулась мама.
– Эх, мама, если бы ты знала, как близко от нас эта Англия. Погоди, у меня же в машине ещё один подарок!
Сергей выбежал на улицу и вернулся с коробкой Офелии Ивановны:
– А это – наш новый чайник!
Мама рассмеялась:
– Ты просто волшебник. Как раз сегодня у меня чайник сломался. До пенсии ещё три дня, лишних денег на новый нет. В кастрюльке воду грею. Видно, тебя сам Бог послал.
– Видно, да, мама. И мне тебя тоже! – Сергей распаковал металлический чайник, ополоснул его под краном, налил воды и включил.
После ночного чаепития Сергей вышел во двор. Мама ещё хлопотала на кухне, а Шекспир после сытного ужина спал, уткнувшись носом в старую фуфайку.
На улице совсем стемнело. По селу горело всего три фонаря, да и то только на главной улице. Где-то лениво лаяла собака. Тарахтя, проехал мотоцикл. В кустах сирени тихо вскрикнула какая-то птица, а потом всё стихло.
На небе сияли звёзды. Они казались такими яркими и близкими, как в 3D-кинотеатре. В большом городе за звёздами не понаблюдаешь, их попросту не видно из-за обилия уличного света. Ковш Большой Медведицы висел прямо над их домом.
Родина лечит. Вот и сейчас Сергей чувствовал, как затягиваются душевные раны, как срастается то, что, казалось, никогда уже не срастётся. Дышалось легко. Сергей сел на скамейку возле забора, закрыл глаза и почувствовал, как по щеке бежит слеза.
Чайник перегорел! И как раз сегодня, когда выходной и не хочется лишний раз высовываться на улицу. Да ещё и в такую рань. Сергей налил воды в белую эмалированную кастрюлю и поставил её на газовую плиту. Без кофе утро – не утро, день – не день.
Пока грелась вода, пошарил в барсетке, проверяя наличность. Пять тысяч одной красной бумажкой. Ладно, должно хватить.
И чего это Клео на него вчера обиделась? Слово ей не скажи! Не нравится ей, видите ли, его работа, вернее, график. Хотя её-то график ещё хлеще – преимущественно ночной. Неудивительно, что они редко видятся в последнее время.
Но что ни говори, теперь надо искать ключи примирения. Сергей всегда первым делает шаг навстречу. Он же мужчина. Он так воспитан, в конце концов. Цветы – подходящий ключ к сердцу женщины. Особенно красивые цветы. Розы – как она любит.
Клео – не настоящее её имя, а сценический псевдоним, перекочевавший в жизнь. На самом деле девушку Сергея зовут Капитолина. Редко в наше время так называют девочек. Но сокращённые формы имени – Капа и Лина – она не воспринимает. Клеопатра гораздо эффектнее звучит, считает она, и просит называть себя Клео. Клео так Клео, что же спорить с красивой девушкой.
Да, она красивая, талантливая, замечательно поёт. Не зря её взяли на работу в один из лучших ресторанов города – «Ласточкино гнездо». Кроме того, она играет в драмтеатре небольшие роли. Но театральный сезон ещё не начался, а лето как-то бездарно пролетело. Снова не удалось съездить на море, хотя он и обещал свозить Клео в Сочи. Всё же она права: «Тупой график – тупая жизнь». Сегодня Клео работает. Надо её навестить. И лучше с цветами.
Вода в кастрюльке закипела. Сергей насыпал в стеклянную кружку с надписью «Пятигорск» две ложки растворимого кофе, залил кипятком. Помешал пахучую жидкость ложечкой с надписью «Светлана». Мамина ложка. Он стащил её, когда уезжал из дома четыре года назад. На память. Мама об этом даже не знает. Сергей вздохнул и маленькими глотками выпил весь кофе.
Это хорошо, что он вчера не поленился дойти до банкомата, чтобы снять наличные. В конце улицы Зелёной есть дом, в котором живёт одна старушенция. Сама она утверждает, что ей больше ста лет. Приходится верить на слово. Не будешь же требовать паспорт в качестве доказательства. Тем более, у женщины да ещё и с таким именем – Офелия! Сергей вспомнил о Клео. А не так уж, оказывается, редки в его ближайшем окружении люди с оригинальными именами.
Офелия Ивановна живёт в небольшом деревянном доме, обшитом бежевым сайдингом. На крыше сохранился шифер советского времени. Под тремя окнами, выходящими на дорогу, небольшой огород, он почти весь засажен цветами. На петрушку и лук Офелия Ивановна выделила всего одну грядку. «Без витаминов в мои годы нельзя», – говорит она всякий раз, когда Сергей заглядывает к ней за букетом. Это его пятый визит к Офелии Ивановне. Все цветы Сергей добросовестно дарит Клео. Кому же ещё? Здесь, в чужом городе, она – единственный близкий человек, не считая компаньона Стаса и соседа по лестничной площадке Тимофея Сергеевича.
«Лучшие цветы для женщины – розы», – утверждает цветочница Офелия. Сергей с ней не спорит. Он в растениях мало что понимает. Что петрушка, что роза. Чувств у него они никаких не вызывают. Но таких ярких и пышных роз, как здесь, он даже на базаре не видел. Наверное, хитрая старушка поливает их отваром из черепашьих потрохов или ещё каким-нибудь снадобьем. Вот они и бугрят, и благоухают так, что не можешь надышаться густым сладким ароматом.
– В любом деле важно любить то, чем занимаешься. А с цветами надо ещё и разговаривать, как с детьми, – Офелия Ивановна срезает очередную розу и ставит её в синее пластмассовое ведро, на четверть заполненное водой.
– А о чём вы с ними говорите? – Сергей поправляет бутон.
– Ну как – о чём? Удивительный ты человек! Обо всём. О погоде, о дочери и её муже, о коте, о политике. Хотя цветы о политике не любят, сразу начинают унывать. Поэтому стараюсь находить темы более весёлые. Много рассказываю о театре. Я же там прослужила более полувека. Мне есть, что поведать миру. Но пока меня слушают только розы и Гамлет.
– Гамлет?
– Да, мой кот. Вот он, развалился на подоконнике.
На открытом окне возлежал упитанный рыжий кот. Он словно почувствовал, что речь идёт о нём. Лениво поднял морду, потянулся передними лапами и свернулся клубком, всем видом показывая, что ни цветы, ни люди его не интересуют.
Сергей улыбнулся. В этом доме всё по-шекспировски. Офелия, Гамлет, Маргарет – дочь хозяйки, которую он ни разу не видел.
Офелия Ивановна отродясь не заводила пластиковую карточку. Пенсию ей по старинке приносят домой бумажными купюрами. В доход добавляются средства от продажи цветов. За лето и осень набегает приличная сумма. На эти деньги Офелия Ивановна раз в год ездит на Байкал навестить могилу мужа, Антония Германовича. Он погиб во время рыбалки в далёком 1968 году. После происшествия, погоревав два года, Офелия вернулась на Дон – на родину.
– Сейчас мы срежем самые прекрасные цветы для твоей дамы, – суетилась хозяйка, то и дело наступая на свисающую с плеч чёрную вязаную шаль.
Вскоре ведро заполнилось цветами. Сергей протянул Офелии Ивановне деньги.
– Что ты?! – замахала она руками. – Такие деньжищи! Вся эта красота вмещается в две тысячи.
– Берите. У меня других денег нет. К тому же ваши цветы настолько прекрасны, что стоят даже дороже, – Сергей взял ведро.
– Погоди! Пойдём, хотя бы я тебя чаем угощу, – хозяйка завязала на груди концы шали.
Сергей сразу согласился:
– А давайте попьём! У меня как раз чайник сгорел.
– У меня чай самоварный, – Офелия Ивановна свернула за угол дома, где обнаружилась уютная полянка со столом, длинной крашеной лавкой. В центре стола стоял медный самовар. Вокруг него выстроились банки с мёдом, вареньем и четыре оранжевые, в белый горошек чашки.
Офелия Ивановна указала на лавку:
– Садись! Чай я из трав завариваю. Всё наши, южные. На Алтае, конечно, разнообразия больше. Я каждый год привожу оттуда пару мешочков разнотравья. Сюда их тоже добавила.
Хозяйка налила в чашки заварку из стеклянного чайника, Сергей добавил воды из самовара.
– Попробуй это варенье. Абрикосовое. Моё любимое. А это – вишнёвое, без косточек. Очень вкусное, сразу детство вспоминается, – Офелия Ивановна продолжала. – Намазывай на хлеб. Хлеб я в пекарне напротив беру, тёплый ещё.
Сергей попробовал все виды варенья и мёд. И сделал вывод:
– Как интересно связаны время и вкус. Действительно, детство вспоминается.
Хозяйка покивала в ответ, а потом спохватилась:
– Ты посиди здесь чуток. Я сейчас!
Сергей остался один. Но тут же почувствовал, что кто-то трётся об его ногу. Гамлет! Думает, может, и ему что-то перепадёт со стола. Но для кошачьих здесь ничего не припасено. Сергей погладил кота:
– Хороший, хороший котяра…
Тот замурлыкал, как трактор.
Появилась Офелия Ивановна. Она тащила в руках коробку:
– Вот! Ты говорил, у тебя чайник сгорел. Этот – совершенно новый! Дочь подарила на День пожилых людей. Знает же, что я этот праздник терпеть не могу, а всё равно поздравила. Чайник мне совершенно ни к чему. У меня есть самовары. Вот этот – уличный, и дома – электрический. Мне хватает. Так что бери, не стесняйся!
– Ну что вы, – начал отказываться Сергей. – Я куплю.
– Бери! – настойчиво пихала коробку Офелия Ивановна.
– А если ваша дочь спросит, где новый чайник?
– Да ну что ты? Она раз в год приезжает. А спросит, скажу, перегорел. У нынешних чайников срок короткий, сам знаешь.
– Ай-ай-ай, Офелия Ивановна. Нехорошо обманывать, – Сергей пытался вразумить хозяйку.
– Нехорошо мать раз в год навещать. Бери, кому говорят! – и всучила-таки коробку Сергею.
Пока они препирались, не заметили, как в сад вошла темноволосая полная женщина лет пятидесяти. В руках она волокла большие клетчатые сумки, в каких раньше челноки перевозили товар.
– Мама… – устало произнесла женщина.
– Ой, дочка приехала! Маргарет! – Офелия Ивановна засеменила к гостье. – А что же ты не сообщила о приезде?
– Мама, я тебе три дня звонила. Ты трубку не берёшь, – Маргарет поставила сумки на бетонный тротуар.
Женщины обнялись и какое-то время молчали.
– Да не слышу я этот чёртов телефон, – наконец выдохнула Офелия Ивановна, утирая непрошеную слезу. – А почему ты так рано приехала?
– Я ушла от Толи.
– Как ушла?! Совсем? Что случилось? – мать отступила на шаг, словно пытаясь лучше разглядеть сбежавшую от супруга дочь.
– Скорее, он сам ушёл. Ничего не объяснил. Собрал вещи, сел в машину и укатил. Уже две недели как. Мама! Я не могу там находиться одна. Я уже все слёзы выплакала, – Маргарет села на край лавки и замолчала.
– Но, может, он ещё вернётся? – в голосе Офелии Ивановны теплилась надежда.
Старушка как будто ещё больше состарилась. И, может, даже тянула на те самые сто с лишним лет.
– Нет, мама! – Маргарет зарыдала, закрыв лицо руками.
Офелия Ивановна, сухонькая старушка, обняла свою пышнотелую взрослую дочь. Она гладила её по голове и приговаривала:
– Ничего, дочка. Ничего…
Сергей не знал, что делать с коробкой, и слегка кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Офелия Ивановна оглянулась:
– А ты бери чайник, бери! Мы ещё купим. Верно, Маргарет?
Дочь всхлипнула и кивнула.
Сергей взял ведро с розами и направился к калитке. Он сразу поехал к ресторану «Ласточкино гнездо», хотя знал, что до выступления Клео ещё рано. Намотал несколько кругов вокруг здания. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, ложась на асфальт тёплыми пятнами. Лёгкий ветерок гонял по дороге первые жёлтые листья. Углубившись в свои мысли, Сергей не заметил, как выехал из центра и поехал на набережную.
Сентябрь был жарким. Впрочем, так и бывает в бархатный сезон. Но несмотря на выходной день, купающихся на реке было мало. Сергей вышел из машины, снял ботинки, рубашку, брюки. Одежду сложил на сиденье.
Горячий песок обжигал ступни. Сергей разбежался и прыгнул в воду. Нырнул. Мысли в голове растворились, будто сахар в чашке чая. Сергей чувствовал только живительную прохладу, свободу и давно забытую радость. Он и в детстве получал удовольствие от плавания, несмотря на то, что вода в северных водоёмах всегда холодная.
Купался долго, с наслаждением, до устали. Выбравшись на берег, долго лежал на животе с раскинутыми в сторону руками. И не заметил, как задремал. Проснулся от того, что кто-то лизнул его в ухо. Открыл глаза – чёрный щенок с белой кисточкой на конце хвоста. Сергей осмотрелся кругом. Пляж опустел. Людей рядом нет.
– Эй, ты! Ты чей? Где твои хозяева?
Сергей сел, взял щенка, погладил его. Обнаружил тоненький ошейник, но бирки с адресом хозяина на нём не было.
– И что мне с тобой теперь делать? – спросил он у щенка, который изо всех сил старался дотянуться до его носа, чтобы лизнуть.
– Ладно, пойдём.
В машине он устроил щенка на заднее сиденье. Ведро с розами переставил вперёд. Машина окольными путями выбралась на скоростное шоссе и взяла направление на восток. Через два дня, если очень постараться, можно оказаться дома, у мамы. И Сергей нажал на педаль газа.
Мимо неслись километры. На первой попавшейся заправке Сергей отправил сообщение Стасу: «Передай Андрею В., прошу отпуск на две недели по семейным обстоятельствам». Когда сообщение ушло, вытащил симку из телефона и выбросил её в кусты. Всё! Свободен!
Сергей ехал, не оглядываясь на обстоятельства, на обязательства. В салоне авто оглушительно пахло розами, сзади повизгивал щенок, но вскоре он угомонился и уснул.
* * *
Когда Сергей подъехал к родному дому, уже смеркалось. В большой комнате горел свет. Он увидел через полузанавешенное окно, как мама за швейной машинкой мастерит что-то из жёлтой ткани. На миг мама задумалась и посмотрела в окно, словно почувствовав, что за ней наблюдают. И снова принялась за шитьё.
Сергей взял ведро с розами в одну руку, щенка – в другую и пошёл к дому. Постучал в дверь. Мама откликнулась не сразу:
– Кто там?
– Это я, мама.
– Серёжа! – мать открыла дверь и обняла сына. – Серёжа. Серёжа...
Когда вошли в дом, Сергей поставил на стол ведро с цветами:
– Это тебе, мама!
– Какие красивые! И так много!
– А это – Шекспир! Наш новый друг, – Сергей опустил щенка на пол.
– Он что, из Англии? – улыбнулась мама.
– Эх, мама, если бы ты знала, как близко от нас эта Англия. Погоди, у меня же в машине ещё один подарок!
Сергей выбежал на улицу и вернулся с коробкой Офелии Ивановны:
– А это – наш новый чайник!
Мама рассмеялась:
– Ты просто волшебник. Как раз сегодня у меня чайник сломался. До пенсии ещё три дня, лишних денег на новый нет. В кастрюльке воду грею. Видно, тебя сам Бог послал.
– Видно, да, мама. И мне тебя тоже! – Сергей распаковал металлический чайник, ополоснул его под краном, налил воды и включил.
После ночного чаепития Сергей вышел во двор. Мама ещё хлопотала на кухне, а Шекспир после сытного ужина спал, уткнувшись носом в старую фуфайку.
На улице совсем стемнело. По селу горело всего три фонаря, да и то только на главной улице. Где-то лениво лаяла собака. Тарахтя, проехал мотоцикл. В кустах сирени тихо вскрикнула какая-то птица, а потом всё стихло.
На небе сияли звёзды. Они казались такими яркими и близкими, как в 3D-кинотеатре. В большом городе за звёздами не понаблюдаешь, их попросту не видно из-за обилия уличного света. Ковш Большой Медведицы висел прямо над их домом.
Родина лечит. Вот и сейчас Сергей чувствовал, как затягиваются душевные раны, как срастается то, что, казалось, никогда уже не срастётся. Дышалось легко. Сергей сел на скамейку возле забора, закрыл глаза и почувствовал, как по щеке бежит слеза.

Татьяна БИРЮКОВА
Член Союза писателей России, лауреат Московской областной литературной премии им. Е.П.Зубова, имени И. Бунина, дипломант премии имени Р.И. Рождественского. Автор книг стихотворений «Живу пока…» (2012), «Розовые страницы» (2014), для детей «Жить без друзей и без стихов нельзя» (2019), книги «О чём рассказала красная коленкоровая тетрадь» (2020), автор и составитель коллективного сборника «Детство на Советской» (2015), повести по архивным материалам «Во мраке средь бела дня» (2018). Автор и составитель четырнадцати брошюр о поэтах и первых руководителях литературного движения в городе Видное и Ленинском районе Московской области. За эту серию книг в 2014 году удостоена диплома и премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Печаталась в журналах «Поэзия» «Антология одного стихотворения», «Московский журнал», «Белые снегири»; сборниках «Горизонты поэзии», «Литературное Подмосковье» «Литературное Видное», «Звездное перо», «Шарманка» «Созвучие», «Мы – шкулёвцы», «Детство на Советской», «Красная строка», «Калейдоскоп миниатюр» и в газетах.
Член Союза писателей России, лауреат Московской областной литературной премии им. Е.П.Зубова, имени И. Бунина, дипломант премии имени Р.И. Рождественского. Автор книг стихотворений «Живу пока…» (2012), «Розовые страницы» (2014), для детей «Жить без друзей и без стихов нельзя» (2019), книги «О чём рассказала красная коленкоровая тетрадь» (2020), автор и составитель коллективного сборника «Детство на Советской» (2015), повести по архивным материалам «Во мраке средь бела дня» (2018). Автор и составитель четырнадцати брошюр о поэтах и первых руководителях литературного движения в городе Видное и Ленинском районе Московской области. За эту серию книг в 2014 году удостоена диплома и премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Печаталась в журналах «Поэзия» «Антология одного стихотворения», «Московский журнал», «Белые снегири»; сборниках «Горизонты поэзии», «Литературное Подмосковье» «Литературное Видное», «Звездное перо», «Шарманка» «Созвучие», «Мы – шкулёвцы», «Детство на Советской», «Красная строка», «Калейдоскоп миниатюр» и в газетах.
ЗВЕЗДОПАД
Они мчались на мотоцикле быстрее ветра. Огни города остались далеко позади, асфальтовая дорога убегала вдаль, в темноту.
«Стоп. Куда и зачем я спешу? Остановись!» – эта мысль билась в мозгу Валерия, и он резко свернул на грунтовую дорогу вдоль полей, засеянных люцерной. Запах прибитой вечерней прохладой пыли и свежескошенного клевера создавал неповторимый, будоражащий аромат быстро наступающей ночи. Валерий снял шлем, руки дрожали от напряжения, а голова кружилась. Спутница легко спрыгнула с заднего сиденья, повесила свой шлем на руль. Густые волосы рассыпались по плечам. Валерий привлёк девушку к себе. После рёва мотора тишина оглушила, и вдруг оба застыли от необыкновенной картины: большая, яркая, полная, жёлтая луна зацепилась за край скошенного поля. Спешили, но не смогли её догнать.
Долго сидели на загородной остановке, крепко обнимая друг друга, словно боялись потерять, а яркие августовские звёзды расчерчивали небо и падали, падали, падали… Настоящий звездопад!
Валерий, кажется, влюбился в эту девчонку, да, да, в девчонку – она, семнадцатилетняя, с тоненькой фигуркой, казалась такой. Он стоял на балконе и курил. Солнце падало за горизонт, от многоэтажек протянулись тени, а напротив по тротуару, ещё освещённому, лёгкой походкой стремительно двигалась девушка. Её рыжие волосы развевались на ветру, и сквозь них просвечивало солнце – казалось, что светится вся она. Видение, размахивая белой сумочкой на тонком ремешке, скрылось в подъезде рядом стоящего дома.
– Кто это? – спросил Валерий у своей мамы.
– Как, сынок? Ты разве не узнал? Это же Валина дочка младшая, Татьяна, из соседнего дома. Отличница. Три года назад она уехала в столицу, выступает за сборную республики по спортивной гимнастике. Поступила в институт, а теперь вот приехала на каникулы домой, к родителям.
– Присмотрись, – продолжила мама, – хорошая девушка, и семья хорошая.
– Присмотрюсь, – улыбнулся Валерий.
Ему почему-то стало весело от этой мысли. Собираясь на работу в ночную смену, что-то напевал, сбежал по лестнице, вывел мотоцикл из гаража, протёр фары, лихо развернулся, помахал маме рукой – она смотрела из окна – и помчался на аэродром. Вдвоём с напарником, тоже инженером, следили за работой радиолокаторов и других приборов. А утром, как только появились первые лучи солнца и загорелись золотом края облачков, он вдруг вспомнил девчонку с ореолом светящихся волос.
Август. Этот летний месяц запомнился Валерию надолго. Молодость. Ожидание прекрасного и необыкновенного. Тане нравилось, что за ней ухаживает сосед – симпатичный, весёлый парень, кареглазый шатен, образованный, единственный у любящих родителей. Они мечтали, как все родители, чтобы спутница также любила их сына. Татьяна была увлечена спортом, посвятила всё своё свободное время спортивной гимнастике. О кавалерах и тем более устройстве семейной жизни она и не думала, но ей нравилось, как Валера на неё смотрел, как нежно, вроде невзначай привлекал к себе и дул на волосы, что начинало волновать и тревожить. Она успела уже навестить своих знакомых, одноклассников, посмотреть несколько двухсерийных фильмов в летнем кинотеатре, посидеть в кафе-мороженом. С Валерой – он, кажется, всерьёз увлечён ею – лихо разъезжали на крутом в то время мотоцикле «Ява». Валерий с радостью ждал дни, свободные от работы. Его тянуло к Танюше, он тщательно подбирал рубашку, когда шёл к ней на свидание, приглаживал свои густые волосы и придумывал, как ещё удивить эту девчонку. Теперь он не переставал думать о ней. Когда она обвивала руками талию и крепко прижималась к его спине при езде на мотоцикле, Валерия начинала бить дрожь, и сладостное, незнакомое ранее чувство обдавало горячей волной. Сердце проваливалось куда-то, и он с трудом подавлял желание крепко прижать к себе Таню и целовать, целовать… Он намеренно так повернул боковое зеркальце справа, что видел её лицо, улыбку, сощуренные глаза и восхищение от быстрой езды. Как-то Татьяна сказала:
– Ну что ты всё смотришь на меня?
И, смеясь, повернула зеркало чуть-чуть вниз.
Теперь при взгляде в него Валерий видел приоткрытую ногу, ведь лёгкое шёлковое платье сдувало ветром. Голова у Валерия кружилась. «Стоп, стоп, – обращался он к себе, – держи крепче руль, соблюдай безопасность, внимательно смотри на дорогу». Он остановил мотоцикл, снял шлем. Сердце гулко билось, казалось, что выскочит из груди. Его шатало, а Татьяне показалось, что он пьян.
Вечером Валера сочинил стихотворение, в котором такие строчки:
А угол у здания пуст, открыт всем осенним ветрам.
Хочу обострения чувств, а ты говоришь, что я пьян.
И лишь засмеёшься, шутя. Больная душа,
Больная душа…
Однажды Валера взял отцовскую лодку. На вёслах добрались до островка. Он взял Таню на руки и понёс наверх. Ноги утопали в песке, но Валерий тяжести не ощущал. Сидели, о чём-то болтали, смеялись и вместе любовались закатом. На фоне золотых, распадающихся веером лучей и мутной коричневой реки торжественно возвышался мост. Вместе считали ажурные пролёты моста и вагоны в составах движущихся по нему грузовых поездов. Ошибались и вновь считали.
Время для Валерия теперь не шло, а летело, августовское лето радовало теплом и обилием яблок – их было так много, что ветки ломались под тяжестью. Вгрызались в спелую мякоть сладких плодов. Татьяна читала ему свои стихи:
Яблок частое паденье.
Хруст – и разлетелась спелость.
Жизнь, полёт – одно мгновенье.
Миг, но яркий, а не серость.
Падают и звёзды в август…
Гоняли весь прошлый день на мотоцикле по городу, несколько раз пытались и всё-таки заехали по узким тропинкам на широкие глиняные стены древней крепости, больше похожей на высокий холм. Таня не решилась съехать, шла вниз пешком, а Валерий осторожно спустился на мотоцикле и, гордясь собой, ожидал её внизу. На следующий день в очередной раз мчались, было страшно от скорости и ещё от чего-то.
Вечер опустился на город, вылетели из него. Остановились. Тяжело дышали оба. Дошли до остановки, сели на скамейку желаний – придумали ей такое название. Звёзды падали так часто и быстро, что не успевали загадать желание. Запах кожаной куртки и бензина отрезвил Таню. Она чуть отпрянула. Журчала вода, в широком канале для полива полей шуршали от лёгкого ветерка камыши, стрекотали цикады, и в неярком свете фонаря у дороги метались шустрые мошки и ночные бабочки.
– Мне не позволено влюбляться, – тихо сказала Татьяна и добавила:
– Любовь мешает спорту, либо одно, либо другое, а век спортсмена так недолог! Ещё только три-четыре года.
«Так вот что мешало нам! Не разница в возрасте, она была небольшая, а спорт», – билась мысль у Валерия. Он впервые любил и впервые не искал смысла в своих чувствах, он растворился в них. Крепко держал за плечи девушку, но понимал, что теряет её.
Следующие несколько дней стали пыткой. И работа не клеилась, и радость померкла. Нет, он не изменил своему так внезапно возникшему чувству, но горечь потери – он её уже чувствовал – сжала сердце. Татьяна уедет в другой город, ей учиться в институте ещё четыре года, а ближайшая встреча станет возможной только зимой… Может быть…
Утро. Крапала осень дождём.
Валера грустил вместе с сентябрём.
Шёпот листьев, паутины тонкой шаль,
Тихих сумерек вуаль…
Он рифмовал слова. Не получалось. Бросал ручку и снова записывал.
Когда под музыку Вивальди рисует профиль карандаш
И лист осенний на асфальте, свет фар, морской песок – коллаж,
Когда окутал сонный вечер, и тлеют угли в очаге…
Хочу я рассказать тебе…
«Хочу. Хочу рассказать, – Валерию хотелось кричать, – хочу рассказать, как я живу без тебя, как я объехал все места, где мы бывали с тобой, как я смотрю на фото, где ты в лодке, на фоне моста. Как я живу?! Да не живу я! Я застыл, застыл, и чувства мои зажаты, как этот осенний лист между рамами. Как он туда попал?..»
Писем от любимой девушки не было, лишь пара открыток, где поздравляла с праздником.
– Валерий! – мама решила помочь сыну. – Возьми отпуск на несколько дней, поезжай к Татьяне, узнаешь, как она живёт, как учится, как успехи в спорте. Может, давно забыла, тогда нужно и тебе всё забыть.
Он смог поехать только в мае, когда пышно цвела сирень, когда жужжали шмели, когда ветер надежды снова надувал паруса. Бабочка, перелетавшая с цветка на цветок, почему-то напомнила лёгкую, стремительную Татьянину походку.
Прилетел. Долго ехал на трамвае. От ворот институтского городка тянулась до самого входа в центральный корпус аллея из клёнов, они весело кивали новой листвой. За громадным красивым зданием располагались три мужских и одно женское общежитие. Попросил проходящих девчонок-студенток вызвать на улицу Татьяну и сказать, что ждёт Валерий. Под раскидистой чинарой стояла скамейка. Каких только надписей на ней не было: «Любовь до гроба», «Люда + Вася», «Любовь – это такая точка, в которой рождаются сыны и дочки», «Когда-нибудь мы проснёмся вместе». Разволновался. Закурил.
– Валера-а-а! Я бегу-у-у! – услышал он знакомый голос.
Татьяна весело сбежала по ступенькам и буквально пронеслась мимо присевшего на скамейку Валерия, не замечая его. Чуть поодаль, на углу здания, ей приветственно махал рукой парень с портфелем.
– Бегом! Мы опаздываем! – парень подхватил Татьяну под руку.
Они скрылись за углом. Бабочка летала с цветка на цветок, пламенели тюльпаны, и лёгкий ветерок доносил запах акации. Валерию хотелось плакать.
Они мчались на мотоцикле быстрее ветра. Огни города остались далеко позади, асфальтовая дорога убегала вдаль, в темноту.
«Стоп. Куда и зачем я спешу? Остановись!» – эта мысль билась в мозгу Валерия, и он резко свернул на грунтовую дорогу вдоль полей, засеянных люцерной. Запах прибитой вечерней прохладой пыли и свежескошенного клевера создавал неповторимый, будоражащий аромат быстро наступающей ночи. Валерий снял шлем, руки дрожали от напряжения, а голова кружилась. Спутница легко спрыгнула с заднего сиденья, повесила свой шлем на руль. Густые волосы рассыпались по плечам. Валерий привлёк девушку к себе. После рёва мотора тишина оглушила, и вдруг оба застыли от необыкновенной картины: большая, яркая, полная, жёлтая луна зацепилась за край скошенного поля. Спешили, но не смогли её догнать.
Долго сидели на загородной остановке, крепко обнимая друг друга, словно боялись потерять, а яркие августовские звёзды расчерчивали небо и падали, падали, падали… Настоящий звездопад!
Валерий, кажется, влюбился в эту девчонку, да, да, в девчонку – она, семнадцатилетняя, с тоненькой фигуркой, казалась такой. Он стоял на балконе и курил. Солнце падало за горизонт, от многоэтажек протянулись тени, а напротив по тротуару, ещё освещённому, лёгкой походкой стремительно двигалась девушка. Её рыжие волосы развевались на ветру, и сквозь них просвечивало солнце – казалось, что светится вся она. Видение, размахивая белой сумочкой на тонком ремешке, скрылось в подъезде рядом стоящего дома.
– Кто это? – спросил Валерий у своей мамы.
– Как, сынок? Ты разве не узнал? Это же Валина дочка младшая, Татьяна, из соседнего дома. Отличница. Три года назад она уехала в столицу, выступает за сборную республики по спортивной гимнастике. Поступила в институт, а теперь вот приехала на каникулы домой, к родителям.
– Присмотрись, – продолжила мама, – хорошая девушка, и семья хорошая.
– Присмотрюсь, – улыбнулся Валерий.
Ему почему-то стало весело от этой мысли. Собираясь на работу в ночную смену, что-то напевал, сбежал по лестнице, вывел мотоцикл из гаража, протёр фары, лихо развернулся, помахал маме рукой – она смотрела из окна – и помчался на аэродром. Вдвоём с напарником, тоже инженером, следили за работой радиолокаторов и других приборов. А утром, как только появились первые лучи солнца и загорелись золотом края облачков, он вдруг вспомнил девчонку с ореолом светящихся волос.
Август. Этот летний месяц запомнился Валерию надолго. Молодость. Ожидание прекрасного и необыкновенного. Тане нравилось, что за ней ухаживает сосед – симпатичный, весёлый парень, кареглазый шатен, образованный, единственный у любящих родителей. Они мечтали, как все родители, чтобы спутница также любила их сына. Татьяна была увлечена спортом, посвятила всё своё свободное время спортивной гимнастике. О кавалерах и тем более устройстве семейной жизни она и не думала, но ей нравилось, как Валера на неё смотрел, как нежно, вроде невзначай привлекал к себе и дул на волосы, что начинало волновать и тревожить. Она успела уже навестить своих знакомых, одноклассников, посмотреть несколько двухсерийных фильмов в летнем кинотеатре, посидеть в кафе-мороженом. С Валерой – он, кажется, всерьёз увлечён ею – лихо разъезжали на крутом в то время мотоцикле «Ява». Валерий с радостью ждал дни, свободные от работы. Его тянуло к Танюше, он тщательно подбирал рубашку, когда шёл к ней на свидание, приглаживал свои густые волосы и придумывал, как ещё удивить эту девчонку. Теперь он не переставал думать о ней. Когда она обвивала руками талию и крепко прижималась к его спине при езде на мотоцикле, Валерия начинала бить дрожь, и сладостное, незнакомое ранее чувство обдавало горячей волной. Сердце проваливалось куда-то, и он с трудом подавлял желание крепко прижать к себе Таню и целовать, целовать… Он намеренно так повернул боковое зеркальце справа, что видел её лицо, улыбку, сощуренные глаза и восхищение от быстрой езды. Как-то Татьяна сказала:
– Ну что ты всё смотришь на меня?
И, смеясь, повернула зеркало чуть-чуть вниз.
Теперь при взгляде в него Валерий видел приоткрытую ногу, ведь лёгкое шёлковое платье сдувало ветром. Голова у Валерия кружилась. «Стоп, стоп, – обращался он к себе, – держи крепче руль, соблюдай безопасность, внимательно смотри на дорогу». Он остановил мотоцикл, снял шлем. Сердце гулко билось, казалось, что выскочит из груди. Его шатало, а Татьяне показалось, что он пьян.
Вечером Валера сочинил стихотворение, в котором такие строчки:
А угол у здания пуст, открыт всем осенним ветрам.
Хочу обострения чувств, а ты говоришь, что я пьян.
И лишь засмеёшься, шутя. Больная душа,
Больная душа…
Однажды Валера взял отцовскую лодку. На вёслах добрались до островка. Он взял Таню на руки и понёс наверх. Ноги утопали в песке, но Валерий тяжести не ощущал. Сидели, о чём-то болтали, смеялись и вместе любовались закатом. На фоне золотых, распадающихся веером лучей и мутной коричневой реки торжественно возвышался мост. Вместе считали ажурные пролёты моста и вагоны в составах движущихся по нему грузовых поездов. Ошибались и вновь считали.
Время для Валерия теперь не шло, а летело, августовское лето радовало теплом и обилием яблок – их было так много, что ветки ломались под тяжестью. Вгрызались в спелую мякоть сладких плодов. Татьяна читала ему свои стихи:
Яблок частое паденье.
Хруст – и разлетелась спелость.
Жизнь, полёт – одно мгновенье.
Миг, но яркий, а не серость.
Падают и звёзды в август…
Гоняли весь прошлый день на мотоцикле по городу, несколько раз пытались и всё-таки заехали по узким тропинкам на широкие глиняные стены древней крепости, больше похожей на высокий холм. Таня не решилась съехать, шла вниз пешком, а Валерий осторожно спустился на мотоцикле и, гордясь собой, ожидал её внизу. На следующий день в очередной раз мчались, было страшно от скорости и ещё от чего-то.
Вечер опустился на город, вылетели из него. Остановились. Тяжело дышали оба. Дошли до остановки, сели на скамейку желаний – придумали ей такое название. Звёзды падали так часто и быстро, что не успевали загадать желание. Запах кожаной куртки и бензина отрезвил Таню. Она чуть отпрянула. Журчала вода, в широком канале для полива полей шуршали от лёгкого ветерка камыши, стрекотали цикады, и в неярком свете фонаря у дороги метались шустрые мошки и ночные бабочки.
– Мне не позволено влюбляться, – тихо сказала Татьяна и добавила:
– Любовь мешает спорту, либо одно, либо другое, а век спортсмена так недолог! Ещё только три-четыре года.
«Так вот что мешало нам! Не разница в возрасте, она была небольшая, а спорт», – билась мысль у Валерия. Он впервые любил и впервые не искал смысла в своих чувствах, он растворился в них. Крепко держал за плечи девушку, но понимал, что теряет её.
Следующие несколько дней стали пыткой. И работа не клеилась, и радость померкла. Нет, он не изменил своему так внезапно возникшему чувству, но горечь потери – он её уже чувствовал – сжала сердце. Татьяна уедет в другой город, ей учиться в институте ещё четыре года, а ближайшая встреча станет возможной только зимой… Может быть…
Утро. Крапала осень дождём.
Валера грустил вместе с сентябрём.
Шёпот листьев, паутины тонкой шаль,
Тихих сумерек вуаль…
Он рифмовал слова. Не получалось. Бросал ручку и снова записывал.
Когда под музыку Вивальди рисует профиль карандаш
И лист осенний на асфальте, свет фар, морской песок – коллаж,
Когда окутал сонный вечер, и тлеют угли в очаге…
Хочу я рассказать тебе…
«Хочу. Хочу рассказать, – Валерию хотелось кричать, – хочу рассказать, как я живу без тебя, как я объехал все места, где мы бывали с тобой, как я смотрю на фото, где ты в лодке, на фоне моста. Как я живу?! Да не живу я! Я застыл, застыл, и чувства мои зажаты, как этот осенний лист между рамами. Как он туда попал?..»
Писем от любимой девушки не было, лишь пара открыток, где поздравляла с праздником.
– Валерий! – мама решила помочь сыну. – Возьми отпуск на несколько дней, поезжай к Татьяне, узнаешь, как она живёт, как учится, как успехи в спорте. Может, давно забыла, тогда нужно и тебе всё забыть.
Он смог поехать только в мае, когда пышно цвела сирень, когда жужжали шмели, когда ветер надежды снова надувал паруса. Бабочка, перелетавшая с цветка на цветок, почему-то напомнила лёгкую, стремительную Татьянину походку.
Прилетел. Долго ехал на трамвае. От ворот институтского городка тянулась до самого входа в центральный корпус аллея из клёнов, они весело кивали новой листвой. За громадным красивым зданием располагались три мужских и одно женское общежитие. Попросил проходящих девчонок-студенток вызвать на улицу Татьяну и сказать, что ждёт Валерий. Под раскидистой чинарой стояла скамейка. Каких только надписей на ней не было: «Любовь до гроба», «Люда + Вася», «Любовь – это такая точка, в которой рождаются сыны и дочки», «Когда-нибудь мы проснёмся вместе». Разволновался. Закурил.
– Валера-а-а! Я бегу-у-у! – услышал он знакомый голос.
Татьяна весело сбежала по ступенькам и буквально пронеслась мимо присевшего на скамейку Валерия, не замечая его. Чуть поодаль, на углу здания, ей приветственно махал рукой парень с портфелем.
– Бегом! Мы опаздываем! – парень подхватил Татьяну под руку.
Они скрылись за углом. Бабочка летала с цветка на цветок, пламенели тюльпаны, и лёгкий ветерок доносил запах акации. Валерию хотелось плакать.

Васса БОГДАНОВА
Родилась в 1981 г. в Ленинграде. Писательница, поэтесса. Публикации: повесть «Выбор сердца», Хабаровск, «Гамма», 2016 г.; серия рассказов издавалась с 2014 г. по 2017 год включительно; Pravoslavie.ru; журнал «Образ и подобие»: №8 (35), декабрь, 2015 г., рассказ, №6 (27), декабрь, 2014 г. Рассказ переведен на английский язык: Vassa Bogdanova, «Pray For Me, Mama», OrthoChristian.Com, 2017 г. Лауреат различных поэтических конкурсов.
Родилась в 1981 г. в Ленинграде. Писательница, поэтесса. Публикации: повесть «Выбор сердца», Хабаровск, «Гамма», 2016 г.; серия рассказов издавалась с 2014 г. по 2017 год включительно; Pravoslavie.ru; журнал «Образ и подобие»: №8 (35), декабрь, 2015 г., рассказ, №6 (27), декабрь, 2014 г. Рассказ переведен на английский язык: Vassa Bogdanova, «Pray For Me, Mama», OrthoChristian.Com, 2017 г. Лауреат различных поэтических конкурсов.
ВЕСЫ
Он. Он ступал по твердой земле в окружении черных скал. Ни запаха, ни звука, ни дуновенья. Откуда он пришел, никто не знал. Даже он сам, оглянись он назад, увидел бы только пустоту забвения.
Он не знал, кто он и как выглядит, потому что здесь не было зеркал. Но ощущения подсказывали, что он молод и крепок, и высок, хотя, вероятнее всего, скалы поспорили бы с этим. Волосы не мешали ему, и о дыхании не приходилось думать специально – так что и с прической, и с носом все было в порядке. Он шел в легкой, удобной обуви, потому что ноги ничего не резало и не было тяжело, а одежда идеально подходила для местной погоды. Конечно, при возможности многое он смог бы сказать наверняка, осмотри он себя с ног до головы, но он не мог. Все его внимание было приковано к сложенным лодочкой кистям рук, которые он нес прямо перед собой, внимательно следя, чтобы ничего оттуда не выпало.
Он шел вперед. Потихоньку пространство менялось. Мельком он видел, что скалы становятся все ниже и светлее. Это обстоятельство нисколько не встревожило его. Самое главное – в руках все на месте, а перемены – лишь естественный процесс для всего существующего. Ноги ступили в нечто мягкое, и он остановился. Идти дальше на одном ощущении стало невозможно. Необходимость осмотреться заявила о себе, как о разумной подруге в путешествиях через неизвестность. Он сжал кисти рук настолько, что лодочка образовала плотный бутон, и поднял глаза. У него перехватило дыхание. Душа ошарашено замерла, силясь осознать открывшийся пейзаж.
Он стоял при входе в пустыню. Но это не была пустыня в привычном понимании слова. Это было гладкое, безбрежное, открытое пространство без солнца, неба и земли. Последние два понимались лишь потому, что по одному он ступал, а другое было сверху. В привычном дневном свете песок равномерно расстилался на сотни и тысячи километров и заканчивался там, где уже не могли видеть глаза. А если бы и увидели, то выяснили, что и там он не заканчивается.
В субъективном переживании середины он увидел весы черного цвета. В неограниченной пустоте и просторе они занимали гармоничное место. Объемные, высокие, как небоскреб, с раскидистыми на сотни метров стрелами, от которых шли цепи, держащие огромные чаши. Они казались монументальными, незыблемыми, вечными, каменными и железными одновременно. Такого материала нет на земле, и потому он понял, что это – другой мир.
Он не торопился, а стоял у выхода из скал на небольшом возвышении и некоторые подробности осматривал как бы с высоты. Через пару километров от него располагались ворота. Они ничего не ограничивали и не являлись частью забора, которого попросту не было. Они представляли собой арку из того же материала, что и весы, и состояли из сложных переплетений опор и перекрытий высотой и шириной двенадцать метров. Если бы кому-то пришло в голову нарисовать эти ворота, то без сомнений, за основу пришлось бы взять техники старинных плетений. Рядом с воротами прямо из воздуха то и дело появлялись люди. Сначала проявлялась точка, потом она становилась шире и плотнее и вдруг разворачивалась, подобно полотну, раскрывая целого человека. Такой развернувшийся не испытывал ни дискомфорта, ни смущения. Человек просто проходил через ворота и шел дальше.
Он знал, хоть и не знал откуда, что нужно идти вперед, поэтому решительно шагнул со своего возвышения. Он ощутил покалывание во всем теле и увидел ворота, которые теперь оказались всего в нескольких метрах от него. Останавливаться и что-то рассматривать не хотелось. Достаточной казалась вся информация, поступающая независимо от него. Он вошел в арку.
Крупные плетеные балки окружили его со всех сторон. Он услышал внутри своей головы вопрос: «Что несешь?» Голос был спокойным и благозвучным. В нем слышался интерес, какой бывает у любящего родителя. Он ощутил умиротворение и, опустив глаза к рукам, все еще сжатым в бутон, слегка приоткрыл пальцы. Его ноша засветилась, обозначилась и предстала в виде золотой крупинки размером с зерно пшеницы. На мгновение он застыл, наслаждаясь зрелищем переливающегося света. Потом поднял руки выше, демонстрируя невидимому голосу свое сокровище. «Тебе – к правой чаше», – услышал он.
Как только он покинул навес ворот, сразу увидел вдалеке две очереди, которые вели к чашам весов. Левая очередь была значительно длиннее правой. Кроме того, люди, стоявшие в ней, имели крупную ношу: свертки, коробки и даже больше тряпичные мешки. «Какие молодцы, – подумал он. – Вот кто действительно постарался».
Впереди он увидел человека, который прошел сквозь ворота до него. Человек тащил по песку большой мешок, оставляя за собой вдавленную и волнистую полосу. Он покачал головой, ощущая внутренний укор за свою мизерную лепту, и пошел дальше.
Вскоре он увидел хвост своей очереди. Спина замыкающего человека, облаченная в светлую рубашку, была прямая и сильная. Он подошел к ней и остановился. Легкий ветер обдал его лицо и волосы и принес прохладу и влажность. Только сейчас он заметил, что вся пустыня колеблется от жары. «Странно, но мне совсем не жарко», – подумал он и вновь посмотрел налево. Параллельная очередь была далеко, но не настолько, чтобы не видеть, как измождены люди, стоящие в ней. Они то и дело пытались присесть, прислониться к своим мешкам, переминались с ноги на ногу и бессильно поникали, подобно завядшим цветкам. Он перевел взгляд вперед и тут же обо всем забыл.
Перед ним возвышалась чаша. К ней шла широкая лестница из песка, по которой поднимались, а затем спускались люди из очереди. Размер чаши не поддавался точному измерению. В какой-то момент она виделась невероятно большой, точно остров, поднятый из океана. Тогда цепи, держащие чашу, громадными кольцами уходили в высоту и терялись там, недосягаемые для глаза. А в другой момент казалось, что от края до края чаши не более пятисот метров. Тогда вверху можно было разглядеть и крепление цепей, и стрелу, уходящую к оси, и даже основание весов, где располагалась стрелка, указывающая положение чаш.
Он увидел, как человек из левой очереди потащил свой мешок вверх по лестнице. Ступени под его тяжестью рассыпались и тут же собирались обратно, создавая причудливый и по-своему прекрасный вихрь-танец песка. Человек, весь красный и мокрый от пота, пыхтел и отчаянно дергал мешок, стараясь изо всех сил. И вот он достиг верха, взвалил мешок на край чаши и высыпал туда содержимое. Раздался отчетливый грохот, точно камни упали в чан. В руках у человека осталась лишь мешковина, которая медленно растаяла в воздухе, не оставив и следа. Стрелка весов качнулась влево. Где-то далеко прокатился раскат грома, и небо потемнело. Все, как по команде, задрали головы, ожидая молнию. И тут стрелка вновь дернулась и качнулась вправо. Она замерла на середине, и небо прояснилось. Человек на краю чаши понуро опустил голову и побрел вниз по лестнице. В какой-то момент он стал искажаться, затем смялся, подобно ненужной бумажке, превратился в точку и исчез. А по лестнице уже поднимался другой, волоча на себе крупную коробку.
Ступени перед ним возникли неожиданно. Спина идущего впереди вдруг пошла вверх, а он нерешительно застыл. Прошло какое-то время и на небе вновь прогремело. От этого он вздрогнул и шагнул. Ступени оказались мягкими и твердыми одновременно. От каждого шага песок слегка поднимался, подобно пыли, и кружил вокруг, принося прохладу и облегчение уставшим ногам. Он поднимался вверх, ощущая, что его зернышко, спрятанное в бутоне пальцев, задергалось, будто ожило, и стало быстро расти, не меняя веса. Вскоре он почувствовал, что больше оно не вмещается в ладони, и раскрыл их.
В его руках лежал слиток. Можно было бы сказать, что это было золото, что так высоко ценится на земле. Но это было нечто иное и куда более ценное. Оно имело все истинные цвета, переливалось и искрилось. Оно напоминало и камень, и металл, но не являлось ни тем, ни другим. Единственное название, которое можно было применить к его ноше, он нашел случайно. Оно всплыло в голове, как подсказка, как вразумление невидимого голоса: «Ты несешь элемент». Элементу не требовался свет, чтобы раскрыть свою красоту. Красота была внутри него, и поэтому элемент светился подобно маленькой звезде. Он сразу влюбился в свою звездочку и, воодушевленный, почти окрыленный этим чувством, легко поднялся к краю чаши.
Здесь он нашел себя стоящим на краю котлована. Внизу и вокруг была земля. Ее черное, влажное чрево было пронизано тонкими линиями, которые напоминали вены. По ним, искрясь и переливаясь, бежали звезды-элементы, потерявшие форму и превращенные в субстанцию. Он ощутил трепет и страх, потому что не понял, что здесь происходит. Тревога переполнила все его существо, и он подумал, что не хочет расставаться со своим элементом. И опять он услышал голос: «Невозможно потерять то, что никогда не было твоим. Твоим был только выбор, твоим он и остается». Эти слова нисколько не утешили его, но они подсказали, что происходящий процесс управляем, а значит, имеет и порядок, и цель. Ему же отведена роль, которую он может, если захочет, исполнить до конца.
На небе погремело и все подернулось темнотой. Он посмотрел налево и увидел человека у противоположной чаши. На мгновение они оказались так близко, что он смог увидеть и злую радость на лице, и искусанные в кровь губы. Человек смотрел на него с вызовом, точно спрашивая, что он предложит в ответ. Он тяжело вздохнул и вновь повернулся к своей чаше. Внутри котлована стемнело, словно земля утратила силы. Элемент же вибрировал в его руках и точно сам желал оказаться в чаше. Он бросил его.
Взмыв в воздухе, элемент вдруг раскрылся подобно розе, развернулся и раскинулся шелковым полотном, надулся золотым пузырем. Точно почуяв его, чаша дрогнула, расширилась, превратившись в необъятную, бескрайнюю равнину чернозема. Элемент задрожал и лопнул, и расширился подобно земле, представ золотой сетью. Эта сеть медленно опустилась вниз и покрыла собой чашу. Он вдруг вспомнил все – все хорошее и светлое, что когда-то переживал. Все искры счастья, радости, восторга, упоения и восхищения. Это воспоминание затопило его волной непередаваемого блаженства и медленно схлынуло, оставив его заполненным, вибрирующим и совершенным. Он не успел заметить, когда небо просветлело, только опять все было хорошо. Внутри чаши светились наполненные вены, а он сам обрел то, что всегда искал. Все еще оглушенный неожиданным внутренним богатством, он начал спускаться вниз по лестнице, успел заметить ласковый песок, что вился у ног, и исчез, чтобы появиться там, где нам неизвестно.
Из цикла «Раскрытые тайны»
Он. Он ступал по твердой земле в окружении черных скал. Ни запаха, ни звука, ни дуновенья. Откуда он пришел, никто не знал. Даже он сам, оглянись он назад, увидел бы только пустоту забвения.
Он не знал, кто он и как выглядит, потому что здесь не было зеркал. Но ощущения подсказывали, что он молод и крепок, и высок, хотя, вероятнее всего, скалы поспорили бы с этим. Волосы не мешали ему, и о дыхании не приходилось думать специально – так что и с прической, и с носом все было в порядке. Он шел в легкой, удобной обуви, потому что ноги ничего не резало и не было тяжело, а одежда идеально подходила для местной погоды. Конечно, при возможности многое он смог бы сказать наверняка, осмотри он себя с ног до головы, но он не мог. Все его внимание было приковано к сложенным лодочкой кистям рук, которые он нес прямо перед собой, внимательно следя, чтобы ничего оттуда не выпало.
Он шел вперед. Потихоньку пространство менялось. Мельком он видел, что скалы становятся все ниже и светлее. Это обстоятельство нисколько не встревожило его. Самое главное – в руках все на месте, а перемены – лишь естественный процесс для всего существующего. Ноги ступили в нечто мягкое, и он остановился. Идти дальше на одном ощущении стало невозможно. Необходимость осмотреться заявила о себе, как о разумной подруге в путешествиях через неизвестность. Он сжал кисти рук настолько, что лодочка образовала плотный бутон, и поднял глаза. У него перехватило дыхание. Душа ошарашено замерла, силясь осознать открывшийся пейзаж.
Он стоял при входе в пустыню. Но это не была пустыня в привычном понимании слова. Это было гладкое, безбрежное, открытое пространство без солнца, неба и земли. Последние два понимались лишь потому, что по одному он ступал, а другое было сверху. В привычном дневном свете песок равномерно расстилался на сотни и тысячи километров и заканчивался там, где уже не могли видеть глаза. А если бы и увидели, то выяснили, что и там он не заканчивается.
В субъективном переживании середины он увидел весы черного цвета. В неограниченной пустоте и просторе они занимали гармоничное место. Объемные, высокие, как небоскреб, с раскидистыми на сотни метров стрелами, от которых шли цепи, держащие огромные чаши. Они казались монументальными, незыблемыми, вечными, каменными и железными одновременно. Такого материала нет на земле, и потому он понял, что это – другой мир.
Он не торопился, а стоял у выхода из скал на небольшом возвышении и некоторые подробности осматривал как бы с высоты. Через пару километров от него располагались ворота. Они ничего не ограничивали и не являлись частью забора, которого попросту не было. Они представляли собой арку из того же материала, что и весы, и состояли из сложных переплетений опор и перекрытий высотой и шириной двенадцать метров. Если бы кому-то пришло в голову нарисовать эти ворота, то без сомнений, за основу пришлось бы взять техники старинных плетений. Рядом с воротами прямо из воздуха то и дело появлялись люди. Сначала проявлялась точка, потом она становилась шире и плотнее и вдруг разворачивалась, подобно полотну, раскрывая целого человека. Такой развернувшийся не испытывал ни дискомфорта, ни смущения. Человек просто проходил через ворота и шел дальше.
Он знал, хоть и не знал откуда, что нужно идти вперед, поэтому решительно шагнул со своего возвышения. Он ощутил покалывание во всем теле и увидел ворота, которые теперь оказались всего в нескольких метрах от него. Останавливаться и что-то рассматривать не хотелось. Достаточной казалась вся информация, поступающая независимо от него. Он вошел в арку.
Крупные плетеные балки окружили его со всех сторон. Он услышал внутри своей головы вопрос: «Что несешь?» Голос был спокойным и благозвучным. В нем слышался интерес, какой бывает у любящего родителя. Он ощутил умиротворение и, опустив глаза к рукам, все еще сжатым в бутон, слегка приоткрыл пальцы. Его ноша засветилась, обозначилась и предстала в виде золотой крупинки размером с зерно пшеницы. На мгновение он застыл, наслаждаясь зрелищем переливающегося света. Потом поднял руки выше, демонстрируя невидимому голосу свое сокровище. «Тебе – к правой чаше», – услышал он.
Как только он покинул навес ворот, сразу увидел вдалеке две очереди, которые вели к чашам весов. Левая очередь была значительно длиннее правой. Кроме того, люди, стоявшие в ней, имели крупную ношу: свертки, коробки и даже больше тряпичные мешки. «Какие молодцы, – подумал он. – Вот кто действительно постарался».
Впереди он увидел человека, который прошел сквозь ворота до него. Человек тащил по песку большой мешок, оставляя за собой вдавленную и волнистую полосу. Он покачал головой, ощущая внутренний укор за свою мизерную лепту, и пошел дальше.
Вскоре он увидел хвост своей очереди. Спина замыкающего человека, облаченная в светлую рубашку, была прямая и сильная. Он подошел к ней и остановился. Легкий ветер обдал его лицо и волосы и принес прохладу и влажность. Только сейчас он заметил, что вся пустыня колеблется от жары. «Странно, но мне совсем не жарко», – подумал он и вновь посмотрел налево. Параллельная очередь была далеко, но не настолько, чтобы не видеть, как измождены люди, стоящие в ней. Они то и дело пытались присесть, прислониться к своим мешкам, переминались с ноги на ногу и бессильно поникали, подобно завядшим цветкам. Он перевел взгляд вперед и тут же обо всем забыл.
Перед ним возвышалась чаша. К ней шла широкая лестница из песка, по которой поднимались, а затем спускались люди из очереди. Размер чаши не поддавался точному измерению. В какой-то момент она виделась невероятно большой, точно остров, поднятый из океана. Тогда цепи, держащие чашу, громадными кольцами уходили в высоту и терялись там, недосягаемые для глаза. А в другой момент казалось, что от края до края чаши не более пятисот метров. Тогда вверху можно было разглядеть и крепление цепей, и стрелу, уходящую к оси, и даже основание весов, где располагалась стрелка, указывающая положение чаш.
Он увидел, как человек из левой очереди потащил свой мешок вверх по лестнице. Ступени под его тяжестью рассыпались и тут же собирались обратно, создавая причудливый и по-своему прекрасный вихрь-танец песка. Человек, весь красный и мокрый от пота, пыхтел и отчаянно дергал мешок, стараясь изо всех сил. И вот он достиг верха, взвалил мешок на край чаши и высыпал туда содержимое. Раздался отчетливый грохот, точно камни упали в чан. В руках у человека осталась лишь мешковина, которая медленно растаяла в воздухе, не оставив и следа. Стрелка весов качнулась влево. Где-то далеко прокатился раскат грома, и небо потемнело. Все, как по команде, задрали головы, ожидая молнию. И тут стрелка вновь дернулась и качнулась вправо. Она замерла на середине, и небо прояснилось. Человек на краю чаши понуро опустил голову и побрел вниз по лестнице. В какой-то момент он стал искажаться, затем смялся, подобно ненужной бумажке, превратился в точку и исчез. А по лестнице уже поднимался другой, волоча на себе крупную коробку.
Ступени перед ним возникли неожиданно. Спина идущего впереди вдруг пошла вверх, а он нерешительно застыл. Прошло какое-то время и на небе вновь прогремело. От этого он вздрогнул и шагнул. Ступени оказались мягкими и твердыми одновременно. От каждого шага песок слегка поднимался, подобно пыли, и кружил вокруг, принося прохладу и облегчение уставшим ногам. Он поднимался вверх, ощущая, что его зернышко, спрятанное в бутоне пальцев, задергалось, будто ожило, и стало быстро расти, не меняя веса. Вскоре он почувствовал, что больше оно не вмещается в ладони, и раскрыл их.
В его руках лежал слиток. Можно было бы сказать, что это было золото, что так высоко ценится на земле. Но это было нечто иное и куда более ценное. Оно имело все истинные цвета, переливалось и искрилось. Оно напоминало и камень, и металл, но не являлось ни тем, ни другим. Единственное название, которое можно было применить к его ноше, он нашел случайно. Оно всплыло в голове, как подсказка, как вразумление невидимого голоса: «Ты несешь элемент». Элементу не требовался свет, чтобы раскрыть свою красоту. Красота была внутри него, и поэтому элемент светился подобно маленькой звезде. Он сразу влюбился в свою звездочку и, воодушевленный, почти окрыленный этим чувством, легко поднялся к краю чаши.
Здесь он нашел себя стоящим на краю котлована. Внизу и вокруг была земля. Ее черное, влажное чрево было пронизано тонкими линиями, которые напоминали вены. По ним, искрясь и переливаясь, бежали звезды-элементы, потерявшие форму и превращенные в субстанцию. Он ощутил трепет и страх, потому что не понял, что здесь происходит. Тревога переполнила все его существо, и он подумал, что не хочет расставаться со своим элементом. И опять он услышал голос: «Невозможно потерять то, что никогда не было твоим. Твоим был только выбор, твоим он и остается». Эти слова нисколько не утешили его, но они подсказали, что происходящий процесс управляем, а значит, имеет и порядок, и цель. Ему же отведена роль, которую он может, если захочет, исполнить до конца.
На небе погремело и все подернулось темнотой. Он посмотрел налево и увидел человека у противоположной чаши. На мгновение они оказались так близко, что он смог увидеть и злую радость на лице, и искусанные в кровь губы. Человек смотрел на него с вызовом, точно спрашивая, что он предложит в ответ. Он тяжело вздохнул и вновь повернулся к своей чаше. Внутри котлована стемнело, словно земля утратила силы. Элемент же вибрировал в его руках и точно сам желал оказаться в чаше. Он бросил его.
Взмыв в воздухе, элемент вдруг раскрылся подобно розе, развернулся и раскинулся шелковым полотном, надулся золотым пузырем. Точно почуяв его, чаша дрогнула, расширилась, превратившись в необъятную, бескрайнюю равнину чернозема. Элемент задрожал и лопнул, и расширился подобно земле, представ золотой сетью. Эта сеть медленно опустилась вниз и покрыла собой чашу. Он вдруг вспомнил все – все хорошее и светлое, что когда-то переживал. Все искры счастья, радости, восторга, упоения и восхищения. Это воспоминание затопило его волной непередаваемого блаженства и медленно схлынуло, оставив его заполненным, вибрирующим и совершенным. Он не успел заметить, когда небо просветлело, только опять все было хорошо. Внутри чаши светились наполненные вены, а он сам обрел то, что всегда искал. Все еще оглушенный неожиданным внутренним богатством, он начал спускаться вниз по лестнице, успел заметить ласковый песок, что вился у ног, и исчез, чтобы появиться там, где нам неизвестно.
Из цикла «Раскрытые тайны»

Олег ХУДЯКОВ
Родился в 1970 году, в Москве. В настоящее время работает инженером.
Родился в 1970 году, в Москве. В настоящее время работает инженером.
ГРЕЧКА
Мой приятель Володька Кондратьев был большим оригиналом. За свои 50+ он много чего добился в жизни. И вполне мог бы служить, да и служил для меня примером. Он вырастил детей, построил дом, создал инновационную компанию – и не одну; в общем, как говорится, жизнь удалась, и дружить с ним из-за разнообразия его увлечений было интересно, а подчас и выгодно, потому что, в силу своего исследовательского характера, он мог проложить дорогу в любом деле, сперва собрав все шишки, а потом получив все плюшки, положенные в таком случае. Его увлечения распространялись от робототехники до разведения рыбок, от лыжных походов до полетов на параплане, от игры на гармони до поступления солистом в Гнесинское училище.
Единственное, что не мог делать Володька, это быть, как все. Он не мог бы служить в армии, не мог работать в коллективе, не возглавляя его, не мог заниматься командными видами спорта. Не мог лечиться, выполняя предписания врача. И не подумайте, что из-за гордости, нет, из-за желания сделать мир лучше. Любой мир, даже хороший, по его мнению, следовало улучшить. А уж свой собственный – и подавно. На мои предостережения он всегда отвечал, что знает меру или «Ты не понимаешь, организм – это самая сложная система, которая дана нам для экспериментов, и это так интересно!»
Вот об одном таком случае я и хочу вам рассказать.
Будучи необычайно здоровым человеком, Володьке постоянно нужно было делать своё тело лучше, стройнее, выносливее, хотя иногда это приводило к прямо противоположным результатам. И ещё одна черта была у Володьки, пожалуй, это было главное, что позволяло ему во всем добиваться результатов, – невероятное упорство. И если в других делах это было залогом успеха, то в деле здоровья, по-моему, могло стать летально. Но на все мои предостережения он отвечал, что знает, что делает, и всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Попробую перечислить его способы лечения себя, здорового. Имейте ввиду, это только те, что доходили до меня, когда мы общались. Сперва он травил себя царской водкой, от которой у него началась изжога; не знаю, сколько месяцев на это ушло. Потом, забросив водку, он ударился в чистку организма от глистов: ставил клизмы, сдавал анализы, глотал таблетки. Подсадив печень до нормального состояния, он убедился, что никаких ненужных глистов у него нет и никогда не было.
Пару лет он пил АСД, предлагал эту гадость всем и каждому, но никакого отрицательного, равно как и положительного эффекта, слава Богу, не последовало. После АСД, а это, как я понимаю, продукт перегонки костного бульона, он начал дышать в трубочку своим углекислым газом. Трубочка, похоже, вреда не приносила, а может быть, даже вылечила Володьке спину и поэтому у него прижилась. По крайней мере он стал таскать ее с собой и таскает уже лет 10.
За периодами голодания следовали периоды клизм, за каплями в нос – подушечки для пупка, за иглами и аппликаторами – полоскания для носа, после полосканий – аспирин для разжижения крови, сода, витамин С в лошадиных дозах, гимнастика для шеи, закаливание на снегу – ничто не могло угробить нашего Володьку. Наконец настал ковид, который таки дал Володьке осложнение в виде аритмии, после чего Володькины усилия утроились. Он стал ходить десятки километров, изнурять себя различными диетами, есть грибы, пить воду декалитрами. Понятно, что никакие врачи не могли за ним угнаться. Для понимания причины происхождения своей периодически возникавшей аритмии, с которой, по-моему, спокойно живет половина человечества, он сдал все возможные анализы у нас и уехал лечиться за границу.
За границей, видя столь здорового человека, врачи недоумевали, что ему нужно, но он не унимался, проходил исследования, выписывал книги и в результате вышел на диету одного американского профессора, провозгласившего, что всё, что имеет мягкую косточку внутри плода, а также 3/4 всех остальных продуктов имеет в своем составе что-то (извините, не запомнил), что делает их вредными для человека и вызывает аллергию, к которой этот профессор относил переломы костей и болезни сердца.
На мой вопрос о том, как же люди жили до этого, Володька отвечал, что сегодня всё по-другому, и продукты тоже другие, и потому как люди жили раньше, уже не важно, поскольку либо ты не знаешь, как они жили, либо ты не можешь достать те же продукты, что они ели. И теперь ему, Володьке, нужно прокладывать свой путь – пока в кильватере профессора, а потом вы уже сами понимаете, как. На этом пути у Володьки пропал витамин В, который приходилось колоть, к запрету попадали: коровье молоко, практически все фрукты, сладости, алкоголь, каши, хлеб. Не пожалел безжалостный профессор даже гречки, хотя непонятно, где он её в Америке нашёл. Можно было что-то варить в пароварке и что-то кушать сырым. Кажется, редьку или редис.
Я не знаю, сколько бы времени вы, дорогой читатель, протянули бы на такой диете, но думаю, что сколько бы ни протянули, это бы показалось вам вечностью. Но наш Володька прожил так 3 года, при этом вид у него оставался вполне здоровым, я уж испугался, что он нащупал вторую «трубочку» и будет советовать её мне, однако витамин В не появлялся, и аритмия не проходила. Всякий раз, когда мы пересекались с Володькой, речь заходила о питании, причем я хвастался, как вкусно то и это, например, рыба с пивом или шашлыки, а он говорил, что я долго не протяну и нужно переходить на редьку.
И вот однажды звонит Володька и хвастается, что он победил свою аритмию и витамин В. Моему показному восхищению не было предела, оказалось, что аритмия преследовала Володьку и у нас, и за границей, его профессор не успевал запрещать продукты, как снова они оказывались съедобными, Володька гнался за профессором, я с трудом успевал следить за Володькой, и вот настал момент истины, а по словам Володьки, именно я помог ему в этом вопросе. Дело было так: он встал в магазине и стал думать, что бы ему хотелось купить, и оказалось, что ничего. Профессора он обогнал, потому что добавил в систему контроль скачков уровня глюкозы, которых у профессора не было, сил у Володьки тоже не было, профессор отстал, аритмия ушла вперёд, ничего не хотелось, в заграничном супермаркете было всё и ничего не хотелось. Кроме... гречки, которой там, увы, не было.
И так захотелось Володьке поесть гречки, он вспомнил, как они с бабушкой в Москве высыпали её на клеёнку стола, разводили руками и выбирали плохие зёрна, он вспомнил себя, Москву, бабушку, гречку, у него засосало под ложечкой, стало невыносимо всех жаль, он послал в душе профессора, нашёл русский магазин, купил гречку, масло, пришёл домой, сварил, она была такая ароматная, вкусная, аромат разносился по всей съемной квартире, он наелся гречки и стал ждать аллергии. Ночью он проснулся оттого, что спать было необычно комфортно, не крутило от голода живот, то, что уже несколько лет сжималось в груди, отпустило, аритмии не было, он был счастлив. Он улучшил мир, вылечил аритмию, а утром вдобавок убедился в Интернете, что в гречке полно витаминов группы В.
Мой приятель Володька Кондратьев был большим оригиналом. За свои 50+ он много чего добился в жизни. И вполне мог бы служить, да и служил для меня примером. Он вырастил детей, построил дом, создал инновационную компанию – и не одну; в общем, как говорится, жизнь удалась, и дружить с ним из-за разнообразия его увлечений было интересно, а подчас и выгодно, потому что, в силу своего исследовательского характера, он мог проложить дорогу в любом деле, сперва собрав все шишки, а потом получив все плюшки, положенные в таком случае. Его увлечения распространялись от робототехники до разведения рыбок, от лыжных походов до полетов на параплане, от игры на гармони до поступления солистом в Гнесинское училище.
Единственное, что не мог делать Володька, это быть, как все. Он не мог бы служить в армии, не мог работать в коллективе, не возглавляя его, не мог заниматься командными видами спорта. Не мог лечиться, выполняя предписания врача. И не подумайте, что из-за гордости, нет, из-за желания сделать мир лучше. Любой мир, даже хороший, по его мнению, следовало улучшить. А уж свой собственный – и подавно. На мои предостережения он всегда отвечал, что знает меру или «Ты не понимаешь, организм – это самая сложная система, которая дана нам для экспериментов, и это так интересно!»
Вот об одном таком случае я и хочу вам рассказать.
Будучи необычайно здоровым человеком, Володьке постоянно нужно было делать своё тело лучше, стройнее, выносливее, хотя иногда это приводило к прямо противоположным результатам. И ещё одна черта была у Володьки, пожалуй, это было главное, что позволяло ему во всем добиваться результатов, – невероятное упорство. И если в других делах это было залогом успеха, то в деле здоровья, по-моему, могло стать летально. Но на все мои предостережения он отвечал, что знает, что делает, и всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Попробую перечислить его способы лечения себя, здорового. Имейте ввиду, это только те, что доходили до меня, когда мы общались. Сперва он травил себя царской водкой, от которой у него началась изжога; не знаю, сколько месяцев на это ушло. Потом, забросив водку, он ударился в чистку организма от глистов: ставил клизмы, сдавал анализы, глотал таблетки. Подсадив печень до нормального состояния, он убедился, что никаких ненужных глистов у него нет и никогда не было.
Пару лет он пил АСД, предлагал эту гадость всем и каждому, но никакого отрицательного, равно как и положительного эффекта, слава Богу, не последовало. После АСД, а это, как я понимаю, продукт перегонки костного бульона, он начал дышать в трубочку своим углекислым газом. Трубочка, похоже, вреда не приносила, а может быть, даже вылечила Володьке спину и поэтому у него прижилась. По крайней мере он стал таскать ее с собой и таскает уже лет 10.
За периодами голодания следовали периоды клизм, за каплями в нос – подушечки для пупка, за иглами и аппликаторами – полоскания для носа, после полосканий – аспирин для разжижения крови, сода, витамин С в лошадиных дозах, гимнастика для шеи, закаливание на снегу – ничто не могло угробить нашего Володьку. Наконец настал ковид, который таки дал Володьке осложнение в виде аритмии, после чего Володькины усилия утроились. Он стал ходить десятки километров, изнурять себя различными диетами, есть грибы, пить воду декалитрами. Понятно, что никакие врачи не могли за ним угнаться. Для понимания причины происхождения своей периодически возникавшей аритмии, с которой, по-моему, спокойно живет половина человечества, он сдал все возможные анализы у нас и уехал лечиться за границу.
За границей, видя столь здорового человека, врачи недоумевали, что ему нужно, но он не унимался, проходил исследования, выписывал книги и в результате вышел на диету одного американского профессора, провозгласившего, что всё, что имеет мягкую косточку внутри плода, а также 3/4 всех остальных продуктов имеет в своем составе что-то (извините, не запомнил), что делает их вредными для человека и вызывает аллергию, к которой этот профессор относил переломы костей и болезни сердца.
На мой вопрос о том, как же люди жили до этого, Володька отвечал, что сегодня всё по-другому, и продукты тоже другие, и потому как люди жили раньше, уже не важно, поскольку либо ты не знаешь, как они жили, либо ты не можешь достать те же продукты, что они ели. И теперь ему, Володьке, нужно прокладывать свой путь – пока в кильватере профессора, а потом вы уже сами понимаете, как. На этом пути у Володьки пропал витамин В, который приходилось колоть, к запрету попадали: коровье молоко, практически все фрукты, сладости, алкоголь, каши, хлеб. Не пожалел безжалостный профессор даже гречки, хотя непонятно, где он её в Америке нашёл. Можно было что-то варить в пароварке и что-то кушать сырым. Кажется, редьку или редис.
Я не знаю, сколько бы времени вы, дорогой читатель, протянули бы на такой диете, но думаю, что сколько бы ни протянули, это бы показалось вам вечностью. Но наш Володька прожил так 3 года, при этом вид у него оставался вполне здоровым, я уж испугался, что он нащупал вторую «трубочку» и будет советовать её мне, однако витамин В не появлялся, и аритмия не проходила. Всякий раз, когда мы пересекались с Володькой, речь заходила о питании, причем я хвастался, как вкусно то и это, например, рыба с пивом или шашлыки, а он говорил, что я долго не протяну и нужно переходить на редьку.
И вот однажды звонит Володька и хвастается, что он победил свою аритмию и витамин В. Моему показному восхищению не было предела, оказалось, что аритмия преследовала Володьку и у нас, и за границей, его профессор не успевал запрещать продукты, как снова они оказывались съедобными, Володька гнался за профессором, я с трудом успевал следить за Володькой, и вот настал момент истины, а по словам Володьки, именно я помог ему в этом вопросе. Дело было так: он встал в магазине и стал думать, что бы ему хотелось купить, и оказалось, что ничего. Профессора он обогнал, потому что добавил в систему контроль скачков уровня глюкозы, которых у профессора не было, сил у Володьки тоже не было, профессор отстал, аритмия ушла вперёд, ничего не хотелось, в заграничном супермаркете было всё и ничего не хотелось. Кроме... гречки, которой там, увы, не было.
И так захотелось Володьке поесть гречки, он вспомнил, как они с бабушкой в Москве высыпали её на клеёнку стола, разводили руками и выбирали плохие зёрна, он вспомнил себя, Москву, бабушку, гречку, у него засосало под ложечкой, стало невыносимо всех жаль, он послал в душе профессора, нашёл русский магазин, купил гречку, масло, пришёл домой, сварил, она была такая ароматная, вкусная, аромат разносился по всей съемной квартире, он наелся гречки и стал ждать аллергии. Ночью он проснулся оттого, что спать было необычно комфортно, не крутило от голода живот, то, что уже несколько лет сжималось в груди, отпустило, аритмии не было, он был счастлив. Он улучшил мир, вылечил аритмию, а утром вдобавок убедился в Интернете, что в гречке полно витаминов группы В.

Валерия СИЯНОВА
Родилась в Еврейской автономной области, городе Биробиджан. Появилась на свет в 2003 году. Любовь к литературе окрепла в 2016 году, и с тех пор началось писательство «в стол», исключительно для своих блокнотов и дневников с желанием, чтоб никто и никогда ничего не увидел и не прочитал. Поделиться своими мыслями решила в 2024 году. В 2024 году в журнале «Художественное слово» (в ближайшее время) выйдет выпуск №42, в нём будет опубликовано первое произведение Валерии из раннего творчества под названием «Начало пути».
Родилась в Еврейской автономной области, городе Биробиджан. Появилась на свет в 2003 году. Любовь к литературе окрепла в 2016 году, и с тех пор началось писательство «в стол», исключительно для своих блокнотов и дневников с желанием, чтоб никто и никогда ничего не увидел и не прочитал. Поделиться своими мыслями решила в 2024 году. В 2024 году в журнале «Художественное слово» (в ближайшее время) выйдет выпуск №42, в нём будет опубликовано первое произведение Валерии из раннего творчества под названием «Начало пути».
КРЕСТОВЫЙ ЛУЧ
«Больше не светит тот маяк, покачивающийся угрюмо вдали. Теперь он погас, не давая возможности путникам отыскать дорогу к спасению. Возможно ль ее найти, если свет больше не горит?..»
В каждом из нас живёт нечто цветущее и дарующее начало прекрасным поступкам, идущим от самого сердца. И это присуще всем-всем. Важно лишь ото сна проснуться и посмотреть в самую суть. Доброе утро, меня зовут Александр.
Существует в России необычный город Самарской области – Тольятти, который раньше назывался Ставрополь-на-Волге. Народ там весьма необыкновенен и часто использует для обозначения комплиментов друг другу слова, прямо обратные тому, что человек хотел сказать. Например, если гостю понравилось, как его приняли в доме, то вместо слов благодарности хозяева будут ожидать услышать в свой адрес нечто с негативной окраской и только отрицательное высказывание посчитают за что-то приятное. Для меня встретиться с такими людьми было в новинку – они не любят никаких похвал и ждут, когда им скажут оскорбительные слова, считая их за высшую форму оценки. Всё же я полагаю, что они таким удивительным образом воспринимают всё окружающее в связи с тем, что негативные утверждения, тем более, если они будут конструктивными, позволят хозяевам развиваться и улучшать что-либо. Поскольку если ты принимаешь комплимент, то он даёт понять, что всё в порядке, и в таком случае отсутствует необходимость что-либо менять и улучшать. Я пришел к выводу о том, что Тольяттинский народ представлен людьми, стремящимися к развитию и не довольствующимися тем положением вещей, которое есть. Для них очень важно не оставаться на месте и постоянно что-то делать с перспективой на совершенствование.
Помимо их стремления к движению уж очень был удивлён общительностью и активным участием в общественной жизни. Благодаря мероприятию, посвящённому презентации и защите библиотеки и книг, я познакомился с невероятно лучезарной девушкой Екатериной. Встреча с ней и её семьёй – самый яркий для меня пример людей, не живущих лишь для себя. Они гораздо интереснее проживают время, отведённое на Земле, ведь не замыкаются в самих себе, а присущее тепло распространяют по дарованному для жилья кусочку мира, который неизменно процветает, потому что за ним бережно ухаживают. И привлекают других людей к участию в жизни города, организации различных мероприятий, в том числе международных. Такая активная жизненная позиция меня всегда восхищала, и я искренне удивляюсь и вдохновляюсь такими людьми, как Екатерина. И рад, что этот человек был в моей жизни. Хотя… почему был? Может быть, есть и сейчас?.. Ведь те люди, которые сумели неведомым образом остаться внутренним следом-воспоминанием частым, всегда будут оставаться в нашей жизни, независимо от их физического местонахождения, потому что они всегда рядом – живут в памяти и сердце.
Катя – солнечный луч с небесными глазами и кудрявыми завитушками на голове в виде колец, в целом – неземная нимфа. Она самоотверженная и отправляется в путь, не зная ни усталости, ни поражения. Есть у нас лишь одно направление, и оно направляет лишь вперёд.
Помню, как однажды на центральной площади встретился с цыганкой, внезапно появившейся, словно возникла из воздуха. Зачарованно смотрела в мои глаза, протягивая свою руку. А я просто стоял, как истукан, не зная, что делать, но продолжая стоять и наблюдать за её дальнейшими действиями. Цыганка взяла мою руку и перевернула её к себе внутренней частью кисти – ладонью, всматриваясь и что-то шепча на непонятном мне языке. Потом она выпустила из рук своих мою ладонь и перевела взгляд на меня, прошептав:
Встретишь однажды свет внутри кого-то,
Кто научит тебя жить по-другому.
Забудешь о самом себе,
Обращаясь взором и по кругу,
Видя тех, кому способен ты помочь.
Я счастлив, что давнее «пророчество» цыганки сбылось: я действительно встретил в своей жизни Екатерину, которая собой показала доселе невиданный пример поведения и отношения к людям. Вместе с ней проделали мы множество шагов, в том числе идя куда-то, не ведая конечной границы. И отзывались на голоса просящих и нуждающихся людей, к которым никто больше не решался подойти.
Жизнь – она не только в нас самих. Она и в людях. В том числе в тех «невидимках», что ходят вокруг нас. Важно проявлять внимание. Причём, я не умею так, чтоб проявить немного. Или полностью, или никак.
Не бывает середины, со мной не работает она. Умею только полностью моменту предаваться – иль ничего, иль всё. Спасибо жизни, лишь она – учитель, посылающий нужных нам людей, заставляющих взглянуть и на себя, и на других по-иному. Ведь нам нужна не лесть и комплименты – они вовсе не учат ничему. Важны истина и правда, а потому понимаю я Тольяттинский народ, которому присуще всё наоборот.
Не в словах приятных сила, а в человеческих делах. Если говорить умеем мы красиво, но не делаем того, что говорим, то какой же прок в словах приятных? Конечно, исходом лучшим всё же является тот, который позволяет найти соответствие поступкам и словам. Когда мы говорим действительно лишь то, что чувствуем и о чём думаем. И только то, что по-настоящему сделать хотим.
Потому и восхищаюсь народом интересным этим. И очень сожалею о потере в лице Екатерины. Это чудо-человек. Хоть и перестали мы давно общаться, но надеюсь я, что у неё всё хорошо.
Она не была любителем слов приятных, но без них я не могу. Полюбили смотреть на звёзды сквозь придуманный нами потолок – это лишь видимая преграда, не дающая взглянуть наверх. Но это всё же не так: воображение нам дано на то, чтобы растворить сей потолок и взглянуть на тёмную синеву, на которой ярко звёзды нам мерцают, маня вновь выдвигаться хоть куда. Но неизменно туда, где будет нас умиротворение встречать.
О, милый друг-подруга. Где б ни была ты, помни лишь одно: в твоих глазах сияет остров, на котором точно побываешь ты. И даже если не суждено будет встретиться нам вновь, я снова приеду на поезде в Тольятти. Проделав тот же путь, что и ты. И, находясь на родной твоей земле, преклонить смогу свою я голову пред землей, подарившей миру невероятное добро в твоем лице. И буду знать, что где бы ни была ты, непрестанно сияешь с улыбкой на устах.
Уж очень жаль, что время разделяет. И города. И множество иных придуманных причин. И что ж скрывать – моя глупость, из-за которой прахом всё пошло. Но я всегда тебя в душе хранил и буду помнить облик светлый твой. Он вновь всплывёт передо мной, когда окажусь на земле твоей родной.
Тольятти на тебя похож.
И ромашки, которые вручить тебе сумел. Они очерчивают чистоту твою.
Ты рассказывала о том, как в 1997 году в бывшем здании Земской больницы был открыт Свято-Воскресенский мужской монастырь. На его территории действуют три храма – в честь Воскресения Христова, посвящённый преподобному Силуану Афонскому и иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».
Смотрю на храм и вижу Катю – она и есть отражение города Креста. На таких людях и держится Земля – на тех, кто желает всей Вселенной сохранения, а не разрушения и руин. Она показала дорогу, освещающую путь. Теперь и я стал обращать внимание на прохожих и, видя, что нужна кому-то помощь, стремлюсь предложить её. Зажигаются фонари, освещаются они, все прямо светятся изнутри.
Было время, когда настала пора мне уйти, бросив всё, что связывало с прежней жизнью. Но в той, прежней жизни была Екатерина, и это – огромная проблема. Ведь она была тем источником, который питал и позволял жить по-настоящему – не для себя. Но я сделал выбор в пользу поиска чего-то нового, и мне пришлось уехать надолго.
Пока меня не было, я пытался как-то поддерживать связь с помощью писем, но они до неё не доходили. Некоторым всё же удавалось добраться до адресата, но он оставлял письма без ответа. Не знаю, о чём думала Катя, когда получала мои послания, но вскоре я вовсе перестал о себе напоминать, и это стало финальной точкой. Когда до меня дошло, что мы уже не общаемся, и что отныне воцарилась тишина, то понял, что во мне самом произошла какая-то перемена. Её было трудно признать, но… факт в том, что теперь рядом нет источника света извне, коим была Катя. Теперь есть я и то, что она оставила во мне, – я должен продолжить то, чему она научила меня, показав, что есть истинная жизнь: дарить безвозмездно, не ожидая ничего взамен. Просто дарить и отдавать, радуясь радости другого человека, проживая эту радость вместе с кем-то. Кати физически теперь рядом нет, но лишь теперь, когда её нет рядом, возникло ощущение, словно она всегда была, есть и будет даже тогда, когда её якобы нет рядом. Она что-то сделала, причём, скорее всего, и сама не понимала, что сделала невероятное и самое ценное: сумела другого человека направить на путь стремления к чему-то высшему.
Теперь маяк погас, не освещает мне дорогу. Тем маяком была она… но всё же есть надежда на спасение, ведь маяком теперь и я способен стать. И освещать дорогу к спасению. Отныне я должен продолжить начатое ею – творение добра. Помогая другим, я вновь вспомню, как мы помогали другим вместе с ней. И я знаю, что пока я в одном уголке мира стремлюсь творить что-то благое, в это же время, но в другом месте на благо трудится и она… Труд и добродетель объединяют повсюду, даже если физически мы друг от друга далеки.
Я слышал её голос: он возвещал о скором прибытии судна дальнего плавания, которого я так долго ожидал.
Но… Екатерина умерла… Я недавно об этом узнал, когда специально вернулся на Родину луча, воспламенившего меня, чтобы её увидеть. Случайно встретился на вокзале с её братом Владимиром.
– Знаешь, Александр, а ведь она тебя ждала… – меланхолично сказал брат Кати, потухшим взглядом глядя. – Всё думала, что ты вернёшься, но тебя всё не было и не было. Всё же эгоистично ты поступил по отношению к нам всем – приехал, нашёл в лице нашей семьи людей, которые стали тебе доверять, а потом, ничего не говоря, просто молчком взял и уехал, абсолютно ничего не сказав, как будто без вести пропал. Мы даже пытались тебя искать… не нашли… Видел, как ты выходил из поезда. Так и сияла улыбка на твоём лице, я тебя сразу узнал. И ты представился мне невероятно счастливым человеком. Полагаю, что тебе прекрасно жилось и без нас, раз ты за столько лет не появился. Только вот зачем тебе понадобилось возвращаться сюда? Её здесь нет, уже давно нет. Даже тогда, когда она была жива. С ней что-то произошло после твоего отъезда. Сильно изменилась, буквально устав от жизни.
Владимир вздохнул и отвернулся.
Мне было неприятно слышать то, что я слышал. Но я понимал, что Владимир говорит правду: я уехал, думая только о самом себе, ни во что не ставя мысли и чувства тех, кто успел ко мне привязаться. Он назвал меня счастливым человеком… Не знаю, не бывает счастья на Земле. Вот к чему я пришёл: его здесь просто нет. Не бегите и не ищите какого-то «счастья», это просто выдуманное слово, в которое пытаются вложить тот или иной смысл ради чего-то. Счастья нет! Было умиротворение, было единство, было доверие и была дружба, ожидание, но я всё растоптал и уничтожил, не оставив ничего и никому.
– Молчишь? Да, а что ты ещё можешь сказать? Всё, что мог, ты уже сделал. Вернее, не сделал, – Владимир посмотрел упрямо в мои глаза, не отрывая взгляда и словно пытаясь что-то прочитать в выражении моего лица. – Неужели ты столько времени мог спокойно продолжать жить, не пытаясь ничего о нас узнать и не пытаясь с нами связаться?
Владимир выплеснул накопившуюся обиду, искренне не понимая, как человек, которого он стал считать за брата, мог запросто исчезнуть.
Но я угрюмо продолжал молчать: не мог ни слова вымолвить. Чувствовал себя полнейшим ничтожеством перед этим некогда мальчишкой, который заискивающе всегда смотрел. Он искренне был ко мне привязан, я же эту возникшую дружбу, которую не ставил ни во что, не захотел замечать, предпочитая уйти. Этот подросший юнец прав: я все эти годы вспоминал их не из-за того, что у меня были к ним настоящие чувства, а потому что мне нравилось воспоминаниями о тех людях воодушевлять и мотивировать себя исключительно для себя. Но ведь я другим людям помогал…. А была ли эта помощь настоящей? Или мне нравилось тешить своё скрытое самолюбие за счет помощи другим?
– Мне уже пора, – произнёс Владимир. – Хотя бы на могилку к ней сходи. При жизни тебя не дождалась, пусть хоть так дождётся…
Владимир развернулся и зашагал в сторону перрона, уходя вдаль от того города Креста, в котором произошла целая череда труда, в том числе в ущерб самим себе. Труд во что бы то ни стало. Где жители несут свои Кресты.
Я смотрел, как Владимир удалялся всё дальше и дальше, оставляя меня в толпе, в которой я не чувствовал себя своим, скорее – чужим. То чувство счастья, которое во мне увидел Владимир, будто улетучилось, оставив после себя лишь пустоту. Эта пустота требовала заполнения, и я направился к той, к которой должен был прийти давно. К той, которая ждала и всё же дождалась – ведь я теперь к ней иду…
Атмосфера кладбища не похожа ни на что. Там – царство упокоения, встречи с миром иным уже здесь, будучи на Земле. И нечто невероятное витает – ведь больше такой глухости нигде не сможешь ты услышать.
Я был физически один, но на самом деле – вовсе не один. Повсюду – кишмя существ различных, которых ты не видишь, но чьё присутствие неизменно чувствуешь всем существом своим. Они рядом, очень-очень близко, словно протягивают свои ручищи к тебе, но для чего? Они молчат и не намерены раскрывать свои помыслы и тот смысл, который вкладывают во всё, что делают, желая при этом остаться незамеченными. Но я их чувствую… Становится как-то странно на душе, в ней поселяется страх, с которым даже и не знаю, что мне делать. Вдруг направляю внимание своё на ту самую, ради которой сюда пришёл – на Неё, на луч этого города, который однажды посмел оставить.
Надгробие Кати в виде креста проникало в те глубины, о которых я никогда и не подозревал. Снизу самого креста был изображён небольшой её портрет, на котором привычная девочка была спокойной и без той, свойственной ей широкой улыбки, которая часто виднелась на лике её. Пока я был заворожён её тихим взглядом, продолжал приближаться к могиле ближе, вовсе успев позабыть о тех существах, о которых думал ранее. Они не стоят того, чтобы обращать на них внимание, тем более, здесь, на этой священной земле. Переводя взгляд то на портрет, то на крест, а после охватывая целиком одновременно и портрет, и крест, я понял, что эта девочка жива. Она не могла умереть, и даже после своей смерти она живёт и будет продолжать жить. На священной земле явственно чувствую её присутствие.
– Прости меня, – заговорил я. – Должен был к тебе прийти гораздо раньше… Знаешь, нет хуже наказания, чем понимать, что больше не смогу протянуть руку к живому человеку, который, оказывается, был дороже всех других. Жаль, что понял я это слишком поздно…
Я склонил голову вниз.
– Всё же я представлял, что мы ещё с тобой непременно встретимся, но не вот таким образом… и не здесь…
Да, вовсе не думал, что увижусь с Катей в следующий раз только на кладбище. Так долго откладывал как мысли, так и действия. И в результате загублено было всё… Есть ли шанс всё изменить?..
– Поздно… Мне нужно было раньше задуматься о том, что однажды настанет тот самый момент, когда кто-то из нас отойдёт в лучший мир. Я виноват в том, что всё случилось так, как случилось. Прости…
Снова посмотрев в портретные глаза, внезапно я понял, что она меня простила. Катя бы не смогла не простить… это человек широчайшей и редчайшей души.
– Именно ты зажгла во мне пламя жизни, которое до сих пор продолжает держать меня на земле. В этом я уверен наверняка. Ты показала мне, какой может быть жизнь, когда стремишься посвятить её чему-то воистину значимому, – я медленно протянул ладонь к портрету и погладил её спокойное лицо. – Прости и спасибо! Я продолжу то, что начал с тобой: поддерживать тех, кому помощь нужна.
Я вздохнул и поднял глаза на Крест с мыслью о том, что я добровольно понесу свой Крест, который воспринимаю отныне не как что-то тяжёлое и невыносимое, а как Смысл и Дар. Без них жизнь вовсе не является жизнью.
«Больше не светит тот маяк, покачивающийся угрюмо вдали. Теперь он погас, не давая возможности путникам отыскать дорогу к спасению. Возможно ль ее найти, если свет больше не горит?..»
В каждом из нас живёт нечто цветущее и дарующее начало прекрасным поступкам, идущим от самого сердца. И это присуще всем-всем. Важно лишь ото сна проснуться и посмотреть в самую суть. Доброе утро, меня зовут Александр.
Существует в России необычный город Самарской области – Тольятти, который раньше назывался Ставрополь-на-Волге. Народ там весьма необыкновенен и часто использует для обозначения комплиментов друг другу слова, прямо обратные тому, что человек хотел сказать. Например, если гостю понравилось, как его приняли в доме, то вместо слов благодарности хозяева будут ожидать услышать в свой адрес нечто с негативной окраской и только отрицательное высказывание посчитают за что-то приятное. Для меня встретиться с такими людьми было в новинку – они не любят никаких похвал и ждут, когда им скажут оскорбительные слова, считая их за высшую форму оценки. Всё же я полагаю, что они таким удивительным образом воспринимают всё окружающее в связи с тем, что негативные утверждения, тем более, если они будут конструктивными, позволят хозяевам развиваться и улучшать что-либо. Поскольку если ты принимаешь комплимент, то он даёт понять, что всё в порядке, и в таком случае отсутствует необходимость что-либо менять и улучшать. Я пришел к выводу о том, что Тольяттинский народ представлен людьми, стремящимися к развитию и не довольствующимися тем положением вещей, которое есть. Для них очень важно не оставаться на месте и постоянно что-то делать с перспективой на совершенствование.
Помимо их стремления к движению уж очень был удивлён общительностью и активным участием в общественной жизни. Благодаря мероприятию, посвящённому презентации и защите библиотеки и книг, я познакомился с невероятно лучезарной девушкой Екатериной. Встреча с ней и её семьёй – самый яркий для меня пример людей, не живущих лишь для себя. Они гораздо интереснее проживают время, отведённое на Земле, ведь не замыкаются в самих себе, а присущее тепло распространяют по дарованному для жилья кусочку мира, который неизменно процветает, потому что за ним бережно ухаживают. И привлекают других людей к участию в жизни города, организации различных мероприятий, в том числе международных. Такая активная жизненная позиция меня всегда восхищала, и я искренне удивляюсь и вдохновляюсь такими людьми, как Екатерина. И рад, что этот человек был в моей жизни. Хотя… почему был? Может быть, есть и сейчас?.. Ведь те люди, которые сумели неведомым образом остаться внутренним следом-воспоминанием частым, всегда будут оставаться в нашей жизни, независимо от их физического местонахождения, потому что они всегда рядом – живут в памяти и сердце.
Катя – солнечный луч с небесными глазами и кудрявыми завитушками на голове в виде колец, в целом – неземная нимфа. Она самоотверженная и отправляется в путь, не зная ни усталости, ни поражения. Есть у нас лишь одно направление, и оно направляет лишь вперёд.
Помню, как однажды на центральной площади встретился с цыганкой, внезапно появившейся, словно возникла из воздуха. Зачарованно смотрела в мои глаза, протягивая свою руку. А я просто стоял, как истукан, не зная, что делать, но продолжая стоять и наблюдать за её дальнейшими действиями. Цыганка взяла мою руку и перевернула её к себе внутренней частью кисти – ладонью, всматриваясь и что-то шепча на непонятном мне языке. Потом она выпустила из рук своих мою ладонь и перевела взгляд на меня, прошептав:
Встретишь однажды свет внутри кого-то,
Кто научит тебя жить по-другому.
Забудешь о самом себе,
Обращаясь взором и по кругу,
Видя тех, кому способен ты помочь.
Я счастлив, что давнее «пророчество» цыганки сбылось: я действительно встретил в своей жизни Екатерину, которая собой показала доселе невиданный пример поведения и отношения к людям. Вместе с ней проделали мы множество шагов, в том числе идя куда-то, не ведая конечной границы. И отзывались на голоса просящих и нуждающихся людей, к которым никто больше не решался подойти.
Жизнь – она не только в нас самих. Она и в людях. В том числе в тех «невидимках», что ходят вокруг нас. Важно проявлять внимание. Причём, я не умею так, чтоб проявить немного. Или полностью, или никак.
Не бывает середины, со мной не работает она. Умею только полностью моменту предаваться – иль ничего, иль всё. Спасибо жизни, лишь она – учитель, посылающий нужных нам людей, заставляющих взглянуть и на себя, и на других по-иному. Ведь нам нужна не лесть и комплименты – они вовсе не учат ничему. Важны истина и правда, а потому понимаю я Тольяттинский народ, которому присуще всё наоборот.
Не в словах приятных сила, а в человеческих делах. Если говорить умеем мы красиво, но не делаем того, что говорим, то какой же прок в словах приятных? Конечно, исходом лучшим всё же является тот, который позволяет найти соответствие поступкам и словам. Когда мы говорим действительно лишь то, что чувствуем и о чём думаем. И только то, что по-настоящему сделать хотим.
Потому и восхищаюсь народом интересным этим. И очень сожалею о потере в лице Екатерины. Это чудо-человек. Хоть и перестали мы давно общаться, но надеюсь я, что у неё всё хорошо.
Она не была любителем слов приятных, но без них я не могу. Полюбили смотреть на звёзды сквозь придуманный нами потолок – это лишь видимая преграда, не дающая взглянуть наверх. Но это всё же не так: воображение нам дано на то, чтобы растворить сей потолок и взглянуть на тёмную синеву, на которой ярко звёзды нам мерцают, маня вновь выдвигаться хоть куда. Но неизменно туда, где будет нас умиротворение встречать.
О, милый друг-подруга. Где б ни была ты, помни лишь одно: в твоих глазах сияет остров, на котором точно побываешь ты. И даже если не суждено будет встретиться нам вновь, я снова приеду на поезде в Тольятти. Проделав тот же путь, что и ты. И, находясь на родной твоей земле, преклонить смогу свою я голову пред землей, подарившей миру невероятное добро в твоем лице. И буду знать, что где бы ни была ты, непрестанно сияешь с улыбкой на устах.
Уж очень жаль, что время разделяет. И города. И множество иных придуманных причин. И что ж скрывать – моя глупость, из-за которой прахом всё пошло. Но я всегда тебя в душе хранил и буду помнить облик светлый твой. Он вновь всплывёт передо мной, когда окажусь на земле твоей родной.
Тольятти на тебя похож.
И ромашки, которые вручить тебе сумел. Они очерчивают чистоту твою.
Ты рассказывала о том, как в 1997 году в бывшем здании Земской больницы был открыт Свято-Воскресенский мужской монастырь. На его территории действуют три храма – в честь Воскресения Христова, посвящённый преподобному Силуану Афонскому и иконы Божией Матери «Отрада и Утешение».
Смотрю на храм и вижу Катю – она и есть отражение города Креста. На таких людях и держится Земля – на тех, кто желает всей Вселенной сохранения, а не разрушения и руин. Она показала дорогу, освещающую путь. Теперь и я стал обращать внимание на прохожих и, видя, что нужна кому-то помощь, стремлюсь предложить её. Зажигаются фонари, освещаются они, все прямо светятся изнутри.
Было время, когда настала пора мне уйти, бросив всё, что связывало с прежней жизнью. Но в той, прежней жизни была Екатерина, и это – огромная проблема. Ведь она была тем источником, который питал и позволял жить по-настоящему – не для себя. Но я сделал выбор в пользу поиска чего-то нового, и мне пришлось уехать надолго.
Пока меня не было, я пытался как-то поддерживать связь с помощью писем, но они до неё не доходили. Некоторым всё же удавалось добраться до адресата, но он оставлял письма без ответа. Не знаю, о чём думала Катя, когда получала мои послания, но вскоре я вовсе перестал о себе напоминать, и это стало финальной точкой. Когда до меня дошло, что мы уже не общаемся, и что отныне воцарилась тишина, то понял, что во мне самом произошла какая-то перемена. Её было трудно признать, но… факт в том, что теперь рядом нет источника света извне, коим была Катя. Теперь есть я и то, что она оставила во мне, – я должен продолжить то, чему она научила меня, показав, что есть истинная жизнь: дарить безвозмездно, не ожидая ничего взамен. Просто дарить и отдавать, радуясь радости другого человека, проживая эту радость вместе с кем-то. Кати физически теперь рядом нет, но лишь теперь, когда её нет рядом, возникло ощущение, словно она всегда была, есть и будет даже тогда, когда её якобы нет рядом. Она что-то сделала, причём, скорее всего, и сама не понимала, что сделала невероятное и самое ценное: сумела другого человека направить на путь стремления к чему-то высшему.
Теперь маяк погас, не освещает мне дорогу. Тем маяком была она… но всё же есть надежда на спасение, ведь маяком теперь и я способен стать. И освещать дорогу к спасению. Отныне я должен продолжить начатое ею – творение добра. Помогая другим, я вновь вспомню, как мы помогали другим вместе с ней. И я знаю, что пока я в одном уголке мира стремлюсь творить что-то благое, в это же время, но в другом месте на благо трудится и она… Труд и добродетель объединяют повсюду, даже если физически мы друг от друга далеки.
Я слышал её голос: он возвещал о скором прибытии судна дальнего плавания, которого я так долго ожидал.
Но… Екатерина умерла… Я недавно об этом узнал, когда специально вернулся на Родину луча, воспламенившего меня, чтобы её увидеть. Случайно встретился на вокзале с её братом Владимиром.
– Знаешь, Александр, а ведь она тебя ждала… – меланхолично сказал брат Кати, потухшим взглядом глядя. – Всё думала, что ты вернёшься, но тебя всё не было и не было. Всё же эгоистично ты поступил по отношению к нам всем – приехал, нашёл в лице нашей семьи людей, которые стали тебе доверять, а потом, ничего не говоря, просто молчком взял и уехал, абсолютно ничего не сказав, как будто без вести пропал. Мы даже пытались тебя искать… не нашли… Видел, как ты выходил из поезда. Так и сияла улыбка на твоём лице, я тебя сразу узнал. И ты представился мне невероятно счастливым человеком. Полагаю, что тебе прекрасно жилось и без нас, раз ты за столько лет не появился. Только вот зачем тебе понадобилось возвращаться сюда? Её здесь нет, уже давно нет. Даже тогда, когда она была жива. С ней что-то произошло после твоего отъезда. Сильно изменилась, буквально устав от жизни.
Владимир вздохнул и отвернулся.
Мне было неприятно слышать то, что я слышал. Но я понимал, что Владимир говорит правду: я уехал, думая только о самом себе, ни во что не ставя мысли и чувства тех, кто успел ко мне привязаться. Он назвал меня счастливым человеком… Не знаю, не бывает счастья на Земле. Вот к чему я пришёл: его здесь просто нет. Не бегите и не ищите какого-то «счастья», это просто выдуманное слово, в которое пытаются вложить тот или иной смысл ради чего-то. Счастья нет! Было умиротворение, было единство, было доверие и была дружба, ожидание, но я всё растоптал и уничтожил, не оставив ничего и никому.
– Молчишь? Да, а что ты ещё можешь сказать? Всё, что мог, ты уже сделал. Вернее, не сделал, – Владимир посмотрел упрямо в мои глаза, не отрывая взгляда и словно пытаясь что-то прочитать в выражении моего лица. – Неужели ты столько времени мог спокойно продолжать жить, не пытаясь ничего о нас узнать и не пытаясь с нами связаться?
Владимир выплеснул накопившуюся обиду, искренне не понимая, как человек, которого он стал считать за брата, мог запросто исчезнуть.
Но я угрюмо продолжал молчать: не мог ни слова вымолвить. Чувствовал себя полнейшим ничтожеством перед этим некогда мальчишкой, который заискивающе всегда смотрел. Он искренне был ко мне привязан, я же эту возникшую дружбу, которую не ставил ни во что, не захотел замечать, предпочитая уйти. Этот подросший юнец прав: я все эти годы вспоминал их не из-за того, что у меня были к ним настоящие чувства, а потому что мне нравилось воспоминаниями о тех людях воодушевлять и мотивировать себя исключительно для себя. Но ведь я другим людям помогал…. А была ли эта помощь настоящей? Или мне нравилось тешить своё скрытое самолюбие за счет помощи другим?
– Мне уже пора, – произнёс Владимир. – Хотя бы на могилку к ней сходи. При жизни тебя не дождалась, пусть хоть так дождётся…
Владимир развернулся и зашагал в сторону перрона, уходя вдаль от того города Креста, в котором произошла целая череда труда, в том числе в ущерб самим себе. Труд во что бы то ни стало. Где жители несут свои Кресты.
Я смотрел, как Владимир удалялся всё дальше и дальше, оставляя меня в толпе, в которой я не чувствовал себя своим, скорее – чужим. То чувство счастья, которое во мне увидел Владимир, будто улетучилось, оставив после себя лишь пустоту. Эта пустота требовала заполнения, и я направился к той, к которой должен был прийти давно. К той, которая ждала и всё же дождалась – ведь я теперь к ней иду…
Атмосфера кладбища не похожа ни на что. Там – царство упокоения, встречи с миром иным уже здесь, будучи на Земле. И нечто невероятное витает – ведь больше такой глухости нигде не сможешь ты услышать.
Я был физически один, но на самом деле – вовсе не один. Повсюду – кишмя существ различных, которых ты не видишь, но чьё присутствие неизменно чувствуешь всем существом своим. Они рядом, очень-очень близко, словно протягивают свои ручищи к тебе, но для чего? Они молчат и не намерены раскрывать свои помыслы и тот смысл, который вкладывают во всё, что делают, желая при этом остаться незамеченными. Но я их чувствую… Становится как-то странно на душе, в ней поселяется страх, с которым даже и не знаю, что мне делать. Вдруг направляю внимание своё на ту самую, ради которой сюда пришёл – на Неё, на луч этого города, который однажды посмел оставить.
Надгробие Кати в виде креста проникало в те глубины, о которых я никогда и не подозревал. Снизу самого креста был изображён небольшой её портрет, на котором привычная девочка была спокойной и без той, свойственной ей широкой улыбки, которая часто виднелась на лике её. Пока я был заворожён её тихим взглядом, продолжал приближаться к могиле ближе, вовсе успев позабыть о тех существах, о которых думал ранее. Они не стоят того, чтобы обращать на них внимание, тем более, здесь, на этой священной земле. Переводя взгляд то на портрет, то на крест, а после охватывая целиком одновременно и портрет, и крест, я понял, что эта девочка жива. Она не могла умереть, и даже после своей смерти она живёт и будет продолжать жить. На священной земле явственно чувствую её присутствие.
– Прости меня, – заговорил я. – Должен был к тебе прийти гораздо раньше… Знаешь, нет хуже наказания, чем понимать, что больше не смогу протянуть руку к живому человеку, который, оказывается, был дороже всех других. Жаль, что понял я это слишком поздно…
Я склонил голову вниз.
– Всё же я представлял, что мы ещё с тобой непременно встретимся, но не вот таким образом… и не здесь…
Да, вовсе не думал, что увижусь с Катей в следующий раз только на кладбище. Так долго откладывал как мысли, так и действия. И в результате загублено было всё… Есть ли шанс всё изменить?..
– Поздно… Мне нужно было раньше задуматься о том, что однажды настанет тот самый момент, когда кто-то из нас отойдёт в лучший мир. Я виноват в том, что всё случилось так, как случилось. Прости…
Снова посмотрев в портретные глаза, внезапно я понял, что она меня простила. Катя бы не смогла не простить… это человек широчайшей и редчайшей души.
– Именно ты зажгла во мне пламя жизни, которое до сих пор продолжает держать меня на земле. В этом я уверен наверняка. Ты показала мне, какой может быть жизнь, когда стремишься посвятить её чему-то воистину значимому, – я медленно протянул ладонь к портрету и погладил её спокойное лицо. – Прости и спасибо! Я продолжу то, что начал с тобой: поддерживать тех, кому помощь нужна.
Я вздохнул и поднял глаза на Крест с мыслью о том, что я добровольно понесу свой Крест, который воспринимаю отныне не как что-то тяжёлое и невыносимое, а как Смысл и Дар. Без них жизнь вовсе не является жизнью.

Василий МОРСКОЙ
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года – в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года – в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
ЦУНАМИ
Бухта Валентин
Помню, как-то сразу после майских в 1983 году нам поручили небольшую работу по калибровке навигационной системы «Брамс» в бухте Валентин. Я, в то время старший помощник командира на «Армавире», уже опытный (все-таки два года на флоте), с удовольствием готовился к небольшому каботажному рейсу.
Спешки не было, всё было штатно. Пароход-красавец выглядел, как пасхальное яичко, ведь только в феврале вернулись после ремонта, который проходил в Коломбо, столице республики Шри-Ланка. Все системы готовы к походу, деревянная палуба желтела, обработанная регенерацией, которую мы периодически выпрашивали или выменивали у подводников. На верхней палубе всё было выкрашено и блестело еще свежими красками. К плаванию мы были допущены, только что отработали на ходовых испытаниях, предъявились морской инспекции и неторопливо грузили необходимое имущество и провиант.
Ребята с Маневренного отряда гидрографии, сокращенно манотряд, который в то время дислоцировался во Владивостоке, тоже готовились к своей работе, грузили оборудование, материалы, размещались по каютам. Для нас, для экипажа, манотряд – своего рода экспедиционный отряд со своим планом работы, своими правилами и своими «задвигами». В составе экспедиции были пять офицеров, три мичмана и несколько матросов срочной службы. В основном офицеры были знакомы с судном, и период адаптации должен был пройти за пару суток.
Погоды стояли прекрасные – середина мая уже радовала солнышком и теплом. Уже опять хотелось в моря, именно в моря, с ударением на «я», а не в море, как говорят на гражданке. Мы с командиром судна Александром Акимовым за два года уже сработались, нервозности никакой не было, подготовка шла своим чередом и полным ходом. Три недели – не срок, рейс вдоль дальневосточного побережья, никаких приключений не ожидалось.
Помполит (помощник командира судна по политической работе) набрал новеньких фильмов. Как он это делал, мы не понимали, но у нас всегда была самая лучшая коллекция кинокартин, которую мы с удовольствием смотрели всем экипажем по вечерам. Вообще, наш помполит, Давыдкин Виктор Кузьмич, был уникальным человеком – воевал в Отечественную, дошел до Рейхстага, написал на нем белой краской «ДВК», потом много лет ходил на разных судах в Морфлоте, в конце своей карьеры стал помполитом в дивизионе Гидрографии. Лицо, шея и все видимые места рук и ног во все времена у него отливали бронзовым загаром, он много пережил и много мог порассказать; в общем, был легендой.
Кузьмич, так все его называли в экипаже, любил собрать вокруг себя на юте после рабочего дня молодежь и «травил» морские байки, как стояли они на Маршалах или как однажды на одном БГК (большой гидрографический катер) нашему адмиралу Варакину, начальнику Гидрографической службы ТОФ, они поставили «адмирала». Это когда одна пара игроков в «козла» заканчивает кон двумя дупелями: шесть-шесть и пусто-пусто. Это означает конец игре и противнику «ставят адмирала». А противник-то уже адмирал и был! Это было очень обидно и очень редко, но вот случилось-таки.
Отошли (суда отходят от причала) без всяких задержек, по плану и пошли полным ходом в точку назначения – в бухту Валентин. Часов десять неторопливым ходом, и мы на месте. Стали на якорь уже в ночь. Утром, 23 мая, солнечный день давал возможность осмотреть с борта окружающее пространство. Бухта была основана экспедицией Бабкина В.М. в 1860 году и получила своё название в честь великомученика Святого Валентина, а в 1910 году по берегам небольшой речки и вблизи нее образовался поселок с одноименным названием. Здесь располагался хорошо известный в Приморье рыбзавод, в порту базировались небольшие МРТ (малые рыболовные траулеры), суда покрупнее стояли на якорях на рейде.
Для разгрузки рыбы и краба траулеры заходили и швартовались к пирсу прямо в устье реки, которая звалась, конечно, Валентиновкой. Рекой её в полном смысле этого слова назвать было трудно, однако глубина в устье была метра два с половиной, что позволяло небольшим судам и катерам свободно швартоваться и решать в порту все свои задачи.
Это совершенно открытая и живописная бухта имела две вершины. Одна вершина – мелководная, с каменистым дном. Другая – основная, где расположены порт и рыбокомбинат, приглубая, овальная и широкая. Скалистые берега северо-западной оконечности бухты на солнце сверкали причудливыми фигурами каменных изваяний и отрогов, обточенных ветрами и волнами за сотни лет. Говорят, в 50-х годах здесь были обнаружены археологические артефакты и свидетельства древних стоянок.
Маневренный отряд начал готовиться к производству работ. Дело обычное и давно отработанное. Несколько групп высаживались на берег с оборудованием на заранее назначенные, удобные для работы точки, «привязывались» координатами и работали с «Армавиром» по радио, который по определенной траектории двигался и делал соответствующие калибровочные замеры. Работа не очень пыльная, совсем неинтересная, но раз задача поставлена, ее надо выполнять. Так и начали потихоньку работать.
На катере старшим, конечно, старпом! Так было и в тот злополучный день 26 мая. Мне это нравилось, всё – приключение, швартовка в реке, разгрузка-погрузка береговых групп, стоянка у пирса, можно было осмотреть окрестности, погулять по поселку.
Движок на катере шведской марки Volvo-Penta заурчал ровно со старта, и мы, загруженные под завязку, пошли к причалу в порт. Вахтенным мотористом в тот день был старший моторист Крайний Евгений.
– Женя, как системы сегодня? Двигатель завелся с «полтычка», все нормально? – я задал, конечно, риторический вопрос, ведь если бы что-то было ненормальным, Женька бы не толкался в кают-компании, сидел бы уже в машинном. Он был надежным и опытным мотористом. Я поймал его взгляд – мол, чего спрашиваете, сами видите, все в ажуре. Я переключил рычаг управления двигателя на «вперёд полный», двигатель заурчал на повышенной ноте, и все на борту катера затихли, любуясь окружающим водным пространством; «зеркало» – довольно редкое явление, в открытой бухте – полный штиль!
Вошли в устье реки, оно было довольно широким, я бы даже назвал это эстуарием, как писано в учебниках: однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Так оно и было на самом деле. Глубины около 2,5 метров позволяли заходить малым траулерам, вот и мы пришвартовались у края пирса, никому не мешая. Швартовка заняла пять минут, я поставил катер, практически не коснувшись деревянного пирса, матрос Шуньков просто шагнул на пирс и накинул швартовый конец на причальный кнехт. Я увидел, как Шуньков с Крайним переглянулись и одобрительно кивнули мне. Это на нашем языке означало, что швартовка – класс, всё нормально, привязались, стоим хорошо. Манотряд выгрузился, моряки начали перетаскивать имущество на берег.
– Кириллыч, будешь?!
Внизу, в кают-компании катера, начальник партии, капитан 3 ранга Иванов Сергей Иванович вынул плоскую фляжку и разливал в три складных стопочки бесцветную жидкость. Спиртяга, как пить дать, подумал я и сказал:
– Ну еще ведь утро, работать целый день! И давайте не при личном составе! Не, Сергей Иванович, не буду!
Крайний уже спускался в моторный отсек; посмотрел с ухмылкой на офицеров, которые махнули по второй и, закусив солеными огурцами, двинулись на выход, и спросил меня:
– Алексей Кириллович, может, сгонять в «магаз», мы с Шуньковым мигом!
– Отставить «магаз», Крайний, начинаем работу!
Я вызвал «Армавир»; связь была отличная, погода «шептала». Иванов и сотоварищи скакнули на пирс и бойко пошли догонять своих.
– Женя, откуда такая прыть! Мы не экспедиция, мы – экипаж, нам с тобой работать еще!
– А у меня сегодня день рождения, Алексей Кириллович!
Вот, подумал я, помполит Кузьмич опять проспал всё, зачем на вахту взяли моториста-именинника? Именно помполит должен был следить, напоминать и организовывать поздравления членов экипажа, обычно именинников щадили и Крайнего, конечно, сегодня бы освободили от вахты на катере. Ну, чего уж теперь – вышло как вышло!
– Евгений Саныч, ну, тогда с днем рождения! Прими от нас поздравления, а подарок, когда вернемся на «Армавир», получишь!
Я подумал, что надо как-то скрасить момент, и сказал ребятам:
– Женя, Алексей (это Шуньков), давайте заканчивайте прибираться, шуруйте действительно в магазин, купите чего-нибудь вкусненького к обеду, день рождения все-таки!
Старший матрос Саша Белов уже занимался обедом, он это делал с удовольствием, потому что когда-то окончил кулинарный техникум в Находке. Крайний с Шуньковым пошли к магазину и явно не без удовольствия. Я огляделся кругом: недалеко с траулера шла выгрузка рыбы, решил – пойду, посмотрю, время есть.
А ты волну Цунами видел?
Рыболовный траулер был совсем маленький, чуть больше нашего рабочего гидрографического катера. Рыбаки в тёмно-серых прорезиненных костюмах перегружали рыбу из трюма на причал, сразу фасуя её по деревянным ящикам. На пирсе росла гора из ящиков с рыбой, которые на погрузчике перевозили, видимо, в холодильник. Народу было немного, всего человек десять, работали молча. Да, тоскливо у них тут, подумал я. Невдалеке была слышна музыка, наверное, из магазинного динамика, который виднелся на углу здания. Там была еще небольшая группа разношерстных покупателей да, в общем, и всё. Левый берег речки – это рыбокомбинат, здания которого виднелись еще подальше от холодильника, там никого не наблюдалось. Поселок начинался еще дальше, в нескольких сотнях метров по дороге от комбината. Через мостик на левый берег речки лениво тащилась парочка с надувным матрасом, видимо, шли купаться на пляж. Вот, собственно, и вся история, как говорят. Больше смотреть не на что!
Так неторопливо подошло время обеда. Ребята набрали в магазине всякой снеди, праздничный обед должен был быть на славу! Береговые группы уже показались на краю причала. На обед никто и никогда еще в жизни не опаздывал. Я дал команду накрывать праздничный стол.
Через десять минут все восемь человек, кто был в этот день на катере, собрались поближе к еде – в кают-компании за небольшим раскладным столом. Иванов, я подметил, уже был навеселе, видимо, флягу уговорил, пока был на «точке». Второй офицер, Алексей Погодин, разлил по стопкам, и я привстал, чтобы придать торжественности обстановке. Береговые смотрели с удивлением: мол, не поняли, а в честь чего праздник?
– У нашего старшего моториста Крайнего Евгения сегодня день рождения!
Я посмотрел на часы в этот момент чисто машинально, отметил про себя, что обед начался точно в назначенное время – в 14.00.
– Ну, за именинника!! – начал было я, и в этот самый момент палуба ушла из-под ног, и катер неестественно полетел стремительно вниз, потом с рывком остановился, повиснув на швартовых концах. Мы оказались внизу причальной стенки, которая странно оголилась, и я увидел ржавые столбы причала, обычно скрытые под водой. Швартовые канаты натужно заскрипели, носовой конец оборвался, и почти сразу оборвался и кормовой. Катер просто упал на дно реки в грязную жижу, где бились, хватая ртами воздух, две крупные рыбины, по-моему, краснопёрки. Я увидел, что Крайний был почти рядом со мной наверху, а Белов, держа в одной руке половник, балансировал на трапе, схватившись за обрывок швартового конца! Остальные были внизу. Я интуитивно держался за ручку дверцы катерного кокпита правой рукой.
В следующую минуту нас подняла неведомая сила, и мы понеслись вместе с водной массой прямо в русло реки. Я громко крикнул:
– Всем держаться!!!
Однако из горла вырвался только хрип, а через секунду я почувствовал, что проваливаюсь куда-то вниз, в воду, было очень солоно, мокро и меня стремительно потащило неведомым течением обратно – в сторону моря!
Мысль мелькнула: а почему вода в речке солёная? Однако ж, я держусь за ручку двери! А где остальные?
Через какое-то время, может, через три или пять минут, я уже не помнил, но движение остановилось, во рту после резкого выдоха на пределе дыхания и вдоха набилось много водорослей и песка, ощущения неприятные, ведь я барахтался в мокрой штормовой куртке и штанах, в одном сапоге, вторая нога была голая.
После нескольких кувырков удалось просто встать на ноги, оказалось неглубоко – по грудь. Огляделся. Я крепко держал рукой дверь от катерного кокпита за ручку. Мать честная! Вынесло меня от устья реки прилично, но от берега метров двадцать всего, посреди пляжа, вот откуда песок во рту, вокруг все усеяно морской капустой, мусором, какими-то досками и прочим хламом, смытым с береговой черты.
Вот это да! Что это было?! Какой-то катаклизм!
Я с ужасом увидел катер, перевернутый вверх днищем, похоже, на плаву, недалеко от меня. Я не мог ни с чем его перепутать, слишком хорошо знал свой катер и надпись вверх тормашками на борту – «РК-01 Армавир» – сразу узнал.
С тяжелым сердцем потащился к нему, разгребая грудью плавающий везде мусор. Точно, катер был на плаву. Набрав воздух, подсел в воду и пронырнул в кокпит. Тут сразу отлегло: увидел Иванова, Погодина, еще двух матросов из берегового состава – сидят в воздушном пузыре в кают-компании, только вверх ногами или нет – вниз головой, но, в общем, живые и здоровые. Иванов даже пошутил:
– Разрешите доложить, товарищ командир катера! Личный состав береговых партий в полном составе!
Мне было не до шуток! А где же Шуньков, Белов и именинник Крайний? По спине пробежал холодок, я вдруг почувствовал, что сейчас мне хочется только одного – увидеть ребят!
– Сергей Иванович! Выбирайтесь на берег, здесь мелко! Вы – старший!
Эти магические слова на флоте всегда ставили всё на свои места. Иванов с Погодиным зашевелились. Я собрался и вынырнул за пределы катера, предоставив полную свободу движений офицерам.
Мне казалось, я плыву брассом, но со стороны это выглядело, наверное, комично. Тело в погонах старшего лейтенанта на тёмно-синей форменной рубашке двигало руками и ногами практически на месте, в сползающей штормовой куртке. Штормовку я потом снял и тащил за собой, она оказалась очень тяжелой, мех намок, внутри брезентового верха тоже была вода, но я держал её в руках, жалко было казённое имущество бросать. Я выбрался на сушу, скинул сапог, бросил рядом штормовку и только теперь увидел всю «прелесть» окружающего мира.
Прямо у магазина с покосившейся вывеской «Продуктовый магазин» стоял на киле малый рыболовный траулер – так ровно и гордо, словно говорил: «А вот так – можете?»
Вся его подводная часть была грязно-серая, обросшая ракушками, кое-где виднелись помятости, а на самом верху, свесив ноги с борта, сидел человек и грустно смотрел сверху вниз. Картинка, близкая к апокалипсической. Попахивало какой-то химией, сразу определить было невозможно. Что происходит? Мозг рисовал разные сценарии. На рыбном причале было чисто, как на блюдечке. Всё было смыто водой в бухту. Два штабеля разгруженной рыбы в ящиках плавало теперь в бухте кверху пузом! В воде оказались лодки, шлюпки и маленькие катера типа Казанка, все это плавало вверх дном или было разломано и торчало в кучах завалов по сторонам устья реки. Речка, как ни странно, текла себе в бухту, как ни в чём не бывало. Обломки деревянной лодки лежали на плоской крыше магазина. Он, каменный, выстоял.
– Кириллыч!.. – услышал я откуда-то справа и, повернувшись, увидел бредущего по песку пляжа Белова, почему-то по пояс голого, но все-таки живого; на душе уже частично отлегло.
– А где остальные? Саша, как ты?!
Я видел: он в порядке, двинулся ему на встречу и сразу заметил шевеление в куче поломанных рыбных деревянных ящиков вперемешку с кусками белого пенопласта и другого мусора. Появилась знакомая фигура здоровяка Шунькова. Фу-у-у! Стало ещё легче!
– Я здесь! Руке больно в локте, а так всё в порядке!
Алексей Шуньков уже встал на ноги и двинулся к нам.
– О! Смотрите! Циркачи-силачи!
Шуньков показывал пальцем на группу наших в трусах, которые тянули катер за оборванный носовой швартовый конец поближе к берегу. Иванов с Погодиным и матросами, как бурлаки в бухте Валентин, тянули канат, но все напрасно – вес перевёрнутого катера в воде был около трёх тонн, наверное, с места его уже было не сдвинуть. Он застрял метрах в семи - восьми от берега.
– Мужики, бросайте это дело! Кто видел Крайнего? Не дай бог, что могло случиться! Он же самый дохлый из нас!
Наконец собрались все в кучу и осмотрели друг друга. Слава богу, серьезных травм не отмечено. Шуньков, морщась, держался за локоть, однако перелома нам показалось не было, просто сильный ушиб, может, вывих. Постепенно напряжение отпускало, народ начал разговаривать и иронично поглядывать на рыбачков, собирающихся возле своего траулера на берегу.
Стали рассуждать, что делать – надо искать Крайнего или его тело! Если он в воде, то сходу в этой каше его не найти, если на суше, то где? Разбрелись по одну сторону устья реки и пошли веером от берега. Ничего! Моё беспокойство превратилось уже в нервную трясучку! Обошли магазин и окрестности, увидели, как практически рухнуло здание холодильника, куда складывали всю свежую рыбу, как безнадежно разбирали сараи на дальнем конце причала, но Крайнего нигде не было видно!
Неожиданно Саша Белов остановился и сказал:
– Тихо!!! Я что-то слышу!!
И, повернув голову к противоположному берегу речки в районе моста, показал на маленькую фигуру с поднятыми руками. Человек, полностью одетый, в спецовке, держал что-то в одной руке, другой активно махал. Против солнца не было понятно, кто это на той стороне реки нам машет. С другой стороны, было похоже, что это какой-то местный начальник просит нас подойти к нему! Шуньков крикнул своим мощным рыком:
– Крайний, это ты!?
Да, это был Женя, только в чём это он?
Тело начало двигаться к нам, преодолело мост, и мы пошли навстречу. Теперь и я его узнал. Через минуту-две мы уже бежали к нему… Женя, это был он, вытащил руку из-за пазухи и прохрипел:
– Ребята, я её спас!!!
И вытащил наконец… бутылку водки с узнаваемой этикеткой – «Российская»! Бутылка была без пробки!
– Я её, родимую, открыл прямо перед ударом волны и держал другой рукой вот так, чтобы не расплескать или не дай бог не разбить!
Все его куртка и штаны были в засохшей грязи глинистого цвета и качества, ботинки такие же, лицо было поцарапано, но источало гордость, вся его сущность говорила: «Смотрите, я для вас целую бутылку водки спас!»
Оказывается, Женя был выброшен сразу на другой берег реки, и обратной волной его уже зацепило на берегу, протащило чуть-чуть, метров двадцать мордой в глину и – всё. Чудеса да и только. Я подбежал к нему и с лёту схватил за плечи, у меня отлегло совсем!
– А ну-ка, дай!
Я взял бутылку и сделал три полных мощных глотка. Жидкость обожгла гортань, но я не почувствовал, мне было очень хорошо!
По материалам тогдашней прессы.
«…Цунами 1983 года отнесено к категории особо опасного гидрометеорологического явления как для всего побережья Приморского края, так и для залива Петра Великого, в частности. Оно наблюдалось 26 мая 1983 года. Землетрясение, которое вызвало цунами, произошло в 14 часов местного времени в Японском море на глубине 40 км, магнитуда землетрясения – 7,7 баллов. В Японии погибло и пропало без вести более 230 человек…»
«…В бухте Валентин на берег выбросило большой катер, при этом погиб 1 человек, ударом волны было разрушено здание холодильника-рефрижератора, в атмосферу вырвалось 3 кубометра холодильного реагента – аммиака. Было затоплено несколько десятков гектаров сельхозугодий, погибли посевы картофеля и огромное количество кустов шиповника...»
«…Для Приморья это явление оказалось полной неожиданностью. Как отмечено в решении коллегии Госкомгидромета от 22 июня 1983 года, “из-за неверного определения эпицентра землетрясения” вместо Японского моря была объявлена ложная тревога на Тихоокеанском побережье о. Хонсю. Тревога по схеме 2 не объявлялась, поэтому подход волн цунами к побережью Приморского края оказался неожиданным. Предприятиям, расположенным в этих районах, был нанесен существенный ущерб…»
Мы еще не знали и не ведали, что мы подверглись удару самого мощного в истории Приморья цунами, поэтому сидели на берегу, на песке, и заходящее теплое солнышко светило нам в спину.
Связи с «Армавиром» не было – радиостанция на катере промокла полностью, и ее было не включить, да и антенна сломалась. Мы сидели, смеялись, водку мы допили дочиста, нам было легко и весело.
Через четыре часа после событий, уже на борту «Армавира» командир спросил меня:
– А ты саму волну-то цунами видел?!
– А видел ли я цунами? Пожалуй…нет!
Бухта Валентин
Помню, как-то сразу после майских в 1983 году нам поручили небольшую работу по калибровке навигационной системы «Брамс» в бухте Валентин. Я, в то время старший помощник командира на «Армавире», уже опытный (все-таки два года на флоте), с удовольствием готовился к небольшому каботажному рейсу.
Спешки не было, всё было штатно. Пароход-красавец выглядел, как пасхальное яичко, ведь только в феврале вернулись после ремонта, который проходил в Коломбо, столице республики Шри-Ланка. Все системы готовы к походу, деревянная палуба желтела, обработанная регенерацией, которую мы периодически выпрашивали или выменивали у подводников. На верхней палубе всё было выкрашено и блестело еще свежими красками. К плаванию мы были допущены, только что отработали на ходовых испытаниях, предъявились морской инспекции и неторопливо грузили необходимое имущество и провиант.
Ребята с Маневренного отряда гидрографии, сокращенно манотряд, который в то время дислоцировался во Владивостоке, тоже готовились к своей работе, грузили оборудование, материалы, размещались по каютам. Для нас, для экипажа, манотряд – своего рода экспедиционный отряд со своим планом работы, своими правилами и своими «задвигами». В составе экспедиции были пять офицеров, три мичмана и несколько матросов срочной службы. В основном офицеры были знакомы с судном, и период адаптации должен был пройти за пару суток.
Погоды стояли прекрасные – середина мая уже радовала солнышком и теплом. Уже опять хотелось в моря, именно в моря, с ударением на «я», а не в море, как говорят на гражданке. Мы с командиром судна Александром Акимовым за два года уже сработались, нервозности никакой не было, подготовка шла своим чередом и полным ходом. Три недели – не срок, рейс вдоль дальневосточного побережья, никаких приключений не ожидалось.
Помполит (помощник командира судна по политической работе) набрал новеньких фильмов. Как он это делал, мы не понимали, но у нас всегда была самая лучшая коллекция кинокартин, которую мы с удовольствием смотрели всем экипажем по вечерам. Вообще, наш помполит, Давыдкин Виктор Кузьмич, был уникальным человеком – воевал в Отечественную, дошел до Рейхстага, написал на нем белой краской «ДВК», потом много лет ходил на разных судах в Морфлоте, в конце своей карьеры стал помполитом в дивизионе Гидрографии. Лицо, шея и все видимые места рук и ног во все времена у него отливали бронзовым загаром, он много пережил и много мог порассказать; в общем, был легендой.
Кузьмич, так все его называли в экипаже, любил собрать вокруг себя на юте после рабочего дня молодежь и «травил» морские байки, как стояли они на Маршалах или как однажды на одном БГК (большой гидрографический катер) нашему адмиралу Варакину, начальнику Гидрографической службы ТОФ, они поставили «адмирала». Это когда одна пара игроков в «козла» заканчивает кон двумя дупелями: шесть-шесть и пусто-пусто. Это означает конец игре и противнику «ставят адмирала». А противник-то уже адмирал и был! Это было очень обидно и очень редко, но вот случилось-таки.
Отошли (суда отходят от причала) без всяких задержек, по плану и пошли полным ходом в точку назначения – в бухту Валентин. Часов десять неторопливым ходом, и мы на месте. Стали на якорь уже в ночь. Утром, 23 мая, солнечный день давал возможность осмотреть с борта окружающее пространство. Бухта была основана экспедицией Бабкина В.М. в 1860 году и получила своё название в честь великомученика Святого Валентина, а в 1910 году по берегам небольшой речки и вблизи нее образовался поселок с одноименным названием. Здесь располагался хорошо известный в Приморье рыбзавод, в порту базировались небольшие МРТ (малые рыболовные траулеры), суда покрупнее стояли на якорях на рейде.
Для разгрузки рыбы и краба траулеры заходили и швартовались к пирсу прямо в устье реки, которая звалась, конечно, Валентиновкой. Рекой её в полном смысле этого слова назвать было трудно, однако глубина в устье была метра два с половиной, что позволяло небольшим судам и катерам свободно швартоваться и решать в порту все свои задачи.
Это совершенно открытая и живописная бухта имела две вершины. Одна вершина – мелководная, с каменистым дном. Другая – основная, где расположены порт и рыбокомбинат, приглубая, овальная и широкая. Скалистые берега северо-западной оконечности бухты на солнце сверкали причудливыми фигурами каменных изваяний и отрогов, обточенных ветрами и волнами за сотни лет. Говорят, в 50-х годах здесь были обнаружены археологические артефакты и свидетельства древних стоянок.
Маневренный отряд начал готовиться к производству работ. Дело обычное и давно отработанное. Несколько групп высаживались на берег с оборудованием на заранее назначенные, удобные для работы точки, «привязывались» координатами и работали с «Армавиром» по радио, который по определенной траектории двигался и делал соответствующие калибровочные замеры. Работа не очень пыльная, совсем неинтересная, но раз задача поставлена, ее надо выполнять. Так и начали потихоньку работать.
На катере старшим, конечно, старпом! Так было и в тот злополучный день 26 мая. Мне это нравилось, всё – приключение, швартовка в реке, разгрузка-погрузка береговых групп, стоянка у пирса, можно было осмотреть окрестности, погулять по поселку.
Движок на катере шведской марки Volvo-Penta заурчал ровно со старта, и мы, загруженные под завязку, пошли к причалу в порт. Вахтенным мотористом в тот день был старший моторист Крайний Евгений.
– Женя, как системы сегодня? Двигатель завелся с «полтычка», все нормально? – я задал, конечно, риторический вопрос, ведь если бы что-то было ненормальным, Женька бы не толкался в кают-компании, сидел бы уже в машинном. Он был надежным и опытным мотористом. Я поймал его взгляд – мол, чего спрашиваете, сами видите, все в ажуре. Я переключил рычаг управления двигателя на «вперёд полный», двигатель заурчал на повышенной ноте, и все на борту катера затихли, любуясь окружающим водным пространством; «зеркало» – довольно редкое явление, в открытой бухте – полный штиль!
Вошли в устье реки, оно было довольно широким, я бы даже назвал это эстуарием, как писано в учебниках: однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Так оно и было на самом деле. Глубины около 2,5 метров позволяли заходить малым траулерам, вот и мы пришвартовались у края пирса, никому не мешая. Швартовка заняла пять минут, я поставил катер, практически не коснувшись деревянного пирса, матрос Шуньков просто шагнул на пирс и накинул швартовый конец на причальный кнехт. Я увидел, как Шуньков с Крайним переглянулись и одобрительно кивнули мне. Это на нашем языке означало, что швартовка – класс, всё нормально, привязались, стоим хорошо. Манотряд выгрузился, моряки начали перетаскивать имущество на берег.
– Кириллыч, будешь?!
Внизу, в кают-компании катера, начальник партии, капитан 3 ранга Иванов Сергей Иванович вынул плоскую фляжку и разливал в три складных стопочки бесцветную жидкость. Спиртяга, как пить дать, подумал я и сказал:
– Ну еще ведь утро, работать целый день! И давайте не при личном составе! Не, Сергей Иванович, не буду!
Крайний уже спускался в моторный отсек; посмотрел с ухмылкой на офицеров, которые махнули по второй и, закусив солеными огурцами, двинулись на выход, и спросил меня:
– Алексей Кириллович, может, сгонять в «магаз», мы с Шуньковым мигом!
– Отставить «магаз», Крайний, начинаем работу!
Я вызвал «Армавир»; связь была отличная, погода «шептала». Иванов и сотоварищи скакнули на пирс и бойко пошли догонять своих.
– Женя, откуда такая прыть! Мы не экспедиция, мы – экипаж, нам с тобой работать еще!
– А у меня сегодня день рождения, Алексей Кириллович!
Вот, подумал я, помполит Кузьмич опять проспал всё, зачем на вахту взяли моториста-именинника? Именно помполит должен был следить, напоминать и организовывать поздравления членов экипажа, обычно именинников щадили и Крайнего, конечно, сегодня бы освободили от вахты на катере. Ну, чего уж теперь – вышло как вышло!
– Евгений Саныч, ну, тогда с днем рождения! Прими от нас поздравления, а подарок, когда вернемся на «Армавир», получишь!
Я подумал, что надо как-то скрасить момент, и сказал ребятам:
– Женя, Алексей (это Шуньков), давайте заканчивайте прибираться, шуруйте действительно в магазин, купите чего-нибудь вкусненького к обеду, день рождения все-таки!
Старший матрос Саша Белов уже занимался обедом, он это делал с удовольствием, потому что когда-то окончил кулинарный техникум в Находке. Крайний с Шуньковым пошли к магазину и явно не без удовольствия. Я огляделся кругом: недалеко с траулера шла выгрузка рыбы, решил – пойду, посмотрю, время есть.
А ты волну Цунами видел?
Рыболовный траулер был совсем маленький, чуть больше нашего рабочего гидрографического катера. Рыбаки в тёмно-серых прорезиненных костюмах перегружали рыбу из трюма на причал, сразу фасуя её по деревянным ящикам. На пирсе росла гора из ящиков с рыбой, которые на погрузчике перевозили, видимо, в холодильник. Народу было немного, всего человек десять, работали молча. Да, тоскливо у них тут, подумал я. Невдалеке была слышна музыка, наверное, из магазинного динамика, который виднелся на углу здания. Там была еще небольшая группа разношерстных покупателей да, в общем, и всё. Левый берег речки – это рыбокомбинат, здания которого виднелись еще подальше от холодильника, там никого не наблюдалось. Поселок начинался еще дальше, в нескольких сотнях метров по дороге от комбината. Через мостик на левый берег речки лениво тащилась парочка с надувным матрасом, видимо, шли купаться на пляж. Вот, собственно, и вся история, как говорят. Больше смотреть не на что!
Так неторопливо подошло время обеда. Ребята набрали в магазине всякой снеди, праздничный обед должен был быть на славу! Береговые группы уже показались на краю причала. На обед никто и никогда еще в жизни не опаздывал. Я дал команду накрывать праздничный стол.
Через десять минут все восемь человек, кто был в этот день на катере, собрались поближе к еде – в кают-компании за небольшим раскладным столом. Иванов, я подметил, уже был навеселе, видимо, флягу уговорил, пока был на «точке». Второй офицер, Алексей Погодин, разлил по стопкам, и я привстал, чтобы придать торжественности обстановке. Береговые смотрели с удивлением: мол, не поняли, а в честь чего праздник?
– У нашего старшего моториста Крайнего Евгения сегодня день рождения!
Я посмотрел на часы в этот момент чисто машинально, отметил про себя, что обед начался точно в назначенное время – в 14.00.
– Ну, за именинника!! – начал было я, и в этот самый момент палуба ушла из-под ног, и катер неестественно полетел стремительно вниз, потом с рывком остановился, повиснув на швартовых концах. Мы оказались внизу причальной стенки, которая странно оголилась, и я увидел ржавые столбы причала, обычно скрытые под водой. Швартовые канаты натужно заскрипели, носовой конец оборвался, и почти сразу оборвался и кормовой. Катер просто упал на дно реки в грязную жижу, где бились, хватая ртами воздух, две крупные рыбины, по-моему, краснопёрки. Я увидел, что Крайний был почти рядом со мной наверху, а Белов, держа в одной руке половник, балансировал на трапе, схватившись за обрывок швартового конца! Остальные были внизу. Я интуитивно держался за ручку дверцы катерного кокпита правой рукой.
В следующую минуту нас подняла неведомая сила, и мы понеслись вместе с водной массой прямо в русло реки. Я громко крикнул:
– Всем держаться!!!
Однако из горла вырвался только хрип, а через секунду я почувствовал, что проваливаюсь куда-то вниз, в воду, было очень солоно, мокро и меня стремительно потащило неведомым течением обратно – в сторону моря!
Мысль мелькнула: а почему вода в речке солёная? Однако ж, я держусь за ручку двери! А где остальные?
Через какое-то время, может, через три или пять минут, я уже не помнил, но движение остановилось, во рту после резкого выдоха на пределе дыхания и вдоха набилось много водорослей и песка, ощущения неприятные, ведь я барахтался в мокрой штормовой куртке и штанах, в одном сапоге, вторая нога была голая.
После нескольких кувырков удалось просто встать на ноги, оказалось неглубоко – по грудь. Огляделся. Я крепко держал рукой дверь от катерного кокпита за ручку. Мать честная! Вынесло меня от устья реки прилично, но от берега метров двадцать всего, посреди пляжа, вот откуда песок во рту, вокруг все усеяно морской капустой, мусором, какими-то досками и прочим хламом, смытым с береговой черты.
Вот это да! Что это было?! Какой-то катаклизм!
Я с ужасом увидел катер, перевернутый вверх днищем, похоже, на плаву, недалеко от меня. Я не мог ни с чем его перепутать, слишком хорошо знал свой катер и надпись вверх тормашками на борту – «РК-01 Армавир» – сразу узнал.
С тяжелым сердцем потащился к нему, разгребая грудью плавающий везде мусор. Точно, катер был на плаву. Набрав воздух, подсел в воду и пронырнул в кокпит. Тут сразу отлегло: увидел Иванова, Погодина, еще двух матросов из берегового состава – сидят в воздушном пузыре в кают-компании, только вверх ногами или нет – вниз головой, но, в общем, живые и здоровые. Иванов даже пошутил:
– Разрешите доложить, товарищ командир катера! Личный состав береговых партий в полном составе!
Мне было не до шуток! А где же Шуньков, Белов и именинник Крайний? По спине пробежал холодок, я вдруг почувствовал, что сейчас мне хочется только одного – увидеть ребят!
– Сергей Иванович! Выбирайтесь на берег, здесь мелко! Вы – старший!
Эти магические слова на флоте всегда ставили всё на свои места. Иванов с Погодиным зашевелились. Я собрался и вынырнул за пределы катера, предоставив полную свободу движений офицерам.
Мне казалось, я плыву брассом, но со стороны это выглядело, наверное, комично. Тело в погонах старшего лейтенанта на тёмно-синей форменной рубашке двигало руками и ногами практически на месте, в сползающей штормовой куртке. Штормовку я потом снял и тащил за собой, она оказалась очень тяжелой, мех намок, внутри брезентового верха тоже была вода, но я держал её в руках, жалко было казённое имущество бросать. Я выбрался на сушу, скинул сапог, бросил рядом штормовку и только теперь увидел всю «прелесть» окружающего мира.
Прямо у магазина с покосившейся вывеской «Продуктовый магазин» стоял на киле малый рыболовный траулер – так ровно и гордо, словно говорил: «А вот так – можете?»
Вся его подводная часть была грязно-серая, обросшая ракушками, кое-где виднелись помятости, а на самом верху, свесив ноги с борта, сидел человек и грустно смотрел сверху вниз. Картинка, близкая к апокалипсической. Попахивало какой-то химией, сразу определить было невозможно. Что происходит? Мозг рисовал разные сценарии. На рыбном причале было чисто, как на блюдечке. Всё было смыто водой в бухту. Два штабеля разгруженной рыбы в ящиках плавало теперь в бухте кверху пузом! В воде оказались лодки, шлюпки и маленькие катера типа Казанка, все это плавало вверх дном или было разломано и торчало в кучах завалов по сторонам устья реки. Речка, как ни странно, текла себе в бухту, как ни в чём не бывало. Обломки деревянной лодки лежали на плоской крыше магазина. Он, каменный, выстоял.
– Кириллыч!.. – услышал я откуда-то справа и, повернувшись, увидел бредущего по песку пляжа Белова, почему-то по пояс голого, но все-таки живого; на душе уже частично отлегло.
– А где остальные? Саша, как ты?!
Я видел: он в порядке, двинулся ему на встречу и сразу заметил шевеление в куче поломанных рыбных деревянных ящиков вперемешку с кусками белого пенопласта и другого мусора. Появилась знакомая фигура здоровяка Шунькова. Фу-у-у! Стало ещё легче!
– Я здесь! Руке больно в локте, а так всё в порядке!
Алексей Шуньков уже встал на ноги и двинулся к нам.
– О! Смотрите! Циркачи-силачи!
Шуньков показывал пальцем на группу наших в трусах, которые тянули катер за оборванный носовой швартовый конец поближе к берегу. Иванов с Погодиным и матросами, как бурлаки в бухте Валентин, тянули канат, но все напрасно – вес перевёрнутого катера в воде был около трёх тонн, наверное, с места его уже было не сдвинуть. Он застрял метрах в семи - восьми от берега.
– Мужики, бросайте это дело! Кто видел Крайнего? Не дай бог, что могло случиться! Он же самый дохлый из нас!
Наконец собрались все в кучу и осмотрели друг друга. Слава богу, серьезных травм не отмечено. Шуньков, морщась, держался за локоть, однако перелома нам показалось не было, просто сильный ушиб, может, вывих. Постепенно напряжение отпускало, народ начал разговаривать и иронично поглядывать на рыбачков, собирающихся возле своего траулера на берегу.
Стали рассуждать, что делать – надо искать Крайнего или его тело! Если он в воде, то сходу в этой каше его не найти, если на суше, то где? Разбрелись по одну сторону устья реки и пошли веером от берега. Ничего! Моё беспокойство превратилось уже в нервную трясучку! Обошли магазин и окрестности, увидели, как практически рухнуло здание холодильника, куда складывали всю свежую рыбу, как безнадежно разбирали сараи на дальнем конце причала, но Крайнего нигде не было видно!
Неожиданно Саша Белов остановился и сказал:
– Тихо!!! Я что-то слышу!!
И, повернув голову к противоположному берегу речки в районе моста, показал на маленькую фигуру с поднятыми руками. Человек, полностью одетый, в спецовке, держал что-то в одной руке, другой активно махал. Против солнца не было понятно, кто это на той стороне реки нам машет. С другой стороны, было похоже, что это какой-то местный начальник просит нас подойти к нему! Шуньков крикнул своим мощным рыком:
– Крайний, это ты!?
Да, это был Женя, только в чём это он?
Тело начало двигаться к нам, преодолело мост, и мы пошли навстречу. Теперь и я его узнал. Через минуту-две мы уже бежали к нему… Женя, это был он, вытащил руку из-за пазухи и прохрипел:
– Ребята, я её спас!!!
И вытащил наконец… бутылку водки с узнаваемой этикеткой – «Российская»! Бутылка была без пробки!
– Я её, родимую, открыл прямо перед ударом волны и держал другой рукой вот так, чтобы не расплескать или не дай бог не разбить!
Все его куртка и штаны были в засохшей грязи глинистого цвета и качества, ботинки такие же, лицо было поцарапано, но источало гордость, вся его сущность говорила: «Смотрите, я для вас целую бутылку водки спас!»
Оказывается, Женя был выброшен сразу на другой берег реки, и обратной волной его уже зацепило на берегу, протащило чуть-чуть, метров двадцать мордой в глину и – всё. Чудеса да и только. Я подбежал к нему и с лёту схватил за плечи, у меня отлегло совсем!
– А ну-ка, дай!
Я взял бутылку и сделал три полных мощных глотка. Жидкость обожгла гортань, но я не почувствовал, мне было очень хорошо!
По материалам тогдашней прессы.
«…Цунами 1983 года отнесено к категории особо опасного гидрометеорологического явления как для всего побережья Приморского края, так и для залива Петра Великого, в частности. Оно наблюдалось 26 мая 1983 года. Землетрясение, которое вызвало цунами, произошло в 14 часов местного времени в Японском море на глубине 40 км, магнитуда землетрясения – 7,7 баллов. В Японии погибло и пропало без вести более 230 человек…»
«…В бухте Валентин на берег выбросило большой катер, при этом погиб 1 человек, ударом волны было разрушено здание холодильника-рефрижератора, в атмосферу вырвалось 3 кубометра холодильного реагента – аммиака. Было затоплено несколько десятков гектаров сельхозугодий, погибли посевы картофеля и огромное количество кустов шиповника...»
«…Для Приморья это явление оказалось полной неожиданностью. Как отмечено в решении коллегии Госкомгидромета от 22 июня 1983 года, “из-за неверного определения эпицентра землетрясения” вместо Японского моря была объявлена ложная тревога на Тихоокеанском побережье о. Хонсю. Тревога по схеме 2 не объявлялась, поэтому подход волн цунами к побережью Приморского края оказался неожиданным. Предприятиям, расположенным в этих районах, был нанесен существенный ущерб…»
Мы еще не знали и не ведали, что мы подверглись удару самого мощного в истории Приморья цунами, поэтому сидели на берегу, на песке, и заходящее теплое солнышко светило нам в спину.
Связи с «Армавиром» не было – радиостанция на катере промокла полностью, и ее было не включить, да и антенна сломалась. Мы сидели, смеялись, водку мы допили дочиста, нам было легко и весело.
Через четыре часа после событий, уже на борту «Армавира» командир спросил меня:
– А ты саму волну-то цунами видел?!
– А видел ли я цунами? Пожалуй…нет!

Виктор НИКИФОРОВ
По профессии – врач, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Доктор медицинских наук, профессор, автор научных и научно-популярных работ. На протяжении многих лет пишет стихи и прозу. Дипломант Всероссийского Пушкинского студенческого конкурса поэзии (1996). Издана книга стихов и песен «На рубеже веков и судеб» (2000). Литературные произведения неоднократно публиковались в периодических изданиях.
По профессии – врач, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Доктор медицинских наук, профессор, автор научных и научно-популярных работ. На протяжении многих лет пишет стихи и прозу. Дипломант Всероссийского Пушкинского студенческого конкурса поэзии (1996). Издана книга стихов и песен «На рубеже веков и судеб» (2000). Литературные произведения неоднократно публиковались в периодических изданиях.
ВЫСОЦКИЙ В ЛЕНИНГРАДЕ ИЛИ ПРИЧУДЫ ПАМЯТИ
По опросам общественного мнения, проводившимся в России в начале XXI века о людях, определивших историю века ушедшего и оставшихся в памяти кумирами прошлой эпохи, вторым в неофициальном рейтинге популярности у жителей страны после первого космонавта Земли Юрия Гагарина стал Владимир Высоцкий.
Не получив при жизни официального признания в качестве поэта, de facto он стал русским поэтом номер один второй половины XX века, отразив в своих стихах и песнях бытовые, трагические и героические стороны советской эпохи. Острый актёрский талант и неповторимые вокальные данные Высоцкого помогли сделать его творчество понятным, любимым и в конечном счёте близким народу.
Всенародная слава способствовала тому, что после смерти кумира возник феномен «друзей Высоцкого»: многие стали писать воспоминания и давать о нём интервью, даже те, кто с ним был едва знаком. Правда, как писала Марина Влади: «У Володи было много друзей. Одни встречались с ним каждый день, другим лишь удавалось иногда попасть на его концерты, третьи только слушали магнитофонные записи. Но все они были друзьями…»
И с этим нельзя не согласиться. У каждого поклонника творчества Высоцкого в памяти сохраняется свой образ этого поэта, певца и актёра. Так же, как в любом уголке страны, куда Высоцкий приезжал с гастролями, концертами или на съёмки фильмов, возникали о нём свои, дополняющие его биографию новыми фактами, истории.
Особую, судьбоносную роль в жизни Высоцкого сыграл город на Неве. Здесь состоялись первая видеозапись концертного выступления Высоцкого для документального фильма «Срочно требуется песня» (режиссёр С. Чаплин, 1967 г.) и последняя концертная видеозапись в апреле 1980 г. в здании БДТ (режиссёр В. Виноградов).
В Ленинграде Высоцкий сделал предложение своей второй жене Людмиле Абрамовой и сюда же неоднократно приезжал с другой супругой – Мариной Влади. «Здесь у нас много друзей – писателей, композиторов, художников. Мы проводим нескончаемые белые ночи в прогулках по проспектам, огибающим роскошные дворцы. Мы подолгу останавливаемся перед Адмиралтейством, где заседал некогда мой прадед – адмирал Балтийского флота. Тебе не надоедают мои рассказы, ты гордишься тем, что мои корни так глубоко уходят в русскую землю, твои друзья тоже слушают с интересом», – писала Марина Влади.
Сам Высоцкий связывал с городом на Неве начало своего песенного творчества. «Я когда-то давно услышал – во время съёмок в Ленинграде, по-моему, даже это было – услышал, как Булат Окуджава поёт свои стихи. И меня тогда поразило», – вспоминал он в 1979 году. «Я первую песню свою написал в Ленинграде…» – рассказывал Высоцкий про песню «Татуировка» в интервью в бардовском клубе «Восток» в 1967 году.
Почему же Высоцкий в интервью подчеркивал связь начала своего песенного творчества с городом на Неве? Позволю себе предположить, что для Высоцкого этот город, прежде всего, олицетворялся с его любимым поэтом – А.С. Пушкиным. Марина Влади удивлённо и восторженно писала об увлечении Высоцкого: «Единственный поэт, портрет которого стоит у тебя на столе, – это Пушкин. Единственные книги, которые ты хранишь и время от времени перечитываешь, – это книги Пушкина. Единственный человек, которого ты цитируешь наизусть, – это Пушкин. Единственный музей, в котором ты бываешь, – это музей Пушкина. Единственный памятник, к которому ты приносишь цветы, – это памятник Пушкину. Единственная посмертная маска, которую ты держишь у себя на столе, – это маска Пушкина. Твоя последняя роль – Дон Гуан в «Каменном госте». Ты говоришь, что Пушкин один вмещает в себя все русское Возрождение. Он – мученик, как и ты, тебе известна каждая подробность его жизни, ты любишь людей, которые его любили, ты ненавидишь тех, кто делал ему зло, ты оплакиваешь его смерть, как будто он погиб совсем недавно. Если воспользоваться словами Булгакова, ты носишь его в себе. Он – твой кумир, в нем соединились все духовные и поэтические качества, которыми ты хотел бы обладать».
Как вспоминал К. Ласкари, во время первых гастролей Театра на Таганке в Ленинграде в 1965 году, когда после вечернего домашнего концерта под утро они шли по городским улицам, «дружные, пьяные счастьем актёрской молодости и очарованием города», то Высоцкий экспромтом в шутку перефразировал пушкинские строки:
Люблю тебя, Петра творенье!
Вот это да! – стихотворенье…
Символично, что в 1976 году Высоцкий захотел со своими друзьями встретить День Лицея, 19 октября, в Царском Селе. Актёр Всеволод Абдулов вспоминал: «…Нам разрешили посидеть за партой Поэта, показали всё, что можно было показать. И слова здесь, в стенах Лицея, звучали музыкой, отражённой от старых стен, как от прошлого времени. Эхо пушкинских дней. И мы молчали наедине с Пушкиным, и расставание было нелёгким. Володя в пояс поклонился нашей доброй спутнице, поцеловал ей руку».
Наиболее полно пребывание в Ленинграде Высоцкого рассмотрено в книгах Марка Цыбульского «Владимир Высоцкий в Ленинграде» и Льва Годованника «Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого». Среди множества содержащихся в них воспоминаний современников обращают на себя внимание те из них, которые содержат противоречивые сведения, что нельзя назвать иначе, как «причудами памяти». «В литературе о Высоцком так бывает часто – разным людям запомнились разные вещи», – замечает М. Цыбульский. Позволю себе упомянуть о некоторых таких историях.
Вспоминая выступление в ленинградском клубе авторской песни «Восток», бард В. Туриянский говорил: «Выяснилось, что двадцать пять лет назад я пел с Высоцким в этом зале. В первом отделении нас было, кажется, трое: Кукин, Полоскин и я; а во втором отделении – один Высоцкий <…> Вот тогда-то мы и познакомились». Но, как отмечает автор книги М. Цыбульский, на самом деле всё было не так, и это зафиксировала фонограмма. Высоцкий выступал в первом отделении, а во втором пели ленинградский бард В. Сачковский и москвич В. Туриянский.
В 1972 году во время неофициального концерта Высоцкого в ленинградском Дворце культуры имени Кирова, директор ДК, которого не предупредили об этом мероприятии, потребовал его прекращения. Тогда организатор концерта Эдуард Крейнин, по его словам, написал Высоцкому записку о том, что в зале скоро должно состояться профсоюзное собрание. Высоцкий якобы догадался об истинной причине и быстро завершил концерт. Однако ленинградский фотограф Семён Товгер, провожавший после концерта Высоцкого, опроверг эту версию, сказав, что концерт был полноценный, а Высоцкий ушел чуть раньше, потому что спешил.
По-разному выглядят воспоминания о приглашении Высоцкого на съемки на Ленфильме. Режиссёр И. Хейфец позднее писал: «Когда в начале семьдесят второго года я искал исполнителя роли фон Корена для своего фильма по чеховской «Дуэли», я вспомнил о Высоцком». Второй режиссёр фильма Е. Татарский иначе описывал приглашение актёра: «Когда в 1971 году мы начали работать над картиной «Плохой хороший человек», у меня возникла идея снимать вместе Даля и Высоцкого, и я предложил её Иосифу Ефимовичу Хейфицу. Тому идея понравилась. Были фотопробы, кинопробы, и в результате Володя оказался на одной из главных ролей».
Разные взгляды на одну и ту же встречу Высоцкого и Аркадия Райкина в Ленинграде высказывали очевидцы события А. Кусков, Е. Бащинский и Г. Левина. Так А. Кусков утверждал, что по просьбе А. Райкина встретился с Высоцким во время гастролей в Ленинграде Театра на Таганке и пригласил к А. Райкину в гости. В противоположность ему, Е. Бащинский вспоминал, что А. Кускову пригласить Высоцкого не удалось, поэтому приглашать пришлось ему, Е. Бащинскому. А Г. Левина утверждала, что Аркадий Райкин лично пригласил Высоцкого, однако её участие во встрече Высоцкого и Райкина категорически отрицал Е. Бащинский.
Не менее запутанная история о том, кому посвящена песня Высоцкого «Скалолазка». Участвовавшая в фильме «Вертикаль» инструктор по альпинизму С. Лепко в беседе с петербургским журналистом В. Желтовым сказала, что песня посвящена ей. Однако другая альпинистка, тоже участвовавшая в съёмках картины, М. Готовцева считала, что именно она стала той, кому автор посвятил «Скалолазку». Актриса М. Кошелева, сыгравшая роль альпинистки, отрицая чужие версии, утверждала: «Пусть говорят, что хотят, но Володя сам мне сказал, что песня посвящена мне».
Конечно, как справедливо заметил Л. Годованник по поводу противоречий в воспоминаниях, «по прошествии времени те события могли немного подзабыться у всех их участников. Кроме того, кто-то мог что-то и додумать: память – штука коварная и непредсказуемая».
Иногда я задумываюсь о том, что Высоцкий был моим современником. Он неоднократно приезжал в Ленинград, и я мог случайно встретить его в городе.
О возможности подобной встречи свидетельствует рассказ журналиста В. Желтова о барде Михаиле Кане. Когда в один из дней в 1976 году в Ленинграде «Михаил Азриельевич [Кане] зашёл перекусить в молочное кафе «Ленинград» (Невский проспект, дом 96)», то «очень удивился, увидев за столиком никем не узнаваемого «всенародно прославленного» В. Высоцкого. Высоцкий был один. «Поговорили о чём-то и разошлись».
Правда, причуды памяти, как мы знаем, могут сыграть злую шутку. И всё же иногда хочется верить, что встреча была, а, значит, рассказать о ней. Так поступил Сергей Довлатов, описав в рассказе «Судьба» возможную встречу в детстве с писателем Андреем Платоновым, как реально произошедшую.
Прочитав историю о М. Кане, я подумал: где же я мог встретить Высоцкого? И сразу нашёлся ответ: конечно, на Невском проспекте…
Мне представляется, как он идёт навстречу, неузнаваемый прохожими. Он почему-то задумчив: то ли его внимание поглощает новый ритм песни, то ли новые стихотворные строчки. И вдруг его взгляд останавливается на лице ребёнка, идущего навстречу, с любопытством рассматривающего окружающих. Высоцкий улыбается и подмигивает мальчишке.
Как сказал Довлатов: «Было ли всё так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи…»
По опросам общественного мнения, проводившимся в России в начале XXI века о людях, определивших историю века ушедшего и оставшихся в памяти кумирами прошлой эпохи, вторым в неофициальном рейтинге популярности у жителей страны после первого космонавта Земли Юрия Гагарина стал Владимир Высоцкий.
Не получив при жизни официального признания в качестве поэта, de facto он стал русским поэтом номер один второй половины XX века, отразив в своих стихах и песнях бытовые, трагические и героические стороны советской эпохи. Острый актёрский талант и неповторимые вокальные данные Высоцкого помогли сделать его творчество понятным, любимым и в конечном счёте близким народу.
Всенародная слава способствовала тому, что после смерти кумира возник феномен «друзей Высоцкого»: многие стали писать воспоминания и давать о нём интервью, даже те, кто с ним был едва знаком. Правда, как писала Марина Влади: «У Володи было много друзей. Одни встречались с ним каждый день, другим лишь удавалось иногда попасть на его концерты, третьи только слушали магнитофонные записи. Но все они были друзьями…»
И с этим нельзя не согласиться. У каждого поклонника творчества Высоцкого в памяти сохраняется свой образ этого поэта, певца и актёра. Так же, как в любом уголке страны, куда Высоцкий приезжал с гастролями, концертами или на съёмки фильмов, возникали о нём свои, дополняющие его биографию новыми фактами, истории.
Особую, судьбоносную роль в жизни Высоцкого сыграл город на Неве. Здесь состоялись первая видеозапись концертного выступления Высоцкого для документального фильма «Срочно требуется песня» (режиссёр С. Чаплин, 1967 г.) и последняя концертная видеозапись в апреле 1980 г. в здании БДТ (режиссёр В. Виноградов).
В Ленинграде Высоцкий сделал предложение своей второй жене Людмиле Абрамовой и сюда же неоднократно приезжал с другой супругой – Мариной Влади. «Здесь у нас много друзей – писателей, композиторов, художников. Мы проводим нескончаемые белые ночи в прогулках по проспектам, огибающим роскошные дворцы. Мы подолгу останавливаемся перед Адмиралтейством, где заседал некогда мой прадед – адмирал Балтийского флота. Тебе не надоедают мои рассказы, ты гордишься тем, что мои корни так глубоко уходят в русскую землю, твои друзья тоже слушают с интересом», – писала Марина Влади.
Сам Высоцкий связывал с городом на Неве начало своего песенного творчества. «Я когда-то давно услышал – во время съёмок в Ленинграде, по-моему, даже это было – услышал, как Булат Окуджава поёт свои стихи. И меня тогда поразило», – вспоминал он в 1979 году. «Я первую песню свою написал в Ленинграде…» – рассказывал Высоцкий про песню «Татуировка» в интервью в бардовском клубе «Восток» в 1967 году.
Почему же Высоцкий в интервью подчеркивал связь начала своего песенного творчества с городом на Неве? Позволю себе предположить, что для Высоцкого этот город, прежде всего, олицетворялся с его любимым поэтом – А.С. Пушкиным. Марина Влади удивлённо и восторженно писала об увлечении Высоцкого: «Единственный поэт, портрет которого стоит у тебя на столе, – это Пушкин. Единственные книги, которые ты хранишь и время от времени перечитываешь, – это книги Пушкина. Единственный человек, которого ты цитируешь наизусть, – это Пушкин. Единственный музей, в котором ты бываешь, – это музей Пушкина. Единственный памятник, к которому ты приносишь цветы, – это памятник Пушкину. Единственная посмертная маска, которую ты держишь у себя на столе, – это маска Пушкина. Твоя последняя роль – Дон Гуан в «Каменном госте». Ты говоришь, что Пушкин один вмещает в себя все русское Возрождение. Он – мученик, как и ты, тебе известна каждая подробность его жизни, ты любишь людей, которые его любили, ты ненавидишь тех, кто делал ему зло, ты оплакиваешь его смерть, как будто он погиб совсем недавно. Если воспользоваться словами Булгакова, ты носишь его в себе. Он – твой кумир, в нем соединились все духовные и поэтические качества, которыми ты хотел бы обладать».
Как вспоминал К. Ласкари, во время первых гастролей Театра на Таганке в Ленинграде в 1965 году, когда после вечернего домашнего концерта под утро они шли по городским улицам, «дружные, пьяные счастьем актёрской молодости и очарованием города», то Высоцкий экспромтом в шутку перефразировал пушкинские строки:
Люблю тебя, Петра творенье!
Вот это да! – стихотворенье…
Символично, что в 1976 году Высоцкий захотел со своими друзьями встретить День Лицея, 19 октября, в Царском Селе. Актёр Всеволод Абдулов вспоминал: «…Нам разрешили посидеть за партой Поэта, показали всё, что можно было показать. И слова здесь, в стенах Лицея, звучали музыкой, отражённой от старых стен, как от прошлого времени. Эхо пушкинских дней. И мы молчали наедине с Пушкиным, и расставание было нелёгким. Володя в пояс поклонился нашей доброй спутнице, поцеловал ей руку».
Наиболее полно пребывание в Ленинграде Высоцкого рассмотрено в книгах Марка Цыбульского «Владимир Высоцкий в Ленинграде» и Льва Годованника «Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого». Среди множества содержащихся в них воспоминаний современников обращают на себя внимание те из них, которые содержат противоречивые сведения, что нельзя назвать иначе, как «причудами памяти». «В литературе о Высоцком так бывает часто – разным людям запомнились разные вещи», – замечает М. Цыбульский. Позволю себе упомянуть о некоторых таких историях.
Вспоминая выступление в ленинградском клубе авторской песни «Восток», бард В. Туриянский говорил: «Выяснилось, что двадцать пять лет назад я пел с Высоцким в этом зале. В первом отделении нас было, кажется, трое: Кукин, Полоскин и я; а во втором отделении – один Высоцкий <…> Вот тогда-то мы и познакомились». Но, как отмечает автор книги М. Цыбульский, на самом деле всё было не так, и это зафиксировала фонограмма. Высоцкий выступал в первом отделении, а во втором пели ленинградский бард В. Сачковский и москвич В. Туриянский.
В 1972 году во время неофициального концерта Высоцкого в ленинградском Дворце культуры имени Кирова, директор ДК, которого не предупредили об этом мероприятии, потребовал его прекращения. Тогда организатор концерта Эдуард Крейнин, по его словам, написал Высоцкому записку о том, что в зале скоро должно состояться профсоюзное собрание. Высоцкий якобы догадался об истинной причине и быстро завершил концерт. Однако ленинградский фотограф Семён Товгер, провожавший после концерта Высоцкого, опроверг эту версию, сказав, что концерт был полноценный, а Высоцкий ушел чуть раньше, потому что спешил.
По-разному выглядят воспоминания о приглашении Высоцкого на съемки на Ленфильме. Режиссёр И. Хейфец позднее писал: «Когда в начале семьдесят второго года я искал исполнителя роли фон Корена для своего фильма по чеховской «Дуэли», я вспомнил о Высоцком». Второй режиссёр фильма Е. Татарский иначе описывал приглашение актёра: «Когда в 1971 году мы начали работать над картиной «Плохой хороший человек», у меня возникла идея снимать вместе Даля и Высоцкого, и я предложил её Иосифу Ефимовичу Хейфицу. Тому идея понравилась. Были фотопробы, кинопробы, и в результате Володя оказался на одной из главных ролей».
Разные взгляды на одну и ту же встречу Высоцкого и Аркадия Райкина в Ленинграде высказывали очевидцы события А. Кусков, Е. Бащинский и Г. Левина. Так А. Кусков утверждал, что по просьбе А. Райкина встретился с Высоцким во время гастролей в Ленинграде Театра на Таганке и пригласил к А. Райкину в гости. В противоположность ему, Е. Бащинский вспоминал, что А. Кускову пригласить Высоцкого не удалось, поэтому приглашать пришлось ему, Е. Бащинскому. А Г. Левина утверждала, что Аркадий Райкин лично пригласил Высоцкого, однако её участие во встрече Высоцкого и Райкина категорически отрицал Е. Бащинский.
Не менее запутанная история о том, кому посвящена песня Высоцкого «Скалолазка». Участвовавшая в фильме «Вертикаль» инструктор по альпинизму С. Лепко в беседе с петербургским журналистом В. Желтовым сказала, что песня посвящена ей. Однако другая альпинистка, тоже участвовавшая в съёмках картины, М. Готовцева считала, что именно она стала той, кому автор посвятил «Скалолазку». Актриса М. Кошелева, сыгравшая роль альпинистки, отрицая чужие версии, утверждала: «Пусть говорят, что хотят, но Володя сам мне сказал, что песня посвящена мне».
Конечно, как справедливо заметил Л. Годованник по поводу противоречий в воспоминаниях, «по прошествии времени те события могли немного подзабыться у всех их участников. Кроме того, кто-то мог что-то и додумать: память – штука коварная и непредсказуемая».
Иногда я задумываюсь о том, что Высоцкий был моим современником. Он неоднократно приезжал в Ленинград, и я мог случайно встретить его в городе.
О возможности подобной встречи свидетельствует рассказ журналиста В. Желтова о барде Михаиле Кане. Когда в один из дней в 1976 году в Ленинграде «Михаил Азриельевич [Кане] зашёл перекусить в молочное кафе «Ленинград» (Невский проспект, дом 96)», то «очень удивился, увидев за столиком никем не узнаваемого «всенародно прославленного» В. Высоцкого. Высоцкий был один. «Поговорили о чём-то и разошлись».
Правда, причуды памяти, как мы знаем, могут сыграть злую шутку. И всё же иногда хочется верить, что встреча была, а, значит, рассказать о ней. Так поступил Сергей Довлатов, описав в рассказе «Судьба» возможную встречу в детстве с писателем Андреем Платоновым, как реально произошедшую.
Прочитав историю о М. Кане, я подумал: где же я мог встретить Высоцкого? И сразу нашёлся ответ: конечно, на Невском проспекте…
Мне представляется, как он идёт навстречу, неузнаваемый прохожими. Он почему-то задумчив: то ли его внимание поглощает новый ритм песни, то ли новые стихотворные строчки. И вдруг его взгляд останавливается на лице ребёнка, идущего навстречу, с любопытством рассматривающего окружающих. Высоцкий улыбается и подмигивает мальчишке.
Как сказал Довлатов: «Было ли всё так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи…»
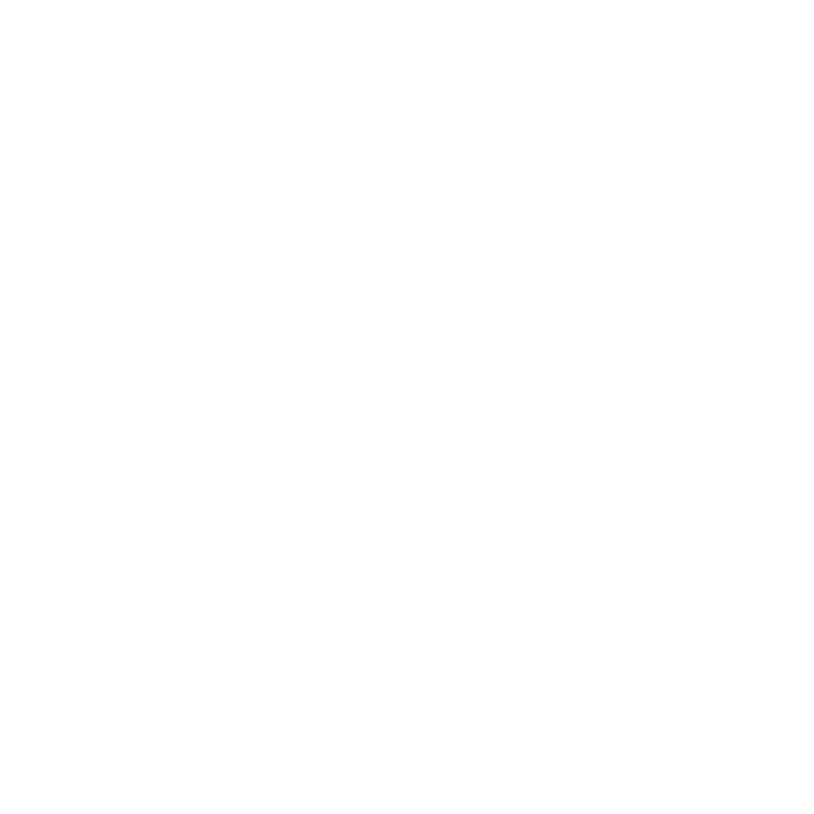
Вячеслав ШАБАЛИН
Родом из Германии, где проходил службу отец. Потом – Смоленск, там закончил медицинский институт в 1980 году. Трудился педиатром, а затем анестезиологом в Вологодской области. Далее – Ярославль. Работа в больнице, позднее на кафедре факультетской хирургии медицинского института. Кандидатская диссертация в 1990, а в 1999 году – докторская. Доктор наук. Профессор. Поработал и в исполнительной власти, и экстренной медицине. Ещё в Смоленске участвовал в студенческом театре «Эскулап».
Родом из Германии, где проходил службу отец. Потом – Смоленск, там закончил медицинский институт в 1980 году. Трудился педиатром, а затем анестезиологом в Вологодской области. Далее – Ярославль. Работа в больнице, позднее на кафедре факультетской хирургии медицинского института. Кандидатская диссертация в 1990, а в 1999 году – докторская. Доктор наук. Профессор. Поработал и в исполнительной власти, и экстренной медицине. Ещё в Смоленске участвовал в студенческом театре «Эскулап».
ТАК ГОВОРИЛ МИХАЛЫЧ
Жизнеописание доцента кафедры судебной медицины
Михалыча в новеллах по данным протоколов
и воспоминаний свидетелей.
Новелла 1. Кто Москве нужнее
Пришёл как-то тут к Михалычу в морг известный кинорежиссёр. Ну, очень известный. Только Михалыч фамилию забыл. Хотя помнил. Долго помнил, пока не забыл.
Так вот, пришёл тот на опознание трупа. Даже не пришёл, а привезли его в машине. Большой и хорошей. Опознать, чтобы труп неизвестный известного актёра. Труп кинорежиссёр, конечно, опознал, но не того актёра известного, а у неизвестного актёра труп стал известным. Ну, короче, известный труп неизвестного актёра.
А вот после опознания долго так стал смотреть кинорежиссёр на Михалыча.
А потом говорит, а не могли бы вы, Михалыч, сыграть роль покойника в моём фильме последнем? Больно у вас внешность к этой роли подходящая. Просто не внешность, а кадавер вы готовый. Не внешность, а свадьба в Занзибаре.
А Михалычу такие комплименты всегда нравились. Особенно слова про Занзибар.
Не нашёл он фраз отказать известному кинорежиссёру. Согласился.
И начались съёмки. Тяжёлые, изнурительные съёмки. И вот, чтобы роль не закосячить, стал Михалыч по системе Станиславского к покойникам присматриваться. Благо их всегда много у него было. И так вжился, что сам чуть тапки не откинул. Еле откачали.
После клинической смерти приехала на киностудию жена Михалыча и сказала: или я, или кино!
Ну, Михалыч, конечно, выбрал искусство. Тут даже сравнивать нечего. Посмотрели бы вы на жену Михалыча, так бы сразу и сказали: «Не, мы лучше кино посмотрим».
Ну, короче, фильм сняли. Показали. А вот в Америке это фильм взял «Оскара». Михалыча, конечно, на вручение «Оскара» не взяли. Это потому что номинация «Лучшая роль покойника зарубежного фильма» в конкурсе не значилась. А то бы точно статуэтка у него в хрущёвке стояла бы на телевизоре.
Теперь Михалыч готовится к поступлению в институт кинематографии, что в Москве на улице Вильгельма Пика в доме номер три. Школьные учебники детей из подвала вытащил. Арифметику учит. Ну, и прочие там географии. А ещё «Гамлета» прочитал.
А что? Поступит. У нас в морге все в него верят.
Пускай едет. В Москве такие нужнее.
Новелла 2. «Про пломбир и зрение»
Был как-то тут Михалыч подростком. Ну, обычным таким, хорошим подростком. Только в школе плохо учился. И поведения примерного. Ну, так скажем, последние две недели от начала событий. А до этого плохого поведения был. Даже из школы выгоняли два раза, но не выгнали. Потому что в другую школу Михалыч сам перешел. А не перейди, так точно бы выгнали. Или не выгнали, но прогнали бы точно.
Так вот, поехал тут Михалыч с классом новым подростковым в Ленинград. Так раньше Санкт-Петербург назывался. На экскурсию. Он две недели себя хорошо вёл, чтобы на экскурсию взяли. А то бы не взяли, если бы плохо себя вел последние две недели или узнали, что он в прошлой школе вытворял.
Ну, короче, приехали. Подошли они тут с классом к флигелю Юсуповского дворца. А экскурсовод рассказывает, как тут Григория Распутина травили, стреляли и топили в речке. Скучно стало Михалычу, и отошёл он в сторону. Это чтобы не натворить что-либо. Выгонят ведь из экскурсии.
А навстречу ему – мальчик. Ну, так себе мальчик. Щупленький такой.
– А скажите мне, мальчик, – так говорил Михалыч, – а не будет ли у вас девятнадцати копеек на мороженное пломбир?
– Есть у меня девятнадцать копеек на мороженное пломбир, – отвечает мальчик, – но люблю я это мороженое сам в пищу употреблять.
– Вы – жадный мальчик, – сказал тогда Михалыч.
– А вы – невоспитанный мальчик, – ответил мальчик.
Ну, слово за слово. Завязалась потасовка. В результате которой получил Михалыч травму глаза в виде синяка периорбитального. Одним словом, накостыляли Михалычу по первое число.
А вот когда с земли поднимался, обнаружил Михалыч книжечку красную на земле – пропуск. С фотографией. Прочитал. А там написано: «Клуб борьбы ДСО «Труд», улица Декабристов, 21. Путин Вова».
– Напрасно я у него тогда девятнадцать копеек попросил. К старости левый глаз совсем плохо видит. Очки ношу.
Так ворчал Михалыч. Вздыхал.
И добавлял: и где теперь этот мальчик?
Новелла 3. «Как стать депутатом по мажоритарному избирательному округу»
Стал как-то тут Михалыч депутатом. Ну, очень уж не хотел. Так нехотя и стал. Пришли к нему люди избирательные и говорят:
– Очень уж у вас, Михалыч, фамилия хорошая, а ещё лучше – имя и отчество. Аккурат, как у одной сволочи из вашего мажоритарного избирательного округа. Так вот, Михалыч, не могли бы вы за деньги стать кандидатом в депутаты, чтобы избирательные голоса у этой сволочи отобрать в силу недостаточной осведомлённости населения в избирательных технологиях текущего века.
Из всего этого избирательного монолога Михалыч очень чётко понял фразу: «За деньги…»
И ответил он весьма технологично: «Мажоритарно выражаясь, согласен».
Обрадовались такому делу избирательные люди и говорят: «Заполняйте документы, а остальное мы сами сделаем».
И сделали. Так сделали, что осознал Михалыч промашку только тогда, когда депутатский мандат ему вручали.
– А деньги где? – задал логичный вопрос Михалыч.
– Видите ли, уважаемый Михалыч, деньги вам не положены, поскольку результат избирательных технологий не соответствует первоначальному замыслу. И наш кандидат не прошёл в депутаты в силу вашего популистского обаяния в электоральной среде. Вина ваша в этом вполне очевидна. Не следовало лозунг предвыборный озвучивать громко: «Всем врачам, учителям, инженерам – по новому мерседесу». А потому и результат – немонетарный.
Расстроился Михалыч, даже кричать стал. Однако денег всё равно не дали. И жена Михалыча тоже кричала, но и ей денег не дали, только макароны. А потом и вывели.
А на работе у Михалыча сказали: ну всё, пропала страна, коль Михалыча в депутаты избрали.
А Михалыч ответил: это вы напрасно, в нашей стране исторически сложилось, что все депутаты из михалычей вышли.
Новелла 4. Печальное приключение
полушерстяного костюма
Разбил как-то тут Михалыч унитаз. Головой разбил. Унитаз пострадал больше, но и голова повредилась. Незначительно так, в теменной области. А вот унитаз – под замену.
Вызвали скорую и сантехника. Ну, понятно, сантехник пришёл раньше. Это потому что у жены Михалыча терпежу не было. Она все телефоны унитазной службы обзвонила, ругалась в привычной для слушателя манере с использованием лексикона не совсем воспитанного человека. И своего добилась.
Ну вот, вышла жена Михалыча из туалета и говорит:
– Что-то скорая не едет. Может, тебе в поликлинику пешком сходить, тут всего пять километров. И хлеба заодно купишь.
А вот когда дверь за Михалычем закрывалась, вдогонку крикнула: «… и картошки шесть килограммов!»
Приходит, значит, Михалыч через три недели с хлебом и шестью килограммами картошки. Из лечебного учреждения. Так, полежал немного в нейрохирургии. Попросили его полежать. Сказали, что ушиб мозга. А так ничего. Почки здоровые. И лёгкие хорошие. И голова – как новая. Только следы от трепанации остались, а так ничего.
Обувь снял, присмотрелся, а на тумбочке в прихожей лежит справка о его смерти от закрытой черепно-мозговой травмы. А ещё приглашение на поминальный обед в кафе «В последний путь». На завтра.
Недоумение возникло у Михалыча. А почему бы не возникнуть? У всех возникнет. А у меня бы не только недоумение возникло бы. Даже вопрос: «Это как понимать?»
Так вот, с недоумением на лице и встретил он жену Михалыча.
Та чуть с катушек не слетела и чуть не повредила ламинат по цене триста рублей за квадратный метр.
– Эту справку мне вчера в морге дали. Позвонили и сказали, что умер. Мне почём знать? Помер или нет?
Короче, в больнице, как всегда, напутали и на иного покойника подготовили справку по Михалычу. А что, бывает. И ничего страшного. На себя посмотрите: что, не ошибались? Тогда и нечего. Поэтому больница и не виновата.
Вдруг жена Михалыча за сердце схватилась: «Я уже полушерстяной костюм отнесла твой парадный, в котором кандидатскую защищал».
– Звони!
Но было поздно. Чужого покойника в костюм Михалыча уже нарядили.
Тогда жена Михалыча сказала: «Снимайте! Михалыч костюм ещё поносит».
Но там сказали, что костюм был маловат, и его разрезали. Но в мастерской могут починить.
Расстроился Михалыч, ну так, не очень. Только чайником бросил. Не попал. Жена увернулась.
Ну вот и вся история. Жена Михалыча гроб сдала по чеку. Не хотели брать, но с ней не поспоришь. И венки тоже по чеку. Только за ленточки с надписями вычли. Она их себе взяла. Решила, что позднее пригодятся. Поминки Михалыч отменять не стал. А чего праздник людям портить. Всем родственникам понравилось. Погуляли на славу.
Короче, финансово потратились значительно. Костюм да поминки. На отдых в средней полосе России деньги копили. Не получилось. И нечего. Через год отдохнут, если обстоятельства позволят.
Жизнеописание доцента кафедры судебной медицины
Михалыча в новеллах по данным протоколов
и воспоминаний свидетелей.
Новелла 1. Кто Москве нужнее
Пришёл как-то тут к Михалычу в морг известный кинорежиссёр. Ну, очень известный. Только Михалыч фамилию забыл. Хотя помнил. Долго помнил, пока не забыл.
Так вот, пришёл тот на опознание трупа. Даже не пришёл, а привезли его в машине. Большой и хорошей. Опознать, чтобы труп неизвестный известного актёра. Труп кинорежиссёр, конечно, опознал, но не того актёра известного, а у неизвестного актёра труп стал известным. Ну, короче, известный труп неизвестного актёра.
А вот после опознания долго так стал смотреть кинорежиссёр на Михалыча.
А потом говорит, а не могли бы вы, Михалыч, сыграть роль покойника в моём фильме последнем? Больно у вас внешность к этой роли подходящая. Просто не внешность, а кадавер вы готовый. Не внешность, а свадьба в Занзибаре.
А Михалычу такие комплименты всегда нравились. Особенно слова про Занзибар.
Не нашёл он фраз отказать известному кинорежиссёру. Согласился.
И начались съёмки. Тяжёлые, изнурительные съёмки. И вот, чтобы роль не закосячить, стал Михалыч по системе Станиславского к покойникам присматриваться. Благо их всегда много у него было. И так вжился, что сам чуть тапки не откинул. Еле откачали.
После клинической смерти приехала на киностудию жена Михалыча и сказала: или я, или кино!
Ну, Михалыч, конечно, выбрал искусство. Тут даже сравнивать нечего. Посмотрели бы вы на жену Михалыча, так бы сразу и сказали: «Не, мы лучше кино посмотрим».
Ну, короче, фильм сняли. Показали. А вот в Америке это фильм взял «Оскара». Михалыча, конечно, на вручение «Оскара» не взяли. Это потому что номинация «Лучшая роль покойника зарубежного фильма» в конкурсе не значилась. А то бы точно статуэтка у него в хрущёвке стояла бы на телевизоре.
Теперь Михалыч готовится к поступлению в институт кинематографии, что в Москве на улице Вильгельма Пика в доме номер три. Школьные учебники детей из подвала вытащил. Арифметику учит. Ну, и прочие там географии. А ещё «Гамлета» прочитал.
А что? Поступит. У нас в морге все в него верят.
Пускай едет. В Москве такие нужнее.
Новелла 2. «Про пломбир и зрение»
Был как-то тут Михалыч подростком. Ну, обычным таким, хорошим подростком. Только в школе плохо учился. И поведения примерного. Ну, так скажем, последние две недели от начала событий. А до этого плохого поведения был. Даже из школы выгоняли два раза, но не выгнали. Потому что в другую школу Михалыч сам перешел. А не перейди, так точно бы выгнали. Или не выгнали, но прогнали бы точно.
Так вот, поехал тут Михалыч с классом новым подростковым в Ленинград. Так раньше Санкт-Петербург назывался. На экскурсию. Он две недели себя хорошо вёл, чтобы на экскурсию взяли. А то бы не взяли, если бы плохо себя вел последние две недели или узнали, что он в прошлой школе вытворял.
Ну, короче, приехали. Подошли они тут с классом к флигелю Юсуповского дворца. А экскурсовод рассказывает, как тут Григория Распутина травили, стреляли и топили в речке. Скучно стало Михалычу, и отошёл он в сторону. Это чтобы не натворить что-либо. Выгонят ведь из экскурсии.
А навстречу ему – мальчик. Ну, так себе мальчик. Щупленький такой.
– А скажите мне, мальчик, – так говорил Михалыч, – а не будет ли у вас девятнадцати копеек на мороженное пломбир?
– Есть у меня девятнадцать копеек на мороженное пломбир, – отвечает мальчик, – но люблю я это мороженое сам в пищу употреблять.
– Вы – жадный мальчик, – сказал тогда Михалыч.
– А вы – невоспитанный мальчик, – ответил мальчик.
Ну, слово за слово. Завязалась потасовка. В результате которой получил Михалыч травму глаза в виде синяка периорбитального. Одним словом, накостыляли Михалычу по первое число.
А вот когда с земли поднимался, обнаружил Михалыч книжечку красную на земле – пропуск. С фотографией. Прочитал. А там написано: «Клуб борьбы ДСО «Труд», улица Декабристов, 21. Путин Вова».
– Напрасно я у него тогда девятнадцать копеек попросил. К старости левый глаз совсем плохо видит. Очки ношу.
Так ворчал Михалыч. Вздыхал.
И добавлял: и где теперь этот мальчик?
Новелла 3. «Как стать депутатом по мажоритарному избирательному округу»
Стал как-то тут Михалыч депутатом. Ну, очень уж не хотел. Так нехотя и стал. Пришли к нему люди избирательные и говорят:
– Очень уж у вас, Михалыч, фамилия хорошая, а ещё лучше – имя и отчество. Аккурат, как у одной сволочи из вашего мажоритарного избирательного округа. Так вот, Михалыч, не могли бы вы за деньги стать кандидатом в депутаты, чтобы избирательные голоса у этой сволочи отобрать в силу недостаточной осведомлённости населения в избирательных технологиях текущего века.
Из всего этого избирательного монолога Михалыч очень чётко понял фразу: «За деньги…»
И ответил он весьма технологично: «Мажоритарно выражаясь, согласен».
Обрадовались такому делу избирательные люди и говорят: «Заполняйте документы, а остальное мы сами сделаем».
И сделали. Так сделали, что осознал Михалыч промашку только тогда, когда депутатский мандат ему вручали.
– А деньги где? – задал логичный вопрос Михалыч.
– Видите ли, уважаемый Михалыч, деньги вам не положены, поскольку результат избирательных технологий не соответствует первоначальному замыслу. И наш кандидат не прошёл в депутаты в силу вашего популистского обаяния в электоральной среде. Вина ваша в этом вполне очевидна. Не следовало лозунг предвыборный озвучивать громко: «Всем врачам, учителям, инженерам – по новому мерседесу». А потому и результат – немонетарный.
Расстроился Михалыч, даже кричать стал. Однако денег всё равно не дали. И жена Михалыча тоже кричала, но и ей денег не дали, только макароны. А потом и вывели.
А на работе у Михалыча сказали: ну всё, пропала страна, коль Михалыча в депутаты избрали.
А Михалыч ответил: это вы напрасно, в нашей стране исторически сложилось, что все депутаты из михалычей вышли.
Новелла 4. Печальное приключение
полушерстяного костюма
Разбил как-то тут Михалыч унитаз. Головой разбил. Унитаз пострадал больше, но и голова повредилась. Незначительно так, в теменной области. А вот унитаз – под замену.
Вызвали скорую и сантехника. Ну, понятно, сантехник пришёл раньше. Это потому что у жены Михалыча терпежу не было. Она все телефоны унитазной службы обзвонила, ругалась в привычной для слушателя манере с использованием лексикона не совсем воспитанного человека. И своего добилась.
Ну вот, вышла жена Михалыча из туалета и говорит:
– Что-то скорая не едет. Может, тебе в поликлинику пешком сходить, тут всего пять километров. И хлеба заодно купишь.
А вот когда дверь за Михалычем закрывалась, вдогонку крикнула: «… и картошки шесть килограммов!»
Приходит, значит, Михалыч через три недели с хлебом и шестью килограммами картошки. Из лечебного учреждения. Так, полежал немного в нейрохирургии. Попросили его полежать. Сказали, что ушиб мозга. А так ничего. Почки здоровые. И лёгкие хорошие. И голова – как новая. Только следы от трепанации остались, а так ничего.
Обувь снял, присмотрелся, а на тумбочке в прихожей лежит справка о его смерти от закрытой черепно-мозговой травмы. А ещё приглашение на поминальный обед в кафе «В последний путь». На завтра.
Недоумение возникло у Михалыча. А почему бы не возникнуть? У всех возникнет. А у меня бы не только недоумение возникло бы. Даже вопрос: «Это как понимать?»
Так вот, с недоумением на лице и встретил он жену Михалыча.
Та чуть с катушек не слетела и чуть не повредила ламинат по цене триста рублей за квадратный метр.
– Эту справку мне вчера в морге дали. Позвонили и сказали, что умер. Мне почём знать? Помер или нет?
Короче, в больнице, как всегда, напутали и на иного покойника подготовили справку по Михалычу. А что, бывает. И ничего страшного. На себя посмотрите: что, не ошибались? Тогда и нечего. Поэтому больница и не виновата.
Вдруг жена Михалыча за сердце схватилась: «Я уже полушерстяной костюм отнесла твой парадный, в котором кандидатскую защищал».
– Звони!
Но было поздно. Чужого покойника в костюм Михалыча уже нарядили.
Тогда жена Михалыча сказала: «Снимайте! Михалыч костюм ещё поносит».
Но там сказали, что костюм был маловат, и его разрезали. Но в мастерской могут починить.
Расстроился Михалыч, ну так, не очень. Только чайником бросил. Не попал. Жена увернулась.
Ну вот и вся история. Жена Михалыча гроб сдала по чеку. Не хотели брать, но с ней не поспоришь. И венки тоже по чеку. Только за ленточки с надписями вычли. Она их себе взяла. Решила, что позднее пригодятся. Поминки Михалыч отменять не стал. А чего праздник людям портить. Всем родственникам понравилось. Погуляли на славу.
Короче, финансово потратились значительно. Костюм да поминки. На отдых в средней полосе России деньги копили. Не получилось. И нечего. Через год отдохнут, если обстоятельства позволят.
