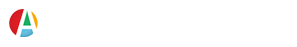Текст альманаха «КНИЖНАЯ ПОЛКА» №5 2025 год
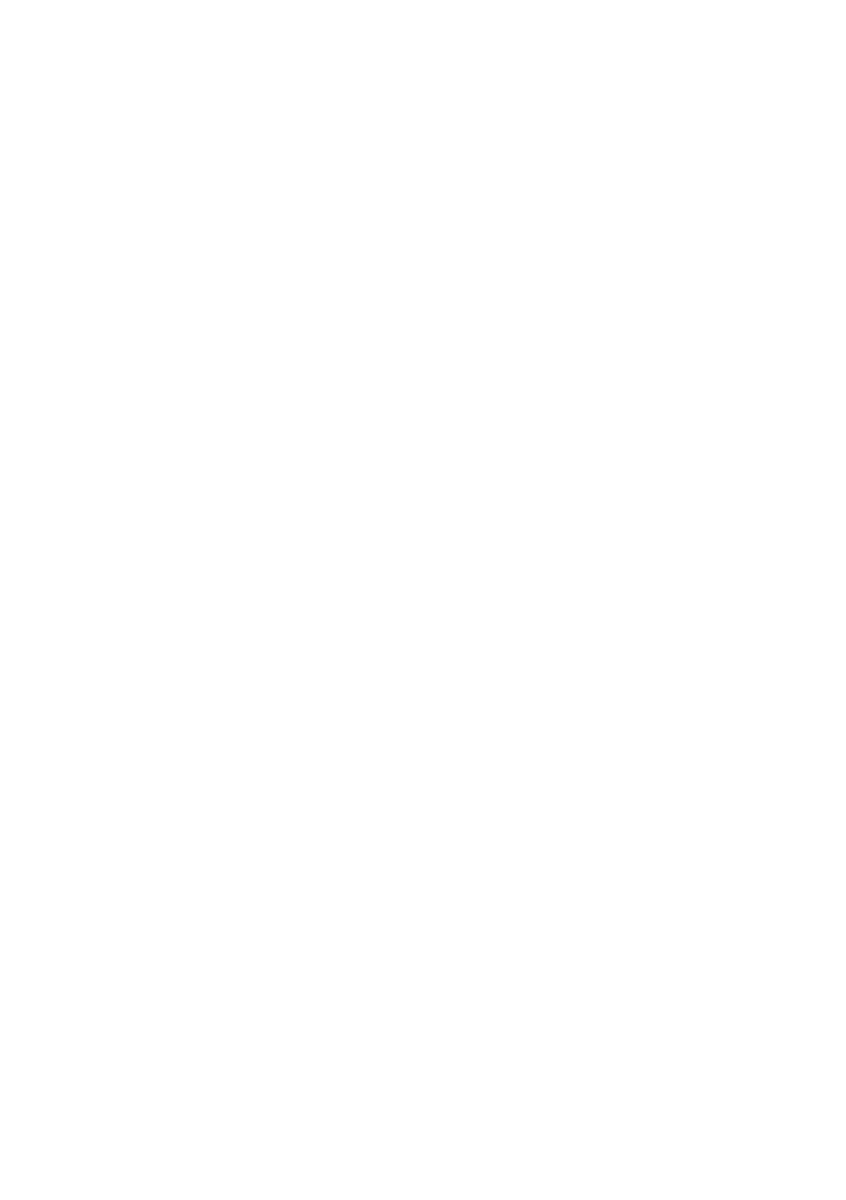
АЛЬМАНАХ «КНИЖНАЯ ПОЛКА» №5-2025
Работы победителей конкурса «МОЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА»
Александр БАЖЕНОВ — «Поэт Борис Рыжий...»
Татьяна ДИВАКОВА — «Соловей Петра Великого»
Николай ШОЛАСТЕР — «Говорите цветам комплименты»
Работы победителей конкурса «СВОБОДНАЯ ТЕМА» (2025)
Юлия ГУСЬКОВА, Эвелина НАГИНА, Екатерина СОКОЛОВА
К 80-летию Мастера - светлой памяти В.В.Сукачева (1945-2024)
«Все просто: нужно взять форму рассказа и наполнить ее новым содержанием» — интервью с В.В.Сукачевым
Рубрика «Книжная полка»
Вячеслав СУКАЧЕВ — «В той стороне, где жизнь и солнце», «Горькие радости»
Андрей СТРОКОВ — «Сказ о том, как один курсант трех адмиралов прокормил»
Сергей САФОНОВ — «Перерождение логика»
Евгения БЕЛОВА — «Как продать свою книгу»
Елена МИЧУРИНА — «Большая Маша»
Татьяна ПУГАЧЕВА — «Донецкий Рататуй»
Мария ПОЛЯНСКАЯ — «В коридоре»
Агния АЙРАПЕТОВА — «Любовь»
Дарья КРАВЦОВА — «Семейные бесценности»
Людмила БУЗАДЖИ — «Пианино»
Джемма ПОПОВА — «Ресничка»
Екатерина ФИЛЮК — «Пыльная буря»
Михаил ШИНКИН — «Первый медведь»
Максим ФЕДОСОВ — «Спирали молчания»
Павел КИСЕЛЕВ — «Спасатель или Спаситель?»
Работы победителей конкурса «МОЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА»
Александр БАЖЕНОВ — «Поэт Борис Рыжий...»
Татьяна ДИВАКОВА — «Соловей Петра Великого»
Николай ШОЛАСТЕР — «Говорите цветам комплименты»
Работы победителей конкурса «СВОБОДНАЯ ТЕМА» (2025)
Юлия ГУСЬКОВА, Эвелина НАГИНА, Екатерина СОКОЛОВА
К 80-летию Мастера - светлой памяти В.В.Сукачева (1945-2024)
«Все просто: нужно взять форму рассказа и наполнить ее новым содержанием» — интервью с В.В.Сукачевым
Рубрика «Книжная полка»
Вячеслав СУКАЧЕВ — «В той стороне, где жизнь и солнце», «Горькие радости»
Андрей СТРОКОВ — «Сказ о том, как один курсант трех адмиралов прокормил»
Сергей САФОНОВ — «Перерождение логика»
Евгения БЕЛОВА — «Как продать свою книгу»
Елена МИЧУРИНА — «Большая Маша»
Татьяна ПУГАЧЕВА — «Донецкий Рататуй»
Мария ПОЛЯНСКАЯ — «В коридоре»
Агния АЙРАПЕТОВА — «Любовь»
Дарья КРАВЦОВА — «Семейные бесценности»
Людмила БУЗАДЖИ — «Пианино»
Джемма ПОПОВА — «Ресничка»
Екатерина ФИЛЮК — «Пыльная буря»
Михаил ШИНКИН — «Первый медведь»
Максим ФЕДОСОВ — «Спирали молчания»
Павел КИСЕЛЕВ — «Спасатель или Спаситель?»
АННОТАЦИЯ
В №5 альманаха «Книжная полка» мы продолжаем публикацию лучших рассказов, присланных на конкурс «Моя книжная полка» и на конкурс «Свободная тема». Первый конкурс ориентирован на любителей книги и современных «миссионеров» чтения, в этом году присланные на конкурс работы отличаются поэтической нежностью (работа А.Баженова), духом театра и музыки (работа Т.Диваковой) и атмосферой уютного книжного клуба (работа Н.Шоластера). Второй конкурс, «Свободная тема» (проходящий в подмосковных Мытищах) – это современная трибуна для молодого поколения, которое впервые творчески формулирует свое отношение к общественным изменениям и ко всему происходящему в стране. Публикации конкурсных работ дополнены яркими и захватывающими рассказами наших постоянных авторов, книжными рейтингами и, по традиции, – нашей настоящей «книжной полкой» (cобственно, с неё альманах и начинается), где мы представляем книги, которые вышли в нашем издательстве за последние 2-3 года. Надеемся, что рассказы авторов придутся по душе нашим постоянным читателям.
В №5 альманаха «Книжная полка» мы продолжаем публикацию лучших рассказов, присланных на конкурс «Моя книжная полка» и на конкурс «Свободная тема». Первый конкурс ориентирован на любителей книги и современных «миссионеров» чтения, в этом году присланные на конкурс работы отличаются поэтической нежностью (работа А.Баженова), духом театра и музыки (работа Т.Диваковой) и атмосферой уютного книжного клуба (работа Н.Шоластера). Второй конкурс, «Свободная тема» (проходящий в подмосковных Мытищах) – это современная трибуна для молодого поколения, которое впервые творчески формулирует свое отношение к общественным изменениям и ко всему происходящему в стране. Публикации конкурсных работ дополнены яркими и захватывающими рассказами наших постоянных авторов, книжными рейтингами и, по традиции, – нашей настоящей «книжной полкой» (cобственно, с неё альманах и начинается), где мы представляем книги, которые вышли в нашем издательстве за последние 2-3 года. Надеемся, что рассказы авторов придутся по душе нашим постоянным читателям.
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 
Александр БАЖЕНОВ

I место в конкурсе «Моя книжная полка» (2025 год)
Родился в 1993 г. в Новоуральске Свердловской области. Окончил школу № 56 г. Новоуральска. Учился в Уральском Геологическом Горном Университете. Проживает в городе Екатеринбурге. Пишет в основном в классическом стиле, занимается этим с 9 лет. Кредо автора – поэзия, основное место в которой занимают пейзажи в стихах. В 2016 году награждён дипломом от Министерства культуры Свердловской области «За активное и плодотворное участие в возрождении традиций отечественной словесности». Победитель конкурса «О Родине от мала до велика» 2023 г. Публиковался в периодических альманахах «Созвучие», «Воскресенье», «Марафон», «Классики и современники», «Пиши про», «Противоречие», «Царицын», «Фонарь». Печатался в Новоуральских газетах «Нейва» и «Наша городская газета». Имеет 5 изданных авторских сборников. В издательстве «Новое Слово» в 2025 году вышла книга стихов Александра «Архив звенящей тишины».
БОРИС РЫЖИЙ: СОЗИДАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ В ПОЭЗИИ,
а также влияние стихов на жизнь поэта и окружающих его людей.
Евгений Рейн именовал Бориса Рыжего «лучшим поэтом своего поколения» – мрачных 80-х, последнего советского полного десятилетия и первых для новой России 90-х. Не случайно к Рыжему легко клеился ярлык: «последний советский поэт». С подросткового возраста я внимательно изучал его творчество. Действительно, в стихах Рыжего чувствовались дух времени и атмосфера уходящей эпохи. Чего только стоит его стих, где он упоминает свой район и своих друзей, «споткнувшихся с медью в черепах»:
Приобретут всеевропейский лоск
Слова трансазиатского поэта,
Я позабуду сказочный Свердловск
И школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
В Париже знойном, Лондоне промозглом,
Мой жалкий прах советую зарыть
На безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишенной красоты,
Но вычурной и артистичной позы,
А потому что там мои кенты,
Их профили на мраморе и розы.
На купоросных голубых снегах,
Закончившие ШРМ на тройки,
Они споткнулись с медью в черепах
Как первые солдаты перестройки…
Рок, горе, меланхолия, безысходность – то, что сопровождает поэта на всём его творческом пути. Рыжий нередко подмечал контраст жизни, в которой одни имеют всё, а другие – ничего:
Жизнь – падла в лиловом мундире,
гуляет светло и легко.
Но есть одиночество в мире
И гибель в дырявом трико.
Я люблю стихи Рыжего за то, что его лирический герой зачастую занимает сторону слабых, угнетённых, обездоленных, ушедших и уходящих из жизни людей. Такой подход я уважаю и в поэзии, и в прозе, и в искусстве в целом. Рыжий подмечал контраст не только в жизни людей, относящихся к разным социальным классам, но и в их смерти, например, между похоронами «отставного адмирала» и «дурня Пети»:
В трубы мятые трубили,
отставного хоронили
адмирала на заре,
все рыдали во дворе.
И на похороны эти
любовался сам не свой
местный даун, дурень Петя,
восхищенный и немой.
Ощущается сочувствие автора по отношению к ушедшему без «труб» и «рыданий» парню Пете:
А когда он умер тоже,
не играло ни хрена,
тишина, помилуй, Боже,
плохо, если тишина.
Кабы был постарше я,
забашлял бы девкам в морге,
прикупил бы в Военторге
я военного шмотья.
Заплатил бы, попросил бы,
занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы,
Петю, бля, похоронил.
Рыжий по-особому относился к тем, кого называли «шпаной». Кому-то само это слово режет слух. Но поэт зачастую смотрел в корень и видел красоту за мрачными фасадами:
Какие люди, боже праведный,
сидят на корточках в подъезде –
нет ничего на свете правильней
их пониманья дружбы, чести.
В мотивах Рыжего нередко можно заметить протест, переходящий в безысходность, заключённую, например, в последнюю строку в стихе «Только – надо ж так случиться»:
…Освещает крыши, крыши –
я гляжу на свет из тьмы.
Не так громко, сердце, тише –
тут хозяева не мы.
Проводя параллель между стихами Бориса Рыжего и его судьбой, нельзя не отметить, что многие его стихи, даже те, в которых речь шла о любви, заканчивались на трагичной ноте. В одном из таких стихов Рыжий использует метод синестезии (цветописи), что очень хорошо раскрывает образ его души, погружающейся во тьму, во мрак, в чёрный цвет:
…Вот розовое – я тебя люблю,
вот голубое – я тебя молю,
люби меня, пусть это мука, мука…
Вот чёрное и чёрное опять –
нет, я не знаю, что хотел сказать.
Но всё ж не оставляй меня, подруга.
Почему в стихах Рыжего нередко всё заканчивалось так печально? Почему он восклицал: «Больше чёрного горя, поэт!»? Почему его так привлекал фатализм? Возможно, потому, что он не мог смириться с несправедливостью окружающей реальности. Он не мог «цвести на фоне, в котором жизнь ужасна, смерть банальна, где золотые самолеты бомбят чужие города». Его лирическому герою словно было стыдно радоваться в мире, преисполненном зла и горя.
Я не раз думал о силе слова, о том, какой энергией обладают стихи, могут ли они влиять на судьбу автора или окружающих его людей. Я считаю, что могут. В положительном или в отрицательном направлении – зависит от автора. Поэзия – сила, обращение с которой требует от поэта определённых мер безопасности. Борис Рыжий, если так можно выразиться, писал «опасно», а использование таких литературных приёмов, как риторические фигуры и синтаксический параллелизм, многократно усиливало напряжённость, накал и эмоциональность его произведений. Именно поэтому его стихи попадали, что называется, в нерв.
Арчибальд Маклиш хорошо сказал о процессе творчества, о том, как из нематериального мира идея-образ переводится в физический, как автор преодолевает границу между небытием и бытием: «Бытие, которое должно заключаться в стихотворении, возникает из «небытия», а не исходит от поэта… Задача поэта заключается в том, чтобы бороться с пустотой и тишиной мира до тех пор, пока мир не обретет смысл, пока тишина не ответит, а Небытие не начнет Быть».
Юрий Казарин говорил, что Борис Рыжий «был и жил целиком в поэзии, а это – смертельно». Тем паче было влияние его слов на построение той действительности, в которой жил поэт. Рыжий тонко чувствовал окружающий мир и не просто «записывал стихи в тетрадку», но и формировал плоскость собственного бытия, в котором «строчки двигались к концу».
Борис Рыжий – один из моих любимых современных поэтов. Я не раз читал и перечитывал его стихи, не раз присутствовал на мероприятиях, посвящённых его творчеству. На мой взгляд, многие его стихи обладали определённой метафизической силой и мощной энергией. Не секрет, что он довольно трагически ушёл из жизни. Я не раз задавался вопросом, на который не получил однозначного, обоснованного фактами ответа: могут ли стихи автора повлиять на его судьбу? Может ли быть, что некоторые стихи Рыжего привели его жизнь к такому финалу? Несмотря на это, я считаю, что слово «факт» больше относится к миру материальному, нежели к духовному. Поэтому, несмотря на отсутствие фактов, я уверен, что стихи прямо или косвенно повлияли на жизнь и судьбу поэта. На мой взгляд, роковой ошибкой Бориса Рыжего было то, что в некоторых произведениях он открыто обвинял Бога в собственных бедах:
Это ладно, всё это детали,
одного не прощу тебе, ты,
блин, молчал, когда девки бросали,
и когда умирали цветы.
Не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.
Наблюдаешь за мною с сомненьем,
ходишь рядом, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.
Известно, что Бог не нарушает закон «свободной воли». Он не будет ни к чему принуждать человека. Если человек выбирает «спиться», «разбиться», «спуститься во мрак», то Бог не будет ему мешать, если только человек сам об этом не попросит. Рыжий не просил, к сожалению, будучи атеистом, и вообще относился к строкам о Боге, Христе или Святом духе несерьёзно.
В Новом Завете выражение «Сын Человеческий» используется для обозначения Иисуса Христа. В Евангелиях это регулярное самоназвание Иисуса. Самая опасная, можно сказать, что богохульная отсылка к Иисусу в стихах Рыжего, на мой взгляд, здесь просто не может не броситься в глаза православному человеку:
Но все равно, кино кончается,
и все кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
сын человеческий в буфете.
Я считаю, что в идеале в строки поэта должны быть завёрнуты светлые мотивы, то есть мысли, направленные на созидание, а не на разрушение. Это то, к чему автору, который пишет серьёзно и на серьёзные темы, надлежит стремиться. Думаю, что чем выше уровень мастерства автора, тем больше ответственности он несёт за посылы, предназначенные для людских душ. Полагаю, что поэт должен идти к тому, чтобы сквозь его строки пробивались солнечные лучи, способные согреть сердце читателя. Но сквозь сроки Бориса Рыжего читателя не всегда озаряли лучи света. Зачастую сквозь них зияла бездна:
В ночи, в чужом автомобиле
я понимаю навсегда,
что, может, только те и были,
в кого не верил никогда.
А что? Им тоже неизвестно,
куда шофёр меня завёз.
Когда-нибудь заглянут в бездну
глазами, светлыми от слёз.
Меланхоличные, горестные и трагичные стихи всегда имеют место быть. Как, например, вышеупомянутое стихотворение «Автомобиль» или такое:
С антресолей достану ТТ,
Покручу, поверчу…
И т. д.
Грусть, горе, трагедия имеют место на существование в искусстве, на мой взгляд, поскольку могут натолкнуть человека на глубокие философские размышления не только о его пребывании на Земле, но и о смерти. Но обвинения в сторону Бога или выставления библейских фигур в уничижительном свете в стихах – это та грань, за которую выходить опасно для жизни. Не потому, что «Бог накажет», а потому, что тем самым автор добровольно приглашает в свою жизнь антипода светлых сил. «Последний советский поэт» Борис Рыжий не боялся перешагивать через эту грань, а, возможно, просто её не видел, что, на мой взгляд, запустило цепь фатальных событий, повлиявших на его трагическую кончину.
а также влияние стихов на жизнь поэта и окружающих его людей.
Евгений Рейн именовал Бориса Рыжего «лучшим поэтом своего поколения» – мрачных 80-х, последнего советского полного десятилетия и первых для новой России 90-х. Не случайно к Рыжему легко клеился ярлык: «последний советский поэт». С подросткового возраста я внимательно изучал его творчество. Действительно, в стихах Рыжего чувствовались дух времени и атмосфера уходящей эпохи. Чего только стоит его стих, где он упоминает свой район и своих друзей, «споткнувшихся с медью в черепах»:
Приобретут всеевропейский лоск
Слова трансазиатского поэта,
Я позабуду сказочный Свердловск
И школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
В Париже знойном, Лондоне промозглом,
Мой жалкий прах советую зарыть
На безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишенной красоты,
Но вычурной и артистичной позы,
А потому что там мои кенты,
Их профили на мраморе и розы.
На купоросных голубых снегах,
Закончившие ШРМ на тройки,
Они споткнулись с медью в черепах
Как первые солдаты перестройки…
Рок, горе, меланхолия, безысходность – то, что сопровождает поэта на всём его творческом пути. Рыжий нередко подмечал контраст жизни, в которой одни имеют всё, а другие – ничего:
Жизнь – падла в лиловом мундире,
гуляет светло и легко.
Но есть одиночество в мире
И гибель в дырявом трико.
Я люблю стихи Рыжего за то, что его лирический герой зачастую занимает сторону слабых, угнетённых, обездоленных, ушедших и уходящих из жизни людей. Такой подход я уважаю и в поэзии, и в прозе, и в искусстве в целом. Рыжий подмечал контраст не только в жизни людей, относящихся к разным социальным классам, но и в их смерти, например, между похоронами «отставного адмирала» и «дурня Пети»:
В трубы мятые трубили,
отставного хоронили
адмирала на заре,
все рыдали во дворе.
И на похороны эти
любовался сам не свой
местный даун, дурень Петя,
восхищенный и немой.
Ощущается сочувствие автора по отношению к ушедшему без «труб» и «рыданий» парню Пете:
А когда он умер тоже,
не играло ни хрена,
тишина, помилуй, Боже,
плохо, если тишина.
Кабы был постарше я,
забашлял бы девкам в морге,
прикупил бы в Военторге
я военного шмотья.
Заплатил бы, попросил бы,
занял бы, уговорил
бы, с музоном бы решил бы,
Петю, бля, похоронил.
Рыжий по-особому относился к тем, кого называли «шпаной». Кому-то само это слово режет слух. Но поэт зачастую смотрел в корень и видел красоту за мрачными фасадами:
Какие люди, боже праведный,
сидят на корточках в подъезде –
нет ничего на свете правильней
их пониманья дружбы, чести.
В мотивах Рыжего нередко можно заметить протест, переходящий в безысходность, заключённую, например, в последнюю строку в стихе «Только – надо ж так случиться»:
…Освещает крыши, крыши –
я гляжу на свет из тьмы.
Не так громко, сердце, тише –
тут хозяева не мы.
Проводя параллель между стихами Бориса Рыжего и его судьбой, нельзя не отметить, что многие его стихи, даже те, в которых речь шла о любви, заканчивались на трагичной ноте. В одном из таких стихов Рыжий использует метод синестезии (цветописи), что очень хорошо раскрывает образ его души, погружающейся во тьму, во мрак, в чёрный цвет:
…Вот розовое – я тебя люблю,
вот голубое – я тебя молю,
люби меня, пусть это мука, мука…
Вот чёрное и чёрное опять –
нет, я не знаю, что хотел сказать.
Но всё ж не оставляй меня, подруга.
Почему в стихах Рыжего нередко всё заканчивалось так печально? Почему он восклицал: «Больше чёрного горя, поэт!»? Почему его так привлекал фатализм? Возможно, потому, что он не мог смириться с несправедливостью окружающей реальности. Он не мог «цвести на фоне, в котором жизнь ужасна, смерть банальна, где золотые самолеты бомбят чужие города». Его лирическому герою словно было стыдно радоваться в мире, преисполненном зла и горя.
Я не раз думал о силе слова, о том, какой энергией обладают стихи, могут ли они влиять на судьбу автора или окружающих его людей. Я считаю, что могут. В положительном или в отрицательном направлении – зависит от автора. Поэзия – сила, обращение с которой требует от поэта определённых мер безопасности. Борис Рыжий, если так можно выразиться, писал «опасно», а использование таких литературных приёмов, как риторические фигуры и синтаксический параллелизм, многократно усиливало напряжённость, накал и эмоциональность его произведений. Именно поэтому его стихи попадали, что называется, в нерв.
Арчибальд Маклиш хорошо сказал о процессе творчества, о том, как из нематериального мира идея-образ переводится в физический, как автор преодолевает границу между небытием и бытием: «Бытие, которое должно заключаться в стихотворении, возникает из «небытия», а не исходит от поэта… Задача поэта заключается в том, чтобы бороться с пустотой и тишиной мира до тех пор, пока мир не обретет смысл, пока тишина не ответит, а Небытие не начнет Быть».
Юрий Казарин говорил, что Борис Рыжий «был и жил целиком в поэзии, а это – смертельно». Тем паче было влияние его слов на построение той действительности, в которой жил поэт. Рыжий тонко чувствовал окружающий мир и не просто «записывал стихи в тетрадку», но и формировал плоскость собственного бытия, в котором «строчки двигались к концу».
Борис Рыжий – один из моих любимых современных поэтов. Я не раз читал и перечитывал его стихи, не раз присутствовал на мероприятиях, посвящённых его творчеству. На мой взгляд, многие его стихи обладали определённой метафизической силой и мощной энергией. Не секрет, что он довольно трагически ушёл из жизни. Я не раз задавался вопросом, на который не получил однозначного, обоснованного фактами ответа: могут ли стихи автора повлиять на его судьбу? Может ли быть, что некоторые стихи Рыжего привели его жизнь к такому финалу? Несмотря на это, я считаю, что слово «факт» больше относится к миру материальному, нежели к духовному. Поэтому, несмотря на отсутствие фактов, я уверен, что стихи прямо или косвенно повлияли на жизнь и судьбу поэта. На мой взгляд, роковой ошибкой Бориса Рыжего было то, что в некоторых произведениях он открыто обвинял Бога в собственных бедах:
Это ладно, всё это детали,
одного не прощу тебе, ты,
блин, молчал, когда девки бросали,
и когда умирали цветы.
Не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.
Наблюдаешь за мною с сомненьем,
ходишь рядом, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.
Известно, что Бог не нарушает закон «свободной воли». Он не будет ни к чему принуждать человека. Если человек выбирает «спиться», «разбиться», «спуститься во мрак», то Бог не будет ему мешать, если только человек сам об этом не попросит. Рыжий не просил, к сожалению, будучи атеистом, и вообще относился к строкам о Боге, Христе или Святом духе несерьёзно.
В Новом Завете выражение «Сын Человеческий» используется для обозначения Иисуса Христа. В Евангелиях это регулярное самоназвание Иисуса. Самая опасная, можно сказать, что богохульная отсылка к Иисусу в стихах Рыжего, на мой взгляд, здесь просто не может не броситься в глаза православному человеку:
Но все равно, кино кончается,
и все кончается на свете:
толпа уходит, и валяется
сын человеческий в буфете.
Я считаю, что в идеале в строки поэта должны быть завёрнуты светлые мотивы, то есть мысли, направленные на созидание, а не на разрушение. Это то, к чему автору, который пишет серьёзно и на серьёзные темы, надлежит стремиться. Думаю, что чем выше уровень мастерства автора, тем больше ответственности он несёт за посылы, предназначенные для людских душ. Полагаю, что поэт должен идти к тому, чтобы сквозь его строки пробивались солнечные лучи, способные согреть сердце читателя. Но сквозь сроки Бориса Рыжего читателя не всегда озаряли лучи света. Зачастую сквозь них зияла бездна:
В ночи, в чужом автомобиле
я понимаю навсегда,
что, может, только те и были,
в кого не верил никогда.
А что? Им тоже неизвестно,
куда шофёр меня завёз.
Когда-нибудь заглянут в бездну
глазами, светлыми от слёз.
Меланхоличные, горестные и трагичные стихи всегда имеют место быть. Как, например, вышеупомянутое стихотворение «Автомобиль» или такое:
С антресолей достану ТТ,
Покручу, поверчу…
И т. д.
Грусть, горе, трагедия имеют место на существование в искусстве, на мой взгляд, поскольку могут натолкнуть человека на глубокие философские размышления не только о его пребывании на Земле, но и о смерти. Но обвинения в сторону Бога или выставления библейских фигур в уничижительном свете в стихах – это та грань, за которую выходить опасно для жизни. Не потому, что «Бог накажет», а потому, что тем самым автор добровольно приглашает в свою жизнь антипода светлых сил. «Последний советский поэт» Борис Рыжий не боялся перешагивать через эту грань, а, возможно, просто её не видел, что, на мой взгляд, запустило цепь фатальных событий, повлиявших на его трагическую кончину.

Татьяна ДИВАКОВА

II место в конкурсе «Моя книжная полка» (2025 год)
Член Союза писателей России, певица-виртуоз, лауреат международных конкурсов, солистка «Москонцерта» и «Divakonsert». Автор книги стихов «Эквилибриум». Публикуется в российских и зарубежных поэтических альманахах, сборниках стихов и прозы. Победитель поэтического конкурса «Комета-21» (г. Санкт-Петербург). По её сценариям на московских сценах были осуществлены следующие театральные постановки: «Тайна сарсуэлы», «Мария из Буэнос-Айреса», «Вальсирующий кот», «Viva la Diva!». Основатель международного фестиваля искусств «Галантное барокко», в программы которого включена музыка XVII-XVIII веков и поэтическое слово». Лауреат национальной премии « Золотое перо Руси-24», Лауреат конкурса поэтического перевода «Лира-25».
СОЛОВЕЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
«Великий Пьетро Гранде, скифский царь, хотел Московию науками наполнить, изящными искусствами и пеньем. Людей, способных в этом ремесле, его гонцы искали по Европе»…
Я вновь и вновь вглядываюсь в слова, аккуратно выведенные латинскими буквами, и стараюсь разгадать, какая история жизни сокрыта в глубине этих строк. Несомненно, рукописи умеют хранить тайны, особенно если эти рукописи – мемуары времён Петра Первого. Мемуары иностранца, певца-кастрата, служившего при царском дворе.
СЛАВА – ТОЛЬКО В ПЕНИИ
Меня, человека, живущего в эпоху искусственного интеллекта, мало удивляет словосочетание «певец-кастрат» – в XXI веке на многие вещи мы смотрим проще, да и исследователи индустрии итальянской оперы XVII-XVIII веков весьма подробно объясняют обстоятельства, при которых зародилось подобное явление: здесь и исторический запрет Папы Сикста Пятого на использование женских голосов в церковных службах и на сцене ; здесь и возможность безбедного существования не только для самого певца, но и для его многочисленных родственников; здесь и весьма полезные знакомства с царственными особами; здесь и дань моде, наконец. Пройти определённую операцию для сохранения чистого, ангельского голоса, каким бы парадоксальным это ни казалось, в Италии конца XVII – начала XVIII веков было делом обыденным, правда, уголовно наказуемым.
Меня влечёт иное. Я стараюсь понять, что двигало автором строк, итальянским юношей, решившимся на изнурительное путешествие в край холодный и неведомый. Слава? Возможно. Стать первым певцом русского двора, фаворитом, ради которого могли прекращаться войны, весьма заманчиво. Подобная история, например, случилась с его соотечественником – виртуозом Балдасаре Фери, для беспрепятственного приезда которого в Стокгольм было объявлено временное перемирие между Польшей и Швецией. Знал ли данный факт наш герой? Вряд ли…
Тогда, может быть, богатство? Действительно, по дошедшим до нас сведениям, оперное искусство «музико» ценилось очень высоко. О фантастических гонорарах, выплачиваемых певцам, свидетельствует Джакомо Казанова, описывая в своих воспоминаниях встречу с компанией артистов, возвращающихся из России. Однако опера как явление появится у нас тремя десятилетиями позже.
«Я – юноша, итальянец, кастрат и ищу себе славы только в пении». Только в пении… Возможно, Козимо III Медичи, при дворе которого до приезда в Московию служил автор данных строк, к певческому искусству особой любви не питал. Иное дело – молодой новатор, российский царь Пётр! Любая диковинка в его дворце находила себе достойное место…
Я внимательно вчитываюсь в текст, стараясь как можно точнее перевести с итальянского на русский. Пластичные, порой пикантные строчки, тонкий юмор, ирония, гротеск. И невероятные повороты судьбы! Ловлю себя на мысли: разве такое бывает? И, словно ощутив мои сомнения, автор восклицает: «Киньте в меня камень, если я хотя бы единожды солгал!»
ИЗ ТОСКАНЫ – В МОСКОВИЮ
Филиппо Дионисио Балатри. Человек, прошедший путь от придворного певца до священника баварского монастыря. Виртуоз, вошедший в историю как «соловей Петра Великого». Мог ли он предположить, что имя, данное ему родителями в память об умершем старшем брате, вызовет у исследователей барочной оперы такую путаницу? До сих пор не утихают горячие споры о дате появления певца на свет: какой год следует считать верным – 1676-й или 1682-й?
Сам Балатри, родившийся в Алфее близ Пизы, о детстве говорит очень скупо: «Рождение. О нежном возрасте позволь мне помолчать в суровой тишине». Известно, что его родители были благородного происхождения: мать, Мария Тереза Пералик – фрейлина Маргариты Луизы Орлеанской, а отец, Антонио Франческо ди Пьетро Балатри – потомок знатного, но обедневшего флорентийского рода. Пробуждая интерес сына к духовной музыке, и, возможно, планируя для него карьеру священника, отец всячески поддерживает желание Филиппо петь в церковном хоре.
Очень скоро становится ясно, что мальчишка обладает редким по силе и красоте голосом. Все как один – в том числе его учитель пения и святые отцы ордена Св. Стефана – советуют сохранить этот дар. «Резать! Резать, не задумываясь!» – слышится всё настойчивее, и отец даёт согласие на опасную, но столь необходимую операцию. Исход хирургического вмешательства был благополучным, и вскоре юный певец поступает на службу к Козимо III Медичи. И вновь – пение в церкви и никакой надежды на выступление в опере.
1698 год становится переломным в судьбе юноши. Во Флоренцию из далёкой Московии прибывает делегация «Великого Посольства», направленная царём Петром в Италию для изучения кораблевождения. В её состав, с особыми заданиями, среди которых – найти музыкантов для царского двора – включён князь Пётр Алексеевич Голицын. После года, проведённого в землях Италии, П.А. Голицын успел многое: и в морское дело вникнуть, и итальянский язык познать, а вот музыкантов, желающих ехать за тридевять земель, так и не нашёл…
На помощь приходит Козимо III Медичи. Великий Герцог тосканский, дабы укрепить связи с Московией и услужить русскому царю, решает послать к его двору своего 16-летнего певца. Полагаю, Филиппо был очень горд своей миссией: познакомить иноземцев с «итальянской забавой» – оперой. Путь делегации лежит через Венецию, где ждут приезда русского государя. Правда, обещанного Голицыным знакомства с царём в этот раз не случилось: Пётр в Венецию не прибыл – его планам помешал стрелецкий бунт.
«БУСУРМАН» ПРИ ДВОРЕ МОСКОВИТСКОМ
В феврале 1699 года, после четырёх месяцев изматывающего пути, «Посольство» прибывает в Московию. Здесь для юных глаз интересно всё! Пометки делаются постоянно: о народных традициях и ритуалах, об обычаях свадеб и похорон, о бане и балах, о придворной жизни и радостях простых горожан. Молодой пизанец старательно выполняет тайный наказ герцога – изучать далёкую и перспективную во всех отношениях страну, фиксируя события с первого дня отъезда до возвращения на родину.
Годами позже именно эти наблюдения лягут в основу его труда «Жизнь и путешествия Филиппо Балатри», состоящего из 9-и объёмных томов. В дальнейшем будет создана и поэтическая версия воспоминаний под названием «Плоды мира».
Здесь, в Москве, состоялась долгожданная встреча с русским царём Петром. Личность 27-летнего монарха станет для певца в некотором смысле эталоном правителя (много позже, при знакомстве с баварским принцем Карлом Альбрехтом, Балатри заметит, что тот имеет в себе огонь, подобный созидательному пламени царя Пётра). Симпатия была взаимной. Царь жалует своему придворному певцу высокую должность спальника и обращается к нему не иначе как «Филиппушка».
Казалось бы, чего ещё желать? Но, как известно, придворная жизнь имеет свои законы. «Пажи, что «спальники» зовутся, смеялись надо мною, обзывая собакою, язычником, проклятьем. Был робок поначалу я, но вскоре язык познав, стал отвечать им смело на оскорбленья словом и пинками».
Больше всего юных бояр раздражало низменное, по их мнению, происхождение «бусурмана». Конфликт со сверстниками часто доходил до лютой драки – и тогда на помощь спешил сам царь, разнимая воюющие стороны. Тёмными холодными ночами Филиппо с тоской в сердце вспоминал Тоскану и свою семью. Как объяснить иноверцам - отпрыскам знатных родов, что в его жилах тоже течёт благородная кровь?
СЕСТРА ФЛОРЕНЦИИ
«Глотком Европы» для юноши становится Немецкая слобода, куда тот впервые приходит, сопровождая Петра I. «Мне казалось, – напишет Балатри в своих записках, – что Слобода – сестра Флоренции, что я опять на родине». Здесь всё было иным, понятным, близким: и одежда по последней моде, и современные танцы, и интеллектуальные игры, и общение без общепринятых условностей. Здесь даже нашёлся – о счастье! – единственный на всю Москву клавесин, и теперь Балатри, аккомпанируя себе – как говорили в те времена «на клавицимбалах», мог в полной мере являть своё виртуозное искусство. Хозяйкой инструмента была фаворитка царя Анна Монс. Визиты в её великолепно обставленный дом были для многих приятным времяпрепровождением. Здесь можно было отдохнуть от дел насущных, насладиться едой и общением с иноверцами, не боясь быть оскорблённым или обманутым.
Анна… Этим именем наполнены многие страницы воспоминаний. Восхищение и преклонение, счастье общения и горечь безответных чувств. Не Анна ли Монс была предметом обожания юноши? Скорее всего – да! Сам Филиппо почти напрямую говорит об этом: «Так как царь любит прекрасную игру в шахматы, – а она (Анна) играет в совершенстве, – то часто бывает в её обществе; когда же царь приводит в этот дом меня – в моей душе всё воспламеняется. Я грустен, задумчив и одинок. А если Анны нет рядом, я становлюсь подобен лунатику: когда мне говорят – молчу в ответ...»
Пётр I не замечает (или не ожидает?) сердечных чувств певца к своей фаворитке и, полностью доверяя ему, обязует того обучить Анну пению, естественно, в итальянской манере. Чем было вызвано данное желание царя? Любил ли он сам этот модный стиль? Нам известно, что подобное пение Пётр Алексеевич слышал во время своего первого заграничного путешествия в 1698 году, о чём свидетельствует ганноверская принцесса София: «Дочь моя заставила петь своих итальянцев. Царю это понравилось, но он заметил, что этот род музыки ему не совсем по душе». Не совсем по душе… Возможно, царь изменил своё мнение под влиянием красоты и изящества голоса Балатри? Так или иначе, но бывать в Немецкой слободе у «петровского соловья» стало одной причиной больше.
«DAI SOROCCA BIELA BOCCA»
А между тем жизнь во дворце для певца становится невыносимой. Молодые бояре продолжают его задирать: «…и власти государя недостаточно, чтобы заставить нас жить в дружбе. Если царь нас не разнимает, он в отчаянии, потому что не знает, как справиться. Скорее роза лишится шипов, чем лицо одного из нас не будет расцарапанным». Помощь приходит от князя П.А. Голицына: чтобы прекратить эти глупые баталии, тот предлагает Балатри переехать жить в его дом, а во дворце появляться только по случаю.
С этого дня всё начинает налаживаться: юноша усердно посещает католическую общину, даёт уроки пения Анне Монс, «забегает на огонёк» – пообедать и получить корреспонденцию из Италии – к венецианцу Франческо Гуаскони. Он приветлив, улыбчив и словоохотлив. «Филиппушка» прекрасно ладит с домочадцами князя Голицына и часто развлекает их всевозможными историями и песнями. Остроты и прибаутки сыплются из его уст, как из рога изобилия. Да что там! Он даже пытается сочинять нечто подобное «на московитском языке»:
Dai sorocca biela bocca stala Sdrusckum danzauatt. Ai Uarona, stara Giona, priscla tocces pomesciatt.
Проходит совсем немного времени – и без «придворного соловья» не обходится ни одно важное событие: здесь и скандальный трёхдневный бал в доме Лефорта с принудительным участием (ослушаться нельзя – приказ царя!) русских дам; здесь и спуск на воду первого парусного линейного корабля «Гото Предестинация», построенного на воронежской верфи; здесь и экзотическое путешествие с Б. Голицыным в ставку калмыцкого хана Аюки. Пользуясь почти безграничной свободой, Балатри бывает в различных местах города. Он присматривается к жизни Москвы и тщательно фиксирует наиболее интересные моменты. Так, он искренне удивлён, что потомки голландских, французских, итальянских переселенцев, живущие в Немецкой слободе, хоть и знают свои языки, «родным считают московский»; что русские не пьют вина, используя его лишь в «своих церквях для причастия и называют потому церковным»; что дамы, осуждавшие европейские наряды, спустя короткое время с гордостью щеголяют в них на балах, а их мужья «в угоду царю остаются дома и занимаются своими делами, лишь приезжая за жёнами под конец праздника, чтобы увезти домой». Надо ли уточнять, что почти ни одно появление певца не обходится без его пения?
Ключевой фигурой наблюдений является, несомненно, молодой и амбициозный русский царь. По мнению Балатри, он благороден и щедр, справедлив и великодушен, терпелив и сострадателен, целомудрен и величав. И хотя в силу своего возраста певец часто бывает субъективен в оценках характеров и событий, масштаб проводимых Петром I реформ его поражает и восхищает. Балатри искренне надеется, что европейский путь развития – единственно верный для России. Оправдывая государевы шаги по принуждению русского народа к новой жизни, он вкладывает в уста Петра следующие строки: «Я не для того заставил их снять московские одежды, чтобы увидеть чучел, разряженных по французской моде, но чтобы освободить их от старых и никому не нужных привычек, которые смешны и мне противны. Я езжу по другим странам не для того, чтобы знакомиться с их религией и обрядами, а для того, чтобы найти то, что из книг не вычитаешь. Для души я у них ничего не прошу, а вот для жизни политической и общественной нахожу у них то, что мне нужно».
Лишь одно обстоятельство печалит «царского соловья»: отсутствие на Руси оперного театра. С иронией и горечью он запишет: «Не спальник я! – певец придворный: салонный, камерный, каптёрный, а также лестничный, кухонный, чердачный – и весьма невздорный! Но только Провиденье знает: театра здесь мне не хватает».
ПОДАЛЬШЕ ОТ СОБЛАЗНА
В 1701 году один из покровителей певца – Пётр Голицын назначен послом в Вену. Вместе с ним к Австрийскому императорскому двору прибыл и Филиппо. Возможно, князь Голицын, опасаясь, как бы царь не прознал о тайной влюблённости мальчишки в Анну Монс, просто увёз его «от греха подальше»? Как бы то ни было, отъезд из России пошёл молодому певцу на пользу: в Австрии у него появляется возможность совершенствовать свой голос у знаменитого певца-контральто Гаэтано Орсини. Филиппо будет жадно постигать вокальные премудрости и тайно надеяться на скорый дебют в опере. В Московию «соловей царя» больше не вернётся.
Долгое время у исследователей певческой судьбы Ф. Балатри не имелось возможности познакомиться ни с операми, в которых тот пел, ни с партиями, сочинёнными для его голоса. В связи с этим бытовало мнение, что-де исполнителем он был посредственным, а блестящую карьеру сделал лишь благодаря своему неутомимому красноречию и лёгкости характера . Но сегодня многие из старинных партитур найдены, и мы искренне восхищаемся голосом Балатри, способным на чудеса вокальной акробатики – чудеса, подвластные лишь певчим птицам.
Много интересных событий ожидает нашего героя: по просьбе отца он возвратится ко двору Козимо III Медичи, станет переводчиком при русском посольстве во Флоренции, чудом спасётся во время кораблекрушения по дороге к Туманному Альбиону, поразит своим камзолом из золотой парчи Людовика XIV, познакомится с Г.Ф. Генделем, вновь поступит на придворную службу – теперь к Баварскому двору. И, конечно же, выйдет на сцену, покорив знатоков мастерством и изысканностью пения. А затем примет монашеский постриг и под именем Теодоро мирно окончит свои дни в Фюрстенфельдском монастыре.
Память истории, как и человеческая жизнь, увы! – коротка… Я разглядываю репродукцию картины, на которой изображён мой герой, и ясно слышу его ироничные рассуждения: «Мой друг растрогается, увидев меня на холсте, неподвижно сидящего, благодаря краскам – живого; того, кто однажды был и кого уже нет и не будет. Ещё какое-то время люди будут интересоваться: «А кто это?» – и ответом будет: «Хм… некто Филиппо Б.», а потом настанет момент, когда никто уже и не вспомнит обо мне, да и сама картина окажется сначала на чердаке, а затем там же, где и оригинал: в склепе».
В ответ на эти слова я грустно улыбаюсь и вновь переношусь фантазией в 1699 год, где юный «Филиппушка» искусно развлекает песенками да прибаутками домочадцев князя Голицына, безуспешно стараясь обратить их в католическую веру.
«Великий Пьетро Гранде, скифский царь, хотел Московию науками наполнить, изящными искусствами и пеньем. Людей, способных в этом ремесле, его гонцы искали по Европе»…
Я вновь и вновь вглядываюсь в слова, аккуратно выведенные латинскими буквами, и стараюсь разгадать, какая история жизни сокрыта в глубине этих строк. Несомненно, рукописи умеют хранить тайны, особенно если эти рукописи – мемуары времён Петра Первого. Мемуары иностранца, певца-кастрата, служившего при царском дворе.
СЛАВА – ТОЛЬКО В ПЕНИИ
Меня, человека, живущего в эпоху искусственного интеллекта, мало удивляет словосочетание «певец-кастрат» – в XXI веке на многие вещи мы смотрим проще, да и исследователи индустрии итальянской оперы XVII-XVIII веков весьма подробно объясняют обстоятельства, при которых зародилось подобное явление: здесь и исторический запрет Папы Сикста Пятого на использование женских голосов в церковных службах и на сцене ; здесь и возможность безбедного существования не только для самого певца, но и для его многочисленных родственников; здесь и весьма полезные знакомства с царственными особами; здесь и дань моде, наконец. Пройти определённую операцию для сохранения чистого, ангельского голоса, каким бы парадоксальным это ни казалось, в Италии конца XVII – начала XVIII веков было делом обыденным, правда, уголовно наказуемым.
Меня влечёт иное. Я стараюсь понять, что двигало автором строк, итальянским юношей, решившимся на изнурительное путешествие в край холодный и неведомый. Слава? Возможно. Стать первым певцом русского двора, фаворитом, ради которого могли прекращаться войны, весьма заманчиво. Подобная история, например, случилась с его соотечественником – виртуозом Балдасаре Фери, для беспрепятственного приезда которого в Стокгольм было объявлено временное перемирие между Польшей и Швецией. Знал ли данный факт наш герой? Вряд ли…
Тогда, может быть, богатство? Действительно, по дошедшим до нас сведениям, оперное искусство «музико» ценилось очень высоко. О фантастических гонорарах, выплачиваемых певцам, свидетельствует Джакомо Казанова, описывая в своих воспоминаниях встречу с компанией артистов, возвращающихся из России. Однако опера как явление появится у нас тремя десятилетиями позже.
«Я – юноша, итальянец, кастрат и ищу себе славы только в пении». Только в пении… Возможно, Козимо III Медичи, при дворе которого до приезда в Московию служил автор данных строк, к певческому искусству особой любви не питал. Иное дело – молодой новатор, российский царь Пётр! Любая диковинка в его дворце находила себе достойное место…
Я внимательно вчитываюсь в текст, стараясь как можно точнее перевести с итальянского на русский. Пластичные, порой пикантные строчки, тонкий юмор, ирония, гротеск. И невероятные повороты судьбы! Ловлю себя на мысли: разве такое бывает? И, словно ощутив мои сомнения, автор восклицает: «Киньте в меня камень, если я хотя бы единожды солгал!»
ИЗ ТОСКАНЫ – В МОСКОВИЮ
Филиппо Дионисио Балатри. Человек, прошедший путь от придворного певца до священника баварского монастыря. Виртуоз, вошедший в историю как «соловей Петра Великого». Мог ли он предположить, что имя, данное ему родителями в память об умершем старшем брате, вызовет у исследователей барочной оперы такую путаницу? До сих пор не утихают горячие споры о дате появления певца на свет: какой год следует считать верным – 1676-й или 1682-й?
Сам Балатри, родившийся в Алфее близ Пизы, о детстве говорит очень скупо: «Рождение. О нежном возрасте позволь мне помолчать в суровой тишине». Известно, что его родители были благородного происхождения: мать, Мария Тереза Пералик – фрейлина Маргариты Луизы Орлеанской, а отец, Антонио Франческо ди Пьетро Балатри – потомок знатного, но обедневшего флорентийского рода. Пробуждая интерес сына к духовной музыке, и, возможно, планируя для него карьеру священника, отец всячески поддерживает желание Филиппо петь в церковном хоре.
Очень скоро становится ясно, что мальчишка обладает редким по силе и красоте голосом. Все как один – в том числе его учитель пения и святые отцы ордена Св. Стефана – советуют сохранить этот дар. «Резать! Резать, не задумываясь!» – слышится всё настойчивее, и отец даёт согласие на опасную, но столь необходимую операцию. Исход хирургического вмешательства был благополучным, и вскоре юный певец поступает на службу к Козимо III Медичи. И вновь – пение в церкви и никакой надежды на выступление в опере.
1698 год становится переломным в судьбе юноши. Во Флоренцию из далёкой Московии прибывает делегация «Великого Посольства», направленная царём Петром в Италию для изучения кораблевождения. В её состав, с особыми заданиями, среди которых – найти музыкантов для царского двора – включён князь Пётр Алексеевич Голицын. После года, проведённого в землях Италии, П.А. Голицын успел многое: и в морское дело вникнуть, и итальянский язык познать, а вот музыкантов, желающих ехать за тридевять земель, так и не нашёл…
На помощь приходит Козимо III Медичи. Великий Герцог тосканский, дабы укрепить связи с Московией и услужить русскому царю, решает послать к его двору своего 16-летнего певца. Полагаю, Филиппо был очень горд своей миссией: познакомить иноземцев с «итальянской забавой» – оперой. Путь делегации лежит через Венецию, где ждут приезда русского государя. Правда, обещанного Голицыным знакомства с царём в этот раз не случилось: Пётр в Венецию не прибыл – его планам помешал стрелецкий бунт.
«БУСУРМАН» ПРИ ДВОРЕ МОСКОВИТСКОМ
В феврале 1699 года, после четырёх месяцев изматывающего пути, «Посольство» прибывает в Московию. Здесь для юных глаз интересно всё! Пометки делаются постоянно: о народных традициях и ритуалах, об обычаях свадеб и похорон, о бане и балах, о придворной жизни и радостях простых горожан. Молодой пизанец старательно выполняет тайный наказ герцога – изучать далёкую и перспективную во всех отношениях страну, фиксируя события с первого дня отъезда до возвращения на родину.
Годами позже именно эти наблюдения лягут в основу его труда «Жизнь и путешествия Филиппо Балатри», состоящего из 9-и объёмных томов. В дальнейшем будет создана и поэтическая версия воспоминаний под названием «Плоды мира».
Здесь, в Москве, состоялась долгожданная встреча с русским царём Петром. Личность 27-летнего монарха станет для певца в некотором смысле эталоном правителя (много позже, при знакомстве с баварским принцем Карлом Альбрехтом, Балатри заметит, что тот имеет в себе огонь, подобный созидательному пламени царя Пётра). Симпатия была взаимной. Царь жалует своему придворному певцу высокую должность спальника и обращается к нему не иначе как «Филиппушка».
Казалось бы, чего ещё желать? Но, как известно, придворная жизнь имеет свои законы. «Пажи, что «спальники» зовутся, смеялись надо мною, обзывая собакою, язычником, проклятьем. Был робок поначалу я, но вскоре язык познав, стал отвечать им смело на оскорбленья словом и пинками».
Больше всего юных бояр раздражало низменное, по их мнению, происхождение «бусурмана». Конфликт со сверстниками часто доходил до лютой драки – и тогда на помощь спешил сам царь, разнимая воюющие стороны. Тёмными холодными ночами Филиппо с тоской в сердце вспоминал Тоскану и свою семью. Как объяснить иноверцам - отпрыскам знатных родов, что в его жилах тоже течёт благородная кровь?
СЕСТРА ФЛОРЕНЦИИ
«Глотком Европы» для юноши становится Немецкая слобода, куда тот впервые приходит, сопровождая Петра I. «Мне казалось, – напишет Балатри в своих записках, – что Слобода – сестра Флоренции, что я опять на родине». Здесь всё было иным, понятным, близким: и одежда по последней моде, и современные танцы, и интеллектуальные игры, и общение без общепринятых условностей. Здесь даже нашёлся – о счастье! – единственный на всю Москву клавесин, и теперь Балатри, аккомпанируя себе – как говорили в те времена «на клавицимбалах», мог в полной мере являть своё виртуозное искусство. Хозяйкой инструмента была фаворитка царя Анна Монс. Визиты в её великолепно обставленный дом были для многих приятным времяпрепровождением. Здесь можно было отдохнуть от дел насущных, насладиться едой и общением с иноверцами, не боясь быть оскорблённым или обманутым.
Анна… Этим именем наполнены многие страницы воспоминаний. Восхищение и преклонение, счастье общения и горечь безответных чувств. Не Анна ли Монс была предметом обожания юноши? Скорее всего – да! Сам Филиппо почти напрямую говорит об этом: «Так как царь любит прекрасную игру в шахматы, – а она (Анна) играет в совершенстве, – то часто бывает в её обществе; когда же царь приводит в этот дом меня – в моей душе всё воспламеняется. Я грустен, задумчив и одинок. А если Анны нет рядом, я становлюсь подобен лунатику: когда мне говорят – молчу в ответ...»
Пётр I не замечает (или не ожидает?) сердечных чувств певца к своей фаворитке и, полностью доверяя ему, обязует того обучить Анну пению, естественно, в итальянской манере. Чем было вызвано данное желание царя? Любил ли он сам этот модный стиль? Нам известно, что подобное пение Пётр Алексеевич слышал во время своего первого заграничного путешествия в 1698 году, о чём свидетельствует ганноверская принцесса София: «Дочь моя заставила петь своих итальянцев. Царю это понравилось, но он заметил, что этот род музыки ему не совсем по душе». Не совсем по душе… Возможно, царь изменил своё мнение под влиянием красоты и изящества голоса Балатри? Так или иначе, но бывать в Немецкой слободе у «петровского соловья» стало одной причиной больше.
«DAI SOROCCA BIELA BOCCA»
А между тем жизнь во дворце для певца становится невыносимой. Молодые бояре продолжают его задирать: «…и власти государя недостаточно, чтобы заставить нас жить в дружбе. Если царь нас не разнимает, он в отчаянии, потому что не знает, как справиться. Скорее роза лишится шипов, чем лицо одного из нас не будет расцарапанным». Помощь приходит от князя П.А. Голицына: чтобы прекратить эти глупые баталии, тот предлагает Балатри переехать жить в его дом, а во дворце появляться только по случаю.
С этого дня всё начинает налаживаться: юноша усердно посещает католическую общину, даёт уроки пения Анне Монс, «забегает на огонёк» – пообедать и получить корреспонденцию из Италии – к венецианцу Франческо Гуаскони. Он приветлив, улыбчив и словоохотлив. «Филиппушка» прекрасно ладит с домочадцами князя Голицына и часто развлекает их всевозможными историями и песнями. Остроты и прибаутки сыплются из его уст, как из рога изобилия. Да что там! Он даже пытается сочинять нечто подобное «на московитском языке»:
Dai sorocca biela bocca stala Sdrusckum danzauatt. Ai Uarona, stara Giona, priscla tocces pomesciatt.
Проходит совсем немного времени – и без «придворного соловья» не обходится ни одно важное событие: здесь и скандальный трёхдневный бал в доме Лефорта с принудительным участием (ослушаться нельзя – приказ царя!) русских дам; здесь и спуск на воду первого парусного линейного корабля «Гото Предестинация», построенного на воронежской верфи; здесь и экзотическое путешествие с Б. Голицыным в ставку калмыцкого хана Аюки. Пользуясь почти безграничной свободой, Балатри бывает в различных местах города. Он присматривается к жизни Москвы и тщательно фиксирует наиболее интересные моменты. Так, он искренне удивлён, что потомки голландских, французских, итальянских переселенцев, живущие в Немецкой слободе, хоть и знают свои языки, «родным считают московский»; что русские не пьют вина, используя его лишь в «своих церквях для причастия и называют потому церковным»; что дамы, осуждавшие европейские наряды, спустя короткое время с гордостью щеголяют в них на балах, а их мужья «в угоду царю остаются дома и занимаются своими делами, лишь приезжая за жёнами под конец праздника, чтобы увезти домой». Надо ли уточнять, что почти ни одно появление певца не обходится без его пения?
Ключевой фигурой наблюдений является, несомненно, молодой и амбициозный русский царь. По мнению Балатри, он благороден и щедр, справедлив и великодушен, терпелив и сострадателен, целомудрен и величав. И хотя в силу своего возраста певец часто бывает субъективен в оценках характеров и событий, масштаб проводимых Петром I реформ его поражает и восхищает. Балатри искренне надеется, что европейский путь развития – единственно верный для России. Оправдывая государевы шаги по принуждению русского народа к новой жизни, он вкладывает в уста Петра следующие строки: «Я не для того заставил их снять московские одежды, чтобы увидеть чучел, разряженных по французской моде, но чтобы освободить их от старых и никому не нужных привычек, которые смешны и мне противны. Я езжу по другим странам не для того, чтобы знакомиться с их религией и обрядами, а для того, чтобы найти то, что из книг не вычитаешь. Для души я у них ничего не прошу, а вот для жизни политической и общественной нахожу у них то, что мне нужно».
Лишь одно обстоятельство печалит «царского соловья»: отсутствие на Руси оперного театра. С иронией и горечью он запишет: «Не спальник я! – певец придворный: салонный, камерный, каптёрный, а также лестничный, кухонный, чердачный – и весьма невздорный! Но только Провиденье знает: театра здесь мне не хватает».
ПОДАЛЬШЕ ОТ СОБЛАЗНА
В 1701 году один из покровителей певца – Пётр Голицын назначен послом в Вену. Вместе с ним к Австрийскому императорскому двору прибыл и Филиппо. Возможно, князь Голицын, опасаясь, как бы царь не прознал о тайной влюблённости мальчишки в Анну Монс, просто увёз его «от греха подальше»? Как бы то ни было, отъезд из России пошёл молодому певцу на пользу: в Австрии у него появляется возможность совершенствовать свой голос у знаменитого певца-контральто Гаэтано Орсини. Филиппо будет жадно постигать вокальные премудрости и тайно надеяться на скорый дебют в опере. В Московию «соловей царя» больше не вернётся.
Долгое время у исследователей певческой судьбы Ф. Балатри не имелось возможности познакомиться ни с операми, в которых тот пел, ни с партиями, сочинёнными для его голоса. В связи с этим бытовало мнение, что-де исполнителем он был посредственным, а блестящую карьеру сделал лишь благодаря своему неутомимому красноречию и лёгкости характера . Но сегодня многие из старинных партитур найдены, и мы искренне восхищаемся голосом Балатри, способным на чудеса вокальной акробатики – чудеса, подвластные лишь певчим птицам.
Много интересных событий ожидает нашего героя: по просьбе отца он возвратится ко двору Козимо III Медичи, станет переводчиком при русском посольстве во Флоренции, чудом спасётся во время кораблекрушения по дороге к Туманному Альбиону, поразит своим камзолом из золотой парчи Людовика XIV, познакомится с Г.Ф. Генделем, вновь поступит на придворную службу – теперь к Баварскому двору. И, конечно же, выйдет на сцену, покорив знатоков мастерством и изысканностью пения. А затем примет монашеский постриг и под именем Теодоро мирно окончит свои дни в Фюрстенфельдском монастыре.
Память истории, как и человеческая жизнь, увы! – коротка… Я разглядываю репродукцию картины, на которой изображён мой герой, и ясно слышу его ироничные рассуждения: «Мой друг растрогается, увидев меня на холсте, неподвижно сидящего, благодаря краскам – живого; того, кто однажды был и кого уже нет и не будет. Ещё какое-то время люди будут интересоваться: «А кто это?» – и ответом будет: «Хм… некто Филиппо Б.», а потом настанет момент, когда никто уже и не вспомнит обо мне, да и сама картина окажется сначала на чердаке, а затем там же, где и оригинал: в склепе».
В ответ на эти слова я грустно улыбаюсь и вновь переношусь фантазией в 1699 год, где юный «Филиппушка» искусно развлекает песенками да прибаутками домочадцев князя Голицына, безуспешно стараясь обратить их в католическую веру.

Николай ШОЛАСТЕР

III место в конкурсе «Моя книжная полка» (2025 год)
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал недолго, вскоре начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством. В 2014 году, освободившись от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить давно терзавший душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
ГОВОРИТЕ ЦВЕТАМ КОМПЛИМЕНТЫ
Как странно, что мы, существа вполне материальные, постоянно мечтаем о каких-то «тонких мирах». Будто нас однажды запихнули в клетку, где всё ограничено формой, временем и пространством. Да ещё строго-настрого приказали считать это единственно возможным состоянием и не искать иного.
А мы, такие непослушные, всё смотрим в небо – воплощение безграничной свободы, словно там и есть настоящая жизнь, а не в этой тесной клетке. И что удивительно, бесконечность нам кажется такой знакомой, будто мы раньше всегда там и жили, только нас зачем-то заставили об этом забыть.
А как замирает сердце, когда летишь, когда не думаешь про вчера и завтра, и что когда-то это всё закончится? Нет, мы понимаем, что это лишь химическая реакция организма, вызванная воображением, и наш волшебный полёт – это иллюзия. Да, иллюзия, но…
Но как прекрасен этот иллюзорный мир, который сеет надежду, что однажды мы таки полетим, презрев крепкие решётки суровой реальности! А пока этого не случилось, мы просто чудим, разговаривая с животными и цветами, воображая, что они понимают нас. И до того мы верим в это их понимание, что нередко даже находим этому подтверждение.
Воображение расширяет наш мир, дополняя реальность вымыслом. Более того, всё наше искусство, будь то музыка, литература или живопись, это всегда взгляд на реальность через воображение. Так нам повезло, мы хотим значительно больше, чем можем, поэтому всегда достраиваем реальность до своего понимания.
И с самого раннего детства нас окружают сказки – сначала детские, а потом уже не детские, именуемые фантастикой. И совсем неважно, насколько эта фантастика научна, главное, она позволяет заглянуть в другой, недоступный нам мир.
Некоторые считают, что увлечение фантастикой – удел слабаков, которые не смогли в этом мире чего-то добиться. Но нет, господа силачи и умники, у каждого найдётся свой предел, и вы – не исключение.
А любовь к сказкам не только тешит уязвлённое самолюбие, но и расширяет наше сознание, чем порождает тягу к открытиям. И все нынешние чудеса когда-нибудь будут раскрыты, измерены со всех сторон и станут просто наукой, которая всегда идёт вслед за воображением.
Мне в жизни несказанно повезло: однажды, в далёкие годы моего детства мои родители приобрели целую антологию современной фантастики. Сейчас она уже не такая современная, но навсегда поселилась в моём сознании и стала частью моего «Я».
Пожалуй, первое моё знакомство с фантастическим миром произошло через роман Джона Уиндема «День Триффидов» о коварных ядовитых растениях, пожелавших завоевать нашу планету. Потом был роман «Почти как люди» Клиффорда Саймака, где нас хотели захватить уже кегельные шары. Только ничего у них так и не вышло.
Затем в мою жизнь вошли произведения (наверно, я уже повзрослел) более философской направленности. Это «Открытие себя» Владимира Савченко, а также «Трудно быть Богом» и «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Там речь шла уже не столько о других мирах, сколько о месте человека в его собственном мире.
Наконец, трогательный рассказ Даниела Киза «Цветы для Элджерона», в который невозможно не влюбиться, и, конечно, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где в чудесном переплетении времён и событий – вся наша жизнь. Ну, и наше в ней место.
Любите фантастику, как любили когда-то детские добрые сказки. Говорите цветам комплименты и не стесняйтесь этого. Однажды вы поймёте: они вам ответили. Нет-нет, вы не сошли с ума, и вам есть, что делать на этом свете. Просто вы на время поднялись над своим физическим телом и увидели то, что было от вас скрыто…
Как странно, что мы, существа вполне материальные, постоянно мечтаем о каких-то «тонких мирах». Будто нас однажды запихнули в клетку, где всё ограничено формой, временем и пространством. Да ещё строго-настрого приказали считать это единственно возможным состоянием и не искать иного.
А мы, такие непослушные, всё смотрим в небо – воплощение безграничной свободы, словно там и есть настоящая жизнь, а не в этой тесной клетке. И что удивительно, бесконечность нам кажется такой знакомой, будто мы раньше всегда там и жили, только нас зачем-то заставили об этом забыть.
А как замирает сердце, когда летишь, когда не думаешь про вчера и завтра, и что когда-то это всё закончится? Нет, мы понимаем, что это лишь химическая реакция организма, вызванная воображением, и наш волшебный полёт – это иллюзия. Да, иллюзия, но…
Но как прекрасен этот иллюзорный мир, который сеет надежду, что однажды мы таки полетим, презрев крепкие решётки суровой реальности! А пока этого не случилось, мы просто чудим, разговаривая с животными и цветами, воображая, что они понимают нас. И до того мы верим в это их понимание, что нередко даже находим этому подтверждение.
Воображение расширяет наш мир, дополняя реальность вымыслом. Более того, всё наше искусство, будь то музыка, литература или живопись, это всегда взгляд на реальность через воображение. Так нам повезло, мы хотим значительно больше, чем можем, поэтому всегда достраиваем реальность до своего понимания.
И с самого раннего детства нас окружают сказки – сначала детские, а потом уже не детские, именуемые фантастикой. И совсем неважно, насколько эта фантастика научна, главное, она позволяет заглянуть в другой, недоступный нам мир.
Некоторые считают, что увлечение фантастикой – удел слабаков, которые не смогли в этом мире чего-то добиться. Но нет, господа силачи и умники, у каждого найдётся свой предел, и вы – не исключение.
А любовь к сказкам не только тешит уязвлённое самолюбие, но и расширяет наше сознание, чем порождает тягу к открытиям. И все нынешние чудеса когда-нибудь будут раскрыты, измерены со всех сторон и станут просто наукой, которая всегда идёт вслед за воображением.
Мне в жизни несказанно повезло: однажды, в далёкие годы моего детства мои родители приобрели целую антологию современной фантастики. Сейчас она уже не такая современная, но навсегда поселилась в моём сознании и стала частью моего «Я».
Пожалуй, первое моё знакомство с фантастическим миром произошло через роман Джона Уиндема «День Триффидов» о коварных ядовитых растениях, пожелавших завоевать нашу планету. Потом был роман «Почти как люди» Клиффорда Саймака, где нас хотели захватить уже кегельные шары. Только ничего у них так и не вышло.
Затем в мою жизнь вошли произведения (наверно, я уже повзрослел) более философской направленности. Это «Открытие себя» Владимира Савченко, а также «Трудно быть Богом» и «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Там речь шла уже не столько о других мирах, сколько о месте человека в его собственном мире.
Наконец, трогательный рассказ Даниела Киза «Цветы для Элджерона», в который невозможно не влюбиться, и, конечно, роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», где в чудесном переплетении времён и событий – вся наша жизнь. Ну, и наше в ней место.
Любите фантастику, как любили когда-то детские добрые сказки. Говорите цветам комплименты и не стесняйтесь этого. Однажды вы поймёте: они вам ответили. Нет-нет, вы не сошли с ума, и вам есть, что делать на этом свете. Просто вы на время поднялись над своим физическим телом и увидели то, что было от вас скрыто…

ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНЫЕ СОЧИНЕНИЯ
КОНКУРСА «СВОБОДНАЯ ТЕМА»
Конкурс «Свободная тема» в составе фестиваля
«Слово» ежегодно проходит в г.Мытищи Московской области
в марте-апреле 2025 года
КОНКУРСА «СВОБОДНАЯ ТЕМА»
Конкурс «Свободная тема» в составе фестиваля
«Слово» ежегодно проходит в г.Мытищи Московской области
в марте-апреле 2025 года
О Молодежном литературном фестивале «Слово» в г.Мытищи
Более ста школьников и молодых людей, увлеченных литературой и творчеством, собрал IV Молодежный литературный фестиваль «Слово», организованный при поддержке Общественной палаты г.о. Мытищи и МООСП России. В течение недели на площадках Библиотечно-информационного центра и культурно-информационного центра «Леонидовка» для школьников и молодых людей проводились встречи с председателем правления Московской областной организации Союза писателей России Сергеем Антиповым, конкурсы, розыгрыши призов, мастер-классы, образовательные и игровые программы от филологов, журналистов, писателей, переводчиков, издателей и деятелей искусств.
– В этом году в фестивале приняли участие не только мытищинцы, к нам присоединились ребята из Москвы, Щелково, Лотошино, Коломны, Архангельска, Санкт-Петербурга, Республики Хакасия. Работала огромная команда людей, чтобы создать праздник для творческих детей и молодежи. Мы с удовольствием будем ждать наших ребят на следующем, пятом юбилейном фестивале «Слово», – отметила автор проекта, член Союза журналистов России Антонина Силуянова.
В заключительный день после насыщенной образовательной программы состоялся литературно-музыкальный вечер. С приветственным словом обратились к гостям фестиваля д.ф.н., профессор кафедры литературы и славистики Литературного института им. Горького Галина Завгородняя, к.ф.н., переводчик Ольга Ткаченко, издатель «Нового слова» Максим Федосов. Перед гостями выступили и юные чтецы, писатели и поэты. Член Союза журналистов России Ирина Мельникова пригласила лучших чтецов и поэтов поговорить о самом главном – о слове. Лучшие чтецы, языковеды и литераторы получили подарки от администрации г.о. Мытищи, издательства «Новое слово», театра «Огниво» и группы компаний «ССТ».
Гуськова Юлия, 14 лет,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 34», г.Мытищи
ВНЕШНЯЯ КРАСОТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАЖНЕЕ КРАСОТЫ ДУШИ
Недавно я прочитала статью, в которой говорилось, что в современном мире многие люди считают, что красота – это главное в человеке. Такие люди много внимания уделяют своей внешности, думают только о том, как хорошо выглядеть в обществе. Они часто недовольны собой, им не нравится их рост, черты лица, цвет волос, и они постоянно что-то хотят в себе изменить, тратя большие деньги на пластические операции. Ведь миром навязывается определенный тип внешности, которому нужно соответствовать, чтобы нравиться и быть популярным в обществе. Ведь если ты красив, то любим, успешен и счастлив. Люди находят себе кумиров, которые соответствуют принятым стандартам, и пытаются быть похожими на них, теряя при этом свою индивидуальность.
Я была удивлена, ведь в статье не было ни слова о том, что в погоне за красотой люди совершенно не вспоминают о красоте душевной. А как же душа? Разве можно беспокоиться только о своей внешности, забывая о внутреннем содержании? А вскоре я лично встретилась с людьми, которые решили, что только красота имеет значение.
Как-то вечером к нам в гости пришла давняя знакомая мамы, и я с трудом узнала ее. У нее были накладные ресницы, увеличенные с помощью косметологии губы, длинные наращенные волосы. Весь вечер она рассказывала, на какие косметические процедуры ходит, и как коллеги на работе завидуют ее красоте, а знакомые восхищаются ее внешностью. Я заметила, что маме, как и мне, было скучно слушать такие пустые разговоры. А ведь раньше эта женщина рассказывала о прочитанных книгах или о том, как помогала в кошачьем приюте или покупала продукты одиноким пожилым людям…Сейчас же она забыла о душе и красоту поставила на первое место, решив, что это возвысит ее в глазах окружающих, позволила тщеславию проникнуть в душу.
А вскоре я заметила, что моя подруга Соня слишком часто стала говорить, что она некрасивая, ей не нравится ее рост, цвет глаз и волос. Соня хочет, чтобы у нее были черного цвета глаза и волосы, чтобы быть похожей на популярную девочку из параллельного класса. Сонечка стала думать, что с людьми дружат только из-за красивой внешности, и чем ты красивее, тем больше у тебя друзей. Я пытаюсь убедить подругу, что у нее красивые зеленые глаза, и что дружу я с ней не из-за ее красивого лица, а потому что она добрая, отзывчивая, помогает бездомным животным. Я говорю, что у нее прекрасная душа и ей не нужно подражать кому-то, ведь настоящие друзья будут ценить ее такой, какая она есть. Ведь именно наши поступки, душевные качества скажут о нас больше, чем красота. И я надеюсь, что она прислушается к моим словам.
Я считаю, что каждый человек уникален по-своему. У кого-то разного цвета глаза, у кого-то кудрявые волосы, кто-то высокий, а некоторые люди низкого роста. И в этом – наша изюминка, наша особенность.
Подростки часто переживают из-за своей внешности, считают себя некрасивыми, сравнивают себя с другими людьми.
Став взрослыми, мы понимаем, что внешняя красота ничего не говорит о человеке, гораздо больше может сказать внутреннее содержание, то, чем наполнена душа.
Конечно, идеальные черты лица способны привлечь к вам внимание, люди захотят с вами дружить, будут восхищаться вашей красотой, но увидев, что вы злые и бессердечные, быстро отвернуться от вас. Какой толк от кукольного личика, если при этом глаза пустые?
Не зря же говорят, что с лица воды не пить. Человека нужно любить не за идеальную внешность, а за внутренний мир. Если человек не близок нам душой, интересами, то и красота его нам быстро наскучит. Люди всегда будут ценить такие качества, как сострадание, бескорыстие, умение сочувствовать чужому горю и поддержать другого человека в трудную минуту.
Не обязательно быть идеально красивым, чтобы тебя любили. Ведь девушка из сказки «Красавица и Чудовище» полюбила чудище вовсе не за внешний вид, а за его душу, за доброе отношение к ней.
В книге Притчей Соломоновых сказано: «Очарование обманчиво, а красота суетна». Ведь красота может исчезнуть, а за миловидностью могут скрываться грехи и пороки души. Я думаю, что внешний вид никак не отражает внутренние качества человека. Люди могут быть с самой обычной, невзрачной внешностью, но добрыми и милосердными к окружающим. Если такой человек улыбнется, то своей улыбкой все озарит вокруг. Какой смысл иметь красивую оболочку, если за ней скрывается гнилая душа? Я вспоминаю, как мудро писал У. Шекспир: «Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу». Ведь какое значение будет иметь внешняя красота, физические данные, когда все это померкнет перед светом души человека? Человек с прекрасной душой освещает все вокруг себя и согревает людей своим теплом.
В заключение я хочу сказать, что общество постоянно навязывает нам свои стандарты красоты, заставляет чувствовать нас себя не идеальными, если мы им не соответствуем. Иногда мы страдаем от высказываний других людей о наших чертах лица. Запомните: мы не можем угодить всем, вам не нужно пытаться что-то менять в своей внешности в угоду кому-то! Все мы красивы по-своему. В погоне за красотой важно не потерять свою душу. Если Бог наградил вас красивым лицом, то не унижайте и не возвышайтесь над другими, и тогда внешняя красота будет наполнена и внутренним светом. Будьте прекрасны не только снаружи, но и внутри. Если у вас будет черная душа, то люди будут сторониться вас, даже если вы имеете ангельскую внешность. Ведь такие качества, как отзывчивость, милосердие, доброта, справедливость, честность никогда не выйдут из моды. И не забывайте, что главное в человеке – это его душа.
Соколова Екатерина, 11 лет
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа №24, г. Мытищи
Вековой спор поколений
Я очень долго наблюдала за людьми. За школьниками, учителями, друзьями да и за родителями тоже. Меня волнует недопонимание между нынешним и прошлым поколениями. Современную молодежь часто критикуют, говоря: «Да что у них вообще в голове?» Частыми причинами осуждения становятся легкомыслие, лень, грубость. Этот список можно продолжать бесконечное количество времени, но я думаю, что моя мысль ясна и так.
Понимаете, ведь если копнуть чуть-чуть глубже, мы можем наладить отношения между всеми поколениями! А ведь многое зависит и от самой молодежи. Их предпочтения выглядят удручающе. Во все времена молодежь курила и выпивала, но у современной молодежи эти «потребности» обострились в несколько раз. И к большому сожалению, лишь малая часть современности заботится о своем здоровье и занимается спортом.
С каждым новым поколением меняются жизненные ориентиры. Остается неизменным одно: осуждение старшим поколением их жизненных ценностей. По мнению старшего поколения, нынешняя молодежь обладает недостаточными знаниями, чрезмерной грубостью и отношением ко множеству вещей без особого внимания. Вообще, взрослые сами забывают, что были такими же маленькими, как их дети, и тоже хотели играть, а не слушать взрослых. Осуждение слышит каждый подросток от своих родителей, которые пытаются защитить его от ошибок в будущем. Молодежь агрессивно отвечает на эти нравоучения, все равно делая по-своему. И это, к сожалению, не изменится никогда.
Современная молодежь отличается от старших более объемными знаниями в компьютерной сфере. В двадцать первом веке стало популярным ведение блога в социальных сетях. Живое общение сменилось общением на сайтах и в чатах. А ведь это не всегда хорошо. Долгое время за компьютером или телефоном может привести к упадку зрения, настроения и сил. Мне кажется, нужно всего, но понемногу.
Современные дети привыкли выражать свои эмоции через смайлики, а не через живую мимику. Если так будет продолжаться, люди могут разучиться выражать свои эмоции и чувства словами, которые более понятно объясняют эмоцию, которую испытывает человек. Смайлики упрощают эмоцию, выражая ее поверхностно, а, возможно, и вообще не так, как хотел донести до собеседника человек.
Но в настоящее время от этого невозможно избавится, так как практически все сейчас перешло в электронный формат. Но в этом есть свои плюсы. Некоторые видеоролики мотивируют молодое поколение вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Это радует, ведь не все сидят сутками в телефонах. Старшее поколение не видит плюсов в электронном образовании, говоря, что все проблемы со здоровьем происходят из-за гаджетов. Иногда взрослые бывают правы, но иногда излишне усердствуют. Взрослые сами, бывает, провоцируют детей на спор или конфликт, а потом обижаются на них. Я считаю, что в этом споре нет правых и виноватых. Каждый имеет свою долю правоты. Важно научиться понимать и принимать мнение каждого. Вот, например, в моей семье существуют семейные советы. На них мы находим решение проблемы, чтобы всем все нравилось.
Эвелина Нагина, 6 класс, 13 лет
Настоящее волшебство ДРУЖБЫ
Что такое дружба? На этот вопрос каждый человек ответит по-разному. Для кого-то это общение и встречи, другие сразу подумают о схожих с друзьями увлечениях; есть люди, которые предпочитают большую часть времени проводить в одиночестве. Мне кажется, самое главное, чтобы дружба была взаимной.
Как же зарождаются крепкие отношения? При знакомстве многие люди, скорее всего, ведут себя неуверенно. Часто они обращают внимание на внешность, а не на характер. С первой встречи очень сложно понять, что чувствует другой человек. Для этого нужно время. Через несколько дней новые знакомые узнают друг друга получше, рассказывают истории из своей жизни, говорят о личном отношении к той или иной ситуации. Из услышанной информации можно сложить впечатление о человеке, предположить, что он думает об окружающих и жизни. Характер обязательно проявится позже в дальнейшем общении. Это может случиться во время какого-то события или при возникновении проблемы у любого из друзей. В разных ситуациях по поведению друга можно определить, какой он: добрый или злой, честный или лгун, принимает ли тебя таким, какой ты есть, или нет.
Как насчёт одинаковых интересов и увлечений? Думаю, здорово, если они есть у друзей. Можно, например, делиться своими достижениями по математике, показывать новые танцы, выученные в хореографической студии, или долго обсуждать любимую книгу. Посмотреть вместе увлекательный фильм, сходить на прогулку в парк или съездить в театр – обо всём этом можно быстро и легко договориться, если есть схожие интересы. Однако так бывает не всегда. Кто-то увлекается футболом, а кто-то – художественной гимнастикой. Как поступить в случае, если матч и соревнования проходят в один день? Куда друзьям лучше сходить? Можно пойти на мероприятия раздельно. Это самое простое решение, хотя приятели наверняка хотели бы провести время вместе. Есть вариант найти место, которое понравится обоим, или попробовать что-то новое.
Из этого всего можно сделать вывод: даже если у друзей разные хобби, им всё равно нравится общаться. Они всегда расскажут о своих увлечениях и выслушают друг друга.
Мне кажется, что дружба не настоящая, если кто-то из приятелей чувствует себя некомфортно, находясь рядом с другим. Ещё важно не только ждать поддержки и сочувствия от своих друзей, но и самому проявлять внимание и заботу о них.
Иногда даже у самых близких приятелей могут возникнуть какие-то разногласия или ссоры. Не стоит сильно на этом зацикливаться, ведь это совершенно нормально. Людям не всегда удается достичь согласия. Но настоящие друзья обязательно найдут путь к примирению. Конечно, со временем, со сменой интересов и взглядов на жизнь приятели могут отдалиться друг от друга, но счастливые воспоминания о дружбе непременно останутся в сердце.
Для меня дружба очень ценна. У меня много подруг, но одна из них ближе всех. Мы с ней очень редко видимся, потому что она живёт в другом городе. Но я искренне радуюсь каждой нашей встрече. Вместе мы разговариваем обо всём на свете, играем в настольные игры, готовим пиццу, пьём чай с блинами. У нас с ней очень хорошие, крепкие отношения. Мы делимся друг с другом своими переживаниями, радостными и негативными мыслями, проблемами. Когда становится грустно, важно, чтобы рядом был человек, с которым можно поговорить. Именно таким человеком стала для меня моя подруга. После бесед с ней я чувствую радость и спокойствие, по-настоящему отдыхаю.
Друзья очень важны в нашей жизни. Они могут поддержать в трудный момент, дать важный совет или просто поднять настроение. Дружба – настоящее волшебство, которое способно сплотить нескольких людей с помощью общих увлечений, похожих характеров и интереса друг к другу. Она очень хрупка, как первые нежные подснежники, но доставляет огромную радость, приносит любовь и легкость в душе.
Более ста школьников и молодых людей, увлеченных литературой и творчеством, собрал IV Молодежный литературный фестиваль «Слово», организованный при поддержке Общественной палаты г.о. Мытищи и МООСП России. В течение недели на площадках Библиотечно-информационного центра и культурно-информационного центра «Леонидовка» для школьников и молодых людей проводились встречи с председателем правления Московской областной организации Союза писателей России Сергеем Антиповым, конкурсы, розыгрыши призов, мастер-классы, образовательные и игровые программы от филологов, журналистов, писателей, переводчиков, издателей и деятелей искусств.
– В этом году в фестивале приняли участие не только мытищинцы, к нам присоединились ребята из Москвы, Щелково, Лотошино, Коломны, Архангельска, Санкт-Петербурга, Республики Хакасия. Работала огромная команда людей, чтобы создать праздник для творческих детей и молодежи. Мы с удовольствием будем ждать наших ребят на следующем, пятом юбилейном фестивале «Слово», – отметила автор проекта, член Союза журналистов России Антонина Силуянова.
В заключительный день после насыщенной образовательной программы состоялся литературно-музыкальный вечер. С приветственным словом обратились к гостям фестиваля д.ф.н., профессор кафедры литературы и славистики Литературного института им. Горького Галина Завгородняя, к.ф.н., переводчик Ольга Ткаченко, издатель «Нового слова» Максим Федосов. Перед гостями выступили и юные чтецы, писатели и поэты. Член Союза журналистов России Ирина Мельникова пригласила лучших чтецов и поэтов поговорить о самом главном – о слове. Лучшие чтецы, языковеды и литераторы получили подарки от администрации г.о. Мытищи, издательства «Новое слово», театра «Огниво» и группы компаний «ССТ».
Гуськова Юлия, 14 лет,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 34», г.Мытищи
ВНЕШНЯЯ КРАСОТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАЖНЕЕ КРАСОТЫ ДУШИ
Недавно я прочитала статью, в которой говорилось, что в современном мире многие люди считают, что красота – это главное в человеке. Такие люди много внимания уделяют своей внешности, думают только о том, как хорошо выглядеть в обществе. Они часто недовольны собой, им не нравится их рост, черты лица, цвет волос, и они постоянно что-то хотят в себе изменить, тратя большие деньги на пластические операции. Ведь миром навязывается определенный тип внешности, которому нужно соответствовать, чтобы нравиться и быть популярным в обществе. Ведь если ты красив, то любим, успешен и счастлив. Люди находят себе кумиров, которые соответствуют принятым стандартам, и пытаются быть похожими на них, теряя при этом свою индивидуальность.
Я была удивлена, ведь в статье не было ни слова о том, что в погоне за красотой люди совершенно не вспоминают о красоте душевной. А как же душа? Разве можно беспокоиться только о своей внешности, забывая о внутреннем содержании? А вскоре я лично встретилась с людьми, которые решили, что только красота имеет значение.
Как-то вечером к нам в гости пришла давняя знакомая мамы, и я с трудом узнала ее. У нее были накладные ресницы, увеличенные с помощью косметологии губы, длинные наращенные волосы. Весь вечер она рассказывала, на какие косметические процедуры ходит, и как коллеги на работе завидуют ее красоте, а знакомые восхищаются ее внешностью. Я заметила, что маме, как и мне, было скучно слушать такие пустые разговоры. А ведь раньше эта женщина рассказывала о прочитанных книгах или о том, как помогала в кошачьем приюте или покупала продукты одиноким пожилым людям…Сейчас же она забыла о душе и красоту поставила на первое место, решив, что это возвысит ее в глазах окружающих, позволила тщеславию проникнуть в душу.
А вскоре я заметила, что моя подруга Соня слишком часто стала говорить, что она некрасивая, ей не нравится ее рост, цвет глаз и волос. Соня хочет, чтобы у нее были черного цвета глаза и волосы, чтобы быть похожей на популярную девочку из параллельного класса. Сонечка стала думать, что с людьми дружат только из-за красивой внешности, и чем ты красивее, тем больше у тебя друзей. Я пытаюсь убедить подругу, что у нее красивые зеленые глаза, и что дружу я с ней не из-за ее красивого лица, а потому что она добрая, отзывчивая, помогает бездомным животным. Я говорю, что у нее прекрасная душа и ей не нужно подражать кому-то, ведь настоящие друзья будут ценить ее такой, какая она есть. Ведь именно наши поступки, душевные качества скажут о нас больше, чем красота. И я надеюсь, что она прислушается к моим словам.
Я считаю, что каждый человек уникален по-своему. У кого-то разного цвета глаза, у кого-то кудрявые волосы, кто-то высокий, а некоторые люди низкого роста. И в этом – наша изюминка, наша особенность.
Подростки часто переживают из-за своей внешности, считают себя некрасивыми, сравнивают себя с другими людьми.
Став взрослыми, мы понимаем, что внешняя красота ничего не говорит о человеке, гораздо больше может сказать внутреннее содержание, то, чем наполнена душа.
Конечно, идеальные черты лица способны привлечь к вам внимание, люди захотят с вами дружить, будут восхищаться вашей красотой, но увидев, что вы злые и бессердечные, быстро отвернуться от вас. Какой толк от кукольного личика, если при этом глаза пустые?
Не зря же говорят, что с лица воды не пить. Человека нужно любить не за идеальную внешность, а за внутренний мир. Если человек не близок нам душой, интересами, то и красота его нам быстро наскучит. Люди всегда будут ценить такие качества, как сострадание, бескорыстие, умение сочувствовать чужому горю и поддержать другого человека в трудную минуту.
Не обязательно быть идеально красивым, чтобы тебя любили. Ведь девушка из сказки «Красавица и Чудовище» полюбила чудище вовсе не за внешний вид, а за его душу, за доброе отношение к ней.
В книге Притчей Соломоновых сказано: «Очарование обманчиво, а красота суетна». Ведь красота может исчезнуть, а за миловидностью могут скрываться грехи и пороки души. Я думаю, что внешний вид никак не отражает внутренние качества человека. Люди могут быть с самой обычной, невзрачной внешностью, но добрыми и милосердными к окружающим. Если такой человек улыбнется, то своей улыбкой все озарит вокруг. Какой смысл иметь красивую оболочку, если за ней скрывается гнилая душа? Я вспоминаю, как мудро писал У. Шекспир: «Влюбиться можно в красоту, но полюбить лишь только душу». Ведь какое значение будет иметь внешняя красота, физические данные, когда все это померкнет перед светом души человека? Человек с прекрасной душой освещает все вокруг себя и согревает людей своим теплом.
В заключение я хочу сказать, что общество постоянно навязывает нам свои стандарты красоты, заставляет чувствовать нас себя не идеальными, если мы им не соответствуем. Иногда мы страдаем от высказываний других людей о наших чертах лица. Запомните: мы не можем угодить всем, вам не нужно пытаться что-то менять в своей внешности в угоду кому-то! Все мы красивы по-своему. В погоне за красотой важно не потерять свою душу. Если Бог наградил вас красивым лицом, то не унижайте и не возвышайтесь над другими, и тогда внешняя красота будет наполнена и внутренним светом. Будьте прекрасны не только снаружи, но и внутри. Если у вас будет черная душа, то люди будут сторониться вас, даже если вы имеете ангельскую внешность. Ведь такие качества, как отзывчивость, милосердие, доброта, справедливость, честность никогда не выйдут из моды. И не забывайте, что главное в человеке – это его душа.
Соколова Екатерина, 11 лет
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа №24, г. Мытищи
Вековой спор поколений
Я очень долго наблюдала за людьми. За школьниками, учителями, друзьями да и за родителями тоже. Меня волнует недопонимание между нынешним и прошлым поколениями. Современную молодежь часто критикуют, говоря: «Да что у них вообще в голове?» Частыми причинами осуждения становятся легкомыслие, лень, грубость. Этот список можно продолжать бесконечное количество времени, но я думаю, что моя мысль ясна и так.
Понимаете, ведь если копнуть чуть-чуть глубже, мы можем наладить отношения между всеми поколениями! А ведь многое зависит и от самой молодежи. Их предпочтения выглядят удручающе. Во все времена молодежь курила и выпивала, но у современной молодежи эти «потребности» обострились в несколько раз. И к большому сожалению, лишь малая часть современности заботится о своем здоровье и занимается спортом.
С каждым новым поколением меняются жизненные ориентиры. Остается неизменным одно: осуждение старшим поколением их жизненных ценностей. По мнению старшего поколения, нынешняя молодежь обладает недостаточными знаниями, чрезмерной грубостью и отношением ко множеству вещей без особого внимания. Вообще, взрослые сами забывают, что были такими же маленькими, как их дети, и тоже хотели играть, а не слушать взрослых. Осуждение слышит каждый подросток от своих родителей, которые пытаются защитить его от ошибок в будущем. Молодежь агрессивно отвечает на эти нравоучения, все равно делая по-своему. И это, к сожалению, не изменится никогда.
Современная молодежь отличается от старших более объемными знаниями в компьютерной сфере. В двадцать первом веке стало популярным ведение блога в социальных сетях. Живое общение сменилось общением на сайтах и в чатах. А ведь это не всегда хорошо. Долгое время за компьютером или телефоном может привести к упадку зрения, настроения и сил. Мне кажется, нужно всего, но понемногу.
Современные дети привыкли выражать свои эмоции через смайлики, а не через живую мимику. Если так будет продолжаться, люди могут разучиться выражать свои эмоции и чувства словами, которые более понятно объясняют эмоцию, которую испытывает человек. Смайлики упрощают эмоцию, выражая ее поверхностно, а, возможно, и вообще не так, как хотел донести до собеседника человек.
Но в настоящее время от этого невозможно избавится, так как практически все сейчас перешло в электронный формат. Но в этом есть свои плюсы. Некоторые видеоролики мотивируют молодое поколение вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Это радует, ведь не все сидят сутками в телефонах. Старшее поколение не видит плюсов в электронном образовании, говоря, что все проблемы со здоровьем происходят из-за гаджетов. Иногда взрослые бывают правы, но иногда излишне усердствуют. Взрослые сами, бывает, провоцируют детей на спор или конфликт, а потом обижаются на них. Я считаю, что в этом споре нет правых и виноватых. Каждый имеет свою долю правоты. Важно научиться понимать и принимать мнение каждого. Вот, например, в моей семье существуют семейные советы. На них мы находим решение проблемы, чтобы всем все нравилось.
Эвелина Нагина, 6 класс, 13 лет
Настоящее волшебство ДРУЖБЫ
Что такое дружба? На этот вопрос каждый человек ответит по-разному. Для кого-то это общение и встречи, другие сразу подумают о схожих с друзьями увлечениях; есть люди, которые предпочитают большую часть времени проводить в одиночестве. Мне кажется, самое главное, чтобы дружба была взаимной.
Как же зарождаются крепкие отношения? При знакомстве многие люди, скорее всего, ведут себя неуверенно. Часто они обращают внимание на внешность, а не на характер. С первой встречи очень сложно понять, что чувствует другой человек. Для этого нужно время. Через несколько дней новые знакомые узнают друг друга получше, рассказывают истории из своей жизни, говорят о личном отношении к той или иной ситуации. Из услышанной информации можно сложить впечатление о человеке, предположить, что он думает об окружающих и жизни. Характер обязательно проявится позже в дальнейшем общении. Это может случиться во время какого-то события или при возникновении проблемы у любого из друзей. В разных ситуациях по поведению друга можно определить, какой он: добрый или злой, честный или лгун, принимает ли тебя таким, какой ты есть, или нет.
Как насчёт одинаковых интересов и увлечений? Думаю, здорово, если они есть у друзей. Можно, например, делиться своими достижениями по математике, показывать новые танцы, выученные в хореографической студии, или долго обсуждать любимую книгу. Посмотреть вместе увлекательный фильм, сходить на прогулку в парк или съездить в театр – обо всём этом можно быстро и легко договориться, если есть схожие интересы. Однако так бывает не всегда. Кто-то увлекается футболом, а кто-то – художественной гимнастикой. Как поступить в случае, если матч и соревнования проходят в один день? Куда друзьям лучше сходить? Можно пойти на мероприятия раздельно. Это самое простое решение, хотя приятели наверняка хотели бы провести время вместе. Есть вариант найти место, которое понравится обоим, или попробовать что-то новое.
Из этого всего можно сделать вывод: даже если у друзей разные хобби, им всё равно нравится общаться. Они всегда расскажут о своих увлечениях и выслушают друг друга.
Мне кажется, что дружба не настоящая, если кто-то из приятелей чувствует себя некомфортно, находясь рядом с другим. Ещё важно не только ждать поддержки и сочувствия от своих друзей, но и самому проявлять внимание и заботу о них.
Иногда даже у самых близких приятелей могут возникнуть какие-то разногласия или ссоры. Не стоит сильно на этом зацикливаться, ведь это совершенно нормально. Людям не всегда удается достичь согласия. Но настоящие друзья обязательно найдут путь к примирению. Конечно, со временем, со сменой интересов и взглядов на жизнь приятели могут отдалиться друг от друга, но счастливые воспоминания о дружбе непременно останутся в сердце.
Для меня дружба очень ценна. У меня много подруг, но одна из них ближе всех. Мы с ней очень редко видимся, потому что она живёт в другом городе. Но я искренне радуюсь каждой нашей встрече. Вместе мы разговариваем обо всём на свете, играем в настольные игры, готовим пиццу, пьём чай с блинами. У нас с ней очень хорошие, крепкие отношения. Мы делимся друг с другом своими переживаниями, радостными и негативными мыслями, проблемами. Когда становится грустно, важно, чтобы рядом был человек, с которым можно поговорить. Именно таким человеком стала для меня моя подруга. После бесед с ней я чувствую радость и спокойствие, по-настоящему отдыхаю.
Друзья очень важны в нашей жизни. Они могут поддержать в трудный момент, дать важный совет или просто поднять настроение. Дружба – настоящее волшебство, которое способно сплотить нескольких людей с помощью общих увлечений, похожих характеров и интереса друг к другу. Она очень хрупка, как первые нежные подснежники, но доставляет огромную радость, приносит любовь и легкость в душе.
К 80-летию МАСТЕРА
«ВСЕ ПРОСТО: НУЖНО ВЗЯТЬ ФОРМУ РАССКАЗА
И НАПОЛНИТЬ ЕЕ НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ»
Посвящается светлой памяти Вячеслава Сукачева (1945-2024)
«ВСЕ ПРОСТО: НУЖНО ВЗЯТЬ ФОРМУ РАССКАЗА
И НАПОЛНИТЬ ЕЕ НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ»
Посвящается светлой памяти Вячеслава Сукачева (1945-2024)

ВЯЧЕСЛАВ СУКАЧЕВ
Родился в 1945 году на севере Казахстана в с. Белое. Первой серьезной публикацией он считает свою повесть «Огненный десант», опубликованную в журнале «Дальний Восток» в 1973 году, первой творческой школой – семинар Виктора Астафьева на зональном Иркутском совещании в 1974 году. В 1975 вышла его первая книга «У светлой пристани» с предисловием Виктора Астафьева. В 1979 году Вячеслав Сукачев окончил Высшие Литературные курсы в Москве. Автор более двадцати книг прозы. Член редколлегии «Литературной России» с 1976 по 1989 год. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат губернаторской премии в области литературы, лауреат премии за лучший рассказ года в газетах «Труд», «Литературная Россия», журналах «Молодая Гвардия», «Советская женщина» и др. Член жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Член Союза Писателей СССР (России) с 1975 года. Главный редактор журнала «Дальний Восток» с 2000 по 2011 год включительно. Книги В. Сукачева выходили в «Молодой гвардии», «Современнике», «Советской России», «Советском писателе», «Роман-газете» и других издательствах. По его повести «Любава» был написан киносценарий, а по рассказам снято более десяти короткометражных фильмов.
Родился в 1945 году на севере Казахстана в с. Белое. Первой серьезной публикацией он считает свою повесть «Огненный десант», опубликованную в журнале «Дальний Восток» в 1973 году, первой творческой школой – семинар Виктора Астафьева на зональном Иркутском совещании в 1974 году. В 1975 вышла его первая книга «У светлой пристани» с предисловием Виктора Астафьева. В 1979 году Вячеслав Сукачев окончил Высшие Литературные курсы в Москве. Автор более двадцати книг прозы. Член редколлегии «Литературной России» с 1976 по 1989 год. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат губернаторской премии в области литературы, лауреат премии за лучший рассказ года в газетах «Труд», «Литературная Россия», журналах «Молодая Гвардия», «Советская женщина» и др. Член жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Член Союза Писателей СССР (России) с 1975 года. Главный редактор журнала «Дальний Восток» с 2000 по 2011 год включительно. Книги В. Сукачева выходили в «Молодой гвардии», «Современнике», «Советской России», «Советском писателе», «Роман-газете» и других издательствах. По его повести «Любава» был написан киносценарий, а по рассказам снято более десяти короткометражных фильмов.
В прошлом году мы познакомились с творчеством одного из выдающихся писателей конца XX века – Вячеславом Сукачевым (подробности знакомства вы можете прочитать ниже). Мы запланировали ряд публикаций с Вячеславом Викторовичем, задумали организовать под его руководством Литературную мастерскую, стали задумываться над его новой книгой. Но... все оборвал тихий сентябрьский день, когда Вячеслава Викторовича не стало. Он не дожил буквально одного года до своего 80-летнего юбилея. Но мы успели тогда, в 2024 году, записать интервью с ним, в котором он дал некоторые советы и пожелал успеха всем, кто начинает свою писательскую биографию. И в этом году мы решили еще раз повторить его интервью (вчитайтесь!) и опубликовать два рассказа Вячеслава Викторовича.
В подмосковном городе Долгопрудном живет сегодня писатель, внесший большой вклад в развитие советской и российской литературы, лауреат многочисленных литературных премий, автор нескольких десятков книг, выходивших в СССР огромными тиражами. На протяжении более десяти лет он был главным редактором журнала «Дальний Восток» – этому популярному изданию многие молодые авторы обязаны дальнейшей творческой судьбой...
В течение десяти лет у Вячеслава Сукачева случился в буквальном смысле «обвал» книжных изданий: «У светлой пристани» (Хабаровск, 1975 год) «Любава» (Новосибирск, 1976), «В небе и на земле» (Хабаровск, 1977), «В той стороне, где жизнь и солнце» («Молодая гвардия», 1977), «Карысь» (Хабаровск, 1978), «Голубые травы» («Молодая гвардия», 1979), «Горькие радости» (Владивосток, 1979), «На перекрестках любви» (Хабаровск, 1979), «У реки» (Хабаровск, 1981), «Причалы» («Советский писатель», 1982), «Свидание у реки» («Современник», 1983), «Белые птицы детства» («Детская литература», 1984), «У порога» (Барнаул, 1985), «Особое мнение» («Современник», 1987), «Причалы любви» (Барнаул, 1987) и др. Герои произведений Вячеслава Сукачева – люди разных профессий и поколений, ищущие, сомневающиеся, счастливые и несчастные, но непременно – Любящие. Немало книг Сукачева посвящены Великой Отечественной войне.
В Долгопрудном писателя посетил главный редактор издательства «Новое слово» Максим Федосов (на фото - справа). Поговорили о перспективах короткой формы в современной литературе, истоках русских литературных традиций, новых совместных проектах и многом другом.
Приводим выдержку из нашей беседы.
В подмосковном городе Долгопрудном живет сегодня писатель, внесший большой вклад в развитие советской и российской литературы, лауреат многочисленных литературных премий, автор нескольких десятков книг, выходивших в СССР огромными тиражами. На протяжении более десяти лет он был главным редактором журнала «Дальний Восток» – этому популярному изданию многие молодые авторы обязаны дальнейшей творческой судьбой...
В течение десяти лет у Вячеслава Сукачева случился в буквальном смысле «обвал» книжных изданий: «У светлой пристани» (Хабаровск, 1975 год) «Любава» (Новосибирск, 1976), «В небе и на земле» (Хабаровск, 1977), «В той стороне, где жизнь и солнце» («Молодая гвардия», 1977), «Карысь» (Хабаровск, 1978), «Голубые травы» («Молодая гвардия», 1979), «Горькие радости» (Владивосток, 1979), «На перекрестках любви» (Хабаровск, 1979), «У реки» (Хабаровск, 1981), «Причалы» («Советский писатель», 1982), «Свидание у реки» («Современник», 1983), «Белые птицы детства» («Детская литература», 1984), «У порога» (Барнаул, 1985), «Особое мнение» («Современник», 1987), «Причалы любви» (Барнаул, 1987) и др. Герои произведений Вячеслава Сукачева – люди разных профессий и поколений, ищущие, сомневающиеся, счастливые и несчастные, но непременно – Любящие. Немало книг Сукачева посвящены Великой Отечественной войне.
В Долгопрудном писателя посетил главный редактор издательства «Новое слово» Максим Федосов (на фото - справа). Поговорили о перспективах короткой формы в современной литературе, истоках русских литературных традиций, новых совместных проектах и многом другом.
Приводим выдержку из нашей беседы.

– Вячеслав Викторович, в нашем издательстве много внимания уделяется жанру рассказа, так называемой «малой прозе». Есть ли у этой творческой формы какие-то надежды на будущее?
– Я думаю, что любой литературный жанр безусловно имеет перспективу на будущее. Взять и сказать, что завтра никаких рассказов или повестей не будет, невозможно. Жизнь продолжается, и вместе с ней продолжается творческое развитие. Так было во все времена и, думается, так будет и дальше. Другое дело, что нашему государству необходимо мотивировать начинающего автора, чтобы у него появилось желание писать и публиковаться. Да и гражданскую позицию необходимо воспитывать у такого человека. И начинать нужно со школы, с азов: мы просто обязаны давать молодым людям правильные ориентиры, а не меркантильные установки, бог знает кем и зачем поставленные сегодня во главу угла. Увы, к большому сожалению как-то так получилось, что на первые роли вышло сейчас то, как человек живет, есть у него машина или нет, какая квартира, а вот духовная суть куда-то подевалась...
А ведь у нас неисчерпаемо богатые духовные традиции, идущие от Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Шолохова, Астафьева и Распутина. В произведениях этих творцов такой кладезь духовности, что черпать нам из него и никогда не перечерпать. Казалось бы, бери, пользуйся, развивайся. Увы и ах, все это в наше лихое время с нашими лихими управленцами как-то само собою постепенно затухло, а то и вообще исчезло с литературного горизонта... Конечно, вся наша жизнь развивается по цикличному принципу, как штормовое море: вначале приходят небольшие волны, потом – побольше, потом – девятый вал, а после него все идет на спад, снова затихают волны и так – до полного штиля. Так и наша жизнь, она не бывает однородной. Будем надеяться, что новый подъем духовности и творческой мощи у нас впереди. Например, в середине прошлого века, сразу после войны в литературу пришли очень талантливые люди. Какие имена, какие фамилии, я даже не берусь все их перечислить – что в поэзии, что в прозе! Они подняли уровень нашей литературы на недосягаемую высоту, одержав еще одну победу, теперь уже – на духовном, творческом фронте.
– Вячеслав Викторович, вы являетесь членом жюри национальной премии «Большая книга». Скажите, пожалуйста, каков творческий уровень прозаических произведений, поступающих к вам на прочтение?
– Трудно припомнить все, что я перечитал как член жюри за последний десяток лет. В год получается читать по двенадцать и более произведений самых разных авторов. Поэтому я не буду перечислять их поименно, скажу только, что высший балл (а конкурс проводится по десятибалльной системе) за все эти годы я поставил, увы, только трем авторам, хотя, повторюсь, прочел более ста книг. А так, в основном, творческий уровень предложенных на прочтение книг тянет на шесть, семь, очень редко на восемь баллов... В моем понимании, даже это уже очень и очень неплохо. А все остальное значительно ниже среднего уровня. А зайдите в любой книжный магазин – полки ломятся от обилия книг... А вот какие это книги в основном – даже и говорить не хочется.
Сейчас на стилистику, на образность художественного языка почти никто внимания не обращает. В лучшем случае, если зацепит тебя какой-то сюжетный ход, какая-то любопытная ситуация. Все остальное – удивительная преснятина, похожая друг на друга, как фантики от конфет. Но даже если нашел писатель любопытный факт из жизни, его еще нужно суметь подать. А с этим в современной литературе, на мой взгляд, бедновато. Детективы, фантастика, сентиментальная женская проза как-то исподволь подменили настоящую литературу, создав своеобразную эрзац-прозу. Как долго это будет продолжаться – бог его знает. Хочется верить, что новый взлет нашей литературы еще впереди. А заодно возродится и станет востребованным в вальяжных издательствах, поднаторевших на зарабатывании денег, жанр рассказа. И появятся у нас новых чеховы и бунины, куприны и нагибины, носовы и казаковы. Но это, на мой взгляд, всецело будет зависеть от издательской политики современных глубокомудрых издателей, в одночасье переродившихся в современной жизни в эффективных менеджеров...
Мне, кстати, очень нравится, что ваше издательство – «Новое слово» – уделяет особое внимание жанру рассказа. Когда я узнал про ваш издательский сервис, выпускающий несколько альманахов разных направлений, меня это приятно удивило. Думаю: кто же это взялся в наше время за такое неблагодарное дело? Как можно посвятить такому формату целую издательскую программу? Даже в советские времена писать и издавать рассказы, как, впрочем, и стихи, было неблагодарным занятием. Другое дело – роман, тем более, – трилогия, в таких случаях и автор хорошо зарабатывал, и издательство оставалось с приличной прибылью. А жить-то как-то надо, семью содержать, внуков поддерживать, вот и бежали писатели сломя голову от малой прозы к эпическим фолиантам. Написал ты рассказ, тиснул его (если повезло, конечно) в «толстом» журнале, получил 100-150 рублей и – гуляй, Ваня, во всю ивановскую.
– В свое время в издательстве «Прогресс» выходила серия сборников новелл разных стран и культур: сборники французской новеллы, английской, итальянской...Есть много известных писателей, посвятивших себя жанру малой прозы. Взять хотя бы Антона Чехова, Ивана Бунина Стефана Цвейга, Проспера Мериме. Да и вообще многие известные писатели начинали с новелл – Эдгар По, Чарльз Диккенс, Лев Толстой, Владимир Набоков. И, надо сказать, ранние рассказы этих писателей буквально пропитаны поэтикой, образами, яркими сюжетами.
– В наше время, когда мы начинали писать, в литературную студию приходили семьдесят процентов поэтов, двадцать процентов – прозаиков и десять – критиков. Через пару лет большинство поэтов неизбежно переходили в прозу. Но вот что интересно: если начинающий прозаик прошел поэтическую школу, если в его творческий багаж был заложен стихотворный опыт, то из него, как правило, со временем получался вполне приличный прозаик. Да я и сам начинал со стихов: печатался в газетах и тонких журналах, и даже небольшой стихотворный сборник умудрился издать. Стихи, как правило, дисциплинируют, учат мыслить образами, пользоваться метафорой и сравнением. Я и драматургией занимался, писал одноактные пьесы, не понимая, почему и зачем. Значительно позже меня осенило, что таким образом я учился писать диалоги. Да и вообще, эта форма помогает начинающему литератору быть точным и индивидуальным в передаче разговорной речи, учит не размазывать разговор, по выражению Бабеля, словно «кашу по столу». Кстати, Исаак Бабель однажды признался, что переписывал один из своих рассказов… двадцать восемь раз! Он очень внимательно работал над вариантами каждого слова, каждого предложения. А у нас сегодня: написали пару страниц и скорее выкладывать в Интернет – вот, смотрите, какой я рассказ написал!
– Я недавно прочел ваш рассказ «Черепаха» в коллективном сборнике за 1977 год и вдруг осознал, что в 90-е годы XX века выпуск этих сборников прекратили. А мы в это время в издательстве рассматривали проект выпуска отдельного сборника рассказов, и у нас было большое желание назвать его именно «Рассказ-24». Так вот, Вячеслав Викторович, я хотел бы с Вашей помощью перебросить своеобразный «мостик» из 1977 года в 2024-й... А ведь это – без малого 50 лет! Вот и хотелось бы, чтобы Вы дали своеобразное творческое напутствие авторам альманаха «Рассказ-24».
– На мой взгляд, вы беретесь за очень благородное и честное дело – перебросить творческий мостик через такую пропасть времени, почти половину века. Поменялись времена, люди, условия жизни, но самое главное – сменились приоритеты: сегодня за советом и добрым словом напутствия идут не к мастерам слова, как это было еще тридцать лет назад, а к лицедеям и политикам. А что они могут насоветовать, легко догадаться, судя по современным образцам театральных и политических опусов. Пошлость и бесконечное вранье с лицемерием – вот истинный удел современных поводырей от политики и культуры. Да и при нашем сумасшедшем ритме жизни – телефонном, интернетном – людей просто-напросто рвут на куски. Какой там двадцать восемь раз переписать рассказ, успеть бы вычитать его до запуска в печать! Мне кажется, раньше люди, занимавшиеся короткой формой прозы, были более усидчивые, целеустремленные и трудолюбивые, наконец. Ничто не могло отвлечь их от творчества: днем на работе, ночью за письменным столом – да пожалуйста! Хоть до скончания веков готовы были начинающие писатели на такой «трудовой подвиг». А сегодня, увы, слишком много каких-то соблазнов: и на престижную презентацию заглянуть, и на выставку модного художника успеть, и на книжную ярмарку заглянуть, и с друзьями-подругами за чаркой доброго вина посидеть... На творчество, – настоящее, художественное, трудное и вдохновляющее, – увы, очень часто не остается времени. А надо писать, надо трудиться – «и день и ночь, и день и ночь»...
Так что дело Вы затеяли богоугодное, и очень хотелось бы, чтобы всё у Вас получилось (первый номер альманаха «Рассказ-24» уже вышел — прим. редактора), чтобы и талантливые авторы нашлись, и средства не истаяли после первого выпуска. Ну, а каким будет художественный уровень публикуемой в альманахе прозы, целиком и полностью зависит от того, кто и как будет ее отбирать. В конце концов, выбрать, думаю, будет из чего. Все-таки у нас в России таланты пока не перевелись, и, даст Бог, никогда не переведутся.
– Насчет «как отбирать»: я был большим фанатом журнала «Литературная учеба», на нем, можно сказать, вырос. Когда мне было лет восемнадцать, он еще выходил в свет. Я открывал этот удивительный журнал, а там сразу после рассказа уважаемый критик делал его разбор. Причем, такой разбор, что будь здоров! Если я сейчас начну своих начинающих писателей так же разбирать, половина из них просто сбежит. Тем не менее, здоровая критика – это, на мой взгляд, очень хорошая и полезная школа. Я готов после согласия автора разобрать его рассказ, чтобы другие авторы принципы этого разбора могли применить к себе. Ведь доброжелательная критика, так сказать, по делу – безусловно вдохновляет автора, помогает справиться с какими-то недостатками и просчетами. Так что впереди у нас еще много работы... Учиться читать, наблюдать, анализировать необходимо постоянно.Вместе с нашими авторами мы планируем создать «Мастерскую рассказа», где будем вместе читать, наблюдать, анализировать и работать с текстами. Так что «мостик», о котором я говорил выше, нам нужен для того, чтобы из накопленного опыта прошлого взять лучшее, взять самое главное, что есть в современной литературе.
– Это очень хорошая идея – насчет «Мастерской рассказа». Даже я попробовал бы как-нибудь поделиться своим творческим опытом в рамках вашей мастерской. Я уже посмотрел несколько публикаций в альманахе «Рассказ-24» и скажу сразу, что есть там неплохие работы, приличные рассказы. В конце концов, надо пробовать, надо дерзать! Как известно, кто пробует и ищет, у того чаще всего и получается. Все-таки в России особое отношение к литературе, к ее традициям, наработанным веками. Это и есть главная задача творчества – сохранить форму и мастерство прошлых времен и наполнить его новым содержанием. Я Вам желаю в этом много плодотворного труда и Божьей искры. Уверен, что у Вас непременно всё получится!
– Я думаю, что любой литературный жанр безусловно имеет перспективу на будущее. Взять и сказать, что завтра никаких рассказов или повестей не будет, невозможно. Жизнь продолжается, и вместе с ней продолжается творческое развитие. Так было во все времена и, думается, так будет и дальше. Другое дело, что нашему государству необходимо мотивировать начинающего автора, чтобы у него появилось желание писать и публиковаться. Да и гражданскую позицию необходимо воспитывать у такого человека. И начинать нужно со школы, с азов: мы просто обязаны давать молодым людям правильные ориентиры, а не меркантильные установки, бог знает кем и зачем поставленные сегодня во главу угла. Увы, к большому сожалению как-то так получилось, что на первые роли вышло сейчас то, как человек живет, есть у него машина или нет, какая квартира, а вот духовная суть куда-то подевалась...
А ведь у нас неисчерпаемо богатые духовные традиции, идущие от Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Шолохова, Астафьева и Распутина. В произведениях этих творцов такой кладезь духовности, что черпать нам из него и никогда не перечерпать. Казалось бы, бери, пользуйся, развивайся. Увы и ах, все это в наше лихое время с нашими лихими управленцами как-то само собою постепенно затухло, а то и вообще исчезло с литературного горизонта... Конечно, вся наша жизнь развивается по цикличному принципу, как штормовое море: вначале приходят небольшие волны, потом – побольше, потом – девятый вал, а после него все идет на спад, снова затихают волны и так – до полного штиля. Так и наша жизнь, она не бывает однородной. Будем надеяться, что новый подъем духовности и творческой мощи у нас впереди. Например, в середине прошлого века, сразу после войны в литературу пришли очень талантливые люди. Какие имена, какие фамилии, я даже не берусь все их перечислить – что в поэзии, что в прозе! Они подняли уровень нашей литературы на недосягаемую высоту, одержав еще одну победу, теперь уже – на духовном, творческом фронте.
– Вячеслав Викторович, вы являетесь членом жюри национальной премии «Большая книга». Скажите, пожалуйста, каков творческий уровень прозаических произведений, поступающих к вам на прочтение?
– Трудно припомнить все, что я перечитал как член жюри за последний десяток лет. В год получается читать по двенадцать и более произведений самых разных авторов. Поэтому я не буду перечислять их поименно, скажу только, что высший балл (а конкурс проводится по десятибалльной системе) за все эти годы я поставил, увы, только трем авторам, хотя, повторюсь, прочел более ста книг. А так, в основном, творческий уровень предложенных на прочтение книг тянет на шесть, семь, очень редко на восемь баллов... В моем понимании, даже это уже очень и очень неплохо. А все остальное значительно ниже среднего уровня. А зайдите в любой книжный магазин – полки ломятся от обилия книг... А вот какие это книги в основном – даже и говорить не хочется.
Сейчас на стилистику, на образность художественного языка почти никто внимания не обращает. В лучшем случае, если зацепит тебя какой-то сюжетный ход, какая-то любопытная ситуация. Все остальное – удивительная преснятина, похожая друг на друга, как фантики от конфет. Но даже если нашел писатель любопытный факт из жизни, его еще нужно суметь подать. А с этим в современной литературе, на мой взгляд, бедновато. Детективы, фантастика, сентиментальная женская проза как-то исподволь подменили настоящую литературу, создав своеобразную эрзац-прозу. Как долго это будет продолжаться – бог его знает. Хочется верить, что новый взлет нашей литературы еще впереди. А заодно возродится и станет востребованным в вальяжных издательствах, поднаторевших на зарабатывании денег, жанр рассказа. И появятся у нас новых чеховы и бунины, куприны и нагибины, носовы и казаковы. Но это, на мой взгляд, всецело будет зависеть от издательской политики современных глубокомудрых издателей, в одночасье переродившихся в современной жизни в эффективных менеджеров...
Мне, кстати, очень нравится, что ваше издательство – «Новое слово» – уделяет особое внимание жанру рассказа. Когда я узнал про ваш издательский сервис, выпускающий несколько альманахов разных направлений, меня это приятно удивило. Думаю: кто же это взялся в наше время за такое неблагодарное дело? Как можно посвятить такому формату целую издательскую программу? Даже в советские времена писать и издавать рассказы, как, впрочем, и стихи, было неблагодарным занятием. Другое дело – роман, тем более, – трилогия, в таких случаях и автор хорошо зарабатывал, и издательство оставалось с приличной прибылью. А жить-то как-то надо, семью содержать, внуков поддерживать, вот и бежали писатели сломя голову от малой прозы к эпическим фолиантам. Написал ты рассказ, тиснул его (если повезло, конечно) в «толстом» журнале, получил 100-150 рублей и – гуляй, Ваня, во всю ивановскую.
– В свое время в издательстве «Прогресс» выходила серия сборников новелл разных стран и культур: сборники французской новеллы, английской, итальянской...Есть много известных писателей, посвятивших себя жанру малой прозы. Взять хотя бы Антона Чехова, Ивана Бунина Стефана Цвейга, Проспера Мериме. Да и вообще многие известные писатели начинали с новелл – Эдгар По, Чарльз Диккенс, Лев Толстой, Владимир Набоков. И, надо сказать, ранние рассказы этих писателей буквально пропитаны поэтикой, образами, яркими сюжетами.
– В наше время, когда мы начинали писать, в литературную студию приходили семьдесят процентов поэтов, двадцать процентов – прозаиков и десять – критиков. Через пару лет большинство поэтов неизбежно переходили в прозу. Но вот что интересно: если начинающий прозаик прошел поэтическую школу, если в его творческий багаж был заложен стихотворный опыт, то из него, как правило, со временем получался вполне приличный прозаик. Да я и сам начинал со стихов: печатался в газетах и тонких журналах, и даже небольшой стихотворный сборник умудрился издать. Стихи, как правило, дисциплинируют, учат мыслить образами, пользоваться метафорой и сравнением. Я и драматургией занимался, писал одноактные пьесы, не понимая, почему и зачем. Значительно позже меня осенило, что таким образом я учился писать диалоги. Да и вообще, эта форма помогает начинающему литератору быть точным и индивидуальным в передаче разговорной речи, учит не размазывать разговор, по выражению Бабеля, словно «кашу по столу». Кстати, Исаак Бабель однажды признался, что переписывал один из своих рассказов… двадцать восемь раз! Он очень внимательно работал над вариантами каждого слова, каждого предложения. А у нас сегодня: написали пару страниц и скорее выкладывать в Интернет – вот, смотрите, какой я рассказ написал!
– Я недавно прочел ваш рассказ «Черепаха» в коллективном сборнике за 1977 год и вдруг осознал, что в 90-е годы XX века выпуск этих сборников прекратили. А мы в это время в издательстве рассматривали проект выпуска отдельного сборника рассказов, и у нас было большое желание назвать его именно «Рассказ-24». Так вот, Вячеслав Викторович, я хотел бы с Вашей помощью перебросить своеобразный «мостик» из 1977 года в 2024-й... А ведь это – без малого 50 лет! Вот и хотелось бы, чтобы Вы дали своеобразное творческое напутствие авторам альманаха «Рассказ-24».
– На мой взгляд, вы беретесь за очень благородное и честное дело – перебросить творческий мостик через такую пропасть времени, почти половину века. Поменялись времена, люди, условия жизни, но самое главное – сменились приоритеты: сегодня за советом и добрым словом напутствия идут не к мастерам слова, как это было еще тридцать лет назад, а к лицедеям и политикам. А что они могут насоветовать, легко догадаться, судя по современным образцам театральных и политических опусов. Пошлость и бесконечное вранье с лицемерием – вот истинный удел современных поводырей от политики и культуры. Да и при нашем сумасшедшем ритме жизни – телефонном, интернетном – людей просто-напросто рвут на куски. Какой там двадцать восемь раз переписать рассказ, успеть бы вычитать его до запуска в печать! Мне кажется, раньше люди, занимавшиеся короткой формой прозы, были более усидчивые, целеустремленные и трудолюбивые, наконец. Ничто не могло отвлечь их от творчества: днем на работе, ночью за письменным столом – да пожалуйста! Хоть до скончания веков готовы были начинающие писатели на такой «трудовой подвиг». А сегодня, увы, слишком много каких-то соблазнов: и на престижную презентацию заглянуть, и на выставку модного художника успеть, и на книжную ярмарку заглянуть, и с друзьями-подругами за чаркой доброго вина посидеть... На творчество, – настоящее, художественное, трудное и вдохновляющее, – увы, очень часто не остается времени. А надо писать, надо трудиться – «и день и ночь, и день и ночь»...
Так что дело Вы затеяли богоугодное, и очень хотелось бы, чтобы всё у Вас получилось (первый номер альманаха «Рассказ-24» уже вышел — прим. редактора), чтобы и талантливые авторы нашлись, и средства не истаяли после первого выпуска. Ну, а каким будет художественный уровень публикуемой в альманахе прозы, целиком и полностью зависит от того, кто и как будет ее отбирать. В конце концов, выбрать, думаю, будет из чего. Все-таки у нас в России таланты пока не перевелись, и, даст Бог, никогда не переведутся.
– Насчет «как отбирать»: я был большим фанатом журнала «Литературная учеба», на нем, можно сказать, вырос. Когда мне было лет восемнадцать, он еще выходил в свет. Я открывал этот удивительный журнал, а там сразу после рассказа уважаемый критик делал его разбор. Причем, такой разбор, что будь здоров! Если я сейчас начну своих начинающих писателей так же разбирать, половина из них просто сбежит. Тем не менее, здоровая критика – это, на мой взгляд, очень хорошая и полезная школа. Я готов после согласия автора разобрать его рассказ, чтобы другие авторы принципы этого разбора могли применить к себе. Ведь доброжелательная критика, так сказать, по делу – безусловно вдохновляет автора, помогает справиться с какими-то недостатками и просчетами. Так что впереди у нас еще много работы... Учиться читать, наблюдать, анализировать необходимо постоянно.Вместе с нашими авторами мы планируем создать «Мастерскую рассказа», где будем вместе читать, наблюдать, анализировать и работать с текстами. Так что «мостик», о котором я говорил выше, нам нужен для того, чтобы из накопленного опыта прошлого взять лучшее, взять самое главное, что есть в современной литературе.
– Это очень хорошая идея – насчет «Мастерской рассказа». Даже я попробовал бы как-нибудь поделиться своим творческим опытом в рамках вашей мастерской. Я уже посмотрел несколько публикаций в альманахе «Рассказ-24» и скажу сразу, что есть там неплохие работы, приличные рассказы. В конце концов, надо пробовать, надо дерзать! Как известно, кто пробует и ищет, у того чаще всего и получается. Все-таки в России особое отношение к литературе, к ее традициям, наработанным веками. Это и есть главная задача творчества – сохранить форму и мастерство прошлых времен и наполнить его новым содержанием. Я Вам желаю в этом много плодотворного труда и Божьей искры. Уверен, что у Вас непременно всё получится!

ВЯЧЕСЛАВ СУКАЧЕВ
Родился в 1945 году на севере Казахстана в с. Белое. Первой серьезной публикацией он считает свою повесть «Огненный десант», опубликованную в журнале «Дальний Восток» в 1973 году, первой творческой школой – семинар Виктора Астафьева на зональном Иркутском совещании в 1974 году. В 1975 вышла его первая книга «У светлой пристани» с предисловием Виктора Астафьева. В 1979 году Вячеслав Сукачев окончил Высшие Литературные курсы в Москве. Автор более двадцати книг прозы. Член редколлегии «Литературной России» с 1976 по 1989 год. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат губернаторской премии в области литературы, лауреат премии за лучший рассказ года в газетах «Труд», «Литературная Россия», журналах «Молодая Гвардия», «Советская женщина» и др. Член жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Член Союза Писателей СССР (России) с 1975 года. Главный редактор журнала «Дальний Восток» с 2000 по 2011 год включительно. Книги В. Сукачева выходили в «Молодой гвардии», «Современнике», «Советской России», «Советском писателе», «Роман-газете» и других издательствах. По его повести «Любава» был написан киносценарий, а по рассказам снято более десяти короткометражных фильмов.
Родился в 1945 году на севере Казахстана в с. Белое. Первой серьезной публикацией он считает свою повесть «Огненный десант», опубликованную в журнале «Дальний Восток» в 1973 году, первой творческой школой – семинар Виктора Астафьева на зональном Иркутском совещании в 1974 году. В 1975 вышла его первая книга «У светлой пристани» с предисловием Виктора Астафьева. В 1979 году Вячеслав Сукачев окончил Высшие Литературные курсы в Москве. Автор более двадцати книг прозы. Член редколлегии «Литературной России» с 1976 по 1989 год. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат губернаторской премии в области литературы, лауреат премии за лучший рассказ года в газетах «Труд», «Литературная Россия», журналах «Молодая Гвардия», «Советская женщина» и др. Член жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Член Союза Писателей СССР (России) с 1975 года. Главный редактор журнала «Дальний Восток» с 2000 по 2011 год включительно. Книги В. Сукачева выходили в «Молодой гвардии», «Современнике», «Советской России», «Советском писателе», «Роман-газете» и других издательствах. По его повести «Любава» был написан киносценарий, а по рассказам снято более десяти короткометражных фильмов.
В ТОЙ СТОРОНЕ, ГДЕ ЖИЗНЬ И СОЛНЦЕ
Макар Чупров верил в жизнь. Она дала ему тайгу, дала небо и великую любовь ко всему, что живет и произрастает на земле. И за это он благодарил жизнь, ибо лет своих не считал, чужим не завидовал, а просто был на земле Макар Чупров, и была земля, это – главное.
А и бывают же места на земле! Вот уже тридцать пять лет Макар тропит по ней, а два одинаковых места кряду так и не повстречал. Там озерко в самом неподходящем для себя месте расплескалось, а там смотришь и диву даешься: ручеек, в чем только душонка держится, пещеру в скале на полcта метров продавил. И Макар смотрел, не уставая смотреть.
Макар понимал природу и ценил в ней равновесие. Однажды подстрелив по весне глухарку и два месяца промаявшись воспитанием ее ненасытного потомства, теперь он в это время и по самой сорной живности не стрелял. Он научился уважать законы, по которым все рождается для того, чтобы счастливо жить и продолжать себя в потомстве…
Макар сидел в крохотной боковушечке районного комбината бытового облуживания (давно прозванного в поселке конструкторским бюро) и в единственное, засиженное мухами окно смотрел сквозь дома и улицы на синие хребты Мяо-Чана. И виделись ему тропы с неясными отпечатками следов зверей и кострища, в которых знающий человек и через неделю тепло обнаружит. И что бы ни делал Макар, а земля в нем жила, произрастая чудными желаниями. Вобьет ли он одним ловким ударом деревянный гвоздь в подметку, а ему чудится, что по боковушке запах березовых листьев пахнул, возьмется за вар, дратву просмолить, и – вот она, закручивается в трубочку на костерке береста. Но сильнее всякой силы томило Макара Чупрова по утрам, из-за чего у него и спор со сторожем Семеном выходил.
Любил он ранний час, любил и понимал. Вскочит с первыми петухами и – к окну. А на улице темень еще, лишь слегка пробрызганная светлыми пятнами. И нет терпения Макару, выскочит на улицу и зашагает навстречу солнца. Так каждое утро, словно на свидание, и ходит. А уж как солнце из-за сопок вывалится, домой идти никакого желания нет, и заворачивает Макар к конструкторскому. А сторож, черт сиволапый, в этот момент в самый сон входит. Робко и долго стучит Макар, печалясь тем, что нарушает тишину утра, пока не рявкнет Семен в последнем исходе ярости:
– Фу, черт! Кого там среди ночи лихоманка трясет?
– Да я это, – робко потянет из себя Макар.
– Кто я-то?!
– Да Макар же. Я это, дядя Семен.
– Я, я. Какой хрен тебя по ночам носит, неупокойная твоя сила?
– Какая же ночь, дядя Семен? Утро уже. Вот и солнце взошло. Вон как выпекается нутром, докрасна раскалилось, а вот окоемка еще росит, – Макар говорит и говорит, не отрывая взгляда от восходящего солнца. И каждое утро Семен не устает дивиться такой болтливости Макара.
– А и горазд же ты языком чесать, – отпирает ворота Семен, – да ведь все это для отвода глаз. Я, поди, знаю, от какой ты бабы приперся… В бюро-то их вон сколько – тьма, выбирай любую.
Но Макар уже не слышит, торопится в свою боковушку и тут же – окно вон, нараспашку, и весь он в той стороне, где солнце и жизнь, переполненная таинствами природы.
С утра следом за солнцем заходит и директор бюро – учтивый, обласканный женскими языками мужчина. Он живет жизнью, полной важности и значения, и видит в Макаре только массу непонятностей, которых на рабочем месте не должно бы быть.
– Опять полуночничал? – вникает директор в личную жизнь Макара. – Смотри, моя обязанность – предупредить, а только так и свихнуться недолго.
Директор недоговаривает, он учтивый человек и замалчивает тот факт, что Макар давно слывет в поселке человеком тронутым. А Макар все это знает, но это не его дело, он чужим языкам не полководец, а потому молчит Макар Чупров, пряча в себе тихую печаль.
– Был такой человек в истории, – продолжает директор, – солнцу поклонялся... Так у него жена красавица была, а он фараоном был. Ну, а ты кто?
– Вы мне кожи отпустите, – глупеет от такого вопроса Макар и смотрит в окно, за которым солнце уже пришло в буйство, и дальние сопки из пронзительно-синих превратились в голубые.
– Я тебе что хочешь отпущу, ты мне только соболя из тайги вынеси, – просит директор.
А день уже разошелся не на шутку, и фартук на коленях Макара становится мягким от тепла, и кожаные заготовки оживают запахами...
Перед обедом, когда Макар осаживал на дамском сапожке каблук, в боковушку забежала Ниночка, молодой специалист по вязке шапочек и модных свитеров. Была она тощенькой и испуганной от неуверенности в себе. Она забежала и стала смотреть на работу Макара, наслушавшись небылиц об этом человеке, а он не удивился и лишь выпустил колки изо рта, уважая в Ниночке женщину.
Ниночка отдыхала от подруг, и Макар это знал. Он мог представить, что значит сразу девятнадцать женщин вместе. И Ниночка сидела на раздвижном брезентовом стульчике и отдыхала глазами на работе Макара.
– Макар Иванович, – сказала Ниночка, смущаясь, – куда вы ходите по утрам?
Макар отложил готовый сапожок и взялся за мужскую пару зимних ботинок. Он поставил их на стол и долго и внимательно осматривал. Что правда, это были не ботинки, а обноски. Макар их ремонтировал в третий раз.
– А ты рано встаешь? – спросил Макар.
– Я сегодня рано проснулась...
– А я вот хожу смотреть, как утро ленится…
– Как утро ленится? – в удивлении повторила Ниночка.
– Страшно это интересная штука. Занимается утро неохотно, вроде б как вразвалочку, и все тянется, потягивается, и туманчиком прикроется, и клубочком свернется. А солнце подпирает, поторапливает, а потом уж как осерчает, как брызнет во всю мощь...
– А правда, что у вас целая плантация женьшеневая есть? – округлила глазенки Ниночка и худенькие колени ладонями прикрыла.
– Уж это точно. В аккурат завтра урожай снимать пойду, – Макар усмехнулся и взялся было за молоток, но передумал и посмотрел в окно. В той стороне, где поднималось утрами солнце, наступила необычная ясность. Теперь там тени ушли в деревья, и прошлогодние листья просвечиваются насквозь: бурые, с золотыми подпалинами. И Макар подумал, что сейчас хорошо скрадывать рябчика: он в аккурат от золота осоловел и лишь посвистывает в изумленном восторге.
– Макар Иванович, – напряглась Ниночка от неожиданности собственной мысли, – возьмите меня с собой.
– Я рано ухожу, – Макар потянулся к ботинку и опрокинул консервную банку с гвоздями. Баночка была свежей, без наклейки и отразилась в солнце, сгорая от собственного сияния...
Так они и стали ходить в тайгу по утрам. Шла Ниночка, обняв плечи руками и вздрагивая от утренней свежести, и шел Макар Чупров, крупно загребая длинными ногами.
Походы их все больше проходили в молчании, и лишь иногда Ниночка уставала от тишины и говорила несмело:
– Макар Иванович, и не скучно вам было одному в тайге?
– Зачем же. Мне одному скучно не бывает.
– Все наши женщины вас чудаком называют, – краснела Ниночка и поспешно склонялась, якобы разыскивая что-то в росной траве.
Макар Чупров на это как-то странно улыбался и еще больше сутулился, от чего его долговязая фигура напоминала вышедший наружу корень. Он грустно смотрел на Ниночку и сознавался:
– А и правильно говорят. У нас зря не скажут…
Он смотрел на нее необычайной ясности глазами и словно бы удивлялся тому, что она не знает такой простой вещи. Его некрасивое, удлиненное лицо выражало в эту минуту такое спокойствие и мудрость, что показалось Ниночке и совсем молодым, и красивым.
Однажды Макар поразил Ниночку тем, что на опушке кедрового леса неожиданно громко хлопнул несколько раз в ладоши, и пролетавшая мимо темно-бурая, с белыми крапинками птаха тут же села на ветку дерева. Была она чуть поменьше голубя, с длинным клювом, какая-то вся воинственная и тут же принялась пронзительно кричать: «Крэ-эк, крэ-эк, кэрр!»
– Кедровочка, – бережно сказал Макар, и Ниночка видела, как хорошо ему было в эту минуту. Он забыл ее, себя да и весь мир, наверное, забыл, скрадывая добрыми глазами каждое движение крикливой птицы...
…– А ты, брат, того, хитрец, – сказал как-то Макару директор, – присушил девчонку. Вот не ожидал.
– Глупости вы говорите, – нахмурился Макар и отвернулся к окну.
– Чем же вы в тайге занимаетесь? – осторожно кашлянул директор, неожиданно почувствовав какую-то неловкость.
– А вы посмотрите, – ответил Макар Чупров.
– Ну-ну, – неопределенно хмыкнул директор, – непременно посмотрю.
Через два дня утром, когда Ниночка с Макаром выходили из поселка, директор и в самом деле поджидал их, задремав на обочине шоссейки. Был он при ружье, туго перетянут патронташем и в вязаной шапочке.
– Как я, ничего? – спросил он вначале Макара, а потом и Ниночку. И чувствовалось, что ему и в самом деле небезразлично, как он выглядит.
Ниночка, глядя на вязаную шапочку своей работы, тихо похвалила: «Хорошо, Сергей Иванович». Макар же смолчал и, лишь пройдя достаточно, огорченно сказал:
– А ружье-то зачем?
В тайге директор был не директор, а маленький, слегка кругленький, слегка смешной человек, а потому он и ответил Макару с извиняющимися нотками в голосе:
– Для самообороны. Тайга все-таки. В ней всякое может случиться…
Однако в это утро ничего такого не случилось. И лишь Макар был более обычного молчалив.
На следующее утро Макар говорил Ниночке:
– Чудная земля. Я как-то сосенку в тайге посадил. А ее возьми и подкопай бурундук. Потом кедровочка в той ямке склад устроила. А весной смотрю, кедр в небо нацелился, да так он самоуверенно из-под земли-то попер, словно сосенке сказать хочет: «А ты зачем здесь, чужанка? Мое это место, моих родичей земля». Вот и пришлось мне «чужанку» эту отсаживать. И тоже ничего, прижилась, ствол ладный такой получается, и кожица гладкая, ровно у березки по второму году.
Они сидели на самом выходе из тайги, и Ниночка теперь уже сама видела, как вываливается из-за деревьев солнце, и в хвое тоненько поблескивают росинки, постепенно скатываясь к самому концу игл затем, чтобы фиолетовой искоркой блеснуть на лету и раствориться в земле. А чуть позже, прижимаясь к молодому ельнику, как-то боком, но резко и стремительно пронеслась сова, и шум ее крыльев был неуловимо тих, словно под потолком замедленно работал вентилятор...
Теперь Ниночка была в центре внимания всего поселка. О ней говорили шепотом и вслух, за глаза и прямо спрашивали о том, что она нашла в Макаре. Ниночка смущалась от столь неожиданного внимания, а однажды рассердилась и запальчиво сказала:
– Он лучше вас всех! Это вы чокнутые, а он природу понимает. Макар Иванович уже три года выдру подкармливает, а еще раньше он ее из капкана с перебитыми лапами спас. Поэтому он каждое утро в тайгу ходит. А выдра совсем ручная и рыбу у Макара Ивановича из рук берет. А у вас и кошки дома не держатся...
После этого о ней и Макаре говорили уже в основном за глаза.
Все так же манила Макара тайга, и каждое утро солнце по-новому вставало для него. Но когда однажды, прождав Ниночку почти десять минут, он так и ушел в тайгу один, Макар Чупров загрустил. Дольше обычного провозился он с выдрой, все прислушиваясь, не треснет ли сучок под ногой Ниночки, и не покажется ли ее тоненькая стройная фигурка между деревьев.
– Нет, сегодня не придет, – сказал он выдре, словно успокаивая зверька, – видно, сон побороть не может.
И пошел Макар раньше обычного в конструкторское бюро, в свою боковушку. Смотрел он в засиженное мухами окно и первый раз за свою жизнь не видел синих хребтов Мяо-Чана и того, что солнце за стенкой из туч поднялось, тоже не заметил. А потому и удивился рассеянно, когда к обеду по стеклу застучал крупный летний дождь. В боковушке сделалось темно, загудела крытая жестью крыша, и ударил гром, прежде синим высветлив вдумчивые глаза Макара.
– Вот и дождь, на бабину рожь, – заглянул директор, закурил папиросу. Он присел на верстак и провел белым, гладким пальцем по стеклу, отчего по нему пролегла синяя борозда.
– Слышал, Макар, я себе сеттера купил? В питомнике достал. Как ты думаешь, стоящая псина?
– Собака от хозяина зависит, – не сразу ответил Макар, тяжело опустив руки на кожаный фартук. – Вон овчарка человека может загрызть, а может и от смерти спасти. Это смотря чему ее выучить…
– Да мне-то человек зачем? – удивился директор. – Мне бы ее на соболя натаскать, на птицу какую-нибудь. Ты вот выдру приручил, а мне соболя домашнего хочется иметь.
– Так я выдру без собаки прикармливаю, – Макар глянул на директора и увидел, что перед ним сидит совсем другой директор. На его лице было внимание и желание понять слова Макара, и больше того – желание встать вровень с Макаром.
– Я бы его, сеттера, и продать мог, – сказал Сергей Иванович и еще одну бороздку оставил на стекле. – Семен бы и купил, да мне в хорошие руки пса отдать хочется.
И только теперь Макар понял, что директор предлагает сеттера ему, Макару Чупрову.
– А Нинка-то наша в больницу попала, застудилась, – круто переменил разговор директор и соскочил с верстака. – Кожу я тебе заказал, на этой неделе обещали доставить...
Накинув на голову капюшон старенького дождевика, Макар Чупров крупно шагал по раскисшей дороге. Тайга его встретила дружным шумом дождя, мглистым полусумраком и сильным запахом замолодевшей хвои. Речка моментально взбухла и помутнела, и весело пузырилась крохотными кратерами вмятин от дождя. Макар долго ждал, пока наконец с шумом выметнулась из потока выдра. Несколько мгновений она подслеповато приглядывалась к нему, а затем легко и величественно вышла на берег.
– Что, Ласка, привольно тебе? – говорил Макар, заглядывая в любопытные и все еще настороженные глаза выдры. – Дождь славный, и тебе теперь самая охота. Да я не задержу, я на минутку только. Вот Нина заболела, надо бы проведать...
По-беличьи выдра почесала обеими передними лапками за ушами и нетерпеливо покосилась на воду. Ее остренькая мордочка с короткими жесткими усами была сейчас необыкновенно доброй, располагающей к беседе, но Макар удержался и в знак прощания тихо и протяжно посвистал.
Наверное, первый раз в жизни Макар не смог бы объяснить, зачем он сегодня пришел в тайгу. Что-то его томило и не давало покоя. И он долго еще кружил по тайге, длинный и смешной в коротком, не по росту дождевике, пока не понял, что в больницу все-таки пойдет. И он шел мимо деревьев, словно прощаясь с каждым из них, искал глазами синий призрак хребтов, но все было покрыто дождем и черными тучами...
У самой больницы, что стояла над глубоким оврагом, по которому теперь шумно несся поток серо-желтой воды, Макару повстречался Семен. Был он необычайно тих и приветлив. Долго тряс руку Макара Чупрова, сочувственно заглядывал в глаза.
– А ведь наши-то вместе лежат, – сказал Семен и громко сморкнулся в сторону, – одна к ним лихоманка прицепилась.
– Это кто наши-то? – не понял Макар, горбясь над низкорослым Семеном.
– Как кто?! – обиженно удивился сторож. – Моя старуха да твоя Нинка. Только мою чуть позже привезли, а твоя-то с ночи занемогла.
– Ага, – сказал Макар Чупров и глубже натянул капюшон, – я пойду.
– Они вон у того оконца и лежат, – показал Семен. – Только ты поменьше там маячь, свидания-то им запрещены.
Макар медленно поднялся на взгорок. Земля здесь была глинистой, и его сапоги обросли громадными комьями грязи. Он долго и тщательно счищал ее щепкой, а счистив, еще постоял в раздумье и лишь затем подошел к окну.
Вначале он увидел Семенову старуху. Она лежала лицом к окну, чинная, спокойная, в непривычных для ее деревенского лица очках с зелеными тесемками. Заметив Макара, старуха пошевелила губами, и у окна появилась Ниночка. В коричневом халате она показалась Макару значительно выше ростом и строже лицом. И только теперь Макар спохватился, что не припас никакого подарка.
Ниночка облокотилась на подоконник и прижалась лицом к стеклу. Макар видел ее удивленные радостные глаза, остро выпирающие ключицы и березовую прозрачность кожи на длинной шее… Он неловко топтался у окна, непривычно заглядывая в ее лицо снизу вверх.
– В общем, так, – тихо говорил Макар, – в тайге теперь дождь и очень сыро, и тебе там быть сегодня все одно нельзя. Потому как в такую погоду застудиться можно в два счета. А Ласка вот радуется, ей в такую непогодь, когда рыба без осторожности играет, самое приволье. Тебе привет передает, скучает…
Все это Макар говорил очень тихо, рукавом утирая лицо от дождя, и Нина, конечно же, ничего не расслышала. Но она согласно кивала головой, а потом улыбнулась и тоже тихо поблагодарила его за привет от Ласки.
– А вот выздоровеешь, – продолжал Макар, – к тому времени и солнце силу возьмет, и лес достаточно пообсохнет, вот мы по сухому и пойдем.
И опять Ниночка покивала, а потом велела уходить и не мокнуть под дождем. Макар согласился и тяжело пошел от окна. Когда оглянулся, Ниночка ласково улыбалась ему, и он тоже улыбнулся ей и, уже не оглядываясь, пошел от больницы.
В той стороне, где каждое утро всходило для Макара Чупрова солнце, призрачной полосой наметился просвет. Он знал, что там уже нет дождя, что с той стороны заходит долгое августовское ведро.
ГОРЬКИЕ РАДОСТИ
I
Вот они пришли и сели на развилке дорог. Дальше тянулись две черные ленты, и чем дальше, тем больше становилось расстояние между ними. Зачем расходятся дороги? Зачем они ищут себе другие миры и уводят туда людей? Впрочем, дороги об этом молчат, они гораздо скрытнее, чем думают о них беспечные и веселые люди, только начинающие свой путь. Это им, беспечным людям, кажется, что дорога лежит от пункта А и до пункта Б. Так просто! Как, должно быть, смеются над этим дороги, в том числе и та, что ведет от пункта А и до пункта Б.
И вот они сидели у самого устья двух дорог, тоненько вытекающих из светлого березнячка, за которым были их дом и их деревня, и их речка, и их луга, замыкаемые высокими скалистыми хребтами. Они были не первыми и вряд ли будут последними. Они это знали. Знали еще раньше, чем пришли сюда, и еще раньше, когда не знали, что все-таки придут сюда. Так уж устроена жизнь.
– А я приеду и напишу тебе... Ты жди.
– Ты не расхотел ехать?
– Там еще все только начинается. Меня должны встретить хорошо.
– Мне вот возвращаться в четыре стены... Представляешь?
– Ты только до осени потерпи. Я там разобьюсь, а все сделаю.
– Дом-то... Эх, Колька, Колька...
– Пойду, и ты иди. Не сиди и не жди.
– То-то мне тогда змея приснилась. Длиннющая. А ты просыпаешься и говоришь: мол, поеду. Вот тебе и сон в руку.
– Бабкины сказки. Ты поменьше слушай.
– Ну да. Уже и заговорил. От дома версты не отошел, а уже заговорил.
– Пойду...
– Да иди… Иди! Чего встал?
– Жалко.
– Чего?
– Пойду!
И дорога та, что налево, в буерак и по косогорчику, медленно всосала его. А она, Танька Охлопкова, сидела на земле, приглаживая ладонью желтую и пыльную придорожную траву. Такую же желтую, как его волосы, такую же упрямую, как он сам…
Зачем уезжают люди? Когда все хорошо, когда все налажено и приобретено далеко не легкой жизнью – зачем? От дома, от жены, которой еще и двадцати не сравнялось, которая еще не налюбилась и не насмотрелась на тебя, зачем? Шут его знает. Зачем-то уезжают. Блудные сыны всех веков и всех народов кочуют по земле. Может быть, в них, как в птицах, живет древний инстинкт? И идут они по тем местам, стремятся к тем уголкам земли, повинуясь неведомой силе инстинкта, велению памяти, по которым проходили их пращуры. Может быть, есть в них это, и мы, досконально изучив и описав инстинкты пернатых, совершенно забыли о собственных инстинктах. Как бы то ни было, а по пыльной дороге налево, в буерак и по косогорчику ушел человек, оставив на развилке двух дорог не то девочку, не то женщину с сухими глазами и высоким красивым лбом. Оставил!..
II
«В четырех стенах, на семи ветрах». А половицы скрип-скрип. «Закручинилась, запечалилась». А капли из рукомойника тонь-тонь. «Ах ты, душечка, красна девица». А сердце по вечерам так да так. «Горемычная да судьбинушка»…
– Горюешь? – спрашивают.
– С чего бы это? – не соглашается.
– Не война, а вдовушка.
– Идите вы...
Под окном – яблонька-дикуша. И загадала. Как появятся яблочки, так и быть письму. А пока ходила на работу, напустив челочку на высокий красивый лоб. Работа простецкая: в магазине за прилавком, у всех на виду, как комар на носу.
«Сорок да сорок – рупь сорок? Папиросы брал? Нет. Плати два сорок».
«Аршин – на кувшин, потянется – не лопнет».
А и торговали же, если такие прибаутки остались. А тут:
– Тетя Маша, с вас 1 рубль 91 копейка.
– Как так?
– Да так.
– А ну, считай еще раз.
– Кило сахара – 90 копеек?
– Ну.
– Кладем. Пачка чая – 36 копеек?
– Дальше.
– Кладем. Пять пачек «Прибоя» – 60 копеек?
– Да вроде.
– Пять коробков спичек – 5 копеек?
– Сколько всего-то насчитала?
– Один рубль 91 копейку.
– Вот незадача. А я дома подсчитывала, так у меня один рубль и 87 копеек выходило… А ну, положи еще раз. Я что-то не уследила толком-то.
– Кило сахара...
А вечером – тоска. Все переделано, сама ухожена и у окошка сидит. Смотрит. Закат сойдет, ночь наступит, луна появится, а она сидит, в окошко смотрит.
– Ночи, словно в Сочи, любить да не оглядываться, – это Люся, Танькина подружка, отчаянная девка. – Тань, ночевать пустишь?
– Иди.
– Да я не одна.
А скучно-то как. И всю ночь – скрип-скрип, тонь-тонь, так да так. Тошно…
Ждала двоих, а пришли трое. Не гнать же. Так вот и сели за стол.
Говорила мама мне
про любовь обманную
да напрасно тратила слова...
– Ты не приставай. Пошел к черту! А то как двину!
– Подумаешь...
И вышла за околицу. А ночь была – век самой такую не придумать.
Села Танька на развилке, ноги под себя подобрала и тяжело задумалась. И думала: «Черт знает, где его носит. Может, и женился уже? Не должен… Вот же, морда, собрался и – привет. И хоть бы что. Жди его, красавчика, а тут лезут всякие. Зальют масла в глаза и лезут полапать. Сволочи!»
Но дорога, черная и длинная, требовала к себе внимания. По ней он ушел и о чем-то думал. О чем? А вот сама бы она уходила, а он вот тут бы сидел, так о чем же таком она задумалась бы? Допустим, все наказала ему, все приготовила, хоть год один живи. Так о чем же еще она думала бы?.. А шут его знает. Ну, чтобы... Да ну его… Ушел да и ушел. Эка невидаль – полдеревни мужиков разбежалось. А сюда вербованных везут. Вот ведь чудеса в решете да мякина в сите.
Так вот она и думала, тоскуя на развилке. А потом растерянно и зло шептала:
– Грудь-то болит, сволота, по рукам тоскует. Неужели он и этого не понимает?
И шла домой. Мимо березняка к высокому дому. К своим четырем стенам.
III
Появились яблочки, и пришло письмо. Длинное. Танька весь вечер читала. Вначале сидела за кухонным столом, сдвинув в сторону посуду, потом перебралась в постель и там читала, с любопытством узнавая Колькины мысли. «Как мне думалось, – Колька писал, – так не получилось. Трактористов здесь до черта. Хоть собаками трави. Хожу пока в рабочих. Но ты ведь знаешь: я што задумал, учужу». И потом еще: «Вот ведь не целовал, когда можно было, а теперь хочется. Ты смотри мне...» Здесь Танька пропустила, презрительно поджав губы, а в самом конце прочитала: «Целую тыщу раз. Весь твой – Николай».
Танька расслабленно откинулась на подушку, словно бог знает работу какую переделала, и счастливо задумалась. Почти не о Кольке, а так что-то – блажила. Потом прошептала:
– Полудурок какой, целоваться схотелось.
Потом закрыла глаза и уснула.
IV
– И все мы здесь не по зову рубля, а по зову сердца, не бока проляживать, а жизнь налаживать...
– Сидел, что ли? – спросил Колька напарника, толстого и неряшливого Пестуна.
– А хрен его знает, может, и сидел где.
– Не должно, – Колька продолжает. – Трепло, оно буйным редко бывает. Так, верхушек насшибал, а теперь нас агитирует.
Агитатор продолжал:
– Что здесь было? Тайга да пни. А мы город построим да детишек народим.
– Он может, – серьезно сказал Колька. – Брюхо-то – мечта моей Таньки.
– А что она?
– Ребенка хочет.
– Ну?
– Не заводится.
– Сегодня девки зовут. Именины у них. Пойдем? – Пестун что-то жует, может быть, следующую мысль.
– Не знаю. Не хочется…
– Неудобно. Зовут же.
– Вот, харя, сейчас пенек протопчет. Ишь, как подпрыгивает.
– Мы обяжемся, – агитатор все, – как привяжемся. Нет нам чести, не исполним если...
– Вот, дурак!.. Пошли...
Места хорошие. Места Кольке нравились. Просторно. Вольно. Дико. Тайга да и только. Вот если бы сюда еще и Таньку – о чем мечтать человеку? Да молчит что-то Танька. Ни привета, ни ответа на его письмо. Может быть, замуж вышла? Не может быть. Она не таковская… А каковская? Шут его знает. Эх, жизнь, как в такси: чем дальше, тем дороже. Да скучно ведь дома, весь век-то у одного порога попробуй выдержи, когда люди всюду едут. А! Пропади все пропадом. Чему быть, того не миновать.
И пошел Колька на именины. Вместе с Пестуном пошел. Гулянка получилась парной: каждому по девочке и по бутылке водки.
Колька выпил свою водку и поцеловал свою девочку – рослую, смешливую, работящую, наверное. Было непротивно, любопытно было.
– Ты ведь женат?
– А-а, к черту!
– Она красивая?
Колька притих и начал рассказывать, какая у него Танька красивая. Долго рассказывал и целовал рослую, смешливую. И даже не удивился, что ее так устраивает – слушать про Колькину Танюшу и целоваться с Танькиным Колькой.
На другой день пошел опять. Думал, все просто: когда надоест, брошу. Таньке это не повредит. Наивно думал, но понял это значительно позже, когда вместо Таньки осталось в душе что-то смутное и расплывчатое.
V
А Танька ждала и писала письма. Уже без надежды, но зло и упрямо. Что поддерживало ее в этом, зачем она так, не знала, на что надеялась, что ждала, тоже не знала.
Прошла осень, наступила зима, потом еще одна осень и еще одна зима. Два года прошло, а Кольки все не было и теперь уже быть не могло. Хотела поставить крест, но у нее и это не получилось: не ставился он, валился куда-то в пространство. И Танька взвыла от горя. Поняла, что любит…
Ночью, вспоминая его руки, ревела и хотела изменить хоть с дьяволом, днем ходила строгая и недоступная. Попробовал один тронуть, с таким остервенением она его колотила, такой сильной и неистовой была, что другие уже и глянуть лишний раз боялись.
И вот однажды с Севера пришел красивый, спокойный, уверенный, не грубый… Звали его Володькой. Устроился на сплав грузчиком и один раз было утонул. Танькина изба крайняя, к ней и принесли. У нее и остался…
Прожили год, а Таньку все к развилке тянет. Придет, сядет на прежнее место и сидит подолгу. Думает. «Вот же зараза, – думает она, – так и знала, что не вернется. Тогда бы и прибить. Взять какую-нибудь колотушку и дать по башке… Паразит! Неужто кого любит? Нет, не должно. За что же она тогда любила бы? И не явится, ни разу не явится. Это ведь надо – упрямый какой, все ждет, что я за ним принесусь. Дожидайся... прошлогоднего снега». А сама плакала потихоньку и опять недоуменно шептала:
– А грудь-то все одно болит, по его рукам болит, хоть бы об этом подумал, сволота противная.
Мирно и спокойно лежали дороги, прислушиваясь к ее горьким слезам, к ее горячему шепоту. Куда-то звали они, что-то обещали ей, но она не соглашалась.
И, выплакавшись, медленно брела мимо светлого березняка к родной деревеньке женщина с сухими глазами и высоким красивым лбом. Брела любящая, тоскливая, одинокая.
Нет, зачем, зачем оставляют таких женщин, зачем не любят и не целуют каждый час и каждое мгновение? Зачем заставляют страдать и ложиться в постель с красивым, спокойным, не грубым, но и нелюбимым же человеком? Зачем одиноко и грустно идут почти от каждой развилки измученные неразделенной любовью женщины? Зачем все это? Как глупо, как бездарно...
И не выдержал Володька. Ушел. Собрался, поцеловал и ушел. А она и пожалеть не сумела.
Однажды проснулась поздней ночью. Удивленная, испуганная и уже обрадованная.
Ночь была светлой. Дорога чуть темнее, но тоже светлая и легкая, бесконечная. Как жизнь. Как ожидание.
Сидела на развилке. Ждала. Знобко вздрагивала, улыбалась и плакала...
– Ну, пришел? – спросила, не взглянув.
– Пришел.
– Четыре-то года... Я тут с ума сошла.
– …
– Разве не сволочь?
– …
– Думай тут о нем, а он о бабах думал.
– Так вышло... А ты?
– И я думала. А ты как думал?
– Вот и надумались…
Через два дня Колька ушел. Ему уже было все равно. А женщина, что осталась на развилке и смотрела ему вслед, как ей быть? Ждать? А зачем? Кто на это ответит?
Не знает ответа и она.
Макар Чупров верил в жизнь. Она дала ему тайгу, дала небо и великую любовь ко всему, что живет и произрастает на земле. И за это он благодарил жизнь, ибо лет своих не считал, чужим не завидовал, а просто был на земле Макар Чупров, и была земля, это – главное.
А и бывают же места на земле! Вот уже тридцать пять лет Макар тропит по ней, а два одинаковых места кряду так и не повстречал. Там озерко в самом неподходящем для себя месте расплескалось, а там смотришь и диву даешься: ручеек, в чем только душонка держится, пещеру в скале на полcта метров продавил. И Макар смотрел, не уставая смотреть.
Макар понимал природу и ценил в ней равновесие. Однажды подстрелив по весне глухарку и два месяца промаявшись воспитанием ее ненасытного потомства, теперь он в это время и по самой сорной живности не стрелял. Он научился уважать законы, по которым все рождается для того, чтобы счастливо жить и продолжать себя в потомстве…
Макар сидел в крохотной боковушечке районного комбината бытового облуживания (давно прозванного в поселке конструкторским бюро) и в единственное, засиженное мухами окно смотрел сквозь дома и улицы на синие хребты Мяо-Чана. И виделись ему тропы с неясными отпечатками следов зверей и кострища, в которых знающий человек и через неделю тепло обнаружит. И что бы ни делал Макар, а земля в нем жила, произрастая чудными желаниями. Вобьет ли он одним ловким ударом деревянный гвоздь в подметку, а ему чудится, что по боковушке запах березовых листьев пахнул, возьмется за вар, дратву просмолить, и – вот она, закручивается в трубочку на костерке береста. Но сильнее всякой силы томило Макара Чупрова по утрам, из-за чего у него и спор со сторожем Семеном выходил.
Любил он ранний час, любил и понимал. Вскочит с первыми петухами и – к окну. А на улице темень еще, лишь слегка пробрызганная светлыми пятнами. И нет терпения Макару, выскочит на улицу и зашагает навстречу солнца. Так каждое утро, словно на свидание, и ходит. А уж как солнце из-за сопок вывалится, домой идти никакого желания нет, и заворачивает Макар к конструкторскому. А сторож, черт сиволапый, в этот момент в самый сон входит. Робко и долго стучит Макар, печалясь тем, что нарушает тишину утра, пока не рявкнет Семен в последнем исходе ярости:
– Фу, черт! Кого там среди ночи лихоманка трясет?
– Да я это, – робко потянет из себя Макар.
– Кто я-то?!
– Да Макар же. Я это, дядя Семен.
– Я, я. Какой хрен тебя по ночам носит, неупокойная твоя сила?
– Какая же ночь, дядя Семен? Утро уже. Вот и солнце взошло. Вон как выпекается нутром, докрасна раскалилось, а вот окоемка еще росит, – Макар говорит и говорит, не отрывая взгляда от восходящего солнца. И каждое утро Семен не устает дивиться такой болтливости Макара.
– А и горазд же ты языком чесать, – отпирает ворота Семен, – да ведь все это для отвода глаз. Я, поди, знаю, от какой ты бабы приперся… В бюро-то их вон сколько – тьма, выбирай любую.
Но Макар уже не слышит, торопится в свою боковушку и тут же – окно вон, нараспашку, и весь он в той стороне, где солнце и жизнь, переполненная таинствами природы.
С утра следом за солнцем заходит и директор бюро – учтивый, обласканный женскими языками мужчина. Он живет жизнью, полной важности и значения, и видит в Макаре только массу непонятностей, которых на рабочем месте не должно бы быть.
– Опять полуночничал? – вникает директор в личную жизнь Макара. – Смотри, моя обязанность – предупредить, а только так и свихнуться недолго.
Директор недоговаривает, он учтивый человек и замалчивает тот факт, что Макар давно слывет в поселке человеком тронутым. А Макар все это знает, но это не его дело, он чужим языкам не полководец, а потому молчит Макар Чупров, пряча в себе тихую печаль.
– Был такой человек в истории, – продолжает директор, – солнцу поклонялся... Так у него жена красавица была, а он фараоном был. Ну, а ты кто?
– Вы мне кожи отпустите, – глупеет от такого вопроса Макар и смотрит в окно, за которым солнце уже пришло в буйство, и дальние сопки из пронзительно-синих превратились в голубые.
– Я тебе что хочешь отпущу, ты мне только соболя из тайги вынеси, – просит директор.
А день уже разошелся не на шутку, и фартук на коленях Макара становится мягким от тепла, и кожаные заготовки оживают запахами...
Перед обедом, когда Макар осаживал на дамском сапожке каблук, в боковушку забежала Ниночка, молодой специалист по вязке шапочек и модных свитеров. Была она тощенькой и испуганной от неуверенности в себе. Она забежала и стала смотреть на работу Макара, наслушавшись небылиц об этом человеке, а он не удивился и лишь выпустил колки изо рта, уважая в Ниночке женщину.
Ниночка отдыхала от подруг, и Макар это знал. Он мог представить, что значит сразу девятнадцать женщин вместе. И Ниночка сидела на раздвижном брезентовом стульчике и отдыхала глазами на работе Макара.
– Макар Иванович, – сказала Ниночка, смущаясь, – куда вы ходите по утрам?
Макар отложил готовый сапожок и взялся за мужскую пару зимних ботинок. Он поставил их на стол и долго и внимательно осматривал. Что правда, это были не ботинки, а обноски. Макар их ремонтировал в третий раз.
– А ты рано встаешь? – спросил Макар.
– Я сегодня рано проснулась...
– А я вот хожу смотреть, как утро ленится…
– Как утро ленится? – в удивлении повторила Ниночка.
– Страшно это интересная штука. Занимается утро неохотно, вроде б как вразвалочку, и все тянется, потягивается, и туманчиком прикроется, и клубочком свернется. А солнце подпирает, поторапливает, а потом уж как осерчает, как брызнет во всю мощь...
– А правда, что у вас целая плантация женьшеневая есть? – округлила глазенки Ниночка и худенькие колени ладонями прикрыла.
– Уж это точно. В аккурат завтра урожай снимать пойду, – Макар усмехнулся и взялся было за молоток, но передумал и посмотрел в окно. В той стороне, где поднималось утрами солнце, наступила необычная ясность. Теперь там тени ушли в деревья, и прошлогодние листья просвечиваются насквозь: бурые, с золотыми подпалинами. И Макар подумал, что сейчас хорошо скрадывать рябчика: он в аккурат от золота осоловел и лишь посвистывает в изумленном восторге.
– Макар Иванович, – напряглась Ниночка от неожиданности собственной мысли, – возьмите меня с собой.
– Я рано ухожу, – Макар потянулся к ботинку и опрокинул консервную банку с гвоздями. Баночка была свежей, без наклейки и отразилась в солнце, сгорая от собственного сияния...
Так они и стали ходить в тайгу по утрам. Шла Ниночка, обняв плечи руками и вздрагивая от утренней свежести, и шел Макар Чупров, крупно загребая длинными ногами.
Походы их все больше проходили в молчании, и лишь иногда Ниночка уставала от тишины и говорила несмело:
– Макар Иванович, и не скучно вам было одному в тайге?
– Зачем же. Мне одному скучно не бывает.
– Все наши женщины вас чудаком называют, – краснела Ниночка и поспешно склонялась, якобы разыскивая что-то в росной траве.
Макар Чупров на это как-то странно улыбался и еще больше сутулился, от чего его долговязая фигура напоминала вышедший наружу корень. Он грустно смотрел на Ниночку и сознавался:
– А и правильно говорят. У нас зря не скажут…
Он смотрел на нее необычайной ясности глазами и словно бы удивлялся тому, что она не знает такой простой вещи. Его некрасивое, удлиненное лицо выражало в эту минуту такое спокойствие и мудрость, что показалось Ниночке и совсем молодым, и красивым.
Однажды Макар поразил Ниночку тем, что на опушке кедрового леса неожиданно громко хлопнул несколько раз в ладоши, и пролетавшая мимо темно-бурая, с белыми крапинками птаха тут же села на ветку дерева. Была она чуть поменьше голубя, с длинным клювом, какая-то вся воинственная и тут же принялась пронзительно кричать: «Крэ-эк, крэ-эк, кэрр!»
– Кедровочка, – бережно сказал Макар, и Ниночка видела, как хорошо ему было в эту минуту. Он забыл ее, себя да и весь мир, наверное, забыл, скрадывая добрыми глазами каждое движение крикливой птицы...
…– А ты, брат, того, хитрец, – сказал как-то Макару директор, – присушил девчонку. Вот не ожидал.
– Глупости вы говорите, – нахмурился Макар и отвернулся к окну.
– Чем же вы в тайге занимаетесь? – осторожно кашлянул директор, неожиданно почувствовав какую-то неловкость.
– А вы посмотрите, – ответил Макар Чупров.
– Ну-ну, – неопределенно хмыкнул директор, – непременно посмотрю.
Через два дня утром, когда Ниночка с Макаром выходили из поселка, директор и в самом деле поджидал их, задремав на обочине шоссейки. Был он при ружье, туго перетянут патронташем и в вязаной шапочке.
– Как я, ничего? – спросил он вначале Макара, а потом и Ниночку. И чувствовалось, что ему и в самом деле небезразлично, как он выглядит.
Ниночка, глядя на вязаную шапочку своей работы, тихо похвалила: «Хорошо, Сергей Иванович». Макар же смолчал и, лишь пройдя достаточно, огорченно сказал:
– А ружье-то зачем?
В тайге директор был не директор, а маленький, слегка кругленький, слегка смешной человек, а потому он и ответил Макару с извиняющимися нотками в голосе:
– Для самообороны. Тайга все-таки. В ней всякое может случиться…
Однако в это утро ничего такого не случилось. И лишь Макар был более обычного молчалив.
На следующее утро Макар говорил Ниночке:
– Чудная земля. Я как-то сосенку в тайге посадил. А ее возьми и подкопай бурундук. Потом кедровочка в той ямке склад устроила. А весной смотрю, кедр в небо нацелился, да так он самоуверенно из-под земли-то попер, словно сосенке сказать хочет: «А ты зачем здесь, чужанка? Мое это место, моих родичей земля». Вот и пришлось мне «чужанку» эту отсаживать. И тоже ничего, прижилась, ствол ладный такой получается, и кожица гладкая, ровно у березки по второму году.
Они сидели на самом выходе из тайги, и Ниночка теперь уже сама видела, как вываливается из-за деревьев солнце, и в хвое тоненько поблескивают росинки, постепенно скатываясь к самому концу игл затем, чтобы фиолетовой искоркой блеснуть на лету и раствориться в земле. А чуть позже, прижимаясь к молодому ельнику, как-то боком, но резко и стремительно пронеслась сова, и шум ее крыльев был неуловимо тих, словно под потолком замедленно работал вентилятор...
Теперь Ниночка была в центре внимания всего поселка. О ней говорили шепотом и вслух, за глаза и прямо спрашивали о том, что она нашла в Макаре. Ниночка смущалась от столь неожиданного внимания, а однажды рассердилась и запальчиво сказала:
– Он лучше вас всех! Это вы чокнутые, а он природу понимает. Макар Иванович уже три года выдру подкармливает, а еще раньше он ее из капкана с перебитыми лапами спас. Поэтому он каждое утро в тайгу ходит. А выдра совсем ручная и рыбу у Макара Ивановича из рук берет. А у вас и кошки дома не держатся...
После этого о ней и Макаре говорили уже в основном за глаза.
Все так же манила Макара тайга, и каждое утро солнце по-новому вставало для него. Но когда однажды, прождав Ниночку почти десять минут, он так и ушел в тайгу один, Макар Чупров загрустил. Дольше обычного провозился он с выдрой, все прислушиваясь, не треснет ли сучок под ногой Ниночки, и не покажется ли ее тоненькая стройная фигурка между деревьев.
– Нет, сегодня не придет, – сказал он выдре, словно успокаивая зверька, – видно, сон побороть не может.
И пошел Макар раньше обычного в конструкторское бюро, в свою боковушку. Смотрел он в засиженное мухами окно и первый раз за свою жизнь не видел синих хребтов Мяо-Чана и того, что солнце за стенкой из туч поднялось, тоже не заметил. А потому и удивился рассеянно, когда к обеду по стеклу застучал крупный летний дождь. В боковушке сделалось темно, загудела крытая жестью крыша, и ударил гром, прежде синим высветлив вдумчивые глаза Макара.
– Вот и дождь, на бабину рожь, – заглянул директор, закурил папиросу. Он присел на верстак и провел белым, гладким пальцем по стеклу, отчего по нему пролегла синяя борозда.
– Слышал, Макар, я себе сеттера купил? В питомнике достал. Как ты думаешь, стоящая псина?
– Собака от хозяина зависит, – не сразу ответил Макар, тяжело опустив руки на кожаный фартук. – Вон овчарка человека может загрызть, а может и от смерти спасти. Это смотря чему ее выучить…
– Да мне-то человек зачем? – удивился директор. – Мне бы ее на соболя натаскать, на птицу какую-нибудь. Ты вот выдру приручил, а мне соболя домашнего хочется иметь.
– Так я выдру без собаки прикармливаю, – Макар глянул на директора и увидел, что перед ним сидит совсем другой директор. На его лице было внимание и желание понять слова Макара, и больше того – желание встать вровень с Макаром.
– Я бы его, сеттера, и продать мог, – сказал Сергей Иванович и еще одну бороздку оставил на стекле. – Семен бы и купил, да мне в хорошие руки пса отдать хочется.
И только теперь Макар понял, что директор предлагает сеттера ему, Макару Чупрову.
– А Нинка-то наша в больницу попала, застудилась, – круто переменил разговор директор и соскочил с верстака. – Кожу я тебе заказал, на этой неделе обещали доставить...
Накинув на голову капюшон старенького дождевика, Макар Чупров крупно шагал по раскисшей дороге. Тайга его встретила дружным шумом дождя, мглистым полусумраком и сильным запахом замолодевшей хвои. Речка моментально взбухла и помутнела, и весело пузырилась крохотными кратерами вмятин от дождя. Макар долго ждал, пока наконец с шумом выметнулась из потока выдра. Несколько мгновений она подслеповато приглядывалась к нему, а затем легко и величественно вышла на берег.
– Что, Ласка, привольно тебе? – говорил Макар, заглядывая в любопытные и все еще настороженные глаза выдры. – Дождь славный, и тебе теперь самая охота. Да я не задержу, я на минутку только. Вот Нина заболела, надо бы проведать...
По-беличьи выдра почесала обеими передними лапками за ушами и нетерпеливо покосилась на воду. Ее остренькая мордочка с короткими жесткими усами была сейчас необыкновенно доброй, располагающей к беседе, но Макар удержался и в знак прощания тихо и протяжно посвистал.
Наверное, первый раз в жизни Макар не смог бы объяснить, зачем он сегодня пришел в тайгу. Что-то его томило и не давало покоя. И он долго еще кружил по тайге, длинный и смешной в коротком, не по росту дождевике, пока не понял, что в больницу все-таки пойдет. И он шел мимо деревьев, словно прощаясь с каждым из них, искал глазами синий призрак хребтов, но все было покрыто дождем и черными тучами...
У самой больницы, что стояла над глубоким оврагом, по которому теперь шумно несся поток серо-желтой воды, Макару повстречался Семен. Был он необычайно тих и приветлив. Долго тряс руку Макара Чупрова, сочувственно заглядывал в глаза.
– А ведь наши-то вместе лежат, – сказал Семен и громко сморкнулся в сторону, – одна к ним лихоманка прицепилась.
– Это кто наши-то? – не понял Макар, горбясь над низкорослым Семеном.
– Как кто?! – обиженно удивился сторож. – Моя старуха да твоя Нинка. Только мою чуть позже привезли, а твоя-то с ночи занемогла.
– Ага, – сказал Макар Чупров и глубже натянул капюшон, – я пойду.
– Они вон у того оконца и лежат, – показал Семен. – Только ты поменьше там маячь, свидания-то им запрещены.
Макар медленно поднялся на взгорок. Земля здесь была глинистой, и его сапоги обросли громадными комьями грязи. Он долго и тщательно счищал ее щепкой, а счистив, еще постоял в раздумье и лишь затем подошел к окну.
Вначале он увидел Семенову старуху. Она лежала лицом к окну, чинная, спокойная, в непривычных для ее деревенского лица очках с зелеными тесемками. Заметив Макара, старуха пошевелила губами, и у окна появилась Ниночка. В коричневом халате она показалась Макару значительно выше ростом и строже лицом. И только теперь Макар спохватился, что не припас никакого подарка.
Ниночка облокотилась на подоконник и прижалась лицом к стеклу. Макар видел ее удивленные радостные глаза, остро выпирающие ключицы и березовую прозрачность кожи на длинной шее… Он неловко топтался у окна, непривычно заглядывая в ее лицо снизу вверх.
– В общем, так, – тихо говорил Макар, – в тайге теперь дождь и очень сыро, и тебе там быть сегодня все одно нельзя. Потому как в такую погоду застудиться можно в два счета. А Ласка вот радуется, ей в такую непогодь, когда рыба без осторожности играет, самое приволье. Тебе привет передает, скучает…
Все это Макар говорил очень тихо, рукавом утирая лицо от дождя, и Нина, конечно же, ничего не расслышала. Но она согласно кивала головой, а потом улыбнулась и тоже тихо поблагодарила его за привет от Ласки.
– А вот выздоровеешь, – продолжал Макар, – к тому времени и солнце силу возьмет, и лес достаточно пообсохнет, вот мы по сухому и пойдем.
И опять Ниночка покивала, а потом велела уходить и не мокнуть под дождем. Макар согласился и тяжело пошел от окна. Когда оглянулся, Ниночка ласково улыбалась ему, и он тоже улыбнулся ей и, уже не оглядываясь, пошел от больницы.
В той стороне, где каждое утро всходило для Макара Чупрова солнце, призрачной полосой наметился просвет. Он знал, что там уже нет дождя, что с той стороны заходит долгое августовское ведро.
ГОРЬКИЕ РАДОСТИ
I
Вот они пришли и сели на развилке дорог. Дальше тянулись две черные ленты, и чем дальше, тем больше становилось расстояние между ними. Зачем расходятся дороги? Зачем они ищут себе другие миры и уводят туда людей? Впрочем, дороги об этом молчат, они гораздо скрытнее, чем думают о них беспечные и веселые люди, только начинающие свой путь. Это им, беспечным людям, кажется, что дорога лежит от пункта А и до пункта Б. Так просто! Как, должно быть, смеются над этим дороги, в том числе и та, что ведет от пункта А и до пункта Б.
И вот они сидели у самого устья двух дорог, тоненько вытекающих из светлого березнячка, за которым были их дом и их деревня, и их речка, и их луга, замыкаемые высокими скалистыми хребтами. Они были не первыми и вряд ли будут последними. Они это знали. Знали еще раньше, чем пришли сюда, и еще раньше, когда не знали, что все-таки придут сюда. Так уж устроена жизнь.
– А я приеду и напишу тебе... Ты жди.
– Ты не расхотел ехать?
– Там еще все только начинается. Меня должны встретить хорошо.
– Мне вот возвращаться в четыре стены... Представляешь?
– Ты только до осени потерпи. Я там разобьюсь, а все сделаю.
– Дом-то... Эх, Колька, Колька...
– Пойду, и ты иди. Не сиди и не жди.
– То-то мне тогда змея приснилась. Длиннющая. А ты просыпаешься и говоришь: мол, поеду. Вот тебе и сон в руку.
– Бабкины сказки. Ты поменьше слушай.
– Ну да. Уже и заговорил. От дома версты не отошел, а уже заговорил.
– Пойду...
– Да иди… Иди! Чего встал?
– Жалко.
– Чего?
– Пойду!
И дорога та, что налево, в буерак и по косогорчику, медленно всосала его. А она, Танька Охлопкова, сидела на земле, приглаживая ладонью желтую и пыльную придорожную траву. Такую же желтую, как его волосы, такую же упрямую, как он сам…
Зачем уезжают люди? Когда все хорошо, когда все налажено и приобретено далеко не легкой жизнью – зачем? От дома, от жены, которой еще и двадцати не сравнялось, которая еще не налюбилась и не насмотрелась на тебя, зачем? Шут его знает. Зачем-то уезжают. Блудные сыны всех веков и всех народов кочуют по земле. Может быть, в них, как в птицах, живет древний инстинкт? И идут они по тем местам, стремятся к тем уголкам земли, повинуясь неведомой силе инстинкта, велению памяти, по которым проходили их пращуры. Может быть, есть в них это, и мы, досконально изучив и описав инстинкты пернатых, совершенно забыли о собственных инстинктах. Как бы то ни было, а по пыльной дороге налево, в буерак и по косогорчику ушел человек, оставив на развилке двух дорог не то девочку, не то женщину с сухими глазами и высоким красивым лбом. Оставил!..
II
«В четырех стенах, на семи ветрах». А половицы скрип-скрип. «Закручинилась, запечалилась». А капли из рукомойника тонь-тонь. «Ах ты, душечка, красна девица». А сердце по вечерам так да так. «Горемычная да судьбинушка»…
– Горюешь? – спрашивают.
– С чего бы это? – не соглашается.
– Не война, а вдовушка.
– Идите вы...
Под окном – яблонька-дикуша. И загадала. Как появятся яблочки, так и быть письму. А пока ходила на работу, напустив челочку на высокий красивый лоб. Работа простецкая: в магазине за прилавком, у всех на виду, как комар на носу.
«Сорок да сорок – рупь сорок? Папиросы брал? Нет. Плати два сорок».
«Аршин – на кувшин, потянется – не лопнет».
А и торговали же, если такие прибаутки остались. А тут:
– Тетя Маша, с вас 1 рубль 91 копейка.
– Как так?
– Да так.
– А ну, считай еще раз.
– Кило сахара – 90 копеек?
– Ну.
– Кладем. Пачка чая – 36 копеек?
– Дальше.
– Кладем. Пять пачек «Прибоя» – 60 копеек?
– Да вроде.
– Пять коробков спичек – 5 копеек?
– Сколько всего-то насчитала?
– Один рубль 91 копейку.
– Вот незадача. А я дома подсчитывала, так у меня один рубль и 87 копеек выходило… А ну, положи еще раз. Я что-то не уследила толком-то.
– Кило сахара...
А вечером – тоска. Все переделано, сама ухожена и у окошка сидит. Смотрит. Закат сойдет, ночь наступит, луна появится, а она сидит, в окошко смотрит.
– Ночи, словно в Сочи, любить да не оглядываться, – это Люся, Танькина подружка, отчаянная девка. – Тань, ночевать пустишь?
– Иди.
– Да я не одна.
А скучно-то как. И всю ночь – скрип-скрип, тонь-тонь, так да так. Тошно…
Ждала двоих, а пришли трое. Не гнать же. Так вот и сели за стол.
Говорила мама мне
про любовь обманную
да напрасно тратила слова...
– Ты не приставай. Пошел к черту! А то как двину!
– Подумаешь...
И вышла за околицу. А ночь была – век самой такую не придумать.
Села Танька на развилке, ноги под себя подобрала и тяжело задумалась. И думала: «Черт знает, где его носит. Может, и женился уже? Не должен… Вот же, морда, собрался и – привет. И хоть бы что. Жди его, красавчика, а тут лезут всякие. Зальют масла в глаза и лезут полапать. Сволочи!»
Но дорога, черная и длинная, требовала к себе внимания. По ней он ушел и о чем-то думал. О чем? А вот сама бы она уходила, а он вот тут бы сидел, так о чем же таком она задумалась бы? Допустим, все наказала ему, все приготовила, хоть год один живи. Так о чем же еще она думала бы?.. А шут его знает. Ну, чтобы... Да ну его… Ушел да и ушел. Эка невидаль – полдеревни мужиков разбежалось. А сюда вербованных везут. Вот ведь чудеса в решете да мякина в сите.
Так вот она и думала, тоскуя на развилке. А потом растерянно и зло шептала:
– Грудь-то болит, сволота, по рукам тоскует. Неужели он и этого не понимает?
И шла домой. Мимо березняка к высокому дому. К своим четырем стенам.
III
Появились яблочки, и пришло письмо. Длинное. Танька весь вечер читала. Вначале сидела за кухонным столом, сдвинув в сторону посуду, потом перебралась в постель и там читала, с любопытством узнавая Колькины мысли. «Как мне думалось, – Колька писал, – так не получилось. Трактористов здесь до черта. Хоть собаками трави. Хожу пока в рабочих. Но ты ведь знаешь: я што задумал, учужу». И потом еще: «Вот ведь не целовал, когда можно было, а теперь хочется. Ты смотри мне...» Здесь Танька пропустила, презрительно поджав губы, а в самом конце прочитала: «Целую тыщу раз. Весь твой – Николай».
Танька расслабленно откинулась на подушку, словно бог знает работу какую переделала, и счастливо задумалась. Почти не о Кольке, а так что-то – блажила. Потом прошептала:
– Полудурок какой, целоваться схотелось.
Потом закрыла глаза и уснула.
IV
– И все мы здесь не по зову рубля, а по зову сердца, не бока проляживать, а жизнь налаживать...
– Сидел, что ли? – спросил Колька напарника, толстого и неряшливого Пестуна.
– А хрен его знает, может, и сидел где.
– Не должно, – Колька продолжает. – Трепло, оно буйным редко бывает. Так, верхушек насшибал, а теперь нас агитирует.
Агитатор продолжал:
– Что здесь было? Тайга да пни. А мы город построим да детишек народим.
– Он может, – серьезно сказал Колька. – Брюхо-то – мечта моей Таньки.
– А что она?
– Ребенка хочет.
– Ну?
– Не заводится.
– Сегодня девки зовут. Именины у них. Пойдем? – Пестун что-то жует, может быть, следующую мысль.
– Не знаю. Не хочется…
– Неудобно. Зовут же.
– Вот, харя, сейчас пенек протопчет. Ишь, как подпрыгивает.
– Мы обяжемся, – агитатор все, – как привяжемся. Нет нам чести, не исполним если...
– Вот, дурак!.. Пошли...
Места хорошие. Места Кольке нравились. Просторно. Вольно. Дико. Тайга да и только. Вот если бы сюда еще и Таньку – о чем мечтать человеку? Да молчит что-то Танька. Ни привета, ни ответа на его письмо. Может быть, замуж вышла? Не может быть. Она не таковская… А каковская? Шут его знает. Эх, жизнь, как в такси: чем дальше, тем дороже. Да скучно ведь дома, весь век-то у одного порога попробуй выдержи, когда люди всюду едут. А! Пропади все пропадом. Чему быть, того не миновать.
И пошел Колька на именины. Вместе с Пестуном пошел. Гулянка получилась парной: каждому по девочке и по бутылке водки.
Колька выпил свою водку и поцеловал свою девочку – рослую, смешливую, работящую, наверное. Было непротивно, любопытно было.
– Ты ведь женат?
– А-а, к черту!
– Она красивая?
Колька притих и начал рассказывать, какая у него Танька красивая. Долго рассказывал и целовал рослую, смешливую. И даже не удивился, что ее так устраивает – слушать про Колькину Танюшу и целоваться с Танькиным Колькой.
На другой день пошел опять. Думал, все просто: когда надоест, брошу. Таньке это не повредит. Наивно думал, но понял это значительно позже, когда вместо Таньки осталось в душе что-то смутное и расплывчатое.
V
А Танька ждала и писала письма. Уже без надежды, но зло и упрямо. Что поддерживало ее в этом, зачем она так, не знала, на что надеялась, что ждала, тоже не знала.
Прошла осень, наступила зима, потом еще одна осень и еще одна зима. Два года прошло, а Кольки все не было и теперь уже быть не могло. Хотела поставить крест, но у нее и это не получилось: не ставился он, валился куда-то в пространство. И Танька взвыла от горя. Поняла, что любит…
Ночью, вспоминая его руки, ревела и хотела изменить хоть с дьяволом, днем ходила строгая и недоступная. Попробовал один тронуть, с таким остервенением она его колотила, такой сильной и неистовой была, что другие уже и глянуть лишний раз боялись.
И вот однажды с Севера пришел красивый, спокойный, уверенный, не грубый… Звали его Володькой. Устроился на сплав грузчиком и один раз было утонул. Танькина изба крайняя, к ней и принесли. У нее и остался…
Прожили год, а Таньку все к развилке тянет. Придет, сядет на прежнее место и сидит подолгу. Думает. «Вот же зараза, – думает она, – так и знала, что не вернется. Тогда бы и прибить. Взять какую-нибудь колотушку и дать по башке… Паразит! Неужто кого любит? Нет, не должно. За что же она тогда любила бы? И не явится, ни разу не явится. Это ведь надо – упрямый какой, все ждет, что я за ним принесусь. Дожидайся... прошлогоднего снега». А сама плакала потихоньку и опять недоуменно шептала:
– А грудь-то все одно болит, по его рукам болит, хоть бы об этом подумал, сволота противная.
Мирно и спокойно лежали дороги, прислушиваясь к ее горьким слезам, к ее горячему шепоту. Куда-то звали они, что-то обещали ей, но она не соглашалась.
И, выплакавшись, медленно брела мимо светлого березняка к родной деревеньке женщина с сухими глазами и высоким красивым лбом. Брела любящая, тоскливая, одинокая.
Нет, зачем, зачем оставляют таких женщин, зачем не любят и не целуют каждый час и каждое мгновение? Зачем заставляют страдать и ложиться в постель с красивым, спокойным, не грубым, но и нелюбимым же человеком? Зачем одиноко и грустно идут почти от каждой развилки измученные неразделенной любовью женщины? Зачем все это? Как глупо, как бездарно...
И не выдержал Володька. Ушел. Собрался, поцеловал и ушел. А она и пожалеть не сумела.
Однажды проснулась поздней ночью. Удивленная, испуганная и уже обрадованная.
Ночь была светлой. Дорога чуть темнее, но тоже светлая и легкая, бесконечная. Как жизнь. Как ожидание.
Сидела на развилке. Ждала. Знобко вздрагивала, улыбалась и плакала...
– Ну, пришел? – спросила, не взглянув.
– Пришел.
– Четыре-то года... Я тут с ума сошла.
– …
– Разве не сволочь?
– …
– Думай тут о нем, а он о бабах думал.
– Так вышло... А ты?
– И я думала. А ты как думал?
– Вот и надумались…
Через два дня Колька ушел. Ему уже было все равно. А женщина, что осталась на развилке и смотрела ему вслед, как ей быть? Ждать? А зачем? Кто на это ответит?
Не знает ответа и она.
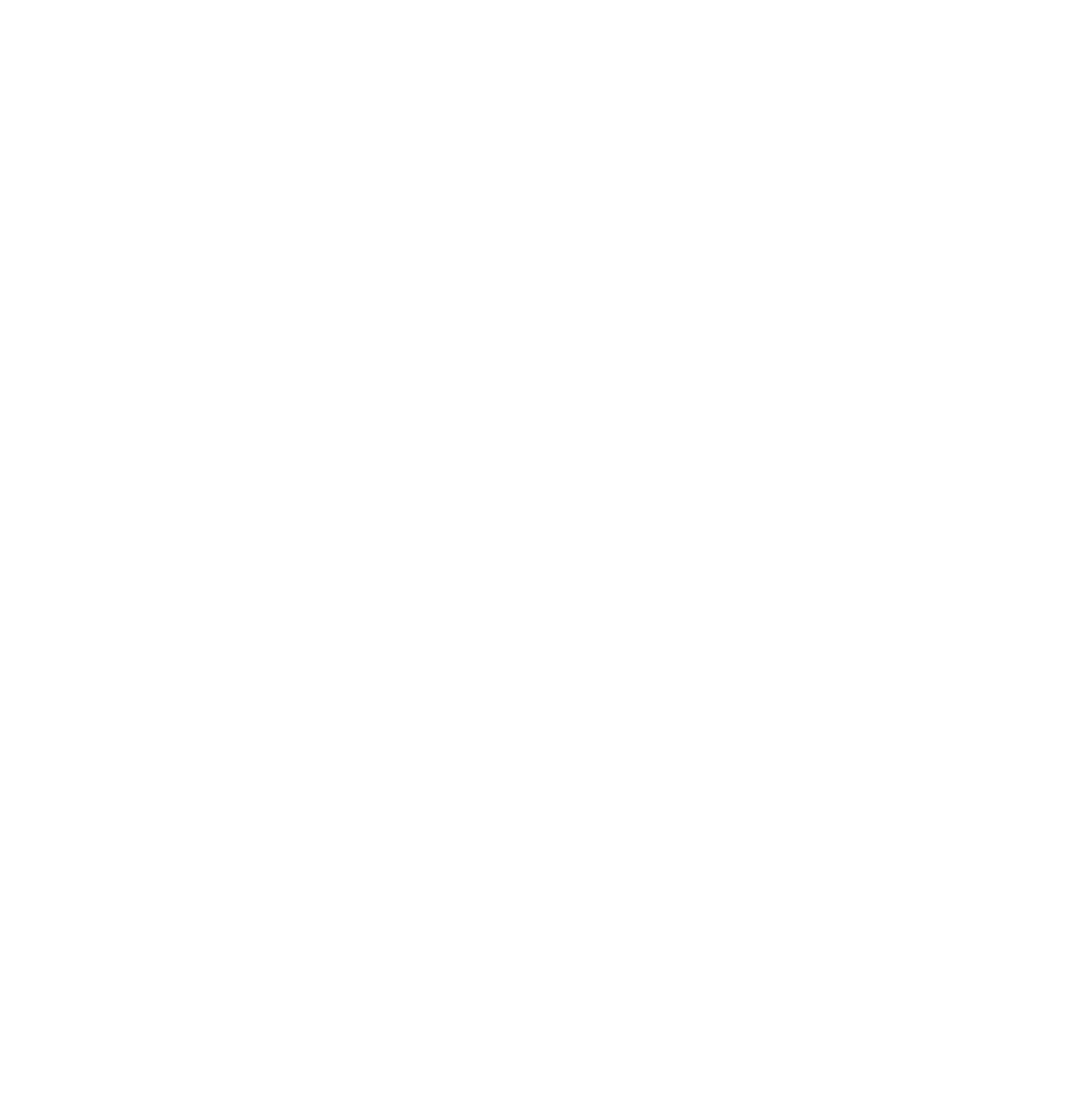
Андрей СТРОКОВ
Родился в Казахстане в 1967 г. Родители – металлурги. Образование – высшее техническое и высшее экономическое. Служил на флоте. Работал на руководящих должностях в кабельной промышленности. Публиковался в альманахах издательства «Новое слово», в журнале «Парус», в газетах «Электросталь», «Курская руда», «Рабочая трибуна», а также в Интернете. Автор Дзен-канала «Не только морские рассказы». Проводит мастер-классы и семинары со студентами вузов Пятигорска и Ессентуков. Среди увлечений – гольф, байкинг. Живет в Кисловодске. В издательстве «Новое слово» вышел бумажный сборник «Не только морские рассказы» (см. анонс книги на стр. 4). Этот рассказ – совершенно новый, в книгу не вошел, но, близкий по стилю и духу этому сборнику, может стать отличным его продолжением или приглашением приобрести на сайте издательства.
Родился в Казахстане в 1967 г. Родители – металлурги. Образование – высшее техническое и высшее экономическое. Служил на флоте. Работал на руководящих должностях в кабельной промышленности. Публиковался в альманахах издательства «Новое слово», в журнале «Парус», в газетах «Электросталь», «Курская руда», «Рабочая трибуна», а также в Интернете. Автор Дзен-канала «Не только морские рассказы». Проводит мастер-классы и семинары со студентами вузов Пятигорска и Ессентуков. Среди увлечений – гольф, байкинг. Живет в Кисловодске. В издательстве «Новое слово» вышел бумажный сборник «Не только морские рассказы» (см. анонс книги на стр. 4). Этот рассказ – совершенно новый, в книгу не вошел, но, близкий по стилю и духу этому сборнику, может стать отличным его продолжением или приглашением приобрести на сайте издательства.
СКАЗ О ТОМ, КАК ОДИН КУРСАНТ ТРЕХ АДМИРАЛОВ ИСКУПАЛ
В середине 50-х годов не было на свете страшнее для нас человека, чем начальник Управления ВМУЗ ВМФ СССР адмирал С.Г. Кучеров. Любой курсант, от салаги-первокурсника до тёртого калача, без пяти минут лейтенанта, это знал твёрдо. Адмирал приезжал с проверкой в очередное училище, приказывал принести списки «олимпийцев», «декабристов», «академиков» и прочих негодяев, щедрой рукой расставляя галочки, отчислял несчастных десятками. Этим летом приехал он и в наше Черноморское Высшее Военно-Морское училище, всего три года назад заслуженно получившее имя С.П. Нахимова. Орденом Красной Звезды ЧВВМУ будет удостоено ровно через 20 лет (это я не занудствую, а подсказываю вдумчивому читателю точный год, в котором произошла эта история).
История подлинная, написана со слов ветерана ВМФ и РВСН СССР, капитана второго ранга Валерия Владимировича Зубарева. Надо сказать, что в его живом исполнении выглядит она намного трагичнее и комичнее, а я уж как смог, так изложил.
После сытного обеда по закону Архимеда положен «адмиральский час» – полуденный отдых или даже сон. Адмиралам положен, не курсантам и, тем более, не свежеиспечённым первокурсникам, поступившим всего месяц назад, даже не прошедшим курса молодого матроса. Стою дежурным по водной станции; место хорошее, дежурство спокойное – как раз для таких, как я, салаг. Млею от такого везения; это вам не уголь на угольной станции грузить. В моём распоряжении – будка с телефоном, пляж с раздевалками, две вышки для прыжков в воду и спасательный ялик. Ещё до обеда строго-настрого был предупреждён дежурным по училищу, капитаном второго ранга: появятся адмиралы, сразу позвонить ему; к адмиралам строевым шагом подойти, доложить по всей форме! Нет проблем, мне из будки всё заведование – как на ладони. Понимаю, не маленький, не упущу, адмиралы – дело серьёзное.
Но августовское полуденное солнце безжалостно, чистейшая вода Стрелецкой бухты бликует предательски, убаюкивает, расслабляет. Даже спасительный освежающий бриз и тот улёгся где-то на адмиральский час, ему тоже можно. Нет, я не сдамся, только вот глаза на миг прикрою, чтоб не слепило так солнышко, а потом сразу открою… Получилось! Зажмурюсь ещё на секундочку, а потом сразу…
…– Дежурный, вы там заснули? Где адмиралы, почему не докладываете?
Это трубка плавится в руке от вибрации мембраны. Не просыпаясь, я услышал зуммер вызова, прогавкал в уголь микрофона: «Дежурный по водной станции курсант Зубарев», а теперь только начал соображать.
– Товарищ капитан второго ранга, пойду проверю.
В раздевалке на крючочках висят кителя – кипенно-белые, адмиральские; золото погон блеск черноморского солнышка затмевает, от «мух» чёрных в глазах рябит. Одна «муха» – контр-адмирал Н.Г. Богданов, начальник училища, две – вице-адмирал В.А. Пархоменко, командующий Черноморским флотом, три «мухи» – самый страшный из них, адмирал С.Г. Кучеров, про которого курсанты распевали песенку «Я не кучер, я – водитель кобылы».
Адмиралы, почти ровесники, крепкие 50-летние мужики, поди разбери, кто из них кто: они ж, как в бане, се банье ню (простите мой французский), не хуже курсантов плещутся, громче моржей фыркают, по очереди взбегают на пятиметровую вышку и лихо ныряют с неё, красиво входя в воду. Во дают! А я, молодой, только трёхметровую освоил…
– Дежурный по водной станции курсант Зубарев. Товарищ капитан второго ранга, они купаются.
– Подойти строевым шагом и доложить!
– Они совсем неодетые купаются…
Дежурный перешёл на «непечатный французский»…
– Дождаться, когда оденутся, подойти строевым шагом и доложить!
Легко сказать – дождаться. В холодный пот меня бросило, всю жизнь свою недолгую вспомнил, а мне тогда ещё и семнадцать не стукнуло. Как провожали меня родители в Минводах на автобус, как сдавал экзамены, как прошёл конкурс (десять человек на место), как четверо из семи моих земляков отсеялись и домой поехали… «Нет, домой не вернусь, это точно. Возьму выписку с оценками, подамся в Одессу – небось, в мореходку возьмут. Вот уж повезло попасть на лёгкое дежурство! Да лучше б на камбуз лук резать! Четверо товарищей сегодня битум топят и на крышу поднимают – эх, вот кому хорошо, но не мне! Оделись, кажись… Пора».
Мощно впечатывая в раскалённый асфальт пирса почти новые прогары, развевая, как флаг, на ходу белое парусиновое рабочее платье «на вырост», задирая подбородок к небу, чтоб бескозырка не сползала на лоб с бритой головы, бодро и уверенно идёт курсант навстречу судьбе своей. Правый кулак – на уровне боевого номера, предплечье точно параллельно асфальту, левая рука прямая, назад до упора, передняя нога, как струна: носок тянется в цель, подобно бушприту брига «Меркурий», пятка в полуметре от земли… Р-р-раз! Гулкий удар в землю в такт с сердцем (120 ударов в минуту, руки по швам), два-а-а! Перенос веса тела, и вот уже правая нога – указатель курса: тр-р-ри! Чёткая остановка в трёх шагах от курортников, ладонь взлетает к виску… Даже чайки притихли, замерев в своём паре́нии на мхатовском занавесе синего бездонного неба.
– Аве, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!..
Нет, конечно же, не так, а по уставу:
– Товарищ адмирал! Дежурный по водной станции курсант Зубарев! За время моего дежурства происшествий не случилось!
– Не случилось?!!! – глаза страшного адмирала полезли из орбит.
– А ничего так, бодро рапортует. Ну, что с него взять, салага ещё, – это вдруг вступился за меня комфлота, самый боевой из всей троицы, дважды контуженный в боях и чудом спасённый из воды после гибели эсминца «Беспощадный», командиром которого он был в начале войны.
Адмирал как-то обречённо (мол, что с него, бестолкового, взять?) махнул рукой, и вся троица – адмирал, вице-адмирал и контр-адмирал, подобно эскадре линкоров – обошла меня и растворилась в послеобеденном мареве. Вот что значит живая вода черноморская, она людей добрее делает! И только с опытом я понял, насколько труднее и стыднее всего в тот момент было начальнику училища, которого я так подло подвёл. Перед гостями опозорил.
Последствий для меня не было вообще никаких (для дежурного по училищу – не знаю, но, думаю, он на своём веку повидал от курсантов и не такого). Своё чудесное спасение отметил смело: ночью, приведя себя в адмиральское состояние «ню», отважно прыгнул с пятиметровой вышки. А чем я хуже адмиралов?
Некоторое время спустя, будучи старшим лейтенантом, довелось в сходных курортных условиях встретиться с самим Георгием Константиновичем Жуковым, но это – другая история.
Историческая справка
Кучеров Степан Григорьевич (13(26).08.1902 – 31.03.1973), адмирал. По основному образованию – химик, опыта командования кораблями практически не имел. В войну – от нач. штаба Северного флота до начальника Главного морского штаба ВМФ. С этой должности снят в 1946 г. с треском. Говорят, когда И.В. Сталин назначал после него адмирала И.С. Исакова, тот сказал: «Товарищ Сталин, но я же без одной ноги» (адмирал её потерял через гангрену в 1942 г. под Туапсе), на что Сталин ответил (видимо, попыхивая трубкой): «Это ничего, прошлый без головы был». Назначался на различные должности в системе высшего военно-морского образования. Уволен в отставку в 1967 году. Награждён восемью орденами, из которых два – за выслугу.
Пархоменко Виктор Александрович (29.09.1905 г. – 11.11.1997 г.), вице-адмирал. В войну – командир дивизиона канонерских лодок, старпом крейсера «Червона Украина», командир эсминца «Беспощадный», крейсера «Молотов». Командующий Эскадрой Черноморского флота (1948–1951 гг.), командующий Черноморским флотом (июль – декабрь 1955 г.). Снят с должности и разжалован до контр-адмирала (временно) после гибели линкора «Новороссийск». В последующем занимал ряд менее значительных должностей. Уволен в отставку в 1969 г. Награждён восемью орденами, из которых три – за выслугу и один – юбилейный.
Богданов Николай Георгиевич (11.10.1903 г. – 02.05.1967 г.), контр-адмирал. В юности – участник Кронштадтского восстания на стороне контрреволюции. После реабилитации занимал ряд корабельных должностей вплоть до командира эсминца. Далее – на штабных должностях Балтийского флота. После войны – начальник ТОВВМУ, начальник ЧВВМУ; уволен в отставку в 1957 г. Награждён шестью орденами, из которых один – за выслугу.
Впервые опубликовано в журнале «Парус», №92.
В середине 50-х годов не было на свете страшнее для нас человека, чем начальник Управления ВМУЗ ВМФ СССР адмирал С.Г. Кучеров. Любой курсант, от салаги-первокурсника до тёртого калача, без пяти минут лейтенанта, это знал твёрдо. Адмирал приезжал с проверкой в очередное училище, приказывал принести списки «олимпийцев», «декабристов», «академиков» и прочих негодяев, щедрой рукой расставляя галочки, отчислял несчастных десятками. Этим летом приехал он и в наше Черноморское Высшее Военно-Морское училище, всего три года назад заслуженно получившее имя С.П. Нахимова. Орденом Красной Звезды ЧВВМУ будет удостоено ровно через 20 лет (это я не занудствую, а подсказываю вдумчивому читателю точный год, в котором произошла эта история).
История подлинная, написана со слов ветерана ВМФ и РВСН СССР, капитана второго ранга Валерия Владимировича Зубарева. Надо сказать, что в его живом исполнении выглядит она намного трагичнее и комичнее, а я уж как смог, так изложил.
После сытного обеда по закону Архимеда положен «адмиральский час» – полуденный отдых или даже сон. Адмиралам положен, не курсантам и, тем более, не свежеиспечённым первокурсникам, поступившим всего месяц назад, даже не прошедшим курса молодого матроса. Стою дежурным по водной станции; место хорошее, дежурство спокойное – как раз для таких, как я, салаг. Млею от такого везения; это вам не уголь на угольной станции грузить. В моём распоряжении – будка с телефоном, пляж с раздевалками, две вышки для прыжков в воду и спасательный ялик. Ещё до обеда строго-настрого был предупреждён дежурным по училищу, капитаном второго ранга: появятся адмиралы, сразу позвонить ему; к адмиралам строевым шагом подойти, доложить по всей форме! Нет проблем, мне из будки всё заведование – как на ладони. Понимаю, не маленький, не упущу, адмиралы – дело серьёзное.
Но августовское полуденное солнце безжалостно, чистейшая вода Стрелецкой бухты бликует предательски, убаюкивает, расслабляет. Даже спасительный освежающий бриз и тот улёгся где-то на адмиральский час, ему тоже можно. Нет, я не сдамся, только вот глаза на миг прикрою, чтоб не слепило так солнышко, а потом сразу открою… Получилось! Зажмурюсь ещё на секундочку, а потом сразу…
…– Дежурный, вы там заснули? Где адмиралы, почему не докладываете?
Это трубка плавится в руке от вибрации мембраны. Не просыпаясь, я услышал зуммер вызова, прогавкал в уголь микрофона: «Дежурный по водной станции курсант Зубарев», а теперь только начал соображать.
– Товарищ капитан второго ранга, пойду проверю.
В раздевалке на крючочках висят кителя – кипенно-белые, адмиральские; золото погон блеск черноморского солнышка затмевает, от «мух» чёрных в глазах рябит. Одна «муха» – контр-адмирал Н.Г. Богданов, начальник училища, две – вице-адмирал В.А. Пархоменко, командующий Черноморским флотом, три «мухи» – самый страшный из них, адмирал С.Г. Кучеров, про которого курсанты распевали песенку «Я не кучер, я – водитель кобылы».
Адмиралы, почти ровесники, крепкие 50-летние мужики, поди разбери, кто из них кто: они ж, как в бане, се банье ню (простите мой французский), не хуже курсантов плещутся, громче моржей фыркают, по очереди взбегают на пятиметровую вышку и лихо ныряют с неё, красиво входя в воду. Во дают! А я, молодой, только трёхметровую освоил…
– Дежурный по водной станции курсант Зубарев. Товарищ капитан второго ранга, они купаются.
– Подойти строевым шагом и доложить!
– Они совсем неодетые купаются…
Дежурный перешёл на «непечатный французский»…
– Дождаться, когда оденутся, подойти строевым шагом и доложить!
Легко сказать – дождаться. В холодный пот меня бросило, всю жизнь свою недолгую вспомнил, а мне тогда ещё и семнадцать не стукнуло. Как провожали меня родители в Минводах на автобус, как сдавал экзамены, как прошёл конкурс (десять человек на место), как четверо из семи моих земляков отсеялись и домой поехали… «Нет, домой не вернусь, это точно. Возьму выписку с оценками, подамся в Одессу – небось, в мореходку возьмут. Вот уж повезло попасть на лёгкое дежурство! Да лучше б на камбуз лук резать! Четверо товарищей сегодня битум топят и на крышу поднимают – эх, вот кому хорошо, но не мне! Оделись, кажись… Пора».
Мощно впечатывая в раскалённый асфальт пирса почти новые прогары, развевая, как флаг, на ходу белое парусиновое рабочее платье «на вырост», задирая подбородок к небу, чтоб бескозырка не сползала на лоб с бритой головы, бодро и уверенно идёт курсант навстречу судьбе своей. Правый кулак – на уровне боевого номера, предплечье точно параллельно асфальту, левая рука прямая, назад до упора, передняя нога, как струна: носок тянется в цель, подобно бушприту брига «Меркурий», пятка в полуметре от земли… Р-р-раз! Гулкий удар в землю в такт с сердцем (120 ударов в минуту, руки по швам), два-а-а! Перенос веса тела, и вот уже правая нога – указатель курса: тр-р-ри! Чёткая остановка в трёх шагах от курортников, ладонь взлетает к виску… Даже чайки притихли, замерев в своём паре́нии на мхатовском занавесе синего бездонного неба.
– Аве, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!..
Нет, конечно же, не так, а по уставу:
– Товарищ адмирал! Дежурный по водной станции курсант Зубарев! За время моего дежурства происшествий не случилось!
– Не случилось?!!! – глаза страшного адмирала полезли из орбит.
– А ничего так, бодро рапортует. Ну, что с него взять, салага ещё, – это вдруг вступился за меня комфлота, самый боевой из всей троицы, дважды контуженный в боях и чудом спасённый из воды после гибели эсминца «Беспощадный», командиром которого он был в начале войны.
Адмирал как-то обречённо (мол, что с него, бестолкового, взять?) махнул рукой, и вся троица – адмирал, вице-адмирал и контр-адмирал, подобно эскадре линкоров – обошла меня и растворилась в послеобеденном мареве. Вот что значит живая вода черноморская, она людей добрее делает! И только с опытом я понял, насколько труднее и стыднее всего в тот момент было начальнику училища, которого я так подло подвёл. Перед гостями опозорил.
Последствий для меня не было вообще никаких (для дежурного по училищу – не знаю, но, думаю, он на своём веку повидал от курсантов и не такого). Своё чудесное спасение отметил смело: ночью, приведя себя в адмиральское состояние «ню», отважно прыгнул с пятиметровой вышки. А чем я хуже адмиралов?
Некоторое время спустя, будучи старшим лейтенантом, довелось в сходных курортных условиях встретиться с самим Георгием Константиновичем Жуковым, но это – другая история.
Историческая справка
Кучеров Степан Григорьевич (13(26).08.1902 – 31.03.1973), адмирал. По основному образованию – химик, опыта командования кораблями практически не имел. В войну – от нач. штаба Северного флота до начальника Главного морского штаба ВМФ. С этой должности снят в 1946 г. с треском. Говорят, когда И.В. Сталин назначал после него адмирала И.С. Исакова, тот сказал: «Товарищ Сталин, но я же без одной ноги» (адмирал её потерял через гангрену в 1942 г. под Туапсе), на что Сталин ответил (видимо, попыхивая трубкой): «Это ничего, прошлый без головы был». Назначался на различные должности в системе высшего военно-морского образования. Уволен в отставку в 1967 году. Награждён восемью орденами, из которых два – за выслугу.
Пархоменко Виктор Александрович (29.09.1905 г. – 11.11.1997 г.), вице-адмирал. В войну – командир дивизиона канонерских лодок, старпом крейсера «Червона Украина», командир эсминца «Беспощадный», крейсера «Молотов». Командующий Эскадрой Черноморского флота (1948–1951 гг.), командующий Черноморским флотом (июль – декабрь 1955 г.). Снят с должности и разжалован до контр-адмирала (временно) после гибели линкора «Новороссийск». В последующем занимал ряд менее значительных должностей. Уволен в отставку в 1969 г. Награждён восемью орденами, из которых три – за выслугу и один – юбилейный.
Богданов Николай Георгиевич (11.10.1903 г. – 02.05.1967 г.), контр-адмирал. В юности – участник Кронштадтского восстания на стороне контрреволюции. После реабилитации занимал ряд корабельных должностей вплоть до командира эсминца. Далее – на штабных должностях Балтийского флота. После войны – начальник ТОВВМУ, начальник ЧВВМУ; уволен в отставку в 1957 г. Награждён шестью орденами, из которых один – за выслугу.
Впервые опубликовано в журнале «Парус», №92.
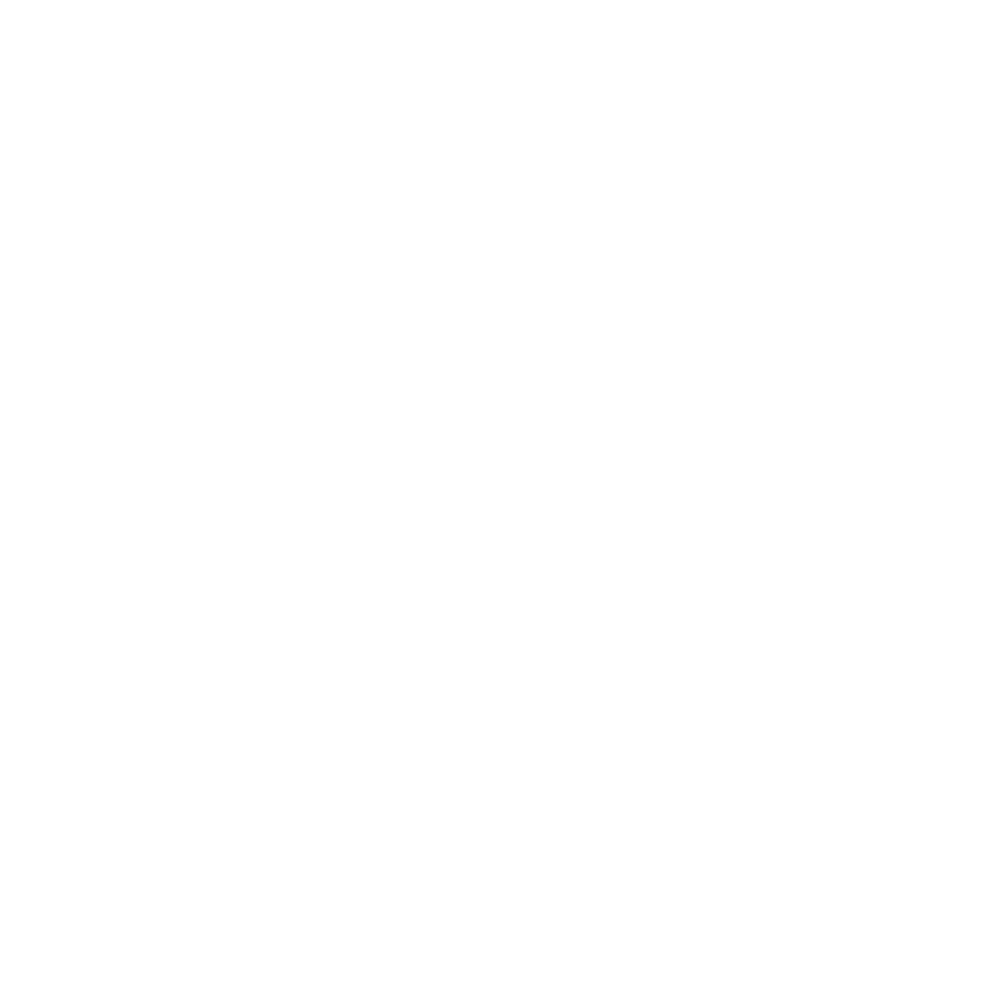
Сергей САФОНОВ
Родился в 1957 году. Детство провел на Сахалине. После окончания Дипломатической академии работал на внешнеполитическом поприще. Недавно стал пенсионером.
С 2023 года печатается в альманахах издательства «Новое слово».
Родился в 1957 году. Детство провел на Сахалине. После окончания Дипломатической академии работал на внешнеполитическом поприще. Недавно стал пенсионером.
С 2023 года печатается в альманахах издательства «Новое слово».
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ЛОГИКА
В кабинете, отгороженном от просторной, приглушенно гудящей газовыми горелками котельной толстой кирпичной стеной, было тепло и уютно. Под тускловатой, свисающей с потолка лампой за придвинутыми друг к другу старомодными добротными столами сидели двое. Начальник Павел Петрович, мужчина лет пятидесяти с начавшей пробиваться на височных завитках сединой, и молодой вихрастый мастер Андрей Сергеевич, по распределению отрабатывающий положенные три года на одном их московских камвольных комбинатов, в начале восьмидесятых годов прошлого столетия еще действовавших даже в центре столицы.
Бывалый хозяйственник, отодвинув на кончик носа очки, неторопливо закрывал рабочим наряды, сверяясь со своими записями и в случае необходимости уточняя детали у бригадиров, вызывая их по телефону из каптёрки. Его подчиненный обновлял устаревшую инструкцию по производственной безопасности, напечатанную, как ему представлялось, еще во времена царя Гороха, поскольку тонкие листы дешевой писчей бумаги давно выгорели, как бы сглаживая контуры печатных литер, набитых через синюю ленту печатной машинки. «Ну кто так коряво пишет, где тут логика?» – сокрушенно произнес про себя недавний выпускник вуза и начал безжалостно править лежавший перед ним текст.
В это время раздался телефонный звонок. Павел Петрович взял трубку. «Пинчук, – коротко бросил он и на некоторое время замолчал. – Да, Михаил Васильевич, сейчас подойду».
Завершив разговор, начальник набросил на плечи «представительскую» телогрейку и направился к главному механику. Через полчаса он вернулся, как оказалось, в сопровождении членов депутатской комиссии Моссовета по теплосбережению.
Старший в прибывшей тройке инспекторов, седовласый мужчина лет пятидесяти пяти, поздоровавшись, начал задавать общие вопросы о состоянии дел в паросиловом хозяйстве. Однако вскоре это ему надоело. Откинув в сторону локоть, он посмотрел на наручные часы, а затем перевел взгляд на спутников. Они сидели молча, не проявляя какой-либо активности, лишь время от времени переключали свое внимание на тот или иной предмет обстановки, как бы оценивая внутреннюю атмосферу помещения и работающих в нем людей. «Хорошо, – заключил депутат, – мы сейчас пройдем по производству, а вы уж подготовьте отчет – вам-то это будет сделать сподручнее». Как позже объяснил Пинчук, после позапрошлой холодной зимы, когда температура в Москве опускалась ниже сорока градусов, подобные проверки в столице участились и стали обычным явлением.
Павел Петрович пошел сопровождать непрошенных гостей и вернулся в кабинет уже к концу рабочего дня. Чтобы настроить молодого коллегу на предстоящую работу, он многозначительно произнес: «Значит, так. Мы с Михаилом Васильевичем организуем протокольную часть встречи комиссии, а тебе, Андрей, придется взять на себя написание отчета». – «Так я же никогда раньше не писал, не знаю, как это за них сделать», – взмолился молодой инженер. «Ничего, научишься, – мягко, по-отечески парировал начальник и добавил: – Возьми в шкафу старые бумаги, посмотри, ну и придумай что-нибудь свое, новое… Ты ведь недавно из института, голова еще светлая, должен соображать… Нам на отчет неделю дали, так что время есть».
Следующим утром Андрей вытащил из шкафа потертые, увесистые папки, нашел нужные материалы и сел за новую для него работу. Через три дня отчет был готов. Образцы предшественников показались новоиспеченному эксперту какими-то безликими, малосодержательными, и он добавил в свое детище конкретики, а заодно и пару незначительных недостатков; посчитал по ним возможные теплопотери – мизер, копейки. «Но не может же комиссия работать несколько дней и не выявить ни одной недоделки, такого ведь не бывает, – здраво, как ему казалось, рассуждал молодой инженер. – Я отметил скорее гипотетические, самые незначительные недостатки. И нас за них упрекать не будут, и комиссия останется довольной, не сможет придраться по-крупному. Логично? Логично». Он еще раз внутренне утвердился в своем решении.
Когда отчет оказался в руках Пинчука, он внимательно провел глазами по представленному ему на предварительное рассмотрение тексту и молча отложил его в сторону. «Ну как?» – нетерпеливо поинтересовался молодой автор. «Да, средней паршивости, – находясь в хорошем настроении, решил пошутить Павел Петрович и, глядя на обескураженного Андрея, тут же добавил: – Не переживай, все нормально, хороший отчет». Мастер облегчено вздохнул, поднялся со стула и вышел на морозный воздух, как бы оставляя за спиной для него непростую, но уже завершенную работу.
Прошло время. Январские морозы и февральские вьюги сменила мартовская оттепель. Тем временим Андрея Сергеевича повысили в должности. Теперь он работал на отдельно расположенном через Водоотводной канал производстве и числился заместителем главного механика.
В один из приятно слепящих весенних солнечных дней Андрея неожиданно вызвал к себе Михаил Васильевич и показал письмо. Это было адресованное директору указание из Моссовета принять участие в заседании, проводимом по итогам работы комиссии по энергосбережению. «Наш руководитель на такие мероприятия не ходит, а я буду занят в главке. Придется сходить тебе, Андрей Сергеевич, тем более, что и отчет-то ты писал. Посидишь, послушаешь, потом расскажешь, что и как там было», – напутствовал своего зама главный механик.
Через несколько дней Андрей оказался в актовом зале упомянутого учреждения, который наполовину был заполнен солидными людьми с различных предприятий и контор города. Председательствующий, объявляя повестку дня, анонсировал выступление докладчика и нескольких неназванных представителей промышленных объектов. Выступающий уже дочитывал доклад, когда Андрей Сергеевич из реплик бывалых соседей понял, что следующими на трибуну выйдут те, кого будут произвольно вызывать из зала.
Первым пригласили сухопарого, юркого человека с «Трехгорной мануфактуры», который вышел из рядов кресел со скрученными в трубку бумагами и, разложив их, быстро, без запинок отчитал все свое выступление. За ним на трибуне оказался грузный тяжеловес, который, не имея при себе каких-либо материалов, кратко доложил о принятых мерах по сбережению теплоэнергии на своем предприятии. К нему у председательствовавшего было много вопросов, и, находясь под его прессингом, выступающий то и дело краснел и вытирал со лба и шеи обильно проступающий пот. Андрей, впечатленный увиденной картиной, бросил взгляд на часы и подумал, что, пожалуй, вызовут еще одного. «Хоть бы не меня, чур не меня», – скорее в шутку, чем всерьез, сам того не зная, обратился он за покровительством к давно усопшему предку. Но на этот раз предполагаемый защитник не внял просьбе, и сработал «закон подлости».
Когда в напряженной тишине прозвучала его фамилия, Андрей Сергеевич встал и уверенно направился к ожидавшей его трибуне. Но чем ближе он подходил к ней, тем явственнее осознавал, что к выступлению он не готов. Тем не менее деваться было некуда и, под взоры десятков любопытствующих глаз, со стороны оценивающих неподобающе молодого для данного мероприятия хозяйственника, он начал отчитываться. Однако отрывистая, сбивчивая речь продолжалась недолго.
«Подождите, – оборвал Андрея председательствующий, – Вы утверждаете, что уделяете особое внимание сохранению тепла в производственных помещениях, а вот отчет проверявшей ваше предприятие комиссии говорит об обратном: работа тепловых завес на входах в цеха должным образом не налажена, вследствие чего происходят теплопотери». Андрей, зная, что это не так критично, попробовал было возразить, но его тут же одернули: «Вы что, молодой человек, ставите под сомнение работу комиссии?!» Народного ставленника было уже не унять. В то время как его маленькие, близко посаженные глаза застыли, буквально впившись в очередную жертву, большой округлый рот беспрерывно изрекал всем хорошо известные, правильные лозунги. Андрею казалось, что уста этого человека, сидящего за громоздким столом, живут своей, независимой от него жизнью; и когда они придали его речи нужную голосовую окраску, так что повышенный тон временами стал переходить в приглушенный крик, суровая московская персона, продолжая публичный разнос, от возникшего напряжения начала краснеть.
Молодой хозяйственник, поняв всю безысходность своего положения, стоял молча или, когда этого от него требовали, силился как-то ответить на накатывающиеся вопросы. Минут через десять он уже не мог смотреть в зал и отрешенно повернулся лицом к окну. «Вы куда смотрите? Вы на меня смотрите, – развернул молодого инженера грозный голос. – Вы какую должность занимаете?» Казалось, что эта моральная экзекуция никогда не кончится. Наконец председательствующий, видимо, удовлетворенный тем, что достиг желаемого для него результата, отправил опустошенного Андрея обратно в зал. На этом мероприятие, по существу, и закончилось.
Улица Горького встретила горемыку яркими солнечными лучами, наполняющими, как ему показалось безмятежное городское пространство, прозрачной энергией. Он хотел было спуститься к Кремлю и сесть в метро, но его натянутый струной душевный лад, как и организм, заряженный по самую макушку отрицательными эмоциями, стремились освободиться от внутреннего напряжения, и Андрей, непроизвольно следуя этим посылам, подставил мартовским лучам свою сухопарую спину и зашагал по тротуару вверх, в направлении Белорусского вокзала.
Он шел навстречу извилисто скользящей по асфальту талой воде и, шевеля губами, неслышно ругался: «Как же я мог так опростоволоситься? Главное, сам же написал… Хотел-то, чтобы хорошо было всем, за что и получил прилюдно». Эта мысль с оттенком незаслуженной обиды в разных вариантах мельничным жерновом крутилась в его голове.
Удрученный произошедшим, он безостановочно, с неиссякаемой энергией двигался вперед, пока, миновав концертный зал, не подошел к памятнику Маяковскому. Тот из-под серых нахмуренных бровей строго смотрел на Андрея. «Прозаседавшиеся… Прозаседавшиеся! – вспомнил молодой человек, как бы беря себе в сотоварищи поэта. Мысленно ухватившись за предполагаемый изъян недавнего грозного оппонента, Андрей наконец начал успокаиваться и облегченно вздохнул. «Да и сам хорош… логично не логично… Логично, но не практично, – передразнил он сам себя и, еще раз взглянув на Владимира Владимировича, заключил: – Практиком надо быть, а не логиком!»
За многие годы своей служебной карьеры Андрей Сергеевич не раз составлял или подписывал разного рода отчеты, но с этого, для него злополучного дня во всех такого рода бумагах напрочь отсутствовала «логика» – что получалось, то уж и ложилось на бумагу.
В кабинете, отгороженном от просторной, приглушенно гудящей газовыми горелками котельной толстой кирпичной стеной, было тепло и уютно. Под тускловатой, свисающей с потолка лампой за придвинутыми друг к другу старомодными добротными столами сидели двое. Начальник Павел Петрович, мужчина лет пятидесяти с начавшей пробиваться на височных завитках сединой, и молодой вихрастый мастер Андрей Сергеевич, по распределению отрабатывающий положенные три года на одном их московских камвольных комбинатов, в начале восьмидесятых годов прошлого столетия еще действовавших даже в центре столицы.
Бывалый хозяйственник, отодвинув на кончик носа очки, неторопливо закрывал рабочим наряды, сверяясь со своими записями и в случае необходимости уточняя детали у бригадиров, вызывая их по телефону из каптёрки. Его подчиненный обновлял устаревшую инструкцию по производственной безопасности, напечатанную, как ему представлялось, еще во времена царя Гороха, поскольку тонкие листы дешевой писчей бумаги давно выгорели, как бы сглаживая контуры печатных литер, набитых через синюю ленту печатной машинки. «Ну кто так коряво пишет, где тут логика?» – сокрушенно произнес про себя недавний выпускник вуза и начал безжалостно править лежавший перед ним текст.
В это время раздался телефонный звонок. Павел Петрович взял трубку. «Пинчук, – коротко бросил он и на некоторое время замолчал. – Да, Михаил Васильевич, сейчас подойду».
Завершив разговор, начальник набросил на плечи «представительскую» телогрейку и направился к главному механику. Через полчаса он вернулся, как оказалось, в сопровождении членов депутатской комиссии Моссовета по теплосбережению.
Старший в прибывшей тройке инспекторов, седовласый мужчина лет пятидесяти пяти, поздоровавшись, начал задавать общие вопросы о состоянии дел в паросиловом хозяйстве. Однако вскоре это ему надоело. Откинув в сторону локоть, он посмотрел на наручные часы, а затем перевел взгляд на спутников. Они сидели молча, не проявляя какой-либо активности, лишь время от времени переключали свое внимание на тот или иной предмет обстановки, как бы оценивая внутреннюю атмосферу помещения и работающих в нем людей. «Хорошо, – заключил депутат, – мы сейчас пройдем по производству, а вы уж подготовьте отчет – вам-то это будет сделать сподручнее». Как позже объяснил Пинчук, после позапрошлой холодной зимы, когда температура в Москве опускалась ниже сорока градусов, подобные проверки в столице участились и стали обычным явлением.
Павел Петрович пошел сопровождать непрошенных гостей и вернулся в кабинет уже к концу рабочего дня. Чтобы настроить молодого коллегу на предстоящую работу, он многозначительно произнес: «Значит, так. Мы с Михаилом Васильевичем организуем протокольную часть встречи комиссии, а тебе, Андрей, придется взять на себя написание отчета». – «Так я же никогда раньше не писал, не знаю, как это за них сделать», – взмолился молодой инженер. «Ничего, научишься, – мягко, по-отечески парировал начальник и добавил: – Возьми в шкафу старые бумаги, посмотри, ну и придумай что-нибудь свое, новое… Ты ведь недавно из института, голова еще светлая, должен соображать… Нам на отчет неделю дали, так что время есть».
Следующим утром Андрей вытащил из шкафа потертые, увесистые папки, нашел нужные материалы и сел за новую для него работу. Через три дня отчет был готов. Образцы предшественников показались новоиспеченному эксперту какими-то безликими, малосодержательными, и он добавил в свое детище конкретики, а заодно и пару незначительных недостатков; посчитал по ним возможные теплопотери – мизер, копейки. «Но не может же комиссия работать несколько дней и не выявить ни одной недоделки, такого ведь не бывает, – здраво, как ему казалось, рассуждал молодой инженер. – Я отметил скорее гипотетические, самые незначительные недостатки. И нас за них упрекать не будут, и комиссия останется довольной, не сможет придраться по-крупному. Логично? Логично». Он еще раз внутренне утвердился в своем решении.
Когда отчет оказался в руках Пинчука, он внимательно провел глазами по представленному ему на предварительное рассмотрение тексту и молча отложил его в сторону. «Ну как?» – нетерпеливо поинтересовался молодой автор. «Да, средней паршивости, – находясь в хорошем настроении, решил пошутить Павел Петрович и, глядя на обескураженного Андрея, тут же добавил: – Не переживай, все нормально, хороший отчет». Мастер облегчено вздохнул, поднялся со стула и вышел на морозный воздух, как бы оставляя за спиной для него непростую, но уже завершенную работу.
Прошло время. Январские морозы и февральские вьюги сменила мартовская оттепель. Тем временим Андрея Сергеевича повысили в должности. Теперь он работал на отдельно расположенном через Водоотводной канал производстве и числился заместителем главного механика.
В один из приятно слепящих весенних солнечных дней Андрея неожиданно вызвал к себе Михаил Васильевич и показал письмо. Это было адресованное директору указание из Моссовета принять участие в заседании, проводимом по итогам работы комиссии по энергосбережению. «Наш руководитель на такие мероприятия не ходит, а я буду занят в главке. Придется сходить тебе, Андрей Сергеевич, тем более, что и отчет-то ты писал. Посидишь, послушаешь, потом расскажешь, что и как там было», – напутствовал своего зама главный механик.
Через несколько дней Андрей оказался в актовом зале упомянутого учреждения, который наполовину был заполнен солидными людьми с различных предприятий и контор города. Председательствующий, объявляя повестку дня, анонсировал выступление докладчика и нескольких неназванных представителей промышленных объектов. Выступающий уже дочитывал доклад, когда Андрей Сергеевич из реплик бывалых соседей понял, что следующими на трибуну выйдут те, кого будут произвольно вызывать из зала.
Первым пригласили сухопарого, юркого человека с «Трехгорной мануфактуры», который вышел из рядов кресел со скрученными в трубку бумагами и, разложив их, быстро, без запинок отчитал все свое выступление. За ним на трибуне оказался грузный тяжеловес, который, не имея при себе каких-либо материалов, кратко доложил о принятых мерах по сбережению теплоэнергии на своем предприятии. К нему у председательствовавшего было много вопросов, и, находясь под его прессингом, выступающий то и дело краснел и вытирал со лба и шеи обильно проступающий пот. Андрей, впечатленный увиденной картиной, бросил взгляд на часы и подумал, что, пожалуй, вызовут еще одного. «Хоть бы не меня, чур не меня», – скорее в шутку, чем всерьез, сам того не зная, обратился он за покровительством к давно усопшему предку. Но на этот раз предполагаемый защитник не внял просьбе, и сработал «закон подлости».
Когда в напряженной тишине прозвучала его фамилия, Андрей Сергеевич встал и уверенно направился к ожидавшей его трибуне. Но чем ближе он подходил к ней, тем явственнее осознавал, что к выступлению он не готов. Тем не менее деваться было некуда и, под взоры десятков любопытствующих глаз, со стороны оценивающих неподобающе молодого для данного мероприятия хозяйственника, он начал отчитываться. Однако отрывистая, сбивчивая речь продолжалась недолго.
«Подождите, – оборвал Андрея председательствующий, – Вы утверждаете, что уделяете особое внимание сохранению тепла в производственных помещениях, а вот отчет проверявшей ваше предприятие комиссии говорит об обратном: работа тепловых завес на входах в цеха должным образом не налажена, вследствие чего происходят теплопотери». Андрей, зная, что это не так критично, попробовал было возразить, но его тут же одернули: «Вы что, молодой человек, ставите под сомнение работу комиссии?!» Народного ставленника было уже не унять. В то время как его маленькие, близко посаженные глаза застыли, буквально впившись в очередную жертву, большой округлый рот беспрерывно изрекал всем хорошо известные, правильные лозунги. Андрею казалось, что уста этого человека, сидящего за громоздким столом, живут своей, независимой от него жизнью; и когда они придали его речи нужную голосовую окраску, так что повышенный тон временами стал переходить в приглушенный крик, суровая московская персона, продолжая публичный разнос, от возникшего напряжения начала краснеть.
Молодой хозяйственник, поняв всю безысходность своего положения, стоял молча или, когда этого от него требовали, силился как-то ответить на накатывающиеся вопросы. Минут через десять он уже не мог смотреть в зал и отрешенно повернулся лицом к окну. «Вы куда смотрите? Вы на меня смотрите, – развернул молодого инженера грозный голос. – Вы какую должность занимаете?» Казалось, что эта моральная экзекуция никогда не кончится. Наконец председательствующий, видимо, удовлетворенный тем, что достиг желаемого для него результата, отправил опустошенного Андрея обратно в зал. На этом мероприятие, по существу, и закончилось.
Улица Горького встретила горемыку яркими солнечными лучами, наполняющими, как ему показалось безмятежное городское пространство, прозрачной энергией. Он хотел было спуститься к Кремлю и сесть в метро, но его натянутый струной душевный лад, как и организм, заряженный по самую макушку отрицательными эмоциями, стремились освободиться от внутреннего напряжения, и Андрей, непроизвольно следуя этим посылам, подставил мартовским лучам свою сухопарую спину и зашагал по тротуару вверх, в направлении Белорусского вокзала.
Он шел навстречу извилисто скользящей по асфальту талой воде и, шевеля губами, неслышно ругался: «Как же я мог так опростоволоситься? Главное, сам же написал… Хотел-то, чтобы хорошо было всем, за что и получил прилюдно». Эта мысль с оттенком незаслуженной обиды в разных вариантах мельничным жерновом крутилась в его голове.
Удрученный произошедшим, он безостановочно, с неиссякаемой энергией двигался вперед, пока, миновав концертный зал, не подошел к памятнику Маяковскому. Тот из-под серых нахмуренных бровей строго смотрел на Андрея. «Прозаседавшиеся… Прозаседавшиеся! – вспомнил молодой человек, как бы беря себе в сотоварищи поэта. Мысленно ухватившись за предполагаемый изъян недавнего грозного оппонента, Андрей наконец начал успокаиваться и облегченно вздохнул. «Да и сам хорош… логично не логично… Логично, но не практично, – передразнил он сам себя и, еще раз взглянув на Владимира Владимировича, заключил: – Практиком надо быть, а не логиком!»
За многие годы своей служебной карьеры Андрей Сергеевич не раз составлял или подписывал разного рода отчеты, но с этого, для него злополучного дня во всех такого рода бумагах напрочь отсутствовала «логика» – что получалось, то уж и ложилось на бумагу.

Евгения БЕЛОВА
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г.Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2022». Член Московского союза литераторов.
Родилась в 1941 году, начала литературную деятельность в качестве внештатного корреспондента газеты «Заполярье» (г.Воркута) в конце 1960-х годов. Затем был длительный перерыв, посвященный основному виду деятельности. Возвращение к писательству – в конце 1980-х годов. Основной жанр – короткие рассказы. В этом жанре написано четыре книги: «Век минувший», «Простые люди», «Случаи из жизни» и «Повороты судьбы». Публикации в различных литературно-художественных журналах. Лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2022». Член Московского союза литераторов.
КАК ПРОДАТЬ СВОЮ КНИГУ
«Для того, чтобы писателю выбиться в люди, надо жениться на дочке издателя».
Джордж Оруэлл, «Фунт лиха в Париже и Лондоне»
Читатели – народ, конечно, разный. И понимает писателя каждый на свой лад. Одни ценят язык, другие – остроту сюжета, третьи склонны размышлять над книгой, четвёртые вообще ни к чему не склонны, но ведь рекомендовали же. Поэтому писателю, который издал себя сам в надежде донести до мира то, что хотел сказать, приходится несладко в поисках того же читателя. Ведь редакция, которая, не полистав даже рукописи, отвергла его, обрекла беднягу преданно смотреть в глаза потенциального читателя и исполнять роль офени. Половина тиража раздарена друзьям и знакомым, а также сыграла роль благодарности во врачебном кабинете или присутственных местах, но вторая лежит себе в тесной квартире писателя в надежде быть проданной, чтобы хоть как-то возместить расходы.
На этом этапе писатель в качестве такового заканчивается и превращается в подлинного авантюриста. Во-первых, он приобретает странную привычку всюду носить экземпляр своей книги так же легко, как пачку сигарет, и обучается делать широкие глаза, создавая у своей жертвы ощущение того, что книга оказалась рядом совершенно случайно. Во-вторых, развивает в себе практику физиогномиста, увидев на лбу незнакомого человека страстное желание выложить свои деньги за счастье прочитать книгу неизвестного автора. При удачном стечении обстоятельств он, может быть, и продаст пару книг из тиража. Чаще же всего писателю приходится пристально всматриваться в лица, мелькающие в толпе, долго колебаться с предложением и, наконец, отойти с таким чувством вины, как будто он совершил невольно преступление. Так, разглядев на каком-нибудь рауте в толпе вполне интеллигентную даму с бокалом шампанского в руке, вы с надеждой можете задать ей вопрос, совершенно неуместный в данной обстановке: «Простите, вы любите читать книги?» Дама остановится, распахнёт свои глаза и через минуту размышлений надменно произнесёт: «Я-а-а вра-ач!» Делая вид, что вы верите в то, что все врачи ходят просто облепленные художественной литературой, можно робко сообщить, что вы – писатель и предложить купить свою книгу. Можете быть уверены, что получите ответ оскорблённой особы: «Нет, нет! Вы не представляете, какая у меня огро-омная библиотека! Нет, ваша книга просто туда не поместится». Так что не старайтесь.
Внезапно на том же рауте вы можете обнаружить «раскрученного» писателя, привыкшего с лёгкостью раздавать во все стороны свой скользящий автограф. Однако подойдёте вы к нему не как к коллеге, который, может быть, вспомнит свою далёкую молодость уже без намерения продать ему книгу по этическим соображениям, а только с целью обратить на себя внимание протянете руку с книгой с просьбой принять её в дар и услышите:
– Дорогой мой, – скажет он, покровительственно похлопывая вас по плечу, – я – писатель, а не читатель.
Мой вам совет: надо научиться заставить несведущего человека заглатывать наживку. Итак, ваш уже почти потрёпанный от долгого ношения экземпляр всё ещё с вами. Идите в парк. Там прохожие не подозревают вашего коварства. Вы тоже прохаживаетесь с невинным видом и вдруг замечаете человека, выгуливающего своего верного кане-корсо. Ничто так не трогает убеждённого собачника, как похвала в адрес его любимца. На обсуждение достоинств собаки уходит в среднем полчаса, после чего вы как бы между прочим сообщаете, что вы писатель, вот даже книга совершенно случайно с вами, и оказывается, что в таком-то рассказе упоминается именно эта порода собак с самой лучшей точки зрения. Далее подчёркиваете удивительное совпадение и сразу, не давая опомниться хозяину добродушной псины, вручаете ему книгу. Тот, конечно, расплачивается и уходит, довольный редким приобретением.
Буквально через несколько шагов (какая удача!) вам может встретиться очаровательная девушка с пышными волосами, из которых выглядывает костяная ручка шпильки-заколки. Вы вежливо интересуетесь, насколько длинной может быть эта шпилька, и сказать, что никогда бы в это не поверили. Она с охотой продемонстрирует свою шпильку. И тут вы между прочим заявляете, что спрашиваете потому только, что как раз в последней вашей книге есть рассказ про шпильку-стилет.
– Как интересно, – слышите вы. – Вот так?
И барышня, насмотревшаяся боевиков, делает выпад, молниеносно выхватив воображаемый стилет и поражая им воображаемый живот противника.
– Именно так, – утверждаете вы, с не меньшей ловкостью доставая книгу.
Затем открываете её на странице 285 и вкладываете в руки барышни.
– Вы даже можете купить эту книгу, – с отрепетированной небрежностью продолжаете вы.
И она обязательно купит и начнёт читать именно с этой страницы.
Впрочем, в качестве площадки для успешной торговли может послужить электричка, наполненная людьми тем более словоохотливыми, чем они дальше едут. Предположим, там вам удалось разговориться с молодым психологом, имеющим к тому же свой сайт, на который он вас приглашает.
– Как удачно, что я вас встретил, – говорите вы. – Я, видите ли, писатель, и у меня есть четыре рассказа, в некотором роде серия про сыщика, догадки которого основаны на психологических рассуждениях. Вот бы вы почитали их и сообщили мне о моих возможных ошибках. Был бы вам очень признателен. Тут у меня как раз с собой последний экземпляр.
– Конечно, конечно, – ответит психолог, которому польстило ваше доверие, способствующее его самоутверждению. – А что это за книга?..
Мысленно можете поздравить себя с удачей.
После того, как психолог выйдет, на его место может сесть попутчик, который охотно расскажет, что он живёт на Тишинской площади.
– Какое совпадение! – искренне вскрикните вы. – Как раз в моих рассказах… Я не говорил вам, что я писатель?..
Здесь вы представляетесь.
– …и в одном из них описан Тишинский рынок; с площадью, разумеется. Не исключено, что там и про ваш дом написано.
Во всех этих случаях весьма вероятно, что книга будет куплена, потому что, унося её с собой, читатель будет жадно вычитывать строчку-другую в надежде найти что-нибудь про себя.
Из сказанного становится ясно, что в наше время значительно выгодней писать рассказы на разные темы и вкусы, чем роман, персонажи которого объединены одной проблемой. Однако не льстите себя надеждой и относительно рассказов. Этот метод засасывающей лести может привести к тому, что вы растворитесь как писатель в угоду жаждущей публике. Теперь вы уже не сможете писать на те темы, которые хотите раскрыть. Положим, о средневековом рыцаре. Согласитесь, что нужно потратить очень много времени и преимущественно в плохую погоду, чтобы увидеть, как некто переносит на руках через лужу хлипкую старушку. Кроме того, вы рискуете получить хороший тумак или мягкую рекомендацию относительно сумасшедшего дома, потому что не так тяжела сама старушка, как её сумки, которые бьют новоявленного рыцаря под колени. Ну и, положа руку на сердце, как поступили бы вы сами, если бы на другом конце лужи вас встретили со словами: «Прекрасно! Великолепно! Разрешите представиться… У меня как раз есть один рассказ о современном Дон Кихоте…»?
Есть ещё один, правда, довольно жестокий и неудобный способ привлечь внимание к своей книге. Нет, я не говорю о том, что следует ни в чём неповинного человека пугать пистолетом. Наоборот, способ этот, скорее, угрожает вашему здоровью. Его цель – заставить человека восхищаться вами. Проще всего было бы в зимний мороз выйти в трусах на улицу и облить себя при приближении случайного прохожего водой из ведра, рассчитывая на то, что он остановится с открытым от удивления ртом. Однако здесь существуют две опасности. Первая: вас примут за не совсем вменяемого человека и покрутят пальцем у виска; и вторая: не очень-то комфортно, облившись в мороз холодной водой, заводить со случайным человеком задушевную беседу, которая могла бы вывести вас к ссылке на книгу.
Лучше всего, хотя это и отодвигает возможность продажи книги на полгода, демонстрацию своей мощи перенести на лето. Итак, отпущенное для уловления время вы занимаетесь на уличном тренажёре до тех пор, пока рядом не покажется никуда не спешащий человек, искренне восторгающийся вашей волей прожить как можно дольше. Вы позволяете ему критиковать своих родственников и знакомых, которые больше всего любят диван и телевизор, подойти к вам поближе и пощупать те или иные мышцы, покачать головой и спросить, сколько же вам лет. Не стесняйтесь. Называйте, как можно больший возраст (здесь это оправданно) и тут же намекните: «Это что-о-о! Я ведь ещё и пишу. Рассказы; это очень помогает». Можете быть уверены, что потрясённый прохожий, представивший, что вис на турнике есть наиболее подходящая поза для зарождения сюжета, уже у вас на крючке. Остаётся лишь с лёгкостью соскочить с тренажёра и вручить восхищённому зрителю «случайно» оказавшийся экземпляр, подождать, когда он удалится, и, хромая, быстро направиться к дому, где вас ждёт мягкий диван.
Мой вам совет: пытаясь продать свою многострадальную книгу, избегайте выражения «Я хочу вам предложить». Это очень коварная фраза. В то время, как вы имеете в виду «предложить купить», ваш визави имеет ввиду совсем другое – «предложить в дар». Если вы скажете это красивой девушке, особенно, как говорится в фильме, спортсменке и комсомолке, она непременно тут же с неописуемой радостью, которой вы явно не ожидали, прижмёт книгу обеими руками к груди, как она это делает всегда, привыкнув получать подарки, и защебечет: «О, как я рада! И что, это вы сами написали? Неужели сами? О, как я рада! Тогда напишите мне на первой странице… как это?.. Ну, что пишут на первой странице». Когда вы поймёте, что она приняла книгу за подарок, будет поздно говорить о продаже. Останется только чиркнуть автограф и пребывать в счастливом заблуждении, что когда-нибудь она откроет книгу на второй странице.
Второй совет. Постарайтесь застать потенциального читателя врасплох, то есть в тот момент, когда он и не думает о каком-нибудь чтении, а приятно расслаблен. Но для этого необходимо несколько условий. Во-первых, надо иметь хорошую зрительную память, чтобы не перепутать того, у кого уже есть ваша книга, с тем, кто первый раз о ней слышит. Во-вторых, обстановку, где часто может встретиться это лицо. Конечно, это не должен быть автобус, на котором в одно и то же время ещё совершенно тёмным утром ездят на работу одни и те же злые люди. Думаю, в наше время этим местом не может быть и библиотека, в которую теперь редко кто заглядывает. Но безупречными для нужных условий могут оказаться баня, сауна или фитнес-клуб, где хорошо прогревшийся человек становится благодушен, и бдительность его притупляется. Итак, вы сидите в сауне на одном полоке с совершенно незнакомым человеком и оглядываетесь настолько невинно, что этот человек не может не улыбнуться вам приветливо. Именно в этот момент, зная, что вы видите его в первый раз, его нужно неожиданно спросить, как ему понравилась ваша последняя книга. Далее следуют извинения, ссылка на малую освещённость, с которой так легко ошибиться (почитай, половина сауны уже давно купила книгу). Несмотря на отсутствие фраков на вас обоих, беседа становится всё более оживлённой, и здесь уж не теряйтесь, держитесь за человека мёртвой хваткой и великодушно разрешите для окончательной операции ему одеться. Вы-то прекрасно знаете, что деньги люди не носят под банной шапкой.
На тернистом пути продажи собственной книги, изданной на ваши же средства, стоит ваша робость при необходимости назвать цену. Она совершенно обратно пропорциональна решимости ваших героев, которые почему-то в этот момент воздерживаются от поддержки породившего их автора. Как прилипшим от скромности языком назвать цену? Твёрдо назвать её трудно, потому что в этот момент так некстати вклинивается сомнение: «Возьмёт или не возьмёт?» Решимость пропадает, и вы бормочете цену, явно уступающую себестоимости книги. Однако, хотя и крайне редко, может случиться, что вам удастся назвать цифру чисто метафорически. Итак, вы решили сделать подарок племяннице, и в одном из приглянувшихся ювелирных киосков вы покупаете серебряную цепочку, не уставая сообщать продавцу, что в одном из ваших маленьких детективов («Да, я пишу книги!..») участвует почти такая же цепочка: «Очень, очень интересно. Вы, конечно, любите детективы?..»
Затем вы получаете цепочку и узнаёте, что коробочка к ней продаётся отдельно. Выложив немалую сумму и за коробочку, которую, вероятно, делали родственники продавца на кухне с плохим освещением, вы уже более плотно приступаете к рекламе своего детектива и на вопрос о цене смело отвечаете: «По цене коробочки». Тут уж продавцу деваться некуда, и ваша бумажка возвращается в ваши руки.
Так что помните: мягкотелость и желание продать собственную книгу – вещи несопоставимые. Дерзайте!
«Для того, чтобы писателю выбиться в люди, надо жениться на дочке издателя».
Джордж Оруэлл, «Фунт лиха в Париже и Лондоне»
Читатели – народ, конечно, разный. И понимает писателя каждый на свой лад. Одни ценят язык, другие – остроту сюжета, третьи склонны размышлять над книгой, четвёртые вообще ни к чему не склонны, но ведь рекомендовали же. Поэтому писателю, который издал себя сам в надежде донести до мира то, что хотел сказать, приходится несладко в поисках того же читателя. Ведь редакция, которая, не полистав даже рукописи, отвергла его, обрекла беднягу преданно смотреть в глаза потенциального читателя и исполнять роль офени. Половина тиража раздарена друзьям и знакомым, а также сыграла роль благодарности во врачебном кабинете или присутственных местах, но вторая лежит себе в тесной квартире писателя в надежде быть проданной, чтобы хоть как-то возместить расходы.
На этом этапе писатель в качестве такового заканчивается и превращается в подлинного авантюриста. Во-первых, он приобретает странную привычку всюду носить экземпляр своей книги так же легко, как пачку сигарет, и обучается делать широкие глаза, создавая у своей жертвы ощущение того, что книга оказалась рядом совершенно случайно. Во-вторых, развивает в себе практику физиогномиста, увидев на лбу незнакомого человека страстное желание выложить свои деньги за счастье прочитать книгу неизвестного автора. При удачном стечении обстоятельств он, может быть, и продаст пару книг из тиража. Чаще же всего писателю приходится пристально всматриваться в лица, мелькающие в толпе, долго колебаться с предложением и, наконец, отойти с таким чувством вины, как будто он совершил невольно преступление. Так, разглядев на каком-нибудь рауте в толпе вполне интеллигентную даму с бокалом шампанского в руке, вы с надеждой можете задать ей вопрос, совершенно неуместный в данной обстановке: «Простите, вы любите читать книги?» Дама остановится, распахнёт свои глаза и через минуту размышлений надменно произнесёт: «Я-а-а вра-ач!» Делая вид, что вы верите в то, что все врачи ходят просто облепленные художественной литературой, можно робко сообщить, что вы – писатель и предложить купить свою книгу. Можете быть уверены, что получите ответ оскорблённой особы: «Нет, нет! Вы не представляете, какая у меня огро-омная библиотека! Нет, ваша книга просто туда не поместится». Так что не старайтесь.
Внезапно на том же рауте вы можете обнаружить «раскрученного» писателя, привыкшего с лёгкостью раздавать во все стороны свой скользящий автограф. Однако подойдёте вы к нему не как к коллеге, который, может быть, вспомнит свою далёкую молодость уже без намерения продать ему книгу по этическим соображениям, а только с целью обратить на себя внимание протянете руку с книгой с просьбой принять её в дар и услышите:
– Дорогой мой, – скажет он, покровительственно похлопывая вас по плечу, – я – писатель, а не читатель.
Мой вам совет: надо научиться заставить несведущего человека заглатывать наживку. Итак, ваш уже почти потрёпанный от долгого ношения экземпляр всё ещё с вами. Идите в парк. Там прохожие не подозревают вашего коварства. Вы тоже прохаживаетесь с невинным видом и вдруг замечаете человека, выгуливающего своего верного кане-корсо. Ничто так не трогает убеждённого собачника, как похвала в адрес его любимца. На обсуждение достоинств собаки уходит в среднем полчаса, после чего вы как бы между прочим сообщаете, что вы писатель, вот даже книга совершенно случайно с вами, и оказывается, что в таком-то рассказе упоминается именно эта порода собак с самой лучшей точки зрения. Далее подчёркиваете удивительное совпадение и сразу, не давая опомниться хозяину добродушной псины, вручаете ему книгу. Тот, конечно, расплачивается и уходит, довольный редким приобретением.
Буквально через несколько шагов (какая удача!) вам может встретиться очаровательная девушка с пышными волосами, из которых выглядывает костяная ручка шпильки-заколки. Вы вежливо интересуетесь, насколько длинной может быть эта шпилька, и сказать, что никогда бы в это не поверили. Она с охотой продемонстрирует свою шпильку. И тут вы между прочим заявляете, что спрашиваете потому только, что как раз в последней вашей книге есть рассказ про шпильку-стилет.
– Как интересно, – слышите вы. – Вот так?
И барышня, насмотревшаяся боевиков, делает выпад, молниеносно выхватив воображаемый стилет и поражая им воображаемый живот противника.
– Именно так, – утверждаете вы, с не меньшей ловкостью доставая книгу.
Затем открываете её на странице 285 и вкладываете в руки барышни.
– Вы даже можете купить эту книгу, – с отрепетированной небрежностью продолжаете вы.
И она обязательно купит и начнёт читать именно с этой страницы.
Впрочем, в качестве площадки для успешной торговли может послужить электричка, наполненная людьми тем более словоохотливыми, чем они дальше едут. Предположим, там вам удалось разговориться с молодым психологом, имеющим к тому же свой сайт, на который он вас приглашает.
– Как удачно, что я вас встретил, – говорите вы. – Я, видите ли, писатель, и у меня есть четыре рассказа, в некотором роде серия про сыщика, догадки которого основаны на психологических рассуждениях. Вот бы вы почитали их и сообщили мне о моих возможных ошибках. Был бы вам очень признателен. Тут у меня как раз с собой последний экземпляр.
– Конечно, конечно, – ответит психолог, которому польстило ваше доверие, способствующее его самоутверждению. – А что это за книга?..
Мысленно можете поздравить себя с удачей.
После того, как психолог выйдет, на его место может сесть попутчик, который охотно расскажет, что он живёт на Тишинской площади.
– Какое совпадение! – искренне вскрикните вы. – Как раз в моих рассказах… Я не говорил вам, что я писатель?..
Здесь вы представляетесь.
– …и в одном из них описан Тишинский рынок; с площадью, разумеется. Не исключено, что там и про ваш дом написано.
Во всех этих случаях весьма вероятно, что книга будет куплена, потому что, унося её с собой, читатель будет жадно вычитывать строчку-другую в надежде найти что-нибудь про себя.
Из сказанного становится ясно, что в наше время значительно выгодней писать рассказы на разные темы и вкусы, чем роман, персонажи которого объединены одной проблемой. Однако не льстите себя надеждой и относительно рассказов. Этот метод засасывающей лести может привести к тому, что вы растворитесь как писатель в угоду жаждущей публике. Теперь вы уже не сможете писать на те темы, которые хотите раскрыть. Положим, о средневековом рыцаре. Согласитесь, что нужно потратить очень много времени и преимущественно в плохую погоду, чтобы увидеть, как некто переносит на руках через лужу хлипкую старушку. Кроме того, вы рискуете получить хороший тумак или мягкую рекомендацию относительно сумасшедшего дома, потому что не так тяжела сама старушка, как её сумки, которые бьют новоявленного рыцаря под колени. Ну и, положа руку на сердце, как поступили бы вы сами, если бы на другом конце лужи вас встретили со словами: «Прекрасно! Великолепно! Разрешите представиться… У меня как раз есть один рассказ о современном Дон Кихоте…»?
Есть ещё один, правда, довольно жестокий и неудобный способ привлечь внимание к своей книге. Нет, я не говорю о том, что следует ни в чём неповинного человека пугать пистолетом. Наоборот, способ этот, скорее, угрожает вашему здоровью. Его цель – заставить человека восхищаться вами. Проще всего было бы в зимний мороз выйти в трусах на улицу и облить себя при приближении случайного прохожего водой из ведра, рассчитывая на то, что он остановится с открытым от удивления ртом. Однако здесь существуют две опасности. Первая: вас примут за не совсем вменяемого человека и покрутят пальцем у виска; и вторая: не очень-то комфортно, облившись в мороз холодной водой, заводить со случайным человеком задушевную беседу, которая могла бы вывести вас к ссылке на книгу.
Лучше всего, хотя это и отодвигает возможность продажи книги на полгода, демонстрацию своей мощи перенести на лето. Итак, отпущенное для уловления время вы занимаетесь на уличном тренажёре до тех пор, пока рядом не покажется никуда не спешащий человек, искренне восторгающийся вашей волей прожить как можно дольше. Вы позволяете ему критиковать своих родственников и знакомых, которые больше всего любят диван и телевизор, подойти к вам поближе и пощупать те или иные мышцы, покачать головой и спросить, сколько же вам лет. Не стесняйтесь. Называйте, как можно больший возраст (здесь это оправданно) и тут же намекните: «Это что-о-о! Я ведь ещё и пишу. Рассказы; это очень помогает». Можете быть уверены, что потрясённый прохожий, представивший, что вис на турнике есть наиболее подходящая поза для зарождения сюжета, уже у вас на крючке. Остаётся лишь с лёгкостью соскочить с тренажёра и вручить восхищённому зрителю «случайно» оказавшийся экземпляр, подождать, когда он удалится, и, хромая, быстро направиться к дому, где вас ждёт мягкий диван.
Мой вам совет: пытаясь продать свою многострадальную книгу, избегайте выражения «Я хочу вам предложить». Это очень коварная фраза. В то время, как вы имеете в виду «предложить купить», ваш визави имеет ввиду совсем другое – «предложить в дар». Если вы скажете это красивой девушке, особенно, как говорится в фильме, спортсменке и комсомолке, она непременно тут же с неописуемой радостью, которой вы явно не ожидали, прижмёт книгу обеими руками к груди, как она это делает всегда, привыкнув получать подарки, и защебечет: «О, как я рада! И что, это вы сами написали? Неужели сами? О, как я рада! Тогда напишите мне на первой странице… как это?.. Ну, что пишут на первой странице». Когда вы поймёте, что она приняла книгу за подарок, будет поздно говорить о продаже. Останется только чиркнуть автограф и пребывать в счастливом заблуждении, что когда-нибудь она откроет книгу на второй странице.
Второй совет. Постарайтесь застать потенциального читателя врасплох, то есть в тот момент, когда он и не думает о каком-нибудь чтении, а приятно расслаблен. Но для этого необходимо несколько условий. Во-первых, надо иметь хорошую зрительную память, чтобы не перепутать того, у кого уже есть ваша книга, с тем, кто первый раз о ней слышит. Во-вторых, обстановку, где часто может встретиться это лицо. Конечно, это не должен быть автобус, на котором в одно и то же время ещё совершенно тёмным утром ездят на работу одни и те же злые люди. Думаю, в наше время этим местом не может быть и библиотека, в которую теперь редко кто заглядывает. Но безупречными для нужных условий могут оказаться баня, сауна или фитнес-клуб, где хорошо прогревшийся человек становится благодушен, и бдительность его притупляется. Итак, вы сидите в сауне на одном полоке с совершенно незнакомым человеком и оглядываетесь настолько невинно, что этот человек не может не улыбнуться вам приветливо. Именно в этот момент, зная, что вы видите его в первый раз, его нужно неожиданно спросить, как ему понравилась ваша последняя книга. Далее следуют извинения, ссылка на малую освещённость, с которой так легко ошибиться (почитай, половина сауны уже давно купила книгу). Несмотря на отсутствие фраков на вас обоих, беседа становится всё более оживлённой, и здесь уж не теряйтесь, держитесь за человека мёртвой хваткой и великодушно разрешите для окончательной операции ему одеться. Вы-то прекрасно знаете, что деньги люди не носят под банной шапкой.
На тернистом пути продажи собственной книги, изданной на ваши же средства, стоит ваша робость при необходимости назвать цену. Она совершенно обратно пропорциональна решимости ваших героев, которые почему-то в этот момент воздерживаются от поддержки породившего их автора. Как прилипшим от скромности языком назвать цену? Твёрдо назвать её трудно, потому что в этот момент так некстати вклинивается сомнение: «Возьмёт или не возьмёт?» Решимость пропадает, и вы бормочете цену, явно уступающую себестоимости книги. Однако, хотя и крайне редко, может случиться, что вам удастся назвать цифру чисто метафорически. Итак, вы решили сделать подарок племяннице, и в одном из приглянувшихся ювелирных киосков вы покупаете серебряную цепочку, не уставая сообщать продавцу, что в одном из ваших маленьких детективов («Да, я пишу книги!..») участвует почти такая же цепочка: «Очень, очень интересно. Вы, конечно, любите детективы?..»
Затем вы получаете цепочку и узнаёте, что коробочка к ней продаётся отдельно. Выложив немалую сумму и за коробочку, которую, вероятно, делали родственники продавца на кухне с плохим освещением, вы уже более плотно приступаете к рекламе своего детектива и на вопрос о цене смело отвечаете: «По цене коробочки». Тут уж продавцу деваться некуда, и ваша бумажка возвращается в ваши руки.
Так что помните: мягкотелость и желание продать собственную книгу – вещи несопоставимые. Дерзайте!

Елена МИЧУРИНА
Родилась в городе Гудермесе Чеченской Республики 5 октября 1974 года.
С 1992 года проживаю в г. Новочеркасске Ростовской области. По специальности я экономист, в настоящее время работаю менеджером по заказам на кондитерской фабрике. В 2021-м окончила писательские курсы А.В.Воронцова. Печаталась в литературных сборниках «Новое слово», «Все будет хорошо!», «Линии», издательства «Новое слово».
Родилась в городе Гудермесе Чеченской Республики 5 октября 1974 года.
С 1992 года проживаю в г. Новочеркасске Ростовской области. По специальности я экономист, в настоящее время работаю менеджером по заказам на кондитерской фабрике. В 2021-м окончила писательские курсы А.В.Воронцова. Печаталась в литературных сборниках «Новое слово», «Все будет хорошо!», «Линии», издательства «Новое слово».
БОЛЬШАЯ МАША
Эту женщину, подошедшую ко мне на овощном рынке, невозможно было не узнать. Она навсегда врезалась в память своей необычной внешностью: ростом под два метра, широкой костью и округлостями тела. Одним словом, женщина-великанша. И в организации, в которой мы когда-то с ней работали, за глаза ее называли Большая Маша. Она так и продолжала работать там же бухгалтером, а я, попав в свое время под нож сокращения новых собственников, давно трудилась в другой фирме.
Машу последний раз я видела три года назад, когда вовсю свирепствовала пандемия. Шла она в черном платке, понурая, сильно похудевшая. Голова ее, некогда горделиво и высоко поднятая, поникла, как срезанный в полдень цветок. Черные глаза потухли, плечи сгорбились. Маша шла к нотариусу: вступать в наследство на дом по причине смерти ее сорокалетнего мужа от коронавируса. Помня Машу веселой и добродушной, было странно видеть ее другой и слышать от нее речи, что смысла в ее жизни никакого теперь нет, так – одно существование.
Сегодня она весело окликнула меня, и, обернувшись, я увидела вначале ее вновь округлившуюся фигуру, а опустив вниз глаза, синюю прогулочную коляску с сидевшим в ней годовалым улыбчивым малышом.
– Внук? – спросила я, улыбаясь малышу в ответ
– Сын, – ответила Маша, и ее черные глаза вспыхнули необыкновенной радостью. – Я ведь два года назад замуж вышла. И вот…
Она кивнула на малыша, и вновь глаза ее засветились.
– С бывшим мужем-то тринадцать лет прожили, детей не было. Я думала, во мне проблема: лишний вес и все такое… А оказалось, что нет.
Какое-то время я еще смотрела вслед удалявшейся сорокалетней мамаше с расправленными плечами, гордо поднятой головой и наверняка улыбающейся новой весне, своему малышу, нашей встрече, всему окружающему миру, и думала о неисповедимости путей господних.
Дача в придачу
…– И в придачу к чайному сервизу я хочу подарить молодым дачу, чтобы пили они летними вечерами там чай из моего сервиза и вспоминали меня добрым словом!
Бабушка моего мужа по материнской линии огорошила присутствующих на свадьбе родственников. Родственники давно забыли дорогу на бабушкину дачу, несмотря на ее призывы о помощи. Однако дача стоила денег. И немалых денег. И сейчас эти немалые деньги уплывали в руки новоиспеченной семьи, благополучно минуя остальных наследников. Как выяснится чуть позже, бабушка оформила дарственную, разделив собственность напополам: одну половину – на внука, вторую – на меня, чем вбила новый клин в теплые родственные отношения.
Смотря на меня с нежностью, она говорила: «Ох, боюсь я, бросишь ты нашего Мишу. Он – что? Ленивый разгильдяй. А ты? Красавица. Глаза черные, кожа белая, шея лебединая…»
Нужно ли говорить о том, как я полюбила бабушку мужа? Вначале ее, а потом и дачу.
Лето – это маленькая жизнь, как верно подметил один поэт-песенник. И проживаем мы эту жизнь на даче.
Здесь незаметно выросли двое наших детей. Вначале лежа в колясках под старой грушей, забавно дрыгая ножками. Затем, ползая по клубничным грядкам в поисках спелой ароматной ягоды, отправляя найденную добычу в рот – вот так, немытую, оттого особенно вкусную. Бегая по утоптанным дорожкам сада, звеня смехом, ойкая, царапаясь в малиннике, распевая песни, лазая по макушкам старых черешен и наконец бренча на гитаре под звездным августовским небом, роняя слезы от первых любовных переживаний.
Здесь я испытала ощущение сопричастности с божественным, когда из маленького сухого зернышка, кажется, совершенно безжизненного, взмывает растение и не всякое, а непременно правильное: из семени огурца – огурец, из помидора – помидор, из перца – перец. Взмывает и покрывается плодами с сотнями, миллионами семян. Это ли не чудо?
Почувствовала себя творцом, создающим свое собственное пространство. Хочу живописный сад из хвойников и роз – пожалуйста; огород с экзотическими сортами помидор – пожалуйста; ягод, душистых до головокружения трав – да кто ж запретит-то?
Сколько дружеских посиделок помнят лавочки в беседке под шашлычок и коньячок. Сколько душевных разговоров: веселых – о свадьбах и рождениях, грустных – о неверных мужьях, брошенных женах, болезнях и внезапных смертях, ностальгических – об ушедшей молодости и быстротечности жизни.
Дети выросли и разъехались по другим городам.
Мишу я не бросила, живем с ним душа в душу тридцать лет. Бабушки давно уже нет в живых.
Но есть дача, чайный сервис и мы. Вспоминающие ее добрым словом.
Красное пальто
Красное пальто с золотыми пуговицами и белые хризантемы…
Ночью прошел дождь, небо серое, угрюмое, с нависающими свинцовыми тучами. Деревья голые. Картина безрадостная. Я – единственное яркое цветовое пятно на ней. На удивление пальто хоть и тонкое, но теплое, уютное, мягкое. Мама говорила, «из джерси».
…Взвизгнули тормоза остановившейся неподалеку машины. По красному пальто расплылись кляксы грязной жижи.
– Так получилось… Извините…
«Да пошел ты, козел». Молча пытаюсь оттереть грязь носовым платком. Говорит: не трите, будет хуже. Еще и советы дает.
– Давайте, я вас подвезу. Куда вам?
Не унимается. Ехал бы уже своей дорогой.
– На кладбище.
Удивленно приподнятая бровь, открытая дверь машины и приглашающий жест.
На кладбище тихо. Желто внизу от опавших листьев, черно наверху от стволов старых деревьев. Пахнет сыростью, прелью, бренностью жизни.
Вот и знакомая могилка.
Мама, мамочка, здравствуй, родная. Белые хризантемы ложатся на черный холмик.
Для меня мама всегда жива. Она молодая, красивая. Из той, другой осени. Плывет среди серо-черно-коричневой толпы, над которой рдеют красные флаги и транспаранты. И сама, как флаг, в ярко-красном пальто. И в руках у нее белые хризантемы.
Маму легко найти среди демонстрантов по пальто. Она купила его в Риге. Я помню эту историю. Продавщица не хотела продавать его – русских не любили там. Она делала вид, что не замечает мамы, что чем-то занята. Но мама оказалась настойчивой.
«Приветствуем работников завода медицинских инструментов! Ура, товарищи!» – раздается голос в репродукторе. И сотни голосов сливаются в крике «Ура!». Громче всех кричу я, двенадцатилетняя девочка. Мне хочется, чтобы мама услышала меня и нашла глазами в сжавшейся на обочине проспекта толпе, но ее взор направлен вперед, в какую-то неведомую даль. И чему-то незримому мама машет белыми хризантемами.
Мама любила это пальто, берегла его, носила только по праздникам. Седьмое ноября – День революции, тогда был праздник праздников. И так получилось, ушла она из жизни год назад тоже в этот день. И я решила, что если души прилетают, то ей будет приятно встретиться с любимой вещью из своего прошлого. Пальто хорошо сохранилось и вот…
Зачем я ему это рассказала? И чего он увязался со мной? Ну, подвез да и ехал бы своей дорогой.
– В химчистку нужно отдать, – заговорил он после повисшей паузы, – грязь легко отойдет. Как новое станет. Дайте ваш телефон, я вам деньги за химчистку перекину, напишите сколько. Вы уж простите…
Телефон дала. Зашли на могилку к мужу, потом к сестре. Со всеми самыми близкими его познакомила.
Деньги за химчистку он перекинул сразу, как я ему написала. И следом прислал сообщение: «Давайте вечером кофе попьем».
Подумала: на кой оно мне? Жизнь уже за половину перевалила, глубокая осень… А за ней что? Зима. Холодная зима… Немного тепла не помешает. Человек ведь лучше согреет, чем пальто, чем даже мамино пальто. Я это тогда, на кладбище почувствовала, когда мы с ним бродили среди могил. Написала ему в ответ: «Давайте…»
Эту женщину, подошедшую ко мне на овощном рынке, невозможно было не узнать. Она навсегда врезалась в память своей необычной внешностью: ростом под два метра, широкой костью и округлостями тела. Одним словом, женщина-великанша. И в организации, в которой мы когда-то с ней работали, за глаза ее называли Большая Маша. Она так и продолжала работать там же бухгалтером, а я, попав в свое время под нож сокращения новых собственников, давно трудилась в другой фирме.
Машу последний раз я видела три года назад, когда вовсю свирепствовала пандемия. Шла она в черном платке, понурая, сильно похудевшая. Голова ее, некогда горделиво и высоко поднятая, поникла, как срезанный в полдень цветок. Черные глаза потухли, плечи сгорбились. Маша шла к нотариусу: вступать в наследство на дом по причине смерти ее сорокалетнего мужа от коронавируса. Помня Машу веселой и добродушной, было странно видеть ее другой и слышать от нее речи, что смысла в ее жизни никакого теперь нет, так – одно существование.
Сегодня она весело окликнула меня, и, обернувшись, я увидела вначале ее вновь округлившуюся фигуру, а опустив вниз глаза, синюю прогулочную коляску с сидевшим в ней годовалым улыбчивым малышом.
– Внук? – спросила я, улыбаясь малышу в ответ
– Сын, – ответила Маша, и ее черные глаза вспыхнули необыкновенной радостью. – Я ведь два года назад замуж вышла. И вот…
Она кивнула на малыша, и вновь глаза ее засветились.
– С бывшим мужем-то тринадцать лет прожили, детей не было. Я думала, во мне проблема: лишний вес и все такое… А оказалось, что нет.
Какое-то время я еще смотрела вслед удалявшейся сорокалетней мамаше с расправленными плечами, гордо поднятой головой и наверняка улыбающейся новой весне, своему малышу, нашей встрече, всему окружающему миру, и думала о неисповедимости путей господних.
Дача в придачу
…– И в придачу к чайному сервизу я хочу подарить молодым дачу, чтобы пили они летними вечерами там чай из моего сервиза и вспоминали меня добрым словом!
Бабушка моего мужа по материнской линии огорошила присутствующих на свадьбе родственников. Родственники давно забыли дорогу на бабушкину дачу, несмотря на ее призывы о помощи. Однако дача стоила денег. И немалых денег. И сейчас эти немалые деньги уплывали в руки новоиспеченной семьи, благополучно минуя остальных наследников. Как выяснится чуть позже, бабушка оформила дарственную, разделив собственность напополам: одну половину – на внука, вторую – на меня, чем вбила новый клин в теплые родственные отношения.
Смотря на меня с нежностью, она говорила: «Ох, боюсь я, бросишь ты нашего Мишу. Он – что? Ленивый разгильдяй. А ты? Красавица. Глаза черные, кожа белая, шея лебединая…»
Нужно ли говорить о том, как я полюбила бабушку мужа? Вначале ее, а потом и дачу.
Лето – это маленькая жизнь, как верно подметил один поэт-песенник. И проживаем мы эту жизнь на даче.
Здесь незаметно выросли двое наших детей. Вначале лежа в колясках под старой грушей, забавно дрыгая ножками. Затем, ползая по клубничным грядкам в поисках спелой ароматной ягоды, отправляя найденную добычу в рот – вот так, немытую, оттого особенно вкусную. Бегая по утоптанным дорожкам сада, звеня смехом, ойкая, царапаясь в малиннике, распевая песни, лазая по макушкам старых черешен и наконец бренча на гитаре под звездным августовским небом, роняя слезы от первых любовных переживаний.
Здесь я испытала ощущение сопричастности с божественным, когда из маленького сухого зернышка, кажется, совершенно безжизненного, взмывает растение и не всякое, а непременно правильное: из семени огурца – огурец, из помидора – помидор, из перца – перец. Взмывает и покрывается плодами с сотнями, миллионами семян. Это ли не чудо?
Почувствовала себя творцом, создающим свое собственное пространство. Хочу живописный сад из хвойников и роз – пожалуйста; огород с экзотическими сортами помидор – пожалуйста; ягод, душистых до головокружения трав – да кто ж запретит-то?
Сколько дружеских посиделок помнят лавочки в беседке под шашлычок и коньячок. Сколько душевных разговоров: веселых – о свадьбах и рождениях, грустных – о неверных мужьях, брошенных женах, болезнях и внезапных смертях, ностальгических – об ушедшей молодости и быстротечности жизни.
Дети выросли и разъехались по другим городам.
Мишу я не бросила, живем с ним душа в душу тридцать лет. Бабушки давно уже нет в живых.
Но есть дача, чайный сервис и мы. Вспоминающие ее добрым словом.
Красное пальто
Красное пальто с золотыми пуговицами и белые хризантемы…
Ночью прошел дождь, небо серое, угрюмое, с нависающими свинцовыми тучами. Деревья голые. Картина безрадостная. Я – единственное яркое цветовое пятно на ней. На удивление пальто хоть и тонкое, но теплое, уютное, мягкое. Мама говорила, «из джерси».
…Взвизгнули тормоза остановившейся неподалеку машины. По красному пальто расплылись кляксы грязной жижи.
– Так получилось… Извините…
«Да пошел ты, козел». Молча пытаюсь оттереть грязь носовым платком. Говорит: не трите, будет хуже. Еще и советы дает.
– Давайте, я вас подвезу. Куда вам?
Не унимается. Ехал бы уже своей дорогой.
– На кладбище.
Удивленно приподнятая бровь, открытая дверь машины и приглашающий жест.
На кладбище тихо. Желто внизу от опавших листьев, черно наверху от стволов старых деревьев. Пахнет сыростью, прелью, бренностью жизни.
Вот и знакомая могилка.
Мама, мамочка, здравствуй, родная. Белые хризантемы ложатся на черный холмик.
Для меня мама всегда жива. Она молодая, красивая. Из той, другой осени. Плывет среди серо-черно-коричневой толпы, над которой рдеют красные флаги и транспаранты. И сама, как флаг, в ярко-красном пальто. И в руках у нее белые хризантемы.
Маму легко найти среди демонстрантов по пальто. Она купила его в Риге. Я помню эту историю. Продавщица не хотела продавать его – русских не любили там. Она делала вид, что не замечает мамы, что чем-то занята. Но мама оказалась настойчивой.
«Приветствуем работников завода медицинских инструментов! Ура, товарищи!» – раздается голос в репродукторе. И сотни голосов сливаются в крике «Ура!». Громче всех кричу я, двенадцатилетняя девочка. Мне хочется, чтобы мама услышала меня и нашла глазами в сжавшейся на обочине проспекта толпе, но ее взор направлен вперед, в какую-то неведомую даль. И чему-то незримому мама машет белыми хризантемами.
Мама любила это пальто, берегла его, носила только по праздникам. Седьмое ноября – День революции, тогда был праздник праздников. И так получилось, ушла она из жизни год назад тоже в этот день. И я решила, что если души прилетают, то ей будет приятно встретиться с любимой вещью из своего прошлого. Пальто хорошо сохранилось и вот…
Зачем я ему это рассказала? И чего он увязался со мной? Ну, подвез да и ехал бы своей дорогой.
– В химчистку нужно отдать, – заговорил он после повисшей паузы, – грязь легко отойдет. Как новое станет. Дайте ваш телефон, я вам деньги за химчистку перекину, напишите сколько. Вы уж простите…
Телефон дала. Зашли на могилку к мужу, потом к сестре. Со всеми самыми близкими его познакомила.
Деньги за химчистку он перекинул сразу, как я ему написала. И следом прислал сообщение: «Давайте вечером кофе попьем».
Подумала: на кой оно мне? Жизнь уже за половину перевалила, глубокая осень… А за ней что? Зима. Холодная зима… Немного тепла не помешает. Человек ведь лучше согреет, чем пальто, чем даже мамино пальто. Я это тогда, на кладбище почувствовала, когда мы с ним бродили среди могил. Написала ему в ответ: «Давайте…»
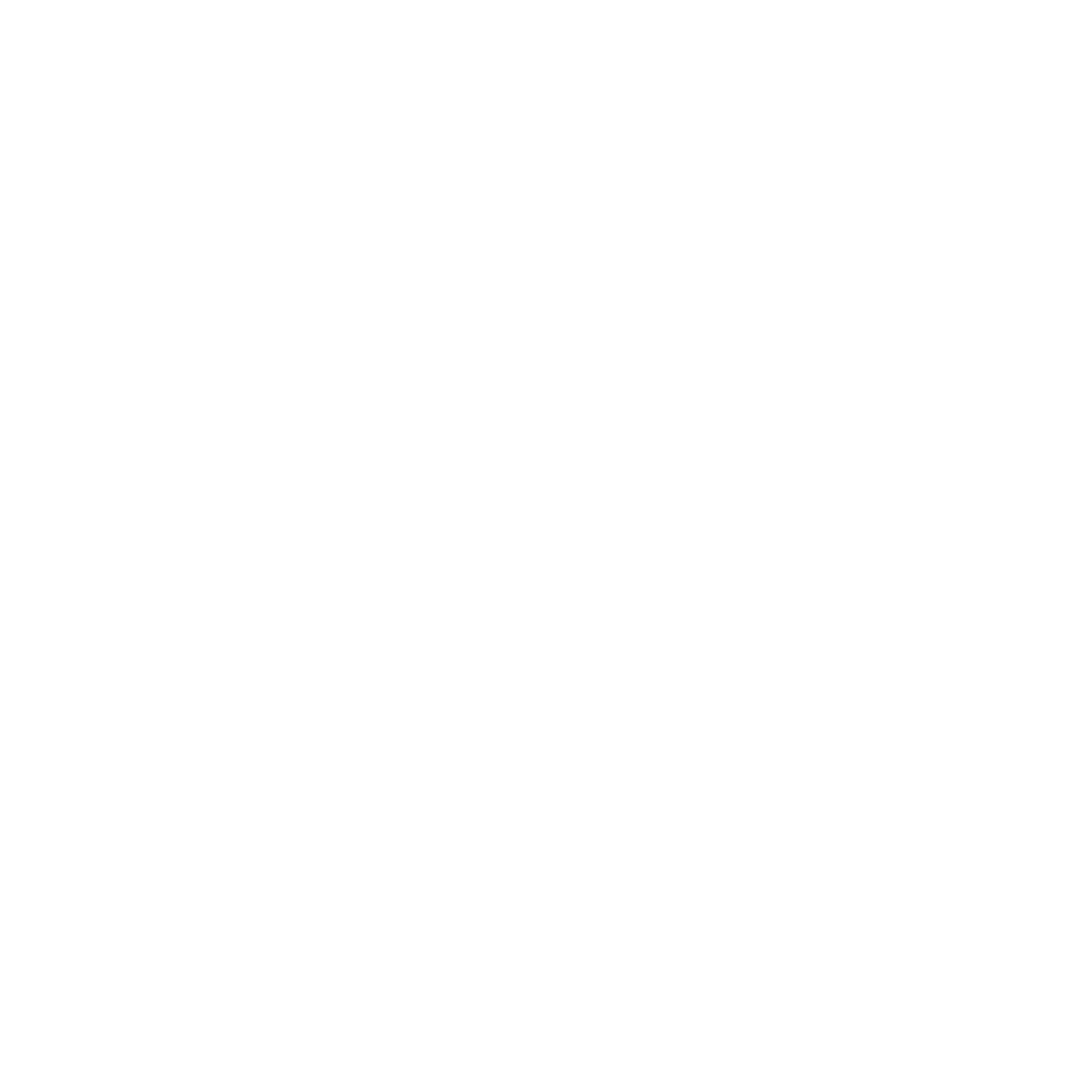
Татьяна ПУГАЧЕВА
Родилась в городе Ростове-на-Дону, окончила факультет филологии и журналистики РГУ. Много лет работала в сфере, связанной с написанием текстов. В настоящее время работаю в детской библиотеке по направлению «краеведение». Рассказы и стихи пишу для себя и для друзей.
Родилась в городе Ростове-на-Дону, окончила факультет филологии и журналистики РГУ. Много лет работала в сфере, связанной с написанием текстов. В настоящее время работаю в детской библиотеке по направлению «краеведение». Рассказы и стихи пишу для себя и для друзей.
ДОНЕЦКИЙ РАТАТУЙ*
Конечно, ничего общего с французским крысёнком-поваренком из одноимённого мультфильма наш крыс не имеет. Просто к слову вспомнилось.
А дело было так.
У командира одной из воинских частей, что на линии боевого соприкосновения, было оригинальное увлечение – зверушек из разрушенных зоопарков подбирать и за собой в обозе возить. Не всех, конечно, а по возможности. Тигра за собой возить – проблем не оберёшься, а енота, лису, волка даже по нашей зиме – вполне… Ну и по мелочи: попугаи всякие (тоже не стаями, а по одному-по два) в личной «землянке» не переводились. Улетел или сдох какой, бойца в ближайший зоомагазин отправит, и новая птица – в «кабинете».
Коты в продвигающейся по передку части не особо приживались, они ведь территориальные животные: потусят, пока часть стоит, и останутся «при доме». А «мини-зоопарк» в ящиках – всегда с собой.
Бывало, что животные попадались оригинальные. Вот, питон, например. Нашли его, забившегося в тёмный угол в полуразрушенном доме поздней осенью разведчики с позывными Барсик и Гвоздь. Ярко-оранжевый «шнурок» с белыми пятнами по шкурке сразу привлёк внимание парней, осматривающих жилье на предмет временного расквартирования. Положили питона в шлем и принесли командиру. Тот обрадовался, сказал, что это питон австралийской породы, приказав организовать новому питомцу, где жить и что есть, а сам дальше командовать пошёл. Командир ведь.
Солдатам приказ дан – выполнять надо. Только где ж экзотической твари еду добывать? Хотя бы и мышей. Бывали, конечно, времена, когда в блиндажах и землянках мышей было столько, что матрас трухни и мешок наберёшь, но те времена закончились. Да и питона беречь наказали: трофейный он, всякой падалью травленной-давленной кормить опасно, вдруг околеет, а солдатикам отвечать. Значит, надо искать мышей правильных. Из зоомагазина. Ближайший такой – километрах в десяти по карте, в соседнем пригороде, да цел ли – неизвестно, война же. Но делать нечего. Откомандировали бойцов за гумкой сгонять в те края, а заодно и Шнурку (уже имя приклеилось к питону такое) харч добыть. Магазин по счастью уцелел. Пара бойцов в полном боевом никакого удивления у продавщицы не вызвали – и не такое уже на этих территориях видали. А вот мышей в наличии не оказалось. Только хомяки.
Первого хомяка Шнурок, домик которому оборудовали в пластиковой бутылке, утеплённой пенопластом на скотче, выхватил из рук молниеносно. И задушил. И заглотил медленно, по-живодёрски... Бойцы стояли в оцепенении. Тёплые чувства к «бедному Шнурку» при этом зрелище как-то стали рассеиваться. Комментарии, отпущенные в адрес Шнурка, и писать здесь не стану. На просторах Интернета были раскопаны сведения о том, что если удав сыт, то ленив и не бросается на человека. Но Шнурок на протянутую руку с пачкой сигарет среагировал молниеносной атакой.
«Голодный», – решили бойцы. Но воинская часть уже ушла из квадрата, в котором был доступен зоомагазин. Следующий – когда новый городок завоюют.
Голодным прожил Шнурок в своей бутылке почти месяц, до нового хомяка. Смотрели бойцы на то, как пушистая мягкая тушка исчезает в пасти змия, и недобрые чувства посещали их. В следующем зоомагазине хомяков не было, только крысы.
Продавщица вынула из коробки черно-белого молодого крысака: «Ручной и не кусается». И в руки бойцу мягкий комочек сунула, хоть и не по правилам это. Но какие на войне правила? Любая капля нежности в цене. Даже крысячей.
И Барсик, и Гвоздь подержали в руках мягкий комочек с хвостиком. До места дислокации ехали молча. Задания, что дал командир, выполняли тоже без слов – давно работали вместе, понимали друг друга. Всё привезли, выгрузили, под обстрел, будем считать, что и не попали: просвистело мимо, успели в какой-то сарай заскочить...
Зайдя в дом временной располаги, Гвоздь словно случайно пнул ногой ящик с питоном. Ужинали тоже молча. Спать легли рано, несмотря на холод: генератор работал не постоянно, в полуразрушенном доме было стыло и зябко. Ночь выдалась почти тихая: это когда свист и разрывы не то чтобы над головой, а чуть подальше и потише, заснуть можно…
Наутро Барсик взорвался: «Не хочу я скармливать этому... Шнурку Крыса!..»
(Эпитеты, которыми он наградил питона, я уж пропущу, они не для всех ушей).
Гвоздь хмыкнул: «Тебе отпуск к днюхе обещали... продержимся, увезёшь его…»
Клетка нашлась в хозяйстве командирского зоопарка. Её подвесили повыше, чтобы Крыса не достали бродячие коты. Зверь попался понятливый: сидел тихо, еду брал из рук с выражением на мордочке: «И этот всё мне?!!» Уютно и доверчиво устраивался в ладонях Гвоздя и Барсика.
А потом Крыс пересёк границу войны. На переднем сидении видавшей виды четырки. И очутился в мирном городе, в тихой квартире, где не слышно ни арты, ни взрывов. Ему купили клетку посвободней, лесенку, гнездо и съедобный домик. Он его грызет. Он жив. У него есть своя семья и добрый хозяин семи лет от роду по имени Даниил.
Они быстро подружились и ждут, когда папа вернётся домой навсегда…
*История записана по мотивам рассказа солдата с позывным Барсик и является подарком ему на день рождения.
Конечно, ничего общего с французским крысёнком-поваренком из одноимённого мультфильма наш крыс не имеет. Просто к слову вспомнилось.
А дело было так.
У командира одной из воинских частей, что на линии боевого соприкосновения, было оригинальное увлечение – зверушек из разрушенных зоопарков подбирать и за собой в обозе возить. Не всех, конечно, а по возможности. Тигра за собой возить – проблем не оберёшься, а енота, лису, волка даже по нашей зиме – вполне… Ну и по мелочи: попугаи всякие (тоже не стаями, а по одному-по два) в личной «землянке» не переводились. Улетел или сдох какой, бойца в ближайший зоомагазин отправит, и новая птица – в «кабинете».
Коты в продвигающейся по передку части не особо приживались, они ведь территориальные животные: потусят, пока часть стоит, и останутся «при доме». А «мини-зоопарк» в ящиках – всегда с собой.
Бывало, что животные попадались оригинальные. Вот, питон, например. Нашли его, забившегося в тёмный угол в полуразрушенном доме поздней осенью разведчики с позывными Барсик и Гвоздь. Ярко-оранжевый «шнурок» с белыми пятнами по шкурке сразу привлёк внимание парней, осматривающих жилье на предмет временного расквартирования. Положили питона в шлем и принесли командиру. Тот обрадовался, сказал, что это питон австралийской породы, приказав организовать новому питомцу, где жить и что есть, а сам дальше командовать пошёл. Командир ведь.
Солдатам приказ дан – выполнять надо. Только где ж экзотической твари еду добывать? Хотя бы и мышей. Бывали, конечно, времена, когда в блиндажах и землянках мышей было столько, что матрас трухни и мешок наберёшь, но те времена закончились. Да и питона беречь наказали: трофейный он, всякой падалью травленной-давленной кормить опасно, вдруг околеет, а солдатикам отвечать. Значит, надо искать мышей правильных. Из зоомагазина. Ближайший такой – километрах в десяти по карте, в соседнем пригороде, да цел ли – неизвестно, война же. Но делать нечего. Откомандировали бойцов за гумкой сгонять в те края, а заодно и Шнурку (уже имя приклеилось к питону такое) харч добыть. Магазин по счастью уцелел. Пара бойцов в полном боевом никакого удивления у продавщицы не вызвали – и не такое уже на этих территориях видали. А вот мышей в наличии не оказалось. Только хомяки.
Первого хомяка Шнурок, домик которому оборудовали в пластиковой бутылке, утеплённой пенопластом на скотче, выхватил из рук молниеносно. И задушил. И заглотил медленно, по-живодёрски... Бойцы стояли в оцепенении. Тёплые чувства к «бедному Шнурку» при этом зрелище как-то стали рассеиваться. Комментарии, отпущенные в адрес Шнурка, и писать здесь не стану. На просторах Интернета были раскопаны сведения о том, что если удав сыт, то ленив и не бросается на человека. Но Шнурок на протянутую руку с пачкой сигарет среагировал молниеносной атакой.
«Голодный», – решили бойцы. Но воинская часть уже ушла из квадрата, в котором был доступен зоомагазин. Следующий – когда новый городок завоюют.
Голодным прожил Шнурок в своей бутылке почти месяц, до нового хомяка. Смотрели бойцы на то, как пушистая мягкая тушка исчезает в пасти змия, и недобрые чувства посещали их. В следующем зоомагазине хомяков не было, только крысы.
Продавщица вынула из коробки черно-белого молодого крысака: «Ручной и не кусается». И в руки бойцу мягкий комочек сунула, хоть и не по правилам это. Но какие на войне правила? Любая капля нежности в цене. Даже крысячей.
И Барсик, и Гвоздь подержали в руках мягкий комочек с хвостиком. До места дислокации ехали молча. Задания, что дал командир, выполняли тоже без слов – давно работали вместе, понимали друг друга. Всё привезли, выгрузили, под обстрел, будем считать, что и не попали: просвистело мимо, успели в какой-то сарай заскочить...
Зайдя в дом временной располаги, Гвоздь словно случайно пнул ногой ящик с питоном. Ужинали тоже молча. Спать легли рано, несмотря на холод: генератор работал не постоянно, в полуразрушенном доме было стыло и зябко. Ночь выдалась почти тихая: это когда свист и разрывы не то чтобы над головой, а чуть подальше и потише, заснуть можно…
Наутро Барсик взорвался: «Не хочу я скармливать этому... Шнурку Крыса!..»
(Эпитеты, которыми он наградил питона, я уж пропущу, они не для всех ушей).
Гвоздь хмыкнул: «Тебе отпуск к днюхе обещали... продержимся, увезёшь его…»
Клетка нашлась в хозяйстве командирского зоопарка. Её подвесили повыше, чтобы Крыса не достали бродячие коты. Зверь попался понятливый: сидел тихо, еду брал из рук с выражением на мордочке: «И этот всё мне?!!» Уютно и доверчиво устраивался в ладонях Гвоздя и Барсика.
А потом Крыс пересёк границу войны. На переднем сидении видавшей виды четырки. И очутился в мирном городе, в тихой квартире, где не слышно ни арты, ни взрывов. Ему купили клетку посвободней, лесенку, гнездо и съедобный домик. Он его грызет. Он жив. У него есть своя семья и добрый хозяин семи лет от роду по имени Даниил.
Они быстро подружились и ждут, когда папа вернётся домой навсегда…
*История записана по мотивам рассказа солдата с позывным Барсик и является подарком ему на день рождения.

Мария ПОЛЯНСКАЯ
Мария Полянская родилась в 1966 году, живет и работает в Москве.
Автор книг «Чужестранка» (1998), «Сон городского воробья» (2008), «Терминал» (2012). Лауреат премий «Золотое перо Руси» (2006), «Добрая Лира» (2008), победитель театрального конкурса «Премьера» (2010), конкурса «Хай концепт» (2018), «Москва инноваций-2050» (2020). Член Московского Союза Литераторов с 2022 года.
Мария Полянская родилась в 1966 году, живет и работает в Москве.
Автор книг «Чужестранка» (1998), «Сон городского воробья» (2008), «Терминал» (2012). Лауреат премий «Золотое перо Руси» (2006), «Добрая Лира» (2008), победитель театрального конкурса «Премьера» (2010), конкурса «Хай концепт» (2018), «Москва инноваций-2050» (2020). Член Московского Союза Литераторов с 2022 года.
В КОРИДОРЕ
Я написала эту повесть почти три года назад. Время ее вынашивания и рождения тянулось бесконечно долго, я мучилась, словно первородящая мать, страдала долгими схватками, все никак не переходящими в победные потуги, когда ребенок, наконец, появляется крошечной головкой на свет.
Собственно говоря, так происходит со всеми моими произведениями – в голове вдруг вспыхивает необычайно ярко совершенно случайная мысль, это и есть идея будущего рассказа или повести. Ее приходится ловить за хвост, словно непослушную комету, там, где и произошло неожиданное зачатие-воодушевление, иначе она уходит, погружается в материю, которая послужила ей питательным бульоном. И если ее удается задержать на мгновение между бытием сознания и небытием забвения, она – моя. Я кладу ее куда-то очень далеко, почти у самого затылка, и она живет там вместе с другими идеями, так же беззаботно залетевшими на мой огонек. Они хороводятся у меня в голове денно и нощно, словно молодые цыплята в инкубаторе, топчутся, тянут беззащитные шеи и просятся на двор, иными словами, чтобы я записала их беспомощные бессловесные писки. Стоит мне выбрать одного из этих тепленьких маленьких комочков, как начинается процесс вынашивания. Я вслушиваюсь, я пишу в уме, но не дай мне бог довериться и выплеснуть какой-то текст, пусть даже на пробу. Это будет мертворожденное дитя, натужное, некрасивое, неуклюжее, лежащее неподъемной тяжестью мегабайтов в компьютере, обреченное на долгое и мучительное прозябание в виде черновика, пока смутное чувство стыда не смоет его навсегда.
Нет, идея должна еще долго жить взаперти меня, я должна еще вечность ощущать ее толчки внутри собственной головы, я даже не смею думать о ней все время, а только иногда – когда вдруг очень захочется узнать, как она там, не пора ли ее попробовать на вкус и на цвет, да и то не до конца, чтобы тайна оставалась тайной.
Так мы и живем: я – с ней, а она – во мне; я ощущаю ее присутствие, осторожное, но настойчивое любопытство к внешнему миру и собственному облику. Но я не тороплюсь, я просто иногда о ней думаю и чем дальше, тем чаще, пока и ее желание появиться на свет не пересилит недоверие и страх к тому, кто ее носит. Я терпелива, она тоже, мы уже настолько привыкли друг к другу, что рано или поздно я начинаю чувствовать ее пульсацию внутри моего мозга. И это значит, что мне пора садиться писать, выплескивать, извергать, вываживать на свет прекрасную незнакомку, дитя-чужестранку.
Но не тут-то было, теперь уже мне не хочется расставаться с ее тайной. Пока она невысказанно живет внутри меня, я – ее полновластная хозяйка. Я могу ее и передумать-придумать заново и наоборот или вообще вычеркнуть из своей жизни, словно ее такой и не было. Но стоит мне сесть за компьютер, и ее или меня или нас обеих уже нельзя будет остановить: она прольется теплой водой, вытечет голубоглазой русалкой, примет ту форму, которая и станет ее единственным обличием, и я ничего не смогу в ней изменить – ни слова, ни мысли. И мы обе предстанем нагими, словно после рождения, нагими, слабыми и беспомощными ко всему, что нас ждет в этом мире.
Но пока и до этого далеко – я сопротивляюсь ее силе и желанию, сколько могу, уговариваю себя, что это еще не началось, откладываю ее рождение на потом; и все же если поезд летит под уклон, остановить его невозможно. И я лечу: я подсаживаюсь к компьютеру, я кладу руки на клавиатуру, и она начинает истекать – слова спешат за словами, пальцы бьют ритм, и история набирает обороты. И все бы ничего – плод мой движется, я спешу и наслаждаюсь этой быстрой, нервной, стелющейся под ноги дорогой, пока не наступает перепутье. Но это самое страшное место – тот перекресток, где среди множества возможностей и вероятностей приходится выбрать свою единственную и тем самым прекратить в зародыше существование иного, параллельного, в чем-то так никогда и не превзойденного замысла. И ведь замыслов таких много, их столько, сколько известно лишь самой жизни, и не воплотить их никогда на самом деле означает НИКОГДА, самое безнадежное и жестокое слово в мире. Я должна решиться, я должна бесповоротно отдаться одному из исходов и следовать его биению до конца, пока оно не затихнет с последним вылившимся на бумагу словом, с последней несмелой правкой, с последней поставленной точкой.
Но пока все идет, как надо, тайна воплощается, дитя-чужестранка ищет свою дорогу к миру людей, но чем дальше, тем труднее мне становится класть руки на клавиши, тем тяжелее каждое движение мысли, тем больнее недосказанность, потому что история стремительно приближается к концу. И тут я вынуждена признаться самой себе: нет ничего сложнее конца – настоящего, а не бледно-вымученного, недозрелого, вялого, несмелого и невнятного обрыва, которым завершается такая многообещающая идея… или, если хотите, это слабый, измученный родами ребенок, и мать едва верит, что он жив. Конечно, это будет самый любимый, но и самый болезненный отпрыск в семье, и родители будут дрожать над ним и заботиться, но их души будет глодать мысль, что они сделали не все, что могли, и вот дитя появилось на свет не таким красивым и сильным, а ведь могло…
Я малодушно знаю – конец истории может убить ее, но может и вознести на вершину, может вывернуть ее наизнанку, а может оторочить драгоценнейшим мехом, может разодрать душевную рану или вылечить ее. И все это колдовство – в моей власти. И я откладываю историю в сторону, забываю о ней иногда непростительно надолго, почти навечно, так что потом приходится вживаться в нее с самого начала, пока она опять не забьется в мозгу, как живая. Или, наоборот, спешу к концу, пишу возмутительно быстро, ибо впереди – радость, облегчение, завершение труда, о котором только можно было мечтать. Бывает и так.
Но только не с историей Коридора.
Первый раз я представила себе Коридор много лет назад. День был полностью серый, от рассвета до заката, и все вокруг было непроглядно серым – от улиц до машин, от зданий до людей; и так же пусто и серо было у меня в душе. И тут я увидела это здание, и по сей день занимающее огромное серое пространство вдоль одной из магистралей на юге нашего города. Я увидела его и краем сознания отметила, как оно безнадежно: длинное, мерное, глазу не за что зацепиться. Осознала и тут же выбросила мысль о нем, потому что оно все продолжало и продолжало проплывать за окнами, словно весь пейзаж состоял из серого бетона. Я поняла, что оно закончилось ровно в ту минуту, когда дверь машины тихо притворилась, а вслед за этим исчезли все мои документы и деньги. Я отвлеклась всего на секунду, отвечая на вопрос о том, как лучше проехать к тому самому зданию, но темным быстрым людям этого было вполне достаточно. Тогда я впервые подумала о том, что такая огромная, заполненная чьей-то волей и умыслом масса не может не влиять на тех, кто находится рядом или внутри. Я представила себе, что есть сила и власть этого здания, задуманного таким непостижимо для глаза и ума длинным и таким однозначно серым и мрачным, и содрогнулась. И воля его свершилась надо мной.
Ах, нет, и здесь я неправа. Первый Коридор возник еще раньше. Я была слишком молода и самонадеянна, я полагала, что идеи и дети будут рождаться вечно, и одним меньше, одним больше. Тот же уголок города, унылый юг, только гораздо ближе к центру; я стояла на базаре и покупала фрукты, чтобы не с пустыми руками идти в гости к друзьям. Они жили в огромном распухшем от окон и этажей бесформенном уродце прямо напротив торговых рядов. У меня был только этаж и номер комнаты в общежитии для семейных людей, не имеющих иной крыши над головой. Я была в ярких, кричащих рядах, уставленных пирамидками с фруктами, было тепло и сыро, желтые фрукты истекали соками, красные лопались от натуги, фиолетовая мякоть лоснилась на солнце, падающем сквозь полупрозрачный шатер крыши. И вдруг я поняла, что мне надо срочно в другое место. Я прошла мимо чанов с квашеной капустой прямиком к соленым огурцам и сразу же съела первый же купленный хрусткий плод, а потом еще один и еще. Жизнь как-то повернулась в другую сторону, и я пошла в гости с пакетом соленых огурцов. Истинная причина открылась мне позже, не во время блуждания по коридорам общежития в поисках дальней угловой комнаты, и это грустная история с несчастливым концом, история любви и, как водится, смерти, но ее начало так или иначе связано с Коридором. Потому что именно там я сначала осознала, что обрела, а потом поняла, что неизбежно потеряю своего первого нерожденного ребенка.
Но тогда я об этом и не думала. Пока не встретилась с Коридором второй раз, издали. Это было наше первое и очень неприятное знакомство, и Коридор стал памятью о чем-то нечистом, нечестном, грязном, как руки и лица людей, ограбивших меня, словно под гипнозом. Я дала себе слово никогда не появляться рядом со зданием, похожим на Гулливера, опутанного усилиями сотен лилипутов. Но в моей жизни не существует слов «никогда» или «ни за что», может, потому что нет ничего самонадеяннее, чем мысль о том, что ты сам обрываешь и вяжешь нити судьбы, поэтому я не удивилась, когда ничтожная бытовая причина привела меня вновь в Коридор. На этот раз все было иначе; я была не одна, нас было двое: я и мой ребенок внутри – тот, кому было суждено родиться. Я чувствовала себя так, словно впервые обрела гармонию цельного существа: я была и сама собой, и кем-то еще, бесконечно близким и все же иным. В таком состоянии я не помнила зла, причиненного мне Коридором, не помнила и о том, первом здании, в чьём Коридоре, в котором меня впервые отчаянно тошнило, я приняла решение о смерти того, кого никогда не узнаю. Я просто пошла по Коридору и толкнула дверь одного из офисов, и вошла в магазин, и все это время я не чувствовала ничего особенного в здании.
Меня подвозила одна приятельница, она очень торопилась, и, выезжая на широкий унылый тракт, она сказала буквально вот что: отсюда так трудно выбраться… Она даже прибавила: хороший магазин, но место – не приведи господь, заедешь – не выберешься. Дальше я ее не слушала, я вдруг вспомнила прежние встречи с Коридором, такие мимолетные и все же процарапавшие глубокий след в моей душе. Я поняла, когда впервые зашла в Коридор, поняла, что я оставила в нем нечто чрезвычайно важное для себя и будущей своей жизни, поняла, зачем вернулась в него беременной: чтобы вспомнить о том, о чем еще не раз и не два буду с содроганием вспоминать и обвинять себя, себя и еще раз себя.
Купленная тогда желтая трикотажная кофточка прослужила мне очень долго, так неимоверно долго для такой легкомысленной вещи, что я перестала воспринимать ее как одежду, а перевела в ряд символов. Желтый, праздничный цвет и полная безразмерность – она сидела, как влитая, и во время беременности, и долгое время спустя, когда я приняла прежний облик, подчеркивая ею постройневшую фигуру.
Но тогда я еще ничего не писала. Точнее будет сказать так: я была в ином статусе в то время, все мои будущие рассказы еще роились в полной темноте где-то внутри, и я была не готова предать их не только бумаге, но и самой себе – проговаривать ночью про себя или продумывать до деталей. В то время я жила в ощущении потерянного дара, чудесного дара словосложения, иссякшего так внезапно, что я и сама не поняла, когда это произошло. Я писала стихи столько, сколько себя помнила, я и помыслить не могла о том, что когда-нибудь это может прекратиться. В тринадцать нежных лет я вдруг проснулась ночью посреди грозы и услышала внутри строки. Это были совсем другие слова, не те, что я складывала ребенком, но их нельзя было не слышать и не замечать. С тех пор я слышала их каждую ночь, иногда они приходили парами, иногда по одиночке, а иногда я не могла заснуть, сидя с ручкой у листа бумаги, словно часовой на страже. Все вокруг и я, главное, я сама, знали, что это навсегда, навечно, что я теперь поэт, но потом произошло нечто, изменившее мою суть настолько, что бессмысленно было не связывать эти две вещи воедино. Я могла бы стать женщиной – не просто девушкой, потерявшей невинность, а именно женщиной, матерью ребенка. Я поняла это в Коридоре, неся в руках открытый пакет с солеными огурцами, мучительно выворачиваясь над разомкнутой пастью мусоропровода. Но тогда, находясь в том Коридоре, я приняла другое решение, и жизнь моя пошла чуть иным путем, словно автор моего рассказа выбрал одну из возможностей сюжетного поворота. И как-то незаметно я потеряла дар: сначала дар стихов, потом – дар родной речи, еще позже – дар любви. И так продолжалось до тех пор, пока во мне не зародилась жизнь – не взамен утраченной, а просто, словно божий дар.
Я вышла из Коридора, ничего не заметив. А между тем произошло нечто очень важное: я вдруг услышала внутри себя истории, которых не знала раньше, узнала идеи, которые иначе никогда бы не пришли мне в голову. Это было чудесно, это был мой новый дар, возвращенный мне свыше, дар памяти Коридора.
Тогда я этого не поняла, как не поняла, что мне нужно сказать об этом. Сказать о том Коридоре, который бывает у каждого из нас – рано или поздно, там или здесь. Он наступает неотвратимо, он простирается от тебя в вечность, он выворачивает тебя наизнанку, он дает тебе жизнь и забирает у тебя смерть. Или, наоборот, это не так важно. Важно, что я это поняла и признала. Я согласилась с тем, что он есть, что он ждет меня в каждом из поворотов, которые мне пока что не видны с того места, где я сейчас стою. А потом мне приснился сон – первый сон о Коридоре. Я говорю первый, потому что этот сон будет сниться мне очень часто, и в нем всегда будет серое здание, насильно уложенное вдоль улицы, серые алюминиевые двери, черно-белые комнаты, окна, забранные грязными стеклами, мутные невыразительные лица и ощущение вечной муки и невозможности выбраться из лабиринта на яркое полуденное солнце цвета трикотажной кофточки.
Тогда я поняла, что должна написать о Коридоре, и так родилась повесть, которая стоила мне мук и времени, достойных хорошего глянцевого романа или добротного детектива. Но я все писала и писала, уходила и возвращалась, и думала о том, что будет ждать меня в конце Коридора. А в конце бывает только конец, и когда он наступил, я почувствовала неимоверное облегчение, словно мать, держащая новорожденного дрожащими от долгих мучений и слабости руками. Я поняла, что наконец-то вышла из Коридора на свет и осознала, что осталась сама собой. Я знала, что сон о Коридоре больше не будет сниться мне всякий раз, когда жизнь будет заводить меня в тупик. Я поставила точку и отправила его в печать.
Но стоило мне выпустить его из рук, как я тут же почувствовала, что история не кончается. Я уже тогда со всей обреченностью увидела, что сначала мне придется понять, откуда и зачем взялся Коридор в моей жизни, а потом оказаться в нем снова. Вполне возможно, это будет совсем иной Коридор, в ином месте и в другое время, но он будет. Вполне вероятно, что моя история не единична, и у вас тоже есть свой Коридор, и рано или поздно мы встретимся.
До встречи в Коридоре….
Я написала эту повесть почти три года назад. Время ее вынашивания и рождения тянулось бесконечно долго, я мучилась, словно первородящая мать, страдала долгими схватками, все никак не переходящими в победные потуги, когда ребенок, наконец, появляется крошечной головкой на свет.
Собственно говоря, так происходит со всеми моими произведениями – в голове вдруг вспыхивает необычайно ярко совершенно случайная мысль, это и есть идея будущего рассказа или повести. Ее приходится ловить за хвост, словно непослушную комету, там, где и произошло неожиданное зачатие-воодушевление, иначе она уходит, погружается в материю, которая послужила ей питательным бульоном. И если ее удается задержать на мгновение между бытием сознания и небытием забвения, она – моя. Я кладу ее куда-то очень далеко, почти у самого затылка, и она живет там вместе с другими идеями, так же беззаботно залетевшими на мой огонек. Они хороводятся у меня в голове денно и нощно, словно молодые цыплята в инкубаторе, топчутся, тянут беззащитные шеи и просятся на двор, иными словами, чтобы я записала их беспомощные бессловесные писки. Стоит мне выбрать одного из этих тепленьких маленьких комочков, как начинается процесс вынашивания. Я вслушиваюсь, я пишу в уме, но не дай мне бог довериться и выплеснуть какой-то текст, пусть даже на пробу. Это будет мертворожденное дитя, натужное, некрасивое, неуклюжее, лежащее неподъемной тяжестью мегабайтов в компьютере, обреченное на долгое и мучительное прозябание в виде черновика, пока смутное чувство стыда не смоет его навсегда.
Нет, идея должна еще долго жить взаперти меня, я должна еще вечность ощущать ее толчки внутри собственной головы, я даже не смею думать о ней все время, а только иногда – когда вдруг очень захочется узнать, как она там, не пора ли ее попробовать на вкус и на цвет, да и то не до конца, чтобы тайна оставалась тайной.
Так мы и живем: я – с ней, а она – во мне; я ощущаю ее присутствие, осторожное, но настойчивое любопытство к внешнему миру и собственному облику. Но я не тороплюсь, я просто иногда о ней думаю и чем дальше, тем чаще, пока и ее желание появиться на свет не пересилит недоверие и страх к тому, кто ее носит. Я терпелива, она тоже, мы уже настолько привыкли друг к другу, что рано или поздно я начинаю чувствовать ее пульсацию внутри моего мозга. И это значит, что мне пора садиться писать, выплескивать, извергать, вываживать на свет прекрасную незнакомку, дитя-чужестранку.
Но не тут-то было, теперь уже мне не хочется расставаться с ее тайной. Пока она невысказанно живет внутри меня, я – ее полновластная хозяйка. Я могу ее и передумать-придумать заново и наоборот или вообще вычеркнуть из своей жизни, словно ее такой и не было. Но стоит мне сесть за компьютер, и ее или меня или нас обеих уже нельзя будет остановить: она прольется теплой водой, вытечет голубоглазой русалкой, примет ту форму, которая и станет ее единственным обличием, и я ничего не смогу в ней изменить – ни слова, ни мысли. И мы обе предстанем нагими, словно после рождения, нагими, слабыми и беспомощными ко всему, что нас ждет в этом мире.
Но пока и до этого далеко – я сопротивляюсь ее силе и желанию, сколько могу, уговариваю себя, что это еще не началось, откладываю ее рождение на потом; и все же если поезд летит под уклон, остановить его невозможно. И я лечу: я подсаживаюсь к компьютеру, я кладу руки на клавиатуру, и она начинает истекать – слова спешат за словами, пальцы бьют ритм, и история набирает обороты. И все бы ничего – плод мой движется, я спешу и наслаждаюсь этой быстрой, нервной, стелющейся под ноги дорогой, пока не наступает перепутье. Но это самое страшное место – тот перекресток, где среди множества возможностей и вероятностей приходится выбрать свою единственную и тем самым прекратить в зародыше существование иного, параллельного, в чем-то так никогда и не превзойденного замысла. И ведь замыслов таких много, их столько, сколько известно лишь самой жизни, и не воплотить их никогда на самом деле означает НИКОГДА, самое безнадежное и жестокое слово в мире. Я должна решиться, я должна бесповоротно отдаться одному из исходов и следовать его биению до конца, пока оно не затихнет с последним вылившимся на бумагу словом, с последней несмелой правкой, с последней поставленной точкой.
Но пока все идет, как надо, тайна воплощается, дитя-чужестранка ищет свою дорогу к миру людей, но чем дальше, тем труднее мне становится класть руки на клавиши, тем тяжелее каждое движение мысли, тем больнее недосказанность, потому что история стремительно приближается к концу. И тут я вынуждена признаться самой себе: нет ничего сложнее конца – настоящего, а не бледно-вымученного, недозрелого, вялого, несмелого и невнятного обрыва, которым завершается такая многообещающая идея… или, если хотите, это слабый, измученный родами ребенок, и мать едва верит, что он жив. Конечно, это будет самый любимый, но и самый болезненный отпрыск в семье, и родители будут дрожать над ним и заботиться, но их души будет глодать мысль, что они сделали не все, что могли, и вот дитя появилось на свет не таким красивым и сильным, а ведь могло…
Я малодушно знаю – конец истории может убить ее, но может и вознести на вершину, может вывернуть ее наизнанку, а может оторочить драгоценнейшим мехом, может разодрать душевную рану или вылечить ее. И все это колдовство – в моей власти. И я откладываю историю в сторону, забываю о ней иногда непростительно надолго, почти навечно, так что потом приходится вживаться в нее с самого начала, пока она опять не забьется в мозгу, как живая. Или, наоборот, спешу к концу, пишу возмутительно быстро, ибо впереди – радость, облегчение, завершение труда, о котором только можно было мечтать. Бывает и так.
Но только не с историей Коридора.
Первый раз я представила себе Коридор много лет назад. День был полностью серый, от рассвета до заката, и все вокруг было непроглядно серым – от улиц до машин, от зданий до людей; и так же пусто и серо было у меня в душе. И тут я увидела это здание, и по сей день занимающее огромное серое пространство вдоль одной из магистралей на юге нашего города. Я увидела его и краем сознания отметила, как оно безнадежно: длинное, мерное, глазу не за что зацепиться. Осознала и тут же выбросила мысль о нем, потому что оно все продолжало и продолжало проплывать за окнами, словно весь пейзаж состоял из серого бетона. Я поняла, что оно закончилось ровно в ту минуту, когда дверь машины тихо притворилась, а вслед за этим исчезли все мои документы и деньги. Я отвлеклась всего на секунду, отвечая на вопрос о том, как лучше проехать к тому самому зданию, но темным быстрым людям этого было вполне достаточно. Тогда я впервые подумала о том, что такая огромная, заполненная чьей-то волей и умыслом масса не может не влиять на тех, кто находится рядом или внутри. Я представила себе, что есть сила и власть этого здания, задуманного таким непостижимо для глаза и ума длинным и таким однозначно серым и мрачным, и содрогнулась. И воля его свершилась надо мной.
Ах, нет, и здесь я неправа. Первый Коридор возник еще раньше. Я была слишком молода и самонадеянна, я полагала, что идеи и дети будут рождаться вечно, и одним меньше, одним больше. Тот же уголок города, унылый юг, только гораздо ближе к центру; я стояла на базаре и покупала фрукты, чтобы не с пустыми руками идти в гости к друзьям. Они жили в огромном распухшем от окон и этажей бесформенном уродце прямо напротив торговых рядов. У меня был только этаж и номер комнаты в общежитии для семейных людей, не имеющих иной крыши над головой. Я была в ярких, кричащих рядах, уставленных пирамидками с фруктами, было тепло и сыро, желтые фрукты истекали соками, красные лопались от натуги, фиолетовая мякоть лоснилась на солнце, падающем сквозь полупрозрачный шатер крыши. И вдруг я поняла, что мне надо срочно в другое место. Я прошла мимо чанов с квашеной капустой прямиком к соленым огурцам и сразу же съела первый же купленный хрусткий плод, а потом еще один и еще. Жизнь как-то повернулась в другую сторону, и я пошла в гости с пакетом соленых огурцов. Истинная причина открылась мне позже, не во время блуждания по коридорам общежития в поисках дальней угловой комнаты, и это грустная история с несчастливым концом, история любви и, как водится, смерти, но ее начало так или иначе связано с Коридором. Потому что именно там я сначала осознала, что обрела, а потом поняла, что неизбежно потеряю своего первого нерожденного ребенка.
Но тогда я об этом и не думала. Пока не встретилась с Коридором второй раз, издали. Это было наше первое и очень неприятное знакомство, и Коридор стал памятью о чем-то нечистом, нечестном, грязном, как руки и лица людей, ограбивших меня, словно под гипнозом. Я дала себе слово никогда не появляться рядом со зданием, похожим на Гулливера, опутанного усилиями сотен лилипутов. Но в моей жизни не существует слов «никогда» или «ни за что», может, потому что нет ничего самонадеяннее, чем мысль о том, что ты сам обрываешь и вяжешь нити судьбы, поэтому я не удивилась, когда ничтожная бытовая причина привела меня вновь в Коридор. На этот раз все было иначе; я была не одна, нас было двое: я и мой ребенок внутри – тот, кому было суждено родиться. Я чувствовала себя так, словно впервые обрела гармонию цельного существа: я была и сама собой, и кем-то еще, бесконечно близким и все же иным. В таком состоянии я не помнила зла, причиненного мне Коридором, не помнила и о том, первом здании, в чьём Коридоре, в котором меня впервые отчаянно тошнило, я приняла решение о смерти того, кого никогда не узнаю. Я просто пошла по Коридору и толкнула дверь одного из офисов, и вошла в магазин, и все это время я не чувствовала ничего особенного в здании.
Меня подвозила одна приятельница, она очень торопилась, и, выезжая на широкий унылый тракт, она сказала буквально вот что: отсюда так трудно выбраться… Она даже прибавила: хороший магазин, но место – не приведи господь, заедешь – не выберешься. Дальше я ее не слушала, я вдруг вспомнила прежние встречи с Коридором, такие мимолетные и все же процарапавшие глубокий след в моей душе. Я поняла, когда впервые зашла в Коридор, поняла, что я оставила в нем нечто чрезвычайно важное для себя и будущей своей жизни, поняла, зачем вернулась в него беременной: чтобы вспомнить о том, о чем еще не раз и не два буду с содроганием вспоминать и обвинять себя, себя и еще раз себя.
Купленная тогда желтая трикотажная кофточка прослужила мне очень долго, так неимоверно долго для такой легкомысленной вещи, что я перестала воспринимать ее как одежду, а перевела в ряд символов. Желтый, праздничный цвет и полная безразмерность – она сидела, как влитая, и во время беременности, и долгое время спустя, когда я приняла прежний облик, подчеркивая ею постройневшую фигуру.
Но тогда я еще ничего не писала. Точнее будет сказать так: я была в ином статусе в то время, все мои будущие рассказы еще роились в полной темноте где-то внутри, и я была не готова предать их не только бумаге, но и самой себе – проговаривать ночью про себя или продумывать до деталей. В то время я жила в ощущении потерянного дара, чудесного дара словосложения, иссякшего так внезапно, что я и сама не поняла, когда это произошло. Я писала стихи столько, сколько себя помнила, я и помыслить не могла о том, что когда-нибудь это может прекратиться. В тринадцать нежных лет я вдруг проснулась ночью посреди грозы и услышала внутри строки. Это были совсем другие слова, не те, что я складывала ребенком, но их нельзя было не слышать и не замечать. С тех пор я слышала их каждую ночь, иногда они приходили парами, иногда по одиночке, а иногда я не могла заснуть, сидя с ручкой у листа бумаги, словно часовой на страже. Все вокруг и я, главное, я сама, знали, что это навсегда, навечно, что я теперь поэт, но потом произошло нечто, изменившее мою суть настолько, что бессмысленно было не связывать эти две вещи воедино. Я могла бы стать женщиной – не просто девушкой, потерявшей невинность, а именно женщиной, матерью ребенка. Я поняла это в Коридоре, неся в руках открытый пакет с солеными огурцами, мучительно выворачиваясь над разомкнутой пастью мусоропровода. Но тогда, находясь в том Коридоре, я приняла другое решение, и жизнь моя пошла чуть иным путем, словно автор моего рассказа выбрал одну из возможностей сюжетного поворота. И как-то незаметно я потеряла дар: сначала дар стихов, потом – дар родной речи, еще позже – дар любви. И так продолжалось до тех пор, пока во мне не зародилась жизнь – не взамен утраченной, а просто, словно божий дар.
Я вышла из Коридора, ничего не заметив. А между тем произошло нечто очень важное: я вдруг услышала внутри себя истории, которых не знала раньше, узнала идеи, которые иначе никогда бы не пришли мне в голову. Это было чудесно, это был мой новый дар, возвращенный мне свыше, дар памяти Коридора.
Тогда я этого не поняла, как не поняла, что мне нужно сказать об этом. Сказать о том Коридоре, который бывает у каждого из нас – рано или поздно, там или здесь. Он наступает неотвратимо, он простирается от тебя в вечность, он выворачивает тебя наизнанку, он дает тебе жизнь и забирает у тебя смерть. Или, наоборот, это не так важно. Важно, что я это поняла и признала. Я согласилась с тем, что он есть, что он ждет меня в каждом из поворотов, которые мне пока что не видны с того места, где я сейчас стою. А потом мне приснился сон – первый сон о Коридоре. Я говорю первый, потому что этот сон будет сниться мне очень часто, и в нем всегда будет серое здание, насильно уложенное вдоль улицы, серые алюминиевые двери, черно-белые комнаты, окна, забранные грязными стеклами, мутные невыразительные лица и ощущение вечной муки и невозможности выбраться из лабиринта на яркое полуденное солнце цвета трикотажной кофточки.
Тогда я поняла, что должна написать о Коридоре, и так родилась повесть, которая стоила мне мук и времени, достойных хорошего глянцевого романа или добротного детектива. Но я все писала и писала, уходила и возвращалась, и думала о том, что будет ждать меня в конце Коридора. А в конце бывает только конец, и когда он наступил, я почувствовала неимоверное облегчение, словно мать, держащая новорожденного дрожащими от долгих мучений и слабости руками. Я поняла, что наконец-то вышла из Коридора на свет и осознала, что осталась сама собой. Я знала, что сон о Коридоре больше не будет сниться мне всякий раз, когда жизнь будет заводить меня в тупик. Я поставила точку и отправила его в печать.
Но стоило мне выпустить его из рук, как я тут же почувствовала, что история не кончается. Я уже тогда со всей обреченностью увидела, что сначала мне придется понять, откуда и зачем взялся Коридор в моей жизни, а потом оказаться в нем снова. Вполне возможно, это будет совсем иной Коридор, в ином месте и в другое время, но он будет. Вполне вероятно, что моя история не единична, и у вас тоже есть свой Коридор, и рано или поздно мы встретимся.
До встречи в Коридоре….
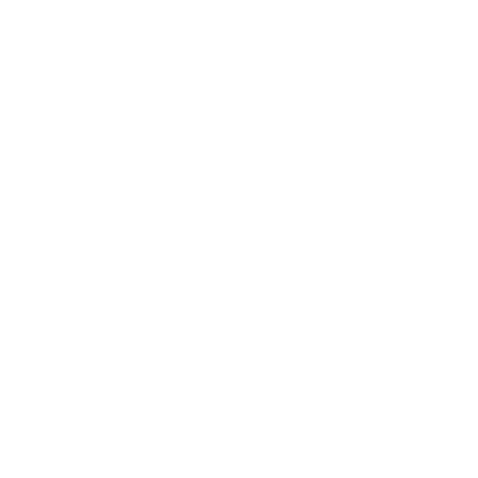
Агния АЙРАПЕТОВА
Я учусь в 10 классе Международной школы Герценовского университета в Санкт-Петербурге. Очень люблю читать, рисовать, особенно мне нравится делать эскизы костюмов для кино и театра, свободно говорю на 3 иностранных языках, увлекаюсь музыкой. Я всегда любила создавать новые образы на бумаге и вкладывать все те чувства, которые сама когда-то испытала. Последние полгода стали для меня временем преображения. Я научилась не просто существовать, а по-настоящему чувствовать – каждым ударом сердца. Этому меня научили мои близкие, научила сама жизнь с ее внезапными поворотами.
Я учусь в 10 классе Международной школы Герценовского университета в Санкт-Петербурге. Очень люблю читать, рисовать, особенно мне нравится делать эскизы костюмов для кино и театра, свободно говорю на 3 иностранных языках, увлекаюсь музыкой. Я всегда любила создавать новые образы на бумаге и вкладывать все те чувства, которые сама когда-то испытала. Последние полгода стали для меня временем преображения. Я научилась не просто существовать, а по-настоящему чувствовать – каждым ударом сердца. Этому меня научили мои близкие, научила сама жизнь с ее внезапными поворотами.
ЛЮБОВЬ
Посвящается все тем, кто обрел любовь,
и неважно какую, она просто была.
Мое чувство впервые так ярко осветилось во мне, около года оно просто тлело, но вот разгорелся настоящий, всепоглощающий огонь. Я окутана в это чувство с головы до ног, как в мягкое пушистое одеяло. Я лежу в нем долго без мыслей и беспокойств. Потом выныриваю на поверхность, оглядываюсь вокруг: все такое новое, другое, непонятное. Все будто живут отдельно.
Вижу его каждый день. Его руки. Его пальцы. Его гладкие, но непослушные волосы, которые мы так старательно пытались приручить. Его глаза. Зеркало сердца. Смотря в них, меня каждый раз подхватывает, сердце прыгает с приглушенной скоростью. В ушах слышится только этот легкий стук. Я смотрю пару секунд, мы встречаемся, разглядывая мельчайшие детали в зрачках. Его голубо-бирюзовые глаза. Они обезоруживают. Я снова падаю, я снова хочу зацепился за что-то, я вижу в них то, что так дорого для меня. После всего, что произошло, я ему верю и доверяю. Возможно, слепо, безосновательно. Но он этого заслуживает. Он будто стал самыми близким человеком, хоть многого не знает. Он другой, не такой, каким его видят окружающие. Он добрый, внимательный, изобретательный, поддерживающий. Он – все то, что есть вокруг. Он может быть всем.
Звонки. Каждый раз я тяну до последнего, до самого последнего гудочка, раздумывая, как больно мне будет нажимать на красную кнопку. Первый разговор был до 3 ночи, я заснула под его голос, он просто что-то говорил, а мне было хорошо. Я тихо пожелала спокойной ночи и провалилась в сон. Так было много раз, и всех их я помню до мельчайшей детали. Во время его звонков я гуляю, качаюсь на качели во дворе, смотрю в потолок или в окно на кухне, медленно вырисовывая его портрет, который, мне кажется, я досконально изучила.
Я могу сесть рядом с ним и облокотиться на его плечо. Сделать это незаметно для себя, ведь мне страшно признать и признаться. Я медленно прикрываю глаза, прислушиваюсь к его дыханию – оно ровное, легкое, невесомое. Я готова так лежать вечность и даже чуть больше. Я с трудом отрываюсь, когда нам уже пора идти. В последнее время слезы, злость, беспокойство, уют, беспечность, страх, трепет забрали меня к себе в омут чувств. Я каждый раз попадаю в него, падаю в дыру, и, как Алиса, путешествую по ней. Поздно ночью иду по улице, слезы со скоростью света наполняют мои глаза и катятся по разгоряченным щекам. Однажды, чтобы не упасть, мне пришлось опереться о столб, я смотрела пустым взглядом на небо, размышляя. Каждый вечер, любой момент наедине с собой я возвращаюсь к нему. Его широкой улыбке. Даже упоминание его имени уже отпечатывает свой след. Ноги подгибаются, только подруга держит меня каждый день. Она многому научила.
Мне было так уютно, когда мы до вечера ходили по магазинам и уговаривали примерить костюмы. Он смотрелся в нем немного нелепо, рукава были длинноваты, он был, как маленький попугайчик. Перед театральным выступлением он мне позвонил, спросил про белую рубашку. Я тайно стащила ее у брата. Так и не смогла отдать ее обратно. Она лежит в ящике под кроватью, пропитанная им и мной, солеными каплями.
Почему никто никогда не сказал, что это тяжело. Ты каждую секунду проживаешь с этим чувством, оно держит тебя, не отпускает, а ты все равно пытаешься вырваться. До последнего. Каждый раз.
Все всё знают. Все уверены. Все решительны в своих суждениях. Каждый сказал об этом, не зная, что происходит по-настоящему. Это еще больше обезоруживает и убивает. Я потеряла его, а вместе с ним себя. У меня не осталось ничего и одновременно все. Мои принципы постепенно улетучиваются и не оставляют ни единого следа, признака того, что они были. Я смеюсь. Внутри пустота, тяжесть, непонимание, а, может, бесконечная любовь, благодарность, признательность.
В один из дней я смогла ему признаться. Подруга так мило и одновременно радостно улыбалась, уговаривая меня признать это. Было трудно. Более нелепого признания придумать невозможно, но оно было моим, искренним, родным. Я сказала прямо перед тем, как он сел в такси. Я не смогла увидеть его лицо, просто опустила голову, чтобы не расплакаться, посмотрев в его нежные глаза. Мы обнялись, мне показалось, что это длилось так долго и быстро одновременно. Он сел в машину, а я быстрым шагом пошла в противоположную сторону. В один момент машина обогнала меня, а он смотрел в окно, я просто встала. Смотрела. Думала. Мечтала. Даже холод меня не мог сдвинуть и заставить двигаться.
Я потеряна. (Он, наверное, тоже.) Что дальше? Туман. Привязанность? Отчаяние? Ненависть? Не знаю, что дальше, но как он мне сказал: «Никогда не жалей ни о чем». Слова, которые впечатались в мою память, не смогу их забыть. Они висят над моим столом в виде цитаты, подписанной в конце загадочной буквой Ф, с датой и временем, когда он их произнес. Они навсегда со мной.
Ты научил меня многому – вере, беспечности, любви и жизни. Я живу так, как когда-то ты показал мне, не осознавая этого.
Посвящается все тем, кто обрел любовь,
и неважно какую, она просто была.
Мое чувство впервые так ярко осветилось во мне, около года оно просто тлело, но вот разгорелся настоящий, всепоглощающий огонь. Я окутана в это чувство с головы до ног, как в мягкое пушистое одеяло. Я лежу в нем долго без мыслей и беспокойств. Потом выныриваю на поверхность, оглядываюсь вокруг: все такое новое, другое, непонятное. Все будто живут отдельно.
Вижу его каждый день. Его руки. Его пальцы. Его гладкие, но непослушные волосы, которые мы так старательно пытались приручить. Его глаза. Зеркало сердца. Смотря в них, меня каждый раз подхватывает, сердце прыгает с приглушенной скоростью. В ушах слышится только этот легкий стук. Я смотрю пару секунд, мы встречаемся, разглядывая мельчайшие детали в зрачках. Его голубо-бирюзовые глаза. Они обезоруживают. Я снова падаю, я снова хочу зацепился за что-то, я вижу в них то, что так дорого для меня. После всего, что произошло, я ему верю и доверяю. Возможно, слепо, безосновательно. Но он этого заслуживает. Он будто стал самыми близким человеком, хоть многого не знает. Он другой, не такой, каким его видят окружающие. Он добрый, внимательный, изобретательный, поддерживающий. Он – все то, что есть вокруг. Он может быть всем.
Звонки. Каждый раз я тяну до последнего, до самого последнего гудочка, раздумывая, как больно мне будет нажимать на красную кнопку. Первый разговор был до 3 ночи, я заснула под его голос, он просто что-то говорил, а мне было хорошо. Я тихо пожелала спокойной ночи и провалилась в сон. Так было много раз, и всех их я помню до мельчайшей детали. Во время его звонков я гуляю, качаюсь на качели во дворе, смотрю в потолок или в окно на кухне, медленно вырисовывая его портрет, который, мне кажется, я досконально изучила.
Я могу сесть рядом с ним и облокотиться на его плечо. Сделать это незаметно для себя, ведь мне страшно признать и признаться. Я медленно прикрываю глаза, прислушиваюсь к его дыханию – оно ровное, легкое, невесомое. Я готова так лежать вечность и даже чуть больше. Я с трудом отрываюсь, когда нам уже пора идти. В последнее время слезы, злость, беспокойство, уют, беспечность, страх, трепет забрали меня к себе в омут чувств. Я каждый раз попадаю в него, падаю в дыру, и, как Алиса, путешествую по ней. Поздно ночью иду по улице, слезы со скоростью света наполняют мои глаза и катятся по разгоряченным щекам. Однажды, чтобы не упасть, мне пришлось опереться о столб, я смотрела пустым взглядом на небо, размышляя. Каждый вечер, любой момент наедине с собой я возвращаюсь к нему. Его широкой улыбке. Даже упоминание его имени уже отпечатывает свой след. Ноги подгибаются, только подруга держит меня каждый день. Она многому научила.
Мне было так уютно, когда мы до вечера ходили по магазинам и уговаривали примерить костюмы. Он смотрелся в нем немного нелепо, рукава были длинноваты, он был, как маленький попугайчик. Перед театральным выступлением он мне позвонил, спросил про белую рубашку. Я тайно стащила ее у брата. Так и не смогла отдать ее обратно. Она лежит в ящике под кроватью, пропитанная им и мной, солеными каплями.
Почему никто никогда не сказал, что это тяжело. Ты каждую секунду проживаешь с этим чувством, оно держит тебя, не отпускает, а ты все равно пытаешься вырваться. До последнего. Каждый раз.
Все всё знают. Все уверены. Все решительны в своих суждениях. Каждый сказал об этом, не зная, что происходит по-настоящему. Это еще больше обезоруживает и убивает. Я потеряла его, а вместе с ним себя. У меня не осталось ничего и одновременно все. Мои принципы постепенно улетучиваются и не оставляют ни единого следа, признака того, что они были. Я смеюсь. Внутри пустота, тяжесть, непонимание, а, может, бесконечная любовь, благодарность, признательность.
В один из дней я смогла ему признаться. Подруга так мило и одновременно радостно улыбалась, уговаривая меня признать это. Было трудно. Более нелепого признания придумать невозможно, но оно было моим, искренним, родным. Я сказала прямо перед тем, как он сел в такси. Я не смогла увидеть его лицо, просто опустила голову, чтобы не расплакаться, посмотрев в его нежные глаза. Мы обнялись, мне показалось, что это длилось так долго и быстро одновременно. Он сел в машину, а я быстрым шагом пошла в противоположную сторону. В один момент машина обогнала меня, а он смотрел в окно, я просто встала. Смотрела. Думала. Мечтала. Даже холод меня не мог сдвинуть и заставить двигаться.
Я потеряна. (Он, наверное, тоже.) Что дальше? Туман. Привязанность? Отчаяние? Ненависть? Не знаю, что дальше, но как он мне сказал: «Никогда не жалей ни о чем». Слова, которые впечатались в мою память, не смогу их забыть. Они висят над моим столом в виде цитаты, подписанной в конце загадочной буквой Ф, с датой и временем, когда он их произнес. Они навсегда со мной.
Ты научил меня многому – вере, беспечности, любви и жизни. Я живу так, как когда-то ты показал мне, не осознавая этого.
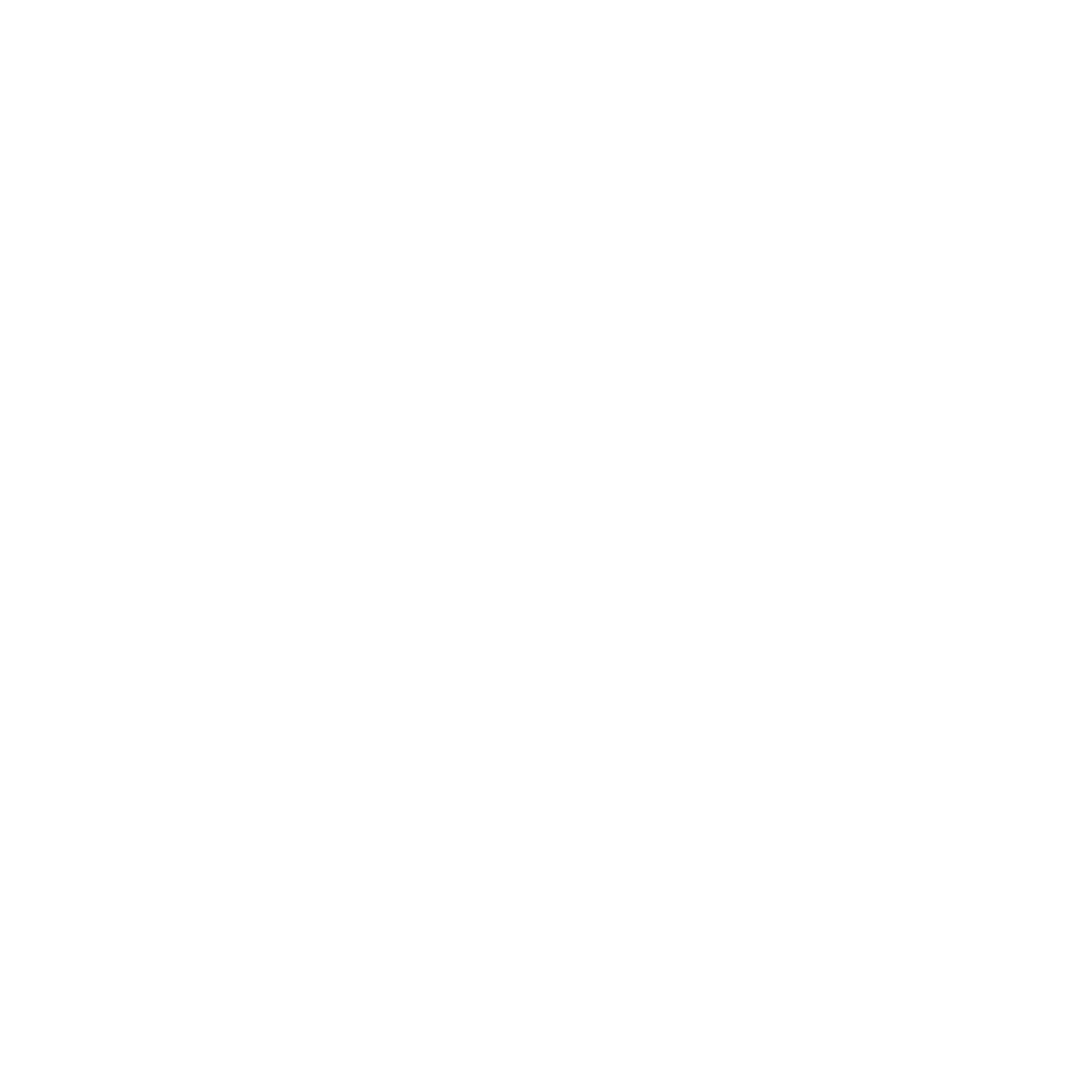
Дарья КРАВЦОВА
С детства любила сочинять истории, но осознанно занимаюсь литературным творчеством только с 2020 года, размещаюсь на различных интернет-площадках. Постоянно участвую в конкурсах, интересуюсь новым и пробую себя в разных жанрах: мистика, эротика, триллер, любовный роман. Для меня главным в произведении является внутренний мир героя, побуждающий его на те или иные поступки, в понимании этого очень помогает психологическое образование. Так сложилось, что я постоянно работаю с людьми, выступаю помощником в решении их проблем и благодаря этому получаю большое количество жизненных историй. Истории совершенно разные: одни грустные, другие веселые, а третьи могут быть просто ужасными. Как и люди, рассказывающие эти истории, могут быть прямой противоположностью друг друга. Именно это является для меня источником постоянного вдохновения.
С детства любила сочинять истории, но осознанно занимаюсь литературным творчеством только с 2020 года, размещаюсь на различных интернет-площадках. Постоянно участвую в конкурсах, интересуюсь новым и пробую себя в разных жанрах: мистика, эротика, триллер, любовный роман. Для меня главным в произведении является внутренний мир героя, побуждающий его на те или иные поступки, в понимании этого очень помогает психологическое образование. Так сложилось, что я постоянно работаю с людьми, выступаю помощником в решении их проблем и благодаря этому получаю большое количество жизненных историй. Истории совершенно разные: одни грустные, другие веселые, а третьи могут быть просто ужасными. Как и люди, рассказывающие эти истории, могут быть прямой противоположностью друг друга. Именно это является для меня источником постоянного вдохновения.
СЕМЕЙНЫЕ БЕСЦЕННОСТИ
Глава 1
Наденька протиснулась на кухню. С тех пор, как в комнате матери начался ремонт, шкаф занял своё временное место в узком коридоре, и теперь на кухню лишний раз никто не заходил.
– У-у-у, – протянула разочаровано Надя, – опять макароны…
– А что ты ожидала, устриц? – бабушка швырнула вилку на стол и села напротив внучки. – Мать без работы два месяца, на что хватает пенсии, то и едим.
– Вот только не надо всё на меня сваливать! – раздался из комнаты голос матери; вчера она поздно пришла со свидания, и сегодня у нее болела голова. – Я ищу работу, скоро найду. Не нравится, чем тебя кормят, иди сама работай!
– Ну про что ты говоришь, Лариска! Пусть девка учится! А там, глядишь, найдет мужика нормального, замуж выйдет.
– Ой, мам, что ты там опять городишь? – выкрикнула из комнаты Лариса. – Какой мужик? Где они, нормальные-то есть сейчас?
– А ты мать не затыкай, – закричала в ответ бабушка, – мать знает, что говорит!
– Мать уже сто лет говорит, только ничего не меняется от этого.
– Так вы же не слушаете меня!
Послышалось бормотание в пустой комнате. Лариса лежала на матрасе, который заменял ей кровать. Женщина копила деньги на ремонт и даже начала его: освободила комнату от мебели, выбросила старинный диван, сняла обои со стен. И лишилась работы. По глупости. Про ее роман с начальником узнала его жена. Вот так: была с мужиком и делом, а стала одинокой и безработной. Мужик внезапно стал верным мужем. А как иначе, если всё имущество записано на ее отца? Ну и Бог с ним.
Стремительно улетали деньги, гораздо быстрее, чем копились в своё время. У дочери то штаны порвались, то из ботинок выросла, то на экскурсию с классом сдавай. Лариса растила дочь одна, точнее, «тянула», как говорила ее мать, бабушка Нади, Светлана Константиновна. Жизнь с мужем была совсем недолгой, они и знакомы-то были всего месяц, когда Лариса узнала о беременности. Пётр хоть и не отказывался жениться, но женатым так и не стал, а продолжал жить, как раньше, беззаботно и свободно. Лариса и не поняла, почему они не дошли до ЗАГСа. Просто в какой-то момент разладилось. Последний раз она видела несостоявшегося мужа лет десять назад, когда Наде вот-вот исполнилось шесть лет. Он был рабочим на заводе, и Лариса здраво расценила, что такой бесперспективный отец её Наденьке не нужен.
Светлана Константиновна смотрела, как внучка ковыряется в тарелке, но не ест, и внутри нее закипала волна негодования.
– В наше время и этому рады были, а вы разбалованы донельзя. Уже и есть не хотят!
– Что плохого в том, чтобы есть вкусное, ба, получить удовольствие? Словно это преступление. Нет, нужно себя постоянно наказывать, терпеть.
– Всё ваше поколение хочет только наслаждаться, получать удовольствие и ничего не делать. Я вас знаю! Сначала нужно что-то сделать, кем-то стать, а потом уже наслаждаться. Когда есть, чем гордиться, тогда и наслаждаться есть за что. А ты вот хоть копейку в дом принесла, чтоб указывать мне, чем тебя кормить? Дай бог, найдешь себе достойного человека, тогда и наслаждайся. А пока сиди и жри, что дают.
Надя попила чай с ложкой малинового варенья и пошла в школу. Не любила она туда ходить, но приходилось. Надя мечтала о взрослой жизни, где не надо будет есть макароны, от вида которых воротит, и не нужно доказывать бабушке, что можно жить в своё удовольствие. Люди называют это «быть счастливой», но Светлане Константиновне такое сочетание незнакомо. Ей вообще не знакомо слово «счастье».
На улице было слякотно и мрачно, как всегда весной. Кое-где еще чернел снег. Разогретый за день, ночью он быстро остывал, покрывался слоем наледи и рано утром протяжно хрустел под ногами. Надя любила ломать на лужах тонкий белый лед. Под ним была пустота, и ломался он очень громко и пронзительно.
Надя заканчивала девятый класс. Учиться оставалось совсем немного, но кем быть, девочка еще не решила. Мама и бабушка говорили идти в медицинский колледж на медсестру или массажиста, но Надежда была слишком брезглива для подобной работы. Бабушка вечно называла ее «принцессой голубых кровей» и говорила, что нужно не зазнаваться, а «знать своё место». Мол, умные будут врачами, а задача Нади – подносить им инструменты.
«Ничего, – говорила бабушка, – на это и ты сгодишься».
Наде не хотелось делать уколы и возиться с пациентами. Она не знала, чего хочет, но то, что она не хочет в медицинский, знала наверняка. Только спорить было бесполезно. Тут как с макаронами: можешь не хотеть, но жрать обязан.
Школа была в центре двора. Надя шла самой дальней дорогой, чтобы было время подумать. Со всех сторон тянулись невесёлые школьники. Надя постояла на крыльце и со звонком вошла в школу. Она всегда так делала. Это ее позиция. Тупые учителя, пугающие ЕГЭ, тупые одноклассники, напуганные ЕГЭ – Наде это было не интересно. Ей всё равно придётся идти в мед. И жрать макароны.
Одинаковые дни тянулись одинаково скучно. Уроки, задачи, буквы в учебнике, разговоры о том, что нужно сейчас решать, как ты хочешь жить и чего хочешь добиться. Словно есть только этот год для принятия решения, а дальше будет развиваться именно тот сценарий, который ты себе выдумал. Как в сказке: загадываешь желания джинну, и он беспрекословно исполняет. Надя интуитивно чувствовала, что происходит не так, иначе ее мать не жила бы с бабушкой и не спала бы на матрасе в комнате без обоев.
– Надька, а ты чего грустишь опять? – спросила на перемене рыжая веснушчатая Аня.
– Настроения нет, – безразлично ответила Надежда.
– У тебя его никогда нет, – заметила Аня. – Сегодня в столовку опять не идёшь?
– Нет, не хочу.
– На диете что ли?
– Ага.
При словах про столовую закрутило в животе. Макароны упали камнем и давили. С тех пор, как маму уволили, Наде перестали давать деньги на питание в школе. Бабушка сказала, что «кушать дома надо, а не эту дрянь столовскую в себя запихивать». Надя понимала, что денег нет, но всё равно было обидно и стыдно. Обидно за то, что все ходили, и только Надя оставалась в стороне. А стыдно за то, что приходилось искать оправдания для Ани, почему она сегодня не пойдёт.
– Тогда я тоже не пойду, – решила Анна и плюхнулась на стул рядом с подругой. – Ты видела сегодня Тимура?
Надя покраснела и оглянулась. Тимур уже давно ей нравится. Если честно признаться, то Надежда в него влюблена. Еще бы: высокий, харизматичный и ужасно красивый молодой человек нравился, наверное, всем без исключения девушкам. И отбоя от поклонниц у него не было. Лишь немногие знали, что Тимур встречается с девушкой, и она на три года его старше. Учится его подруга в медицинском университете. Но при этом Тимур каждый вечер переписывается с Надей, хоть в школе делает вид, что не знает её. Картинки, анекдоты, истории из его жизни – всё Наде интересно, чудесно и удивительно. Он даже записан у нее как Тимурчик.
Тимур тоже будет поступать на врача. Ему иначе нельзя – семейная династия Лантария насчитывает уже три поколения. Его прадед был гениальным хирургом во время войны, даже награды имел. Дед пошел по стопам отца, всю жизнь отработал в местной больнице. Рассказывали, что он людей с того света вытаскивал. Отец – тоже хороший врач, но к нему советуют не попадать без пачки денег в руках.
Тимур стоял, опершись о подоконник, в окружении парней из класса и смеялся. Он бросил быстрый взгляд на Надю и без эмоций отвернулся.
– А ты точно с ним переписываешься? Что-то он ведет себя так, будто тобой совсем не интересуется, – шёпотом спросила Аня.
– Да точно с ним, с его номера приходят сообщения, – зашептала Надежда в ответ. Она открыла мессенджер и показала подруге переписку. Та пролистала сообщения.
– Да, похоже на него. Но тогда я ничего не понимаю! Он что, настолько двуличный?!
– Я не знаю, – щеки Нади раскраснелись. – Пусть и так. Мне всё равно.
– Ага, – рассмеялась Анна, – вижу я, как тебе всё равно. Влюбилась ты в него, дорогуша!
– Ничего не влюбилась! – сдавленно воскликнула Надежда. – Не влюбилась!
– Ладно-ладно, – принялась успокаивать подругу Аня, давясь от смеха, – не влюбилась. Втюрилась! Но это нормально, что ты. Да и он красавчик. Если бы мне Антон не нравился, то я бы в Тимура тоже влюбилась. Уж я себя знаю!
– Анют, что мне делать? Он мне правда нравится, – призналась Надя.
– Я бы перестала с ним переписываться для начала, пока он не начнет общаться вживую, – начала Аня. – А потом, если он решит встретиться с тобой, то пусть свою студентку бросит. А потом бы уже смотрела на его поведение.
Надя испугалась:
– А вдруг он совсем перестанет со мной общаться тогда?
– Ну и ладно! Не такой уж он и красавчик, если что. Дурак с самомнением.
Надя решила воспользоваться советом подруги и перестала отвечать на сообщения Тимура. Он писал два дня. На третий перестал. Надя с трудом сдерживала себя.
– Надька, сходи мусор вынеси! – раздался голос бабушки.
Надя оторвалась от экрана смартфона и протиснулась в коридоре мимо шкафа. Пакет с мусором уже стоял около двери. Надя подняла его. Тонкая струйка тягучей жидкости растянулась до пола.
– Иди скорее, – закричала бабушка, – чего смотришь, стоишь?
– Фу, мерзость какая, – Надя закрыла нос свободной рукой.
– А жрать тебе не мерзость была? Бабушка готовила, старалась, а тебе вынести только. Минутное дело же! – выглянула из комнаты мама.
– Я же не отказываюсь! – возмутилась в ответ Надя. – От пакета воняет реально!
– От пакета ей воняет, гляньте-ка на нее! – всплеснула руками бабушка. – Вот заведешь себе мужика, будет он мусор выносить, а пока сама носи и улыбайся. Мужики грустных не любят.
Надя вздохнула и направилась к мусоропроводу. Едва переступив порог, девочка услышала звук входящего сообщения и бросилась в комнату. Писала Аня. Точнее, она пересылала полученные ранее сообщения Тимура, где он говорил, что переспал с Надей, и что она «фригидная рыба», хоть и называет себя «горячей штучкой»: «Обычная дешёвка, выдающая себя за королеву».
«Надюш, прости, но он это всему классу разослал…»
В душе Надежды всё оборвалось и упало. Как теперь ходить в школу? Они все поверят ему, ведь он красавчик и заводила. А она – серая тихоня, книжная мышь, нищая безотцовщина. Слёзы катились по щекам девочки. Она зарылась лицом в подушку и беззвучно плакала.
В комнату заглянула Лариса:
– Ты что делаешь?
Надя поспешила вытерла нос о подушку:
– Ничего. Лежу.
– Ну тогда спать ложись, раз уроки сделала. Сделала же? Смотри, тебе поступать скоро. У нас нет денег на платное, так что либо бюджет, либо работать отправишься. Я тебя до 11 класса тянуть не буду. Вон, вечерняя школа через дорогу. Поняла?
– Да, – закивала Надя.
Она встала с кровати и принялась расправлять постель, стоя спиной к матери.
– Поняла.
– Я на тебя надеюсь, Надежда.
– Всё будет хорошо, мама. Не переживай, – чуть не плача, ответила Надя. Девочка стянула с себя одежду и спряталась под одеяло.
– Ладно, – мама выключила свет и закрыла дверь в комнату дочери.
Утром Надя еле открыла глаза: половину ночи она проплакала и заснула далеко за полночь. Бабушка звала завтракать. Мамы дома не было. Она ушла в гости к подруге и не вернулась.
– У мамы появилась подруга? – удивилась Надя.
Светлана Константиновна закатила глаза.
– Пусть думает, что мы поверили ей. К очередному хахалю она ускакала. Ой, – вздохнула пенсионерка, – пусть хоть с ним сложится. Нельзя же вот так до старости одной жить.
– Но ты же живёшь, ба? – наивно спросила Надежда.
– Не живу, а маюсь. Всё на мне, все на мне. И мать твоя, и ты. А был бы рядом кто-то, хоть не так сложно было бы. Беречь мужиков нужно, внученька.
– Так ты же сама от дедушки ушла?
– Так я про мужиков, а не про деда твоего. Был бы он стоящим мужчиной, то и жили бы.
– А что с ним не так было?
– Нищий. И ничего не хотел менять. Хотел, чтобы мы в его комнате в общежитии всю жизнь жили. Наверное, сам там и живёт до сих пор. Если жив еще вообще.
Надя доела кашу и вышла во двор, но идти в школу совсем не хотелось. После того, что сделал Тимур, Надежда понимала: ничего хорошего там не ждёт.
Она отправилась в торговый центр «Апельсин», который был в соседнем районе. Надя села за столик на фут-корте и уставилась в телефон. Мимо проходили немногочисленные утренние посетители. Магазины были еще закрыты, работал только продуктовый супермаркет. Вскоре батарея разрядилась, и Надя, бросив телефон на столик, стала осматриваться. Можно было пойти прогуляться вдоль витрин, поглазеть на манекены, представить, как бы она могла выглядеть в брендовой одежде и с модными аксессуарами, которые так не любила мама и называла напрасной тратой денег.
Открылись кафе, магазины подняли металлические ворота. Кругом сновали люди всех возрастов, бегали дети. За соседними столиками сидели семьи и молодые парочки. Запах еды клубился над фуд-кортом. Надя поняла, что голодна, но карманы были пусты.
За стойкой в кафе напротив стоял молодой человек. Он только что отпустил заказ и заскучал. Их взгляды встретились. Надя засмущалась и опустила глаза.
– Костя, собирай всё, что не доел, – звучал настойчивый женский голос из-за соседнего столика. С шумом отодвинув стул, отец семейства стал надевать куртку, замок которой с трудом сошелся на внушительном животе. Хорошенькая мамочка с завитыми обесцвеченными кудрями надевала комбинезон на юркого мальчика лет пяти.
– Стасик, выброси, пожалуйста, мусор, – попросила обладательница кудрей. Мужчина скривился, но собрал подносы, упаковку, салфетки и понес к ящикам для отходов.
Молодой человек вышел из-за стойки и принялся протирать освободившийся столик, то и дело поглядывая на Надю. Она смущенно улыбалась в сторону, покручивая пальчиками чёрный аппарат.
Молодой человек вытер стол и подошёл к Наде.
– Можно вытереть? – спросил он.
– Чистый же, – улыбнулась Надежда в ответ.
– А я всё-таки протру, – парень наклонился над столом и активно заработал тряпкой. Надя подхватила телефон.
– Разрядился? – спросил парень, кивнув на мобильный.
– Да, – пожала плечами Надя.
– Давай поставлю на зарядку? У нас там, за стойкой.
Надя помедлила, но протянула ему телефон.
Он скрылся за стойкой и вскоре вынырнул из-под нее. Подошли клиенты, парень обслужил их, светясь от радости, переглядываясь с Надеждой.
Молодого человека звали Роман. Он был студентом, будущим инженером, а в свободное время подрабатывал в кафе. Надя обменялась телефонами с Ромой и пошла домой, но еще не дойдя до подъезда, получила сообщение от нового знакомого.
– Как дела в школе? – спросила бабушка, встретив внучку на пороге.
– Всё хорошо, – ответила Надя, плохо сдерживая счастливую улыбку.
– Ты решила, куда будешь поступать?
– Нет еще, ба.
– Пора решать, Надька! Ты чего тянешь? Скоро же экзамены.
– Я решу, ба, скоро! – Надя протиснулась мимо шкафа и закрыла за собой дверь в свою комнату.
Весь день она переписывалась с Ромой, а на следующий день вместо школы снова отправилась в «Апельсин». Рома пришел на смену раньше и эти два часа они провели вместе. В 10.00 он открыл кафе. Надя сидела за ближайшим столиком.
– Заказ номер один! – громко обозначил Рома. – Девушка за столиком, заберите свой заказ!
Надя удивлённо поднялась, Рома протянул ей поднос с бургером, картошкой фри и газировкой.
– Это мне? – спросила она.
– Тебе, кушай, – ответил он.
– Но мне нечем заплатить…
– Это тебе от меня, – подмигнул он и тут же отвлёкся на подошедших клиентов.
Надя с аппетитом съела всё, что передал ей Рома. Внутри было тепло, бешено колотилось сердце, и в ногах ощущалась лёгкость. Хотелось петь и танцевать! Один за другим к Роме подходили клиенты. В коротких перерывах между ними Надя подбегала к стойке, и они разговаривали. Она помогала ему убирать со столиков, и дважды он коснулся её руки. А потом снова пришло время возвращаться домой. Надя рассказала Роме, почему не ходит в школу, и Рома убедил ее, что этот случай нельзя спустить Тимуру с рук.
На будущий день у Ромы с утра были лекции, и Надя пошла в школу. Ее провожали долгими взглядами даже ученики других классов, а значит, Тимур растрепал абсолютно всем. Наде хотелось провалиться сквозь землю. Сердце бессильно трепыхалось в груди, когда она подошла к кабинету. Еле живая, она вошла в дверь. Тимур, как обычно, стоял у подоконника в окружении своей свиты. Одноклассники мгновенно зашептались, едва завидев Надю. Тимур усмехнулся, его свита обернулась и оскалилась.
– Пришла, смотри, пришла.
Учительница, женщина старше среднего возраста с короткой стрижкой на бордовых волосах, оторвала голову от заполнения журнала.
– Наденька, как хорошо, что ты пришла. Всё хорошо, тебе нездоровилось?
– Да, Маргарита Александровна, приболела немного, но сейчас всё хорошо.
«Ноги сошлись», – услышала она смешки в спину.
Надя выпрямила спину и развернулась.
– Тимур, – громко сказала она, – надеюсь, в следующий раз у тебя встанет, не то, что тогда.
– Наденька! – у Маргариты Александровны упали очки. – Разве можно такое вслух говорить?
Класс зашумел, засмеялся, загоготал. Тимур напрягся, покраснел, побелел.
– Не было ничего такого! – закричал он.
– Вот именно! – крикнула в ответ Надя. – Не было ничего, не получилось у тебя!
По классу пронёсся гул осуждения.
– Да не было у нас ничего! – вне себя кричал Тимур.
– Вот и я про это, – заключила Надя и села на свое место.
В классе долго еще шепотом обсуждали произошедшее. Тимур кривил лицо и хмурился. Надя же сияла. Она проучила его. У нее получилось.
Глава 2
Рома учился на первом курсе университета и жил в общежитии. С соседом по комнате ему повезло – его поселили с другом. Родом Рома был из соседнего города, но специальность, которая его заинтересовала, была только в этом университете. Он учился на бюджете, бесплатно, и был очень горд этим, ведь конкурс был больше 50 человек на место!
– Очень важно ни от кого не зависеть, – говорил он. – А для этого нужно учиться и заниматься тем, чем хочешь. Я люблю ракеты и вот, буду их проектировать. А ты чем хочешь заниматься?
– Я не знаю, – отвечала Надежда, – но мама и бабушка говорят поступать на медсестру. Что это очень хорошо: я смогу делать уколы, ставить системы и подрабатывать, ходя по квартирам стариков.
– Но если ты этого не хочешь, то зачем это делать? – не унимался Рома.
– Потому что мама и бабушка лучше знают….
– Лучше знают, что ты любишь?
– Лучше знают, как жить. Да я и сама не знаю, чего я хочу и кем хочу быть. Не хочу их расстраивать. Я люблю рисовать, но бабушка говорит, что это не работа.
– Художник всегда может заработать! Если любить рисовать и не лениться, то можно брать заказы на разную тематику. Хоть бы даже стены разукрасить!
– Как у тебя всё легко и просто! – смеялась Наденька, а потом возвращалась домой, где ее ждали бабушка, макароны и уроки. Уроки Надя делала всегда, особенно теперь, когда Рома сказал, что это очень важно. Надежда и сама это знала, но Рома словно помогал ей, вселял уверенность, что всё получится и будет хорошо.
Глава 1
Наденька протиснулась на кухню. С тех пор, как в комнате матери начался ремонт, шкаф занял своё временное место в узком коридоре, и теперь на кухню лишний раз никто не заходил.
– У-у-у, – протянула разочаровано Надя, – опять макароны…
– А что ты ожидала, устриц? – бабушка швырнула вилку на стол и села напротив внучки. – Мать без работы два месяца, на что хватает пенсии, то и едим.
– Вот только не надо всё на меня сваливать! – раздался из комнаты голос матери; вчера она поздно пришла со свидания, и сегодня у нее болела голова. – Я ищу работу, скоро найду. Не нравится, чем тебя кормят, иди сама работай!
– Ну про что ты говоришь, Лариска! Пусть девка учится! А там, глядишь, найдет мужика нормального, замуж выйдет.
– Ой, мам, что ты там опять городишь? – выкрикнула из комнаты Лариса. – Какой мужик? Где они, нормальные-то есть сейчас?
– А ты мать не затыкай, – закричала в ответ бабушка, – мать знает, что говорит!
– Мать уже сто лет говорит, только ничего не меняется от этого.
– Так вы же не слушаете меня!
Послышалось бормотание в пустой комнате. Лариса лежала на матрасе, который заменял ей кровать. Женщина копила деньги на ремонт и даже начала его: освободила комнату от мебели, выбросила старинный диван, сняла обои со стен. И лишилась работы. По глупости. Про ее роман с начальником узнала его жена. Вот так: была с мужиком и делом, а стала одинокой и безработной. Мужик внезапно стал верным мужем. А как иначе, если всё имущество записано на ее отца? Ну и Бог с ним.
Стремительно улетали деньги, гораздо быстрее, чем копились в своё время. У дочери то штаны порвались, то из ботинок выросла, то на экскурсию с классом сдавай. Лариса растила дочь одна, точнее, «тянула», как говорила ее мать, бабушка Нади, Светлана Константиновна. Жизнь с мужем была совсем недолгой, они и знакомы-то были всего месяц, когда Лариса узнала о беременности. Пётр хоть и не отказывался жениться, но женатым так и не стал, а продолжал жить, как раньше, беззаботно и свободно. Лариса и не поняла, почему они не дошли до ЗАГСа. Просто в какой-то момент разладилось. Последний раз она видела несостоявшегося мужа лет десять назад, когда Наде вот-вот исполнилось шесть лет. Он был рабочим на заводе, и Лариса здраво расценила, что такой бесперспективный отец её Наденьке не нужен.
Светлана Константиновна смотрела, как внучка ковыряется в тарелке, но не ест, и внутри нее закипала волна негодования.
– В наше время и этому рады были, а вы разбалованы донельзя. Уже и есть не хотят!
– Что плохого в том, чтобы есть вкусное, ба, получить удовольствие? Словно это преступление. Нет, нужно себя постоянно наказывать, терпеть.
– Всё ваше поколение хочет только наслаждаться, получать удовольствие и ничего не делать. Я вас знаю! Сначала нужно что-то сделать, кем-то стать, а потом уже наслаждаться. Когда есть, чем гордиться, тогда и наслаждаться есть за что. А ты вот хоть копейку в дом принесла, чтоб указывать мне, чем тебя кормить? Дай бог, найдешь себе достойного человека, тогда и наслаждайся. А пока сиди и жри, что дают.
Надя попила чай с ложкой малинового варенья и пошла в школу. Не любила она туда ходить, но приходилось. Надя мечтала о взрослой жизни, где не надо будет есть макароны, от вида которых воротит, и не нужно доказывать бабушке, что можно жить в своё удовольствие. Люди называют это «быть счастливой», но Светлане Константиновне такое сочетание незнакомо. Ей вообще не знакомо слово «счастье».
На улице было слякотно и мрачно, как всегда весной. Кое-где еще чернел снег. Разогретый за день, ночью он быстро остывал, покрывался слоем наледи и рано утром протяжно хрустел под ногами. Надя любила ломать на лужах тонкий белый лед. Под ним была пустота, и ломался он очень громко и пронзительно.
Надя заканчивала девятый класс. Учиться оставалось совсем немного, но кем быть, девочка еще не решила. Мама и бабушка говорили идти в медицинский колледж на медсестру или массажиста, но Надежда была слишком брезглива для подобной работы. Бабушка вечно называла ее «принцессой голубых кровей» и говорила, что нужно не зазнаваться, а «знать своё место». Мол, умные будут врачами, а задача Нади – подносить им инструменты.
«Ничего, – говорила бабушка, – на это и ты сгодишься».
Наде не хотелось делать уколы и возиться с пациентами. Она не знала, чего хочет, но то, что она не хочет в медицинский, знала наверняка. Только спорить было бесполезно. Тут как с макаронами: можешь не хотеть, но жрать обязан.
Школа была в центре двора. Надя шла самой дальней дорогой, чтобы было время подумать. Со всех сторон тянулись невесёлые школьники. Надя постояла на крыльце и со звонком вошла в школу. Она всегда так делала. Это ее позиция. Тупые учителя, пугающие ЕГЭ, тупые одноклассники, напуганные ЕГЭ – Наде это было не интересно. Ей всё равно придётся идти в мед. И жрать макароны.
Одинаковые дни тянулись одинаково скучно. Уроки, задачи, буквы в учебнике, разговоры о том, что нужно сейчас решать, как ты хочешь жить и чего хочешь добиться. Словно есть только этот год для принятия решения, а дальше будет развиваться именно тот сценарий, который ты себе выдумал. Как в сказке: загадываешь желания джинну, и он беспрекословно исполняет. Надя интуитивно чувствовала, что происходит не так, иначе ее мать не жила бы с бабушкой и не спала бы на матрасе в комнате без обоев.
– Надька, а ты чего грустишь опять? – спросила на перемене рыжая веснушчатая Аня.
– Настроения нет, – безразлично ответила Надежда.
– У тебя его никогда нет, – заметила Аня. – Сегодня в столовку опять не идёшь?
– Нет, не хочу.
– На диете что ли?
– Ага.
При словах про столовую закрутило в животе. Макароны упали камнем и давили. С тех пор, как маму уволили, Наде перестали давать деньги на питание в школе. Бабушка сказала, что «кушать дома надо, а не эту дрянь столовскую в себя запихивать». Надя понимала, что денег нет, но всё равно было обидно и стыдно. Обидно за то, что все ходили, и только Надя оставалась в стороне. А стыдно за то, что приходилось искать оправдания для Ани, почему она сегодня не пойдёт.
– Тогда я тоже не пойду, – решила Анна и плюхнулась на стул рядом с подругой. – Ты видела сегодня Тимура?
Надя покраснела и оглянулась. Тимур уже давно ей нравится. Если честно признаться, то Надежда в него влюблена. Еще бы: высокий, харизматичный и ужасно красивый молодой человек нравился, наверное, всем без исключения девушкам. И отбоя от поклонниц у него не было. Лишь немногие знали, что Тимур встречается с девушкой, и она на три года его старше. Учится его подруга в медицинском университете. Но при этом Тимур каждый вечер переписывается с Надей, хоть в школе делает вид, что не знает её. Картинки, анекдоты, истории из его жизни – всё Наде интересно, чудесно и удивительно. Он даже записан у нее как Тимурчик.
Тимур тоже будет поступать на врача. Ему иначе нельзя – семейная династия Лантария насчитывает уже три поколения. Его прадед был гениальным хирургом во время войны, даже награды имел. Дед пошел по стопам отца, всю жизнь отработал в местной больнице. Рассказывали, что он людей с того света вытаскивал. Отец – тоже хороший врач, но к нему советуют не попадать без пачки денег в руках.
Тимур стоял, опершись о подоконник, в окружении парней из класса и смеялся. Он бросил быстрый взгляд на Надю и без эмоций отвернулся.
– А ты точно с ним переписываешься? Что-то он ведет себя так, будто тобой совсем не интересуется, – шёпотом спросила Аня.
– Да точно с ним, с его номера приходят сообщения, – зашептала Надежда в ответ. Она открыла мессенджер и показала подруге переписку. Та пролистала сообщения.
– Да, похоже на него. Но тогда я ничего не понимаю! Он что, настолько двуличный?!
– Я не знаю, – щеки Нади раскраснелись. – Пусть и так. Мне всё равно.
– Ага, – рассмеялась Анна, – вижу я, как тебе всё равно. Влюбилась ты в него, дорогуша!
– Ничего не влюбилась! – сдавленно воскликнула Надежда. – Не влюбилась!
– Ладно-ладно, – принялась успокаивать подругу Аня, давясь от смеха, – не влюбилась. Втюрилась! Но это нормально, что ты. Да и он красавчик. Если бы мне Антон не нравился, то я бы в Тимура тоже влюбилась. Уж я себя знаю!
– Анют, что мне делать? Он мне правда нравится, – призналась Надя.
– Я бы перестала с ним переписываться для начала, пока он не начнет общаться вживую, – начала Аня. – А потом, если он решит встретиться с тобой, то пусть свою студентку бросит. А потом бы уже смотрела на его поведение.
Надя испугалась:
– А вдруг он совсем перестанет со мной общаться тогда?
– Ну и ладно! Не такой уж он и красавчик, если что. Дурак с самомнением.
Надя решила воспользоваться советом подруги и перестала отвечать на сообщения Тимура. Он писал два дня. На третий перестал. Надя с трудом сдерживала себя.
– Надька, сходи мусор вынеси! – раздался голос бабушки.
Надя оторвалась от экрана смартфона и протиснулась в коридоре мимо шкафа. Пакет с мусором уже стоял около двери. Надя подняла его. Тонкая струйка тягучей жидкости растянулась до пола.
– Иди скорее, – закричала бабушка, – чего смотришь, стоишь?
– Фу, мерзость какая, – Надя закрыла нос свободной рукой.
– А жрать тебе не мерзость была? Бабушка готовила, старалась, а тебе вынести только. Минутное дело же! – выглянула из комнаты мама.
– Я же не отказываюсь! – возмутилась в ответ Надя. – От пакета воняет реально!
– От пакета ей воняет, гляньте-ка на нее! – всплеснула руками бабушка. – Вот заведешь себе мужика, будет он мусор выносить, а пока сама носи и улыбайся. Мужики грустных не любят.
Надя вздохнула и направилась к мусоропроводу. Едва переступив порог, девочка услышала звук входящего сообщения и бросилась в комнату. Писала Аня. Точнее, она пересылала полученные ранее сообщения Тимура, где он говорил, что переспал с Надей, и что она «фригидная рыба», хоть и называет себя «горячей штучкой»: «Обычная дешёвка, выдающая себя за королеву».
«Надюш, прости, но он это всему классу разослал…»
В душе Надежды всё оборвалось и упало. Как теперь ходить в школу? Они все поверят ему, ведь он красавчик и заводила. А она – серая тихоня, книжная мышь, нищая безотцовщина. Слёзы катились по щекам девочки. Она зарылась лицом в подушку и беззвучно плакала.
В комнату заглянула Лариса:
– Ты что делаешь?
Надя поспешила вытерла нос о подушку:
– Ничего. Лежу.
– Ну тогда спать ложись, раз уроки сделала. Сделала же? Смотри, тебе поступать скоро. У нас нет денег на платное, так что либо бюджет, либо работать отправишься. Я тебя до 11 класса тянуть не буду. Вон, вечерняя школа через дорогу. Поняла?
– Да, – закивала Надя.
Она встала с кровати и принялась расправлять постель, стоя спиной к матери.
– Поняла.
– Я на тебя надеюсь, Надежда.
– Всё будет хорошо, мама. Не переживай, – чуть не плача, ответила Надя. Девочка стянула с себя одежду и спряталась под одеяло.
– Ладно, – мама выключила свет и закрыла дверь в комнату дочери.
Утром Надя еле открыла глаза: половину ночи она проплакала и заснула далеко за полночь. Бабушка звала завтракать. Мамы дома не было. Она ушла в гости к подруге и не вернулась.
– У мамы появилась подруга? – удивилась Надя.
Светлана Константиновна закатила глаза.
– Пусть думает, что мы поверили ей. К очередному хахалю она ускакала. Ой, – вздохнула пенсионерка, – пусть хоть с ним сложится. Нельзя же вот так до старости одной жить.
– Но ты же живёшь, ба? – наивно спросила Надежда.
– Не живу, а маюсь. Всё на мне, все на мне. И мать твоя, и ты. А был бы рядом кто-то, хоть не так сложно было бы. Беречь мужиков нужно, внученька.
– Так ты же сама от дедушки ушла?
– Так я про мужиков, а не про деда твоего. Был бы он стоящим мужчиной, то и жили бы.
– А что с ним не так было?
– Нищий. И ничего не хотел менять. Хотел, чтобы мы в его комнате в общежитии всю жизнь жили. Наверное, сам там и живёт до сих пор. Если жив еще вообще.
Надя доела кашу и вышла во двор, но идти в школу совсем не хотелось. После того, что сделал Тимур, Надежда понимала: ничего хорошего там не ждёт.
Она отправилась в торговый центр «Апельсин», который был в соседнем районе. Надя села за столик на фут-корте и уставилась в телефон. Мимо проходили немногочисленные утренние посетители. Магазины были еще закрыты, работал только продуктовый супермаркет. Вскоре батарея разрядилась, и Надя, бросив телефон на столик, стала осматриваться. Можно было пойти прогуляться вдоль витрин, поглазеть на манекены, представить, как бы она могла выглядеть в брендовой одежде и с модными аксессуарами, которые так не любила мама и называла напрасной тратой денег.
Открылись кафе, магазины подняли металлические ворота. Кругом сновали люди всех возрастов, бегали дети. За соседними столиками сидели семьи и молодые парочки. Запах еды клубился над фуд-кортом. Надя поняла, что голодна, но карманы были пусты.
За стойкой в кафе напротив стоял молодой человек. Он только что отпустил заказ и заскучал. Их взгляды встретились. Надя засмущалась и опустила глаза.
– Костя, собирай всё, что не доел, – звучал настойчивый женский голос из-за соседнего столика. С шумом отодвинув стул, отец семейства стал надевать куртку, замок которой с трудом сошелся на внушительном животе. Хорошенькая мамочка с завитыми обесцвеченными кудрями надевала комбинезон на юркого мальчика лет пяти.
– Стасик, выброси, пожалуйста, мусор, – попросила обладательница кудрей. Мужчина скривился, но собрал подносы, упаковку, салфетки и понес к ящикам для отходов.
Молодой человек вышел из-за стойки и принялся протирать освободившийся столик, то и дело поглядывая на Надю. Она смущенно улыбалась в сторону, покручивая пальчиками чёрный аппарат.
Молодой человек вытер стол и подошёл к Наде.
– Можно вытереть? – спросил он.
– Чистый же, – улыбнулась Надежда в ответ.
– А я всё-таки протру, – парень наклонился над столом и активно заработал тряпкой. Надя подхватила телефон.
– Разрядился? – спросил парень, кивнув на мобильный.
– Да, – пожала плечами Надя.
– Давай поставлю на зарядку? У нас там, за стойкой.
Надя помедлила, но протянула ему телефон.
Он скрылся за стойкой и вскоре вынырнул из-под нее. Подошли клиенты, парень обслужил их, светясь от радости, переглядываясь с Надеждой.
Молодого человека звали Роман. Он был студентом, будущим инженером, а в свободное время подрабатывал в кафе. Надя обменялась телефонами с Ромой и пошла домой, но еще не дойдя до подъезда, получила сообщение от нового знакомого.
– Как дела в школе? – спросила бабушка, встретив внучку на пороге.
– Всё хорошо, – ответила Надя, плохо сдерживая счастливую улыбку.
– Ты решила, куда будешь поступать?
– Нет еще, ба.
– Пора решать, Надька! Ты чего тянешь? Скоро же экзамены.
– Я решу, ба, скоро! – Надя протиснулась мимо шкафа и закрыла за собой дверь в свою комнату.
Весь день она переписывалась с Ромой, а на следующий день вместо школы снова отправилась в «Апельсин». Рома пришел на смену раньше и эти два часа они провели вместе. В 10.00 он открыл кафе. Надя сидела за ближайшим столиком.
– Заказ номер один! – громко обозначил Рома. – Девушка за столиком, заберите свой заказ!
Надя удивлённо поднялась, Рома протянул ей поднос с бургером, картошкой фри и газировкой.
– Это мне? – спросила она.
– Тебе, кушай, – ответил он.
– Но мне нечем заплатить…
– Это тебе от меня, – подмигнул он и тут же отвлёкся на подошедших клиентов.
Надя с аппетитом съела всё, что передал ей Рома. Внутри было тепло, бешено колотилось сердце, и в ногах ощущалась лёгкость. Хотелось петь и танцевать! Один за другим к Роме подходили клиенты. В коротких перерывах между ними Надя подбегала к стойке, и они разговаривали. Она помогала ему убирать со столиков, и дважды он коснулся её руки. А потом снова пришло время возвращаться домой. Надя рассказала Роме, почему не ходит в школу, и Рома убедил ее, что этот случай нельзя спустить Тимуру с рук.
На будущий день у Ромы с утра были лекции, и Надя пошла в школу. Ее провожали долгими взглядами даже ученики других классов, а значит, Тимур растрепал абсолютно всем. Наде хотелось провалиться сквозь землю. Сердце бессильно трепыхалось в груди, когда она подошла к кабинету. Еле живая, она вошла в дверь. Тимур, как обычно, стоял у подоконника в окружении своей свиты. Одноклассники мгновенно зашептались, едва завидев Надю. Тимур усмехнулся, его свита обернулась и оскалилась.
– Пришла, смотри, пришла.
Учительница, женщина старше среднего возраста с короткой стрижкой на бордовых волосах, оторвала голову от заполнения журнала.
– Наденька, как хорошо, что ты пришла. Всё хорошо, тебе нездоровилось?
– Да, Маргарита Александровна, приболела немного, но сейчас всё хорошо.
«Ноги сошлись», – услышала она смешки в спину.
Надя выпрямила спину и развернулась.
– Тимур, – громко сказала она, – надеюсь, в следующий раз у тебя встанет, не то, что тогда.
– Наденька! – у Маргариты Александровны упали очки. – Разве можно такое вслух говорить?
Класс зашумел, засмеялся, загоготал. Тимур напрягся, покраснел, побелел.
– Не было ничего такого! – закричал он.
– Вот именно! – крикнула в ответ Надя. – Не было ничего, не получилось у тебя!
По классу пронёсся гул осуждения.
– Да не было у нас ничего! – вне себя кричал Тимур.
– Вот и я про это, – заключила Надя и села на свое место.
В классе долго еще шепотом обсуждали произошедшее. Тимур кривил лицо и хмурился. Надя же сияла. Она проучила его. У нее получилось.
Глава 2
Рома учился на первом курсе университета и жил в общежитии. С соседом по комнате ему повезло – его поселили с другом. Родом Рома был из соседнего города, но специальность, которая его заинтересовала, была только в этом университете. Он учился на бюджете, бесплатно, и был очень горд этим, ведь конкурс был больше 50 человек на место!
– Очень важно ни от кого не зависеть, – говорил он. – А для этого нужно учиться и заниматься тем, чем хочешь. Я люблю ракеты и вот, буду их проектировать. А ты чем хочешь заниматься?
– Я не знаю, – отвечала Надежда, – но мама и бабушка говорят поступать на медсестру. Что это очень хорошо: я смогу делать уколы, ставить системы и подрабатывать, ходя по квартирам стариков.
– Но если ты этого не хочешь, то зачем это делать? – не унимался Рома.
– Потому что мама и бабушка лучше знают….
– Лучше знают, что ты любишь?
– Лучше знают, как жить. Да я и сама не знаю, чего я хочу и кем хочу быть. Не хочу их расстраивать. Я люблю рисовать, но бабушка говорит, что это не работа.
– Художник всегда может заработать! Если любить рисовать и не лениться, то можно брать заказы на разную тематику. Хоть бы даже стены разукрасить!
– Как у тебя всё легко и просто! – смеялась Наденька, а потом возвращалась домой, где ее ждали бабушка, макароны и уроки. Уроки Надя делала всегда, особенно теперь, когда Рома сказал, что это очень важно. Надежда и сама это знала, но Рома словно помогал ей, вселял уверенность, что всё получится и будет хорошо.
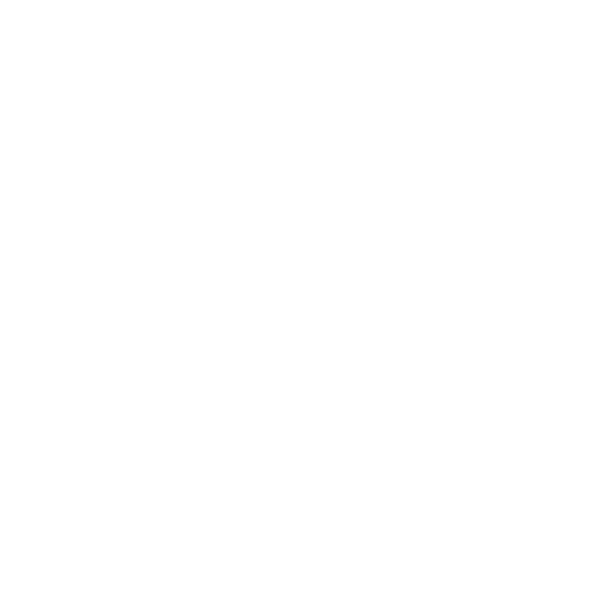
Людмила БУЗАДЖИ
Родилась в г. Энгельс Саратовской области в 2004 году. Сейчас обучается и проживает в Москве. С ранних лет увлекается рисованием, музыкой, литературой. Во время учебы в колледже пробовала себя в публицистических жанрах: публиковалась в периодическом издании «Камертон» Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова и на сайте ClassicalMusicNews.ru Но больше всего любит художественный текст за все его многообразие. В своем творчестве не боится экспериментов и пробует себя в разных жанрах и темах.
Родилась в г. Энгельс Саратовской области в 2004 году. Сейчас обучается и проживает в Москве. С ранних лет увлекается рисованием, музыкой, литературой. Во время учебы в колледже пробовала себя в публицистических жанрах: публиковалась в периодическом издании «Камертон» Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова и на сайте ClassicalMusicNews.ru Но больше всего любит художественный текст за все его многообразие. В своем творчестве не боится экспериментов и пробует себя в разных жанрах и темах.
ПИАНИНО
«Несколько человек могут смотреть на одно и то же, но видеть совершенно разные вещи».
Экхарт Толле
Кто-то выкинул пианино. Сложно сказать, что в нашей повседневной жизни это представляет хоть какое-то событие. Да и что постыдного в желании избавиться от старых вещей, занимающих столь ценные в современном мире квадратные метры, будь это даже пианино?
Черное «Беларусь» фабрики имени Молотова, тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года с закрытым вирбельбанком и изогнутыми ножками, уже неоднократно потертое, с кое-где сошедшей лакировкой, а местами даже отломанным корпусом, сиротливо и неуютно стояло на помойке. Чуть вдали от мусорных баков, словно стесняясь и сильно смущаясь. Казалось бы, какое-то пианино. Да и в целом в антураж тихого старого дворика на Петроградке оно даже вписывалось. Был в этом какой-то шарм, который замечали не только жильцы, но и случайные прохожие.
Марья Степановна из ближайшего подъезда, когда-то заведующая целого цеха, а сейчас шестидесятидвухлетняя пенсионерка с постепенно развивающимся Альцгеймером, которая больше всего гордилась своей рассадой на подоконнике и которая спокойно доживала в одиночестве свой век, каждое утро выносила мусор и лишь качала головой, по-доброму удивляясь.
– Как растет благосостояние трудящихся! Пианино стоит на помойке! А вот мы в наше время такой роскоши себе позволить не могли… Вот я помню, как мне мама покупала пианино, когда я в музыкальную школу пошла. Представляете, Валентина Николаевна? – обращалась старушка к председателю дома.
Валентина Николаевна, пятидесятилетняя тучная женщина, выглядевшая намного старше своих лет из-за ранних мимических морщин вокруг глаз, не вслушиваясь, кивала и кивала, продолжая облагораживать клумбу у парадной и ожидая, когда Марья Степановна вернется к себе. Но временами, когда вокруг никого не наблюдалось, поджимала губы, тоскливо смотрела в сторону помойки и украдкой разглядывала несчастное пианино. Эта картина бередила в памяти Валентины Николаевны не самые радостные события: невольно вспоминала, как она, будучи шестнадцатилетней девочкой, переезжала с родителями из любимого города.
Как их собственное пианино было вытащено на улицу, и как ее мама, учительница музыкальной школы, села за него с идеально ровной осанкой, грациозно открыла крышку и стала играть этюды Ференца Листа, пока грузчики и отец продолжали перетаскивать вещи из квартиры в «Газель». А потом пианино было так же оставлено во дворе, чтобы освободить в машине больше места для личных вещей, сервиза, «стенки» и серванта с разноцветной мозаикой. Через пару лет родители Валентины Николаевны вновь купили пианино, но для нее оно было уже не тем, каким-то чужим.
Дни шли. Пианино все так же стояло на помойке. Его не вывозили и оставляли без внимания. Валентина Николаевна ругалась с управляющей компанией, те – с ней в ответ:
– Да вы что? Смеетесь, что ли? Ищите бывших владельцев… Вы вообще знаете, что вот так просто вынести на улицу и оставить пианино возле мусорных баков нельзя! – с непробиваемым нажимом в голосе каждый день твердила одно и тоже старший администратор управляющей компании. – За такие действия вообще штраф полагается. Ищите бывших владельцев или оплачивайте машину сами.
Валентина Николаевна возмущалась, стирала белым носовым платочком со лба пот, но только разводила руками. Ей что с этим добром теперь прикажите делать? А для жителей двора музыкальный инструмент уже стал привычным и вызывал реакции только у редких прохожих.
– А-ах! Ты посмотри на это! – в один из дней возмущенно воскликнула женщина, которая вместе со своей пятнадцатилетней дочерью сокращала путь через дворы и случайно заметила в углу помойки музыкальный инструмент.
Девушка оторвалась от экрана телефона, нахмурилась, повернулась в сторону пианино и тяжело вздохнула, закатив глаза. Ее мама тем временем продолжала.
– Нет, ты видишь? А ведь точно какая-то бабушка всю жизнь берегла это пианино. Играла, может, на нем. И ведь была женщиной явно очень аристократической, высокой. Скорее всего, умерла эта бабушка, и вот! Посмотри! Ну точно, ее родственники первым делом выбросили вот это пианино, потому что наплевать! Наплевать на то, что вот это бабушкино было какое-то счастье, – закончила свою тираду женщина, и ее голос невольно дрогнул в конце. Девушка на это лишь раздраженно дернула плечом, перебивая:
– Конечно, нет, мам. Это какая-то девчонка ходила в музыкалку. До седьмого класса доучилась, так ее это все достало, что она закончила музыкальную школу и наконец-то выбросила это пианино!.. А ты уже напридумывала графиню какую-то.
Эта парочка ушла так же быстро, как и появилась, продолжая ругаться друг с другом, а пианино продолжило стоять. В редкие минуты к нему подходили любопытные дети. Они рассматривали потертый корпус, находили в этих царапинах времени свои ассоциации. Вот эта царапина на корпусе клавиатуры под «ре» и «ми» малой октавы напоминала юным исследователям одиноко стоящее в поле раскидистое дерево, а скол под второй октавой был похож на НЛО, а сбоку можно было найти мордочку собаки, пушистое облако, причудливые портреты…
И никому из детей, кроме семилетнего Юры Богданова, юного хулигана, живущего в соседнем дворе, не пришло в голову поднять крышку пианино под тяжелый расстроенный гул инструмента и с любопытством заглянуть внутрь. Первое, что бросилось ему в глаза, из-за чего он невольно отшатнулся от неожиданности, был слой паутины на клавишах, в центре которой сидел паук. Тот сразу быстро побежал в сторону мальчика, стоило крышке подняться.
Юра Богданов тряхнул головой, поправил лямку спадающего рюкзака, хмыкнул себе под нос, осторожно оглянулся, убеждаясь, что рядом нет никого из его друзей, и что никто потом не будет шутить, что он испугался какого-то маленького паука. Школьник прищурился, разглядывая уже пожелтевшие от времени, некогда белые клавиши. Мальчик шмыгнул носом, поводил рукой по клавиатуре, то ли от интереса, то ли от скуки понажимал пару клавиш, а потом посмотрел на свои почерневшие от пыли пальцы.
– Мда-а… ничего интересного, – расстроенно протянул он. И только мальчик собрался закрыть обратно крышку, как его взгляд зацепился за одну из черных клавиш четвертой октавы, которая была подозрительно немного сдвинута с места.
Радости и восторгу Юры Богданова не было предела, когда эта черная клавиша без лишних усилий оказалась в его руках. Мальчик повертел ее, тщательно осматривая, потом довольно кивнул, положил трофей в правый карман школьных брюк, на которых, судя по всему, штанины зашивались неоднократно, и промычал себе под нос:
– Вот это тема. Пацаны обзавидуются.
Юра Богданов, довольный, в припрыжку, постоянно поправляя свой рюкзак, скрылся в своем дворе, так и оставив крышку инструмента открытой. Пианино продолжило сиротливо стоять в стороне от мусорных баков, с каждым днем все меньше и меньше привлекая к себе внимание.
В какой-то момент инструмент перестал вызывать какие-либо эмоции у обитателей двора. Пианино слилось с ландшафтом, стало незаметным, пока кто-то не решил сыграть на нем безлунной ночью, напоминая всем о его существовании. Тоскливый ноктюрн Шопена на расстроенном полностью инструменте, с гудящей педалью и кое-где порванными струнами, невольно напоминал скорбную лебединую песнь. Понять, кто был таинственным пианистом, не смогли. Ближайший фонарь к мусорке, как назло, сломался за пару дней до этого.
На следующее утро приехала специальная служба. Не слишком аккуратно группа крепких мужчин, ругаясь и бранясь, погрузила пианино в машину. Инструмент жалобно гудел, словно прощаясь со всеми обитателями двора. Когда они уехали, пустота недалеко от мусорных баков казалась непривычной. Неправильной.
А ведь кто-то просто выкинул пианино…
«Несколько человек могут смотреть на одно и то же, но видеть совершенно разные вещи».
Экхарт Толле
Кто-то выкинул пианино. Сложно сказать, что в нашей повседневной жизни это представляет хоть какое-то событие. Да и что постыдного в желании избавиться от старых вещей, занимающих столь ценные в современном мире квадратные метры, будь это даже пианино?
Черное «Беларусь» фабрики имени Молотова, тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года с закрытым вирбельбанком и изогнутыми ножками, уже неоднократно потертое, с кое-где сошедшей лакировкой, а местами даже отломанным корпусом, сиротливо и неуютно стояло на помойке. Чуть вдали от мусорных баков, словно стесняясь и сильно смущаясь. Казалось бы, какое-то пианино. Да и в целом в антураж тихого старого дворика на Петроградке оно даже вписывалось. Был в этом какой-то шарм, который замечали не только жильцы, но и случайные прохожие.
Марья Степановна из ближайшего подъезда, когда-то заведующая целого цеха, а сейчас шестидесятидвухлетняя пенсионерка с постепенно развивающимся Альцгеймером, которая больше всего гордилась своей рассадой на подоконнике и которая спокойно доживала в одиночестве свой век, каждое утро выносила мусор и лишь качала головой, по-доброму удивляясь.
– Как растет благосостояние трудящихся! Пианино стоит на помойке! А вот мы в наше время такой роскоши себе позволить не могли… Вот я помню, как мне мама покупала пианино, когда я в музыкальную школу пошла. Представляете, Валентина Николаевна? – обращалась старушка к председателю дома.
Валентина Николаевна, пятидесятилетняя тучная женщина, выглядевшая намного старше своих лет из-за ранних мимических морщин вокруг глаз, не вслушиваясь, кивала и кивала, продолжая облагораживать клумбу у парадной и ожидая, когда Марья Степановна вернется к себе. Но временами, когда вокруг никого не наблюдалось, поджимала губы, тоскливо смотрела в сторону помойки и украдкой разглядывала несчастное пианино. Эта картина бередила в памяти Валентины Николаевны не самые радостные события: невольно вспоминала, как она, будучи шестнадцатилетней девочкой, переезжала с родителями из любимого города.
Как их собственное пианино было вытащено на улицу, и как ее мама, учительница музыкальной школы, села за него с идеально ровной осанкой, грациозно открыла крышку и стала играть этюды Ференца Листа, пока грузчики и отец продолжали перетаскивать вещи из квартиры в «Газель». А потом пианино было так же оставлено во дворе, чтобы освободить в машине больше места для личных вещей, сервиза, «стенки» и серванта с разноцветной мозаикой. Через пару лет родители Валентины Николаевны вновь купили пианино, но для нее оно было уже не тем, каким-то чужим.
Дни шли. Пианино все так же стояло на помойке. Его не вывозили и оставляли без внимания. Валентина Николаевна ругалась с управляющей компанией, те – с ней в ответ:
– Да вы что? Смеетесь, что ли? Ищите бывших владельцев… Вы вообще знаете, что вот так просто вынести на улицу и оставить пианино возле мусорных баков нельзя! – с непробиваемым нажимом в голосе каждый день твердила одно и тоже старший администратор управляющей компании. – За такие действия вообще штраф полагается. Ищите бывших владельцев или оплачивайте машину сами.
Валентина Николаевна возмущалась, стирала белым носовым платочком со лба пот, но только разводила руками. Ей что с этим добром теперь прикажите делать? А для жителей двора музыкальный инструмент уже стал привычным и вызывал реакции только у редких прохожих.
– А-ах! Ты посмотри на это! – в один из дней возмущенно воскликнула женщина, которая вместе со своей пятнадцатилетней дочерью сокращала путь через дворы и случайно заметила в углу помойки музыкальный инструмент.
Девушка оторвалась от экрана телефона, нахмурилась, повернулась в сторону пианино и тяжело вздохнула, закатив глаза. Ее мама тем временем продолжала.
– Нет, ты видишь? А ведь точно какая-то бабушка всю жизнь берегла это пианино. Играла, может, на нем. И ведь была женщиной явно очень аристократической, высокой. Скорее всего, умерла эта бабушка, и вот! Посмотри! Ну точно, ее родственники первым делом выбросили вот это пианино, потому что наплевать! Наплевать на то, что вот это бабушкино было какое-то счастье, – закончила свою тираду женщина, и ее голос невольно дрогнул в конце. Девушка на это лишь раздраженно дернула плечом, перебивая:
– Конечно, нет, мам. Это какая-то девчонка ходила в музыкалку. До седьмого класса доучилась, так ее это все достало, что она закончила музыкальную школу и наконец-то выбросила это пианино!.. А ты уже напридумывала графиню какую-то.
Эта парочка ушла так же быстро, как и появилась, продолжая ругаться друг с другом, а пианино продолжило стоять. В редкие минуты к нему подходили любопытные дети. Они рассматривали потертый корпус, находили в этих царапинах времени свои ассоциации. Вот эта царапина на корпусе клавиатуры под «ре» и «ми» малой октавы напоминала юным исследователям одиноко стоящее в поле раскидистое дерево, а скол под второй октавой был похож на НЛО, а сбоку можно было найти мордочку собаки, пушистое облако, причудливые портреты…
И никому из детей, кроме семилетнего Юры Богданова, юного хулигана, живущего в соседнем дворе, не пришло в голову поднять крышку пианино под тяжелый расстроенный гул инструмента и с любопытством заглянуть внутрь. Первое, что бросилось ему в глаза, из-за чего он невольно отшатнулся от неожиданности, был слой паутины на клавишах, в центре которой сидел паук. Тот сразу быстро побежал в сторону мальчика, стоило крышке подняться.
Юра Богданов тряхнул головой, поправил лямку спадающего рюкзака, хмыкнул себе под нос, осторожно оглянулся, убеждаясь, что рядом нет никого из его друзей, и что никто потом не будет шутить, что он испугался какого-то маленького паука. Школьник прищурился, разглядывая уже пожелтевшие от времени, некогда белые клавиши. Мальчик шмыгнул носом, поводил рукой по клавиатуре, то ли от интереса, то ли от скуки понажимал пару клавиш, а потом посмотрел на свои почерневшие от пыли пальцы.
– Мда-а… ничего интересного, – расстроенно протянул он. И только мальчик собрался закрыть обратно крышку, как его взгляд зацепился за одну из черных клавиш четвертой октавы, которая была подозрительно немного сдвинута с места.
Радости и восторгу Юры Богданова не было предела, когда эта черная клавиша без лишних усилий оказалась в его руках. Мальчик повертел ее, тщательно осматривая, потом довольно кивнул, положил трофей в правый карман школьных брюк, на которых, судя по всему, штанины зашивались неоднократно, и промычал себе под нос:
– Вот это тема. Пацаны обзавидуются.
Юра Богданов, довольный, в припрыжку, постоянно поправляя свой рюкзак, скрылся в своем дворе, так и оставив крышку инструмента открытой. Пианино продолжило сиротливо стоять в стороне от мусорных баков, с каждым днем все меньше и меньше привлекая к себе внимание.
В какой-то момент инструмент перестал вызывать какие-либо эмоции у обитателей двора. Пианино слилось с ландшафтом, стало незаметным, пока кто-то не решил сыграть на нем безлунной ночью, напоминая всем о его существовании. Тоскливый ноктюрн Шопена на расстроенном полностью инструменте, с гудящей педалью и кое-где порванными струнами, невольно напоминал скорбную лебединую песнь. Понять, кто был таинственным пианистом, не смогли. Ближайший фонарь к мусорке, как назло, сломался за пару дней до этого.
На следующее утро приехала специальная служба. Не слишком аккуратно группа крепких мужчин, ругаясь и бранясь, погрузила пианино в машину. Инструмент жалобно гудел, словно прощаясь со всеми обитателями двора. Когда они уехали, пустота недалеко от мусорных баков казалась непривычной. Неправильной.
А ведь кто-то просто выкинул пианино…
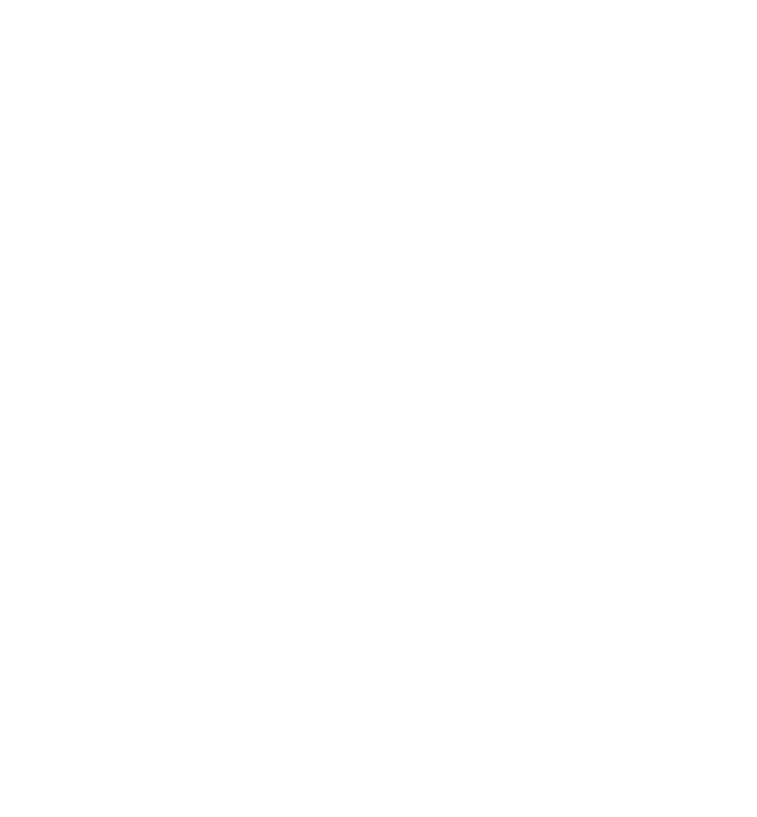
Джемма ПОПОВА
Родилась 17 сентября 1997 года в городе Краснодон в семье шахтёра и домохозяйки. С детства жила в окружении серого индустриального пейзажа. Ещё ребёнком начала создавать свой литературный мир, стремясь добавить красок в повседневность. Прозу начала писать в юном возрасте, но к публикации своих произведений пришла уже во взрослой жизни. Окончила Институт филологии и журналистики Южного федерального университета по профилю «Английский язык». Вдохновляется внутренними переживаниями и внешними переменами, особенно сменой времён года. Старается передать в текстах особенность атмосферы и движение каждого сезона.
Родилась 17 сентября 1997 года в городе Краснодон в семье шахтёра и домохозяйки. С детства жила в окружении серого индустриального пейзажа. Ещё ребёнком начала создавать свой литературный мир, стремясь добавить красок в повседневность. Прозу начала писать в юном возрасте, но к публикации своих произведений пришла уже во взрослой жизни. Окончила Институт филологии и журналистики Южного федерального университета по профилю «Английский язык». Вдохновляется внутренними переживаниями и внешними переменами, особенно сменой времён года. Старается передать в текстах особенность атмосферы и движение каждого сезона.
РЕСНИЧКА
Подходя, давили красивые люди. Я огляделась, стараясь пробиться сквозь слепяще-звенящий дневной свет и всмотреться в приближающиеся лица, бретельки, бабочки, пряди, линии, изгибы, подолы. Однозначно красивые. Как цветы…ну, вот эти, из качественного каучука и какой-то ещё химической магии. Втянув меня своим аккуратненьким ротиком, петербургское поместье Дом П. приступило к перевариванию пищи. И я чувствовала себя соленым огурцом на изящной тарелочке с каперсами. Позвоночник гнулся под тяжестью сумок. Еще бы: камера, штатив, лампа, вспышки, объективы, синхронизаторы, бездыханно повисшее на плечиках платье. Все это тянуло меня к земле в отличие от предвкушения этого дня. Один из распределителей, одетый во все черное и с гарнитурой в ухе, как у нового русского, указал, как пройти к рабочему пространству. Ковровые дорожки глушили шаг, а стены превращали голоса в сотни теннисных шариков, обрушивая их на меня в одночасье. Я была без ракетки.
В комнате для персонала были еще несколько фотографов. У небольшого зеркала стояла блондинка, накручивая на всеми желанный фен сахарную вату волос. Еще несколько человек утонули в своих сумках и кейсах, наводя порядок в инструментах. На спинках серых, неприметных офисных стульев лежали-висели блестящие наряды, черные пиджаки. Я поздоровалась, отпустив приветствие в воздух, а не на поражение, и быстро зашагала к запримеченному свободному стулу. Делая вид, что перевожу дыхание, еще раз осмотрела присутствующих. Коллеги выглядели порядком старше меня. Женщин было больше. Щелкнула дверь, зашуршали новые сумки, раздалось приветствие: знакомый голос – Вадик. Тревога отступила, как через время перестает покалывать нога от неудобного сидения. Не то чтобы друг, не то чтобы просто знакомый, остановившись где-то между товарищем и наставником, став возле меня, освобождая плечи от груза профессионального опыта, он улыбнулся, и мы обнялись зеркально одной и той же рукой. Неуклюже, соприкасаясь лишь поясом верхних конечностей, как делают все наши соотечественники. Он провел аналогичный обряд еще с несколькими коллегами. Прислушиваться к его голосу было проще, как выдергивать из научной темы уже знакомые слова. И я наконец начала различать звучащие вокруг диалоги: восхищения образами, сиянием бокалов и глаз; ценники, валюта; профессиональные термины.
Голова была тяжелая, как будто опыт этого утра был осязаем и наполнил ее собой через глаза и уши. Вдобавок то и дело накатывали волны сна. Будильник выдернул меня из него около четырех часов назад. Я успела собраться, позавтракать, проехать на метро и на такси, но сон продолжал омрачать мое восприятие, делая его каким-то киношным, покадровым. Кажется, когда я только проснулась, я помнила его целиком, а теперь получалось выхватить лишь отдельные сцены или ощущения. Я бегу по двору студенческого общежития. Голая. От стыда накатывает тошнота. Очень хочется укрыться, но заходить в комнату нельзя – там соседки со своими парнями.
Вроде, весна, но не холодно.
Какая-то африканка дергает меня за пряди каре. Она пытается прикрыть ими мою грудь, но волосы слишком коротки.
Я оглядываюсь и вижу, как мама вдалеке машет мне рукой. На ней хлопковые плотные ярко-зеленые колготки и красное платье. Я понимаю, что ей стыдно от такого модного решения. Она стремится домой, чтобы быстрее сменить одежду. Откуда-то берется детская леопардовая шубка. Я прикрываю ей верх, но все, что ниже, остается таким же уязвимым. Не понимаю, почему мама не отдала мне колготки.
Болит голова, а волосы теперь ниже колена.
С каждым новым образом ощущения становятся тягучее, как сироп на конфорке. Мне все тяжелее прорваться через тяжесть их вязкой массы. Иду, но не двигаюсь.
Я тапнула по телефону. До начала мероприятия оставалось еще достаточно времени. Присела на стул, уставилась сквозь спину какой-то девушки, прокручивая в голове эти болезненные картины, как в детстве просматривала с мамой кадры на пленке в фотосалоне. Сейчас я пыталась поймать как можно больше фрагментов, а тогда денег всегда было мало и приходилось выбирать те фото, которые казались маме наиболее памятными. Мы заходили в тусклую проявочную комнату, под слабой лампой мама держала целлюлозную ленту за острые края. Лента сворачивалась улиткой, и ее приходилось то и дело распрямлять, скользя подушечками пальцев по лезвию пленки. Я смирно стояла рядом. В комнате зачем-то были стеклянные витрины с желтыми коробочками Kodak, зелеными Fujifilm, брелоками и прочей пластиковой чушью, появившейся на рынке под шумок глобализации. Под стеклом лежали отделанные серебром и золотом, изогнутые полукругом фоторамки с младенцами и семьями, совсем не похожими на те, что я видела за пределами фотосалона. Время от времени, пару-тройку раз за 36 кадров мама опускала пленку на уровень моих глаз и спрашивала, мол, помню ли я, что это за кадр, и кто на нем. Я вглядывалась в негатив, и когда удавалось что-то рассмотреть, захлебывалась чувством гордости. Долгие 33 оставшихся кадра я просто ждала, разглядывая крейзи фрогов и мишек тедди на железных колечках. Когда ноги начинали гудеть, и я опиралась на витрину, мама бросала на меня взгляд из-под вздернутых бровей. И его одного хватало, чтобы понять, каким ужасным поступком было бы оставить на стекле свои мутные отпечатки. Роста не хватало, чтобы опереться локтями, и я просто продолжала ждать, не смея показать свою усталость. Я знала, что она устает больше. Я видела рынок (ему больше подходило слово базар), на котором она торгует допоздна, видела очереди, в которых она стоит с полуночи до утра, чтобы выкупить батоны колбасы размером с откормленного и начесанного пекинеса. Я видела эти места тогда, когда все взрослые, включая папу, были на работе, а дед напивался до того, что его голос превращался в утиное кряканье. Тогда меня некуда было деть. И эти места пугали меня до чертиков.
Не темные ангары из закопченных металлических листов наводили на меня ужас. Там была лысая тетя Анжела с вечно осипшим мужским голосом, Толян в грязных, окровавленных мясницких нарукавниках. Толян, кажется, никогда не мыл рот мылом, и теперь я благодарна ему за незаменимые эмоциональные эпитеты. Пьяницы приходили с самого утра. Рыча, булькая, мурлыкая, они норовили потрепать меня за щеку и стянуть из-под прилавка пару копеек. Одной как-то удалось щелкнуть меня пальцем по носу, пока мама отпускала покупателя. Я ни разу с тех пор не ощутила подобного запаха, но спустя почти двадцать лет до сих пор могу воспроизвести его в памяти. Там не было пирамиды аромата, лишь зловонная сердцевина, загрубевшая от жизненных шрамов после микроинфарктов. Мама же всегда пахла какими-то утонченными духами. Вряд ли они были дорогими или, как сейчас бы сказали, нишевыми, но от нее всегда пахло. Ее хлопчатые нарукавники, в отличие от Толяновых, хоть уже не слепили своей белизной, но всегда были выстираны и накрахмалены перед каждой сменой. Ее тонкие стрелки, аккуратно подводящие лишь верхнее веко, своей ненавязчивостью кричали на однообразном голубо-зеленом фоне теней. Она всегда говорила громко, но исключительно по делу и каждый раз, когда приходилось ругаться с пыльными торгашками, стояла на своем до последнего, вырывая аргументы своими аккуратно подпиленными овальными ногтями.
Я почувствовала теплую руку на плече своего никогда не согревающегося тела.
– Меня как-то напрягает твой вид, – Вадик дотронулся тыльной стороной ладони до моего лба; бесполезный жест при моем астеническом телосложении.
Он быстро отдернул руку.
– Или ты после гулянки?
– Я просто еще не накрасилась.
– Пожалуйста, быстрее!
Вадик был таким же худым и высоким, как я, и, возможно, наше восприятие мира было схоже, и он правда переживал. Но от резкости теперь его голос казался мне таким же чужим и неприятным, как и у остальных присутствующих. Мне захотелось поддеть его, обратив внимание на то, как он комично взвизгнул.
Я познакомилась с ним через бывшего парня, у которого часто волонтерила ассистентом, чтобы набраться опыта. Парень ушел, опыт остался вместе с Вадиком и парочкой полезных навыков.
Предусмотрительно нанеся дома основу, на месте я быстро покончила с макияжем. Я подколола волосы заколкой: Вадик у меня – за простоту образа. Но я знала, что сервис, в отличие от гостей, не обременен обязанностью быть безукоризненным. Ответив утвердительно на изящные приглашения, гости подтверждали свое согласие на все пропечатанные без засечек пункты. Вадик был ответственен за мое здесь присутствие, и я это ощущала в тяжести его шага и нависшем надо мной звуке классической музыки: он упрямо просачивался через щель под дверью, словно не давая забыть, где я оказалась.
Под роспись вручили гарнитуру. Множество указаний посыпалось с разных сторон, я попыталась найти спокойствие в красивых ракурсах, но взгляд разбивался о неестественность острых скул, болезненность худобы плеч. Камера повисла на шее, потянула ее вперед, превращая меня в согбенную старуху.
Остановившись у одной из бледно-желтых стен, я слилась с ней лицом. Искрами проносились камни и улыбки. Разговоры размазывались по паркету условностями этикета. Я попыталась выровнять спину, но через минуту забывшись, снова потеряла над ней власть. В ухе время от времени хрипели голоса, говорившие, куда идти, что делать, и мне приходилось отщепляться от моего пристанища и вновь становиться видимой.
Все наряды приглашенных дам были выдержаны в стиле начала девятнадцатого века, что совершенно не сочеталось с их гладкими, пухлыми губами и лисьим взглядом. Обязательным условием присутствия было наличие драгоценного браслета на запястье. Вечер устраивал магнат-владелец ювелирной компании. Мои работы были представлены ему шапочно через Вадика – он заручился в моем профессионализме. Я же за себя уже не ручалась. Каждый раз, проходя мимо групп или пар, я слышала одно и то же: названия металлов, набор звуков типа «инкрустирован, аффинаж», которые до этого слышала лишь из криминальной хроники или на Муз.ТВ.
Натягивая свою самую неестественно-широкую улыбку, я стрелялась комплиментами перед очередью вспышек. Длинные ресницы и надежные мужчины защищали взгляды моих моделей от едкого флуоресценция. Играл оркестр, было вручение каких-то статуэток, выход балетной труппы, трапеза за длиннющим столом. Тишина этого ужина скрывала звонкие сплетни, которые зазвучат за высокими заборами.
Солнечный свет рассеивался, а вместе с ним и гости Дома П. Не смотря на превосходящее удобство моих балеток над лодочками прекрасных дам, мне не терпелось их поскорее скинуть. И после некоторой организационной проволочки туфли легли отдохнуть у цитадели замкнутой квартирной двери.
Пощелкав крышками пластиковых контейнеров, запив все впечатления чаем из пакетика, я продолжила сидеть за столом, подогнув под себя ноги и прикрыв глаза. В ноутбуке бубнил научпоп, сверху глухо топали соседские дети. Мне казалось, камера, оставленная в сумке на диване, через стенку источает свет. Она бросала мне вызов, но дедлайн не горел, и я перенесла сумку на вешалку, защищаясь от работы броней пальто.
Я потерла лицо и увидела на пальцах черные разводы. При мысли о горячем душе ноги и руки обмякли, ватная, я побрела в ванную. В зеркале на меня уставились измотанные богемой, измазанные Максимиллианом Факторовичем глаза, и я снова вспомнила аккуратные мамины стрелки, которые так и не размазали ни вонь мясных прилавков, ни ругань алкашей, ни бессонные ночи; осторожно выведенные на тонкой коже век тщательно заточенным карандашом «Ресничка», от которого на языке оставались черные пятна.
Подходя, давили красивые люди. Я огляделась, стараясь пробиться сквозь слепяще-звенящий дневной свет и всмотреться в приближающиеся лица, бретельки, бабочки, пряди, линии, изгибы, подолы. Однозначно красивые. Как цветы…ну, вот эти, из качественного каучука и какой-то ещё химической магии. Втянув меня своим аккуратненьким ротиком, петербургское поместье Дом П. приступило к перевариванию пищи. И я чувствовала себя соленым огурцом на изящной тарелочке с каперсами. Позвоночник гнулся под тяжестью сумок. Еще бы: камера, штатив, лампа, вспышки, объективы, синхронизаторы, бездыханно повисшее на плечиках платье. Все это тянуло меня к земле в отличие от предвкушения этого дня. Один из распределителей, одетый во все черное и с гарнитурой в ухе, как у нового русского, указал, как пройти к рабочему пространству. Ковровые дорожки глушили шаг, а стены превращали голоса в сотни теннисных шариков, обрушивая их на меня в одночасье. Я была без ракетки.
В комнате для персонала были еще несколько фотографов. У небольшого зеркала стояла блондинка, накручивая на всеми желанный фен сахарную вату волос. Еще несколько человек утонули в своих сумках и кейсах, наводя порядок в инструментах. На спинках серых, неприметных офисных стульев лежали-висели блестящие наряды, черные пиджаки. Я поздоровалась, отпустив приветствие в воздух, а не на поражение, и быстро зашагала к запримеченному свободному стулу. Делая вид, что перевожу дыхание, еще раз осмотрела присутствующих. Коллеги выглядели порядком старше меня. Женщин было больше. Щелкнула дверь, зашуршали новые сумки, раздалось приветствие: знакомый голос – Вадик. Тревога отступила, как через время перестает покалывать нога от неудобного сидения. Не то чтобы друг, не то чтобы просто знакомый, остановившись где-то между товарищем и наставником, став возле меня, освобождая плечи от груза профессионального опыта, он улыбнулся, и мы обнялись зеркально одной и той же рукой. Неуклюже, соприкасаясь лишь поясом верхних конечностей, как делают все наши соотечественники. Он провел аналогичный обряд еще с несколькими коллегами. Прислушиваться к его голосу было проще, как выдергивать из научной темы уже знакомые слова. И я наконец начала различать звучащие вокруг диалоги: восхищения образами, сиянием бокалов и глаз; ценники, валюта; профессиональные термины.
Голова была тяжелая, как будто опыт этого утра был осязаем и наполнил ее собой через глаза и уши. Вдобавок то и дело накатывали волны сна. Будильник выдернул меня из него около четырех часов назад. Я успела собраться, позавтракать, проехать на метро и на такси, но сон продолжал омрачать мое восприятие, делая его каким-то киношным, покадровым. Кажется, когда я только проснулась, я помнила его целиком, а теперь получалось выхватить лишь отдельные сцены или ощущения. Я бегу по двору студенческого общежития. Голая. От стыда накатывает тошнота. Очень хочется укрыться, но заходить в комнату нельзя – там соседки со своими парнями.
Вроде, весна, но не холодно.
Какая-то африканка дергает меня за пряди каре. Она пытается прикрыть ими мою грудь, но волосы слишком коротки.
Я оглядываюсь и вижу, как мама вдалеке машет мне рукой. На ней хлопковые плотные ярко-зеленые колготки и красное платье. Я понимаю, что ей стыдно от такого модного решения. Она стремится домой, чтобы быстрее сменить одежду. Откуда-то берется детская леопардовая шубка. Я прикрываю ей верх, но все, что ниже, остается таким же уязвимым. Не понимаю, почему мама не отдала мне колготки.
Болит голова, а волосы теперь ниже колена.
С каждым новым образом ощущения становятся тягучее, как сироп на конфорке. Мне все тяжелее прорваться через тяжесть их вязкой массы. Иду, но не двигаюсь.
Я тапнула по телефону. До начала мероприятия оставалось еще достаточно времени. Присела на стул, уставилась сквозь спину какой-то девушки, прокручивая в голове эти болезненные картины, как в детстве просматривала с мамой кадры на пленке в фотосалоне. Сейчас я пыталась поймать как можно больше фрагментов, а тогда денег всегда было мало и приходилось выбирать те фото, которые казались маме наиболее памятными. Мы заходили в тусклую проявочную комнату, под слабой лампой мама держала целлюлозную ленту за острые края. Лента сворачивалась улиткой, и ее приходилось то и дело распрямлять, скользя подушечками пальцев по лезвию пленки. Я смирно стояла рядом. В комнате зачем-то были стеклянные витрины с желтыми коробочками Kodak, зелеными Fujifilm, брелоками и прочей пластиковой чушью, появившейся на рынке под шумок глобализации. Под стеклом лежали отделанные серебром и золотом, изогнутые полукругом фоторамки с младенцами и семьями, совсем не похожими на те, что я видела за пределами фотосалона. Время от времени, пару-тройку раз за 36 кадров мама опускала пленку на уровень моих глаз и спрашивала, мол, помню ли я, что это за кадр, и кто на нем. Я вглядывалась в негатив, и когда удавалось что-то рассмотреть, захлебывалась чувством гордости. Долгие 33 оставшихся кадра я просто ждала, разглядывая крейзи фрогов и мишек тедди на железных колечках. Когда ноги начинали гудеть, и я опиралась на витрину, мама бросала на меня взгляд из-под вздернутых бровей. И его одного хватало, чтобы понять, каким ужасным поступком было бы оставить на стекле свои мутные отпечатки. Роста не хватало, чтобы опереться локтями, и я просто продолжала ждать, не смея показать свою усталость. Я знала, что она устает больше. Я видела рынок (ему больше подходило слово базар), на котором она торгует допоздна, видела очереди, в которых она стоит с полуночи до утра, чтобы выкупить батоны колбасы размером с откормленного и начесанного пекинеса. Я видела эти места тогда, когда все взрослые, включая папу, были на работе, а дед напивался до того, что его голос превращался в утиное кряканье. Тогда меня некуда было деть. И эти места пугали меня до чертиков.
Не темные ангары из закопченных металлических листов наводили на меня ужас. Там была лысая тетя Анжела с вечно осипшим мужским голосом, Толян в грязных, окровавленных мясницких нарукавниках. Толян, кажется, никогда не мыл рот мылом, и теперь я благодарна ему за незаменимые эмоциональные эпитеты. Пьяницы приходили с самого утра. Рыча, булькая, мурлыкая, они норовили потрепать меня за щеку и стянуть из-под прилавка пару копеек. Одной как-то удалось щелкнуть меня пальцем по носу, пока мама отпускала покупателя. Я ни разу с тех пор не ощутила подобного запаха, но спустя почти двадцать лет до сих пор могу воспроизвести его в памяти. Там не было пирамиды аромата, лишь зловонная сердцевина, загрубевшая от жизненных шрамов после микроинфарктов. Мама же всегда пахла какими-то утонченными духами. Вряд ли они были дорогими или, как сейчас бы сказали, нишевыми, но от нее всегда пахло. Ее хлопчатые нарукавники, в отличие от Толяновых, хоть уже не слепили своей белизной, но всегда были выстираны и накрахмалены перед каждой сменой. Ее тонкие стрелки, аккуратно подводящие лишь верхнее веко, своей ненавязчивостью кричали на однообразном голубо-зеленом фоне теней. Она всегда говорила громко, но исключительно по делу и каждый раз, когда приходилось ругаться с пыльными торгашками, стояла на своем до последнего, вырывая аргументы своими аккуратно подпиленными овальными ногтями.
Я почувствовала теплую руку на плече своего никогда не согревающегося тела.
– Меня как-то напрягает твой вид, – Вадик дотронулся тыльной стороной ладони до моего лба; бесполезный жест при моем астеническом телосложении.
Он быстро отдернул руку.
– Или ты после гулянки?
– Я просто еще не накрасилась.
– Пожалуйста, быстрее!
Вадик был таким же худым и высоким, как я, и, возможно, наше восприятие мира было схоже, и он правда переживал. Но от резкости теперь его голос казался мне таким же чужим и неприятным, как и у остальных присутствующих. Мне захотелось поддеть его, обратив внимание на то, как он комично взвизгнул.
Я познакомилась с ним через бывшего парня, у которого часто волонтерила ассистентом, чтобы набраться опыта. Парень ушел, опыт остался вместе с Вадиком и парочкой полезных навыков.
Предусмотрительно нанеся дома основу, на месте я быстро покончила с макияжем. Я подколола волосы заколкой: Вадик у меня – за простоту образа. Но я знала, что сервис, в отличие от гостей, не обременен обязанностью быть безукоризненным. Ответив утвердительно на изящные приглашения, гости подтверждали свое согласие на все пропечатанные без засечек пункты. Вадик был ответственен за мое здесь присутствие, и я это ощущала в тяжести его шага и нависшем надо мной звуке классической музыки: он упрямо просачивался через щель под дверью, словно не давая забыть, где я оказалась.
Под роспись вручили гарнитуру. Множество указаний посыпалось с разных сторон, я попыталась найти спокойствие в красивых ракурсах, но взгляд разбивался о неестественность острых скул, болезненность худобы плеч. Камера повисла на шее, потянула ее вперед, превращая меня в согбенную старуху.
Остановившись у одной из бледно-желтых стен, я слилась с ней лицом. Искрами проносились камни и улыбки. Разговоры размазывались по паркету условностями этикета. Я попыталась выровнять спину, но через минуту забывшись, снова потеряла над ней власть. В ухе время от времени хрипели голоса, говорившие, куда идти, что делать, и мне приходилось отщепляться от моего пристанища и вновь становиться видимой.
Все наряды приглашенных дам были выдержаны в стиле начала девятнадцатого века, что совершенно не сочеталось с их гладкими, пухлыми губами и лисьим взглядом. Обязательным условием присутствия было наличие драгоценного браслета на запястье. Вечер устраивал магнат-владелец ювелирной компании. Мои работы были представлены ему шапочно через Вадика – он заручился в моем профессионализме. Я же за себя уже не ручалась. Каждый раз, проходя мимо групп или пар, я слышала одно и то же: названия металлов, набор звуков типа «инкрустирован, аффинаж», которые до этого слышала лишь из криминальной хроники или на Муз.ТВ.
Натягивая свою самую неестественно-широкую улыбку, я стрелялась комплиментами перед очередью вспышек. Длинные ресницы и надежные мужчины защищали взгляды моих моделей от едкого флуоресценция. Играл оркестр, было вручение каких-то статуэток, выход балетной труппы, трапеза за длиннющим столом. Тишина этого ужина скрывала звонкие сплетни, которые зазвучат за высокими заборами.
Солнечный свет рассеивался, а вместе с ним и гости Дома П. Не смотря на превосходящее удобство моих балеток над лодочками прекрасных дам, мне не терпелось их поскорее скинуть. И после некоторой организационной проволочки туфли легли отдохнуть у цитадели замкнутой квартирной двери.
Пощелкав крышками пластиковых контейнеров, запив все впечатления чаем из пакетика, я продолжила сидеть за столом, подогнув под себя ноги и прикрыв глаза. В ноутбуке бубнил научпоп, сверху глухо топали соседские дети. Мне казалось, камера, оставленная в сумке на диване, через стенку источает свет. Она бросала мне вызов, но дедлайн не горел, и я перенесла сумку на вешалку, защищаясь от работы броней пальто.
Я потерла лицо и увидела на пальцах черные разводы. При мысли о горячем душе ноги и руки обмякли, ватная, я побрела в ванную. В зеркале на меня уставились измотанные богемой, измазанные Максимиллианом Факторовичем глаза, и я снова вспомнила аккуратные мамины стрелки, которые так и не размазали ни вонь мясных прилавков, ни ругань алкашей, ни бессонные ночи; осторожно выведенные на тонкой коже век тщательно заточенным карандашом «Ресничка», от которого на языке оставались черные пятна.
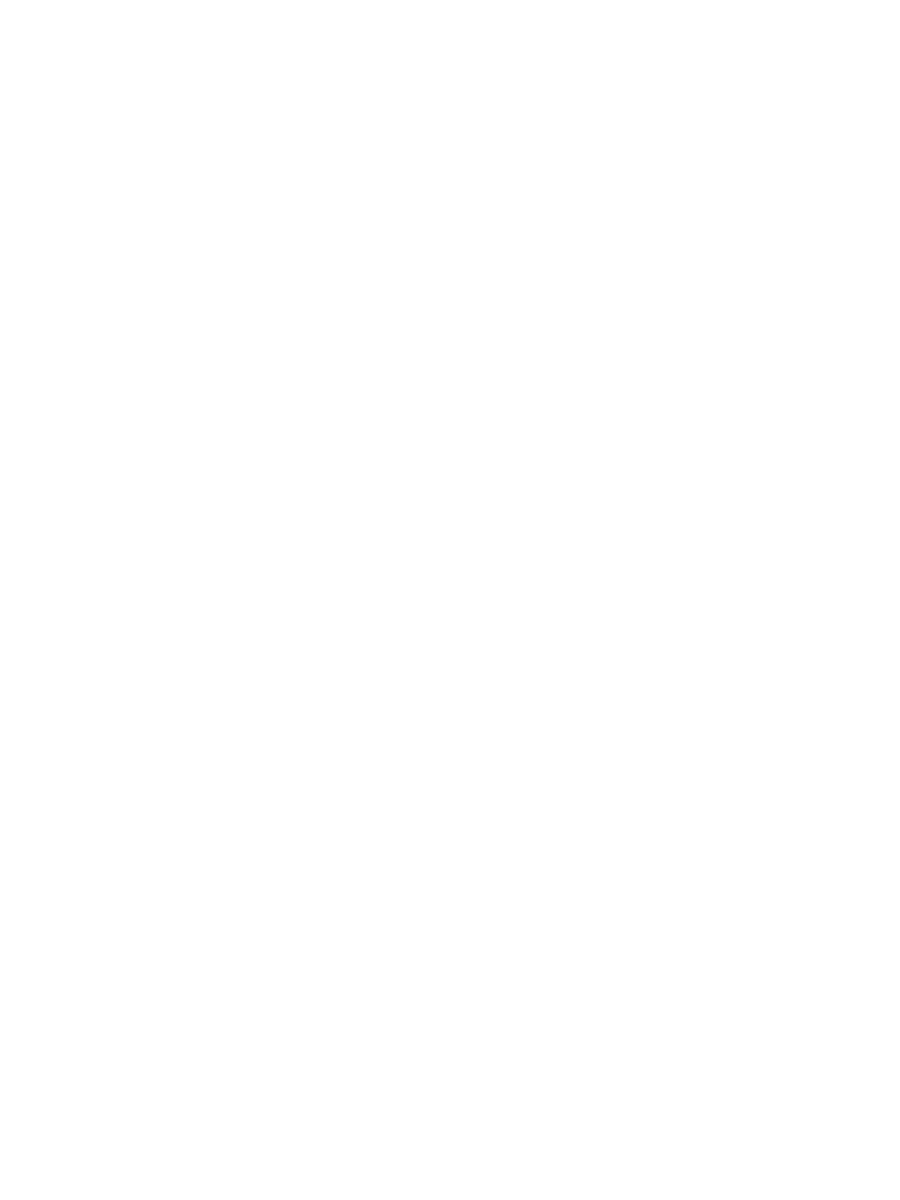
Екатерина ФИЛЮК
Родилась в 1981 г. в городе Шелехов Иркутской области. Закончила Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт экономики и права, Татарский институт содействия бизнесу. Индивидуальный предприниматель, занимается бухгалтерским, юридическим сопровождением малого и среднего бизнеса. Номинирована на премии: «Поэт года 2023», «Поэт года 2024», «Писатель года 2024», «Наследие 2024», «Наследие 2025», «Русь моя 2024», «Русь моя 2025»; вошла в «Антологию русской поэзии 2024», «Антологию русской прозы 2024», «Современные писатели 2024». Награждена общественными наградами: медалью Лермонтова, медалью Пушкина, медалью Есенина, двумя звездами третьего ранга «Наследие 2024». Издан сборник стихов автора под названием «Тетрадь». Произведения автора вошли в сборники: «Дикие лепестки», «Любовь-сокровище души», «Золотая роса», «По снежной тропинке», литературно-художественный журнал «Культурная Россия». Периодически публикуется в интернет-журнале «Женский шарм». Член Российского союза писателей.
Родилась в 1981 г. в городе Шелехов Иркутской области. Закончила Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт экономики и права, Татарский институт содействия бизнесу. Индивидуальный предприниматель, занимается бухгалтерским, юридическим сопровождением малого и среднего бизнеса. Номинирована на премии: «Поэт года 2023», «Поэт года 2024», «Писатель года 2024», «Наследие 2024», «Наследие 2025», «Русь моя 2024», «Русь моя 2025»; вошла в «Антологию русской поэзии 2024», «Антологию русской прозы 2024», «Современные писатели 2024». Награждена общественными наградами: медалью Лермонтова, медалью Пушкина, медалью Есенина, двумя звездами третьего ранга «Наследие 2024». Издан сборник стихов автора под названием «Тетрадь». Произведения автора вошли в сборники: «Дикие лепестки», «Любовь-сокровище души», «Золотая роса», «По снежной тропинке», литературно-художественный журнал «Культурная Россия». Периодически публикуется в интернет-журнале «Женский шарм». Член Российского союза писателей.
ПЫЛЬНАЯ БУРЯ
Он проснулся, как всегда, раньше будильника. Никогда не задерживаясь в постели, мужчина пошел в ванную.
«Никаких лишних мыслей, максимально организовать время», – вот его единственный принцип уже двенадцать лет. Работа и ответственность – это весь распорядок жизни человека, который когда-то был самым ярким и веселым парнем, «душой любой компании».
Никто давно не видел эмоций на его лице – Святослав просто смотрел отчужденно на течение жизни и ничего уже не хотел менять.
Вернувшись в кухню, он сделал привычно крепкий кофе. Отпив небольшой глоток горячего напитка, мужчина снова посмотрел на настенные часы – стрелка двигалась, отсчитывая секунды жизни. Святослав слегка улыбнулся, понимая, что время идет, приближая его к концу мучительной жизни. А главное, сегодня – не выходной.
Единственные дни, которые он ненавидел и боялся, выходные. Время, когда семьи занимаются своими делами, партнеры не выходят на связь, а он остается абсолютно один в своем безумном вакууме тишины. Особенно много боли причиняли праздники: он мог пойти к отцу и братьям, но не находил в себе сил смотреть на счастливые семьи.
Крайнюю боль причиняли собственные племянники; Святослав безумно их любил, но, глядя на них, чувствовал, как его сердце надрывается.
Двенадцать лет – столько времени его боль жила с ним. Рана не затягивалась, ничего не менялось и уже не могло измениться: он потерял возможность доверять.
Святослав был щепетилен до чистоты и не позволял себе пить кофе на рабочем месте. Сегодня у него не было встреч, и он решил не ехать в офис, а доделать все документы в тишине своего кабинета.
Единственной его слабостью был абсолютно черный кот, который пять лет назад в дождь увязался за ним и своей настойчивостью не оставил мужчине шанса.
Нет, это был не дождь, это был чертов ливень, капли которого были настолько огромные, что, казалось, каждая из них при попадании на этот кричащий от ужаса комочек, могла причинить физическую боль. Но настырный малый не сдавался, он бежал в поисках спасения за этим суровым мужчиной, перебирая своими тогда еще крошечными лапками. Как же истошно он кричал, что вдребезги разбитое сердце Святослава дрогнуло, и тот остановился.
Мужчина мог сколько угодно врать себе, но это был самый важный для него поступок за последние годы: он обрел свое единственно слабое место в лице (или морде) мохнатого друга, которого при отсутствии людей в доме ласково называл «сына».
Сына уже терся о ноги своего друга, напоминая, что наступило время кормежки. Святослав, принеся котенка домой, навсегда отучил его от улицы, и на это была только одна причина – мужчина не мог его потерять.
Часто он винил себя за такой эгоизм, но сына, словно чувствуя сомнения хозяина, тут же запрыгивал к нему на колени и засыпал, пробуждая воспоминания о своем спасении и первой ночевке под теплой крышей.
В ту ночь котенок также уснул на коленях спасителя, и Святослав не смог его потревожить, какая-то безумная нежность и ответственность заполнили его сердце, и мужчина сидел всю ночь, охраняя покой бедняги. Утром котенок сладко потянулся, спрыгнул на пол и пошел исследовать дом, а человек при попытке встать не смог этого сделать: ноги затекли, и ему пришлось остаться в кресле, разминая конечности и наблюдая за маленьким наглецом.
Сейчас они неразлучны; когда Святослав работает, кот важно спит рядом, как будто его контроль – неотъемлемая часть правильного выполнения работы.
Накормив своего любимца, мужчина двинулся в сторону кабинета, но что-то его остановило. Кот не придал значения резкой перемене в настроении хозяина и продолжил свой утренний туалет, начищая черную, как смоль шерсть.
Святослав еще раз осмотрел кухню: все на месте, но что-то встревожило его, что-то было нарушено. Тут он перевел свой взгляд на окно и понял: уже должно светать, но за окном – кромешная темнота. Мужчина еще раз посмотрел на время, чтобы убедиться в правильности своих аргументов.
Святослав во всем любил порядок. И даже восход должен начинаться согласно расписанию. Мужчина задумался и подошел ближе к окну. И тут пришло осознание, что это не просто опоздание солнца, это то, что нельзя объяснить и понять. Святослав был религиозен и со вздохом, но без сожаления, тихо произнес: «Вот он и наступил, ад на земле».
Пропал весь смысл в работе и организации дня, пропал просто смысл всего. Святослав, нарушив все свои правила, достал из бара виски и налил себе прямо в кружку из-под кофе, игнорируя специально для таких случаев висящие фужеры, небрежно бросив лед на дно кружки.
Теперь, когда уже нет смысла хвататься за здравый смысл и делать вид, что готов участвовать в общем представлении под названием «Жизнь», он впервые был готов принять свою память.
…Когда он встретил ее, она была, как маленький ангел. Смеялась и порхала. Каждый день с ней был полон приключений и веселья. Как же они любили просто беситься – кататься, играть в снежки и ходить в кино под открытым небом.
Как он любил ее! Зарывался лицом в волосы, прижимал ее так крепко к себе и боялся отпустить хоть на секунду.
Святослав очень любит свою семью, отец и братья – крайне порядочные и добрые люди. Вот только он богат. Отец очень много работал, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, и когда-то это стало их крупным семейным бизнесом.
В двадцать пять лет Святослав еще не понимал, что значит быть богатым или бедным, он был слишком хорошо для этого воспитан, как и не понимал того, что можно быть с человеком ради денег и статуса и играть с ним роль наивной маленькой девочки.
Когда они поженились в лучшем ресторане города, сыграв неприлично дорогую свадьбу, он еще не верил тому, что слышал от своих друзей. Он любил без оглядки. Бросая людей, которые, как ему казалось, наговаривают на его девочку, он делал все только для нее и ради нее.
Отец и браться никогда не вмешивались, а спокойно его во всем поддерживали.
Как в этот день не пришло утро, так и тогда в какой-то момент его веселая малышка исчезла. Крики, истерики, поездки, шмотки – постоянно что-то не устраивало человека, который когда-то радовался простой прогулке по городу в обнимку. Напряжение росло, и Святослав уже перестал радоваться, тень сомнения и тревоги поселилась в его сердце.
Что тогда подсказало ему ехать домой? Он не знает. Картина была страшнее всего. Он просто до сих пор ненавидит этот день. День, когда он застал жену с любовником. Он не знает этого человека, и ему все равно, кто он. Теперь ему даже не важно, почему это все произошло.
Да, он не сдержался. Святослав кричал и выкидывал ее вещи из дома, он ненавидел ее тогда за предательство и презирал день их знакомства.
Мужчина ушел, громко хлопнув дверью напоследок. Но история гибели его души на этом не была закончена.
Он не знает, сколько дней пропил у друга; иногда поднимая телефон, видел там сообщения от нее. Нет, она не извинялась, она винила его в ее измене.
Все возможные современные мужские грехи были ему навешаны в благодарность за все их годы совместной жизни: абьюзер, не уделял внимания и даже не достаточно щедрый.
Тогда он не знал, что делать. Простить и вернуться, ведь все равно любит, и боль от расставания сильнее; или проявить гордость и хотя бы воспитать. Мозг хаотично выдавал варианты, душа горела от боли, но ответа не было, пока она сама все не решила за него.
В наказание за игнорирование ее сообщений она сделала аборт.
Здесь мир Святослава полностью рухнул. Больше всего в жизни он хотел детей. Он даже не стал уточнять, его ли это был ребенок. Ему было достаточно факта, что она убила еще не рожденное дитя, чтобы просто им манипулировать.
Мужчина после сообщения сразу перестал пить, проспался и, проснувшись, отправился прямиком в суд. Сомнений в разводе у него больше не было. Теперь он не любил ее, теперь он просто ненавидел.
С тех пор Святослав не впускал более в свое сердце представительниц женского пола. Да и рассказы его друзей и коллег о своих семейных бедах всегда добавляли ему уверенности в правильности своего решения.
Только семья старшего брата всегда оставалась исключением. Маринка любила Андрея просто так, с чистым горящим сердцем. Когда он на них смотрел, надежда снова в нем зарождалась, но найти свою «Маринку» он так и не успел.
«Значит, наконец мир обмана и предательств, лицемерия и погони за богатством подходит к концу – справедливо», – Святослав уже давно не боялся конца; жить без чувств, приходить в пустую квартиру, не обнимать любимую – вот что причиняло истинную боль.
Он все готов был отдать, чтоб хоть на день вернуться в то беззаботное время, когда он думал, что любовь еще есть, а главное, любовь есть у него. Гулять под луной и весело говорить просто ни о чем, мечтать о совместном будущем, держась за руки.
Все, что он искал в жизни, – любовь. Чувство, никому не нужное в настоящем. Эволюция решила, что и это – лишняя опция.
Налив второй стакан виски, мужчина посмотрел на кота: «Надеюсь, ты найдешь свой кошачий рай. Я уверен, там нет дождя».
Как он устал. Устал жить без чувств, каждый день прислушиваться и искать в себе хоть что-то, отдаленно напоминающее человечность.
Долив себе в фужер еще виски, не переодеваясь, прямо в махровом халате он, ни на миг не задумываясь, вышел в бурю.
Он проснулся, как всегда, раньше будильника. Никогда не задерживаясь в постели, мужчина пошел в ванную.
«Никаких лишних мыслей, максимально организовать время», – вот его единственный принцип уже двенадцать лет. Работа и ответственность – это весь распорядок жизни человека, который когда-то был самым ярким и веселым парнем, «душой любой компании».
Никто давно не видел эмоций на его лице – Святослав просто смотрел отчужденно на течение жизни и ничего уже не хотел менять.
Вернувшись в кухню, он сделал привычно крепкий кофе. Отпив небольшой глоток горячего напитка, мужчина снова посмотрел на настенные часы – стрелка двигалась, отсчитывая секунды жизни. Святослав слегка улыбнулся, понимая, что время идет, приближая его к концу мучительной жизни. А главное, сегодня – не выходной.
Единственные дни, которые он ненавидел и боялся, выходные. Время, когда семьи занимаются своими делами, партнеры не выходят на связь, а он остается абсолютно один в своем безумном вакууме тишины. Особенно много боли причиняли праздники: он мог пойти к отцу и братьям, но не находил в себе сил смотреть на счастливые семьи.
Крайнюю боль причиняли собственные племянники; Святослав безумно их любил, но, глядя на них, чувствовал, как его сердце надрывается.
Двенадцать лет – столько времени его боль жила с ним. Рана не затягивалась, ничего не менялось и уже не могло измениться: он потерял возможность доверять.
Святослав был щепетилен до чистоты и не позволял себе пить кофе на рабочем месте. Сегодня у него не было встреч, и он решил не ехать в офис, а доделать все документы в тишине своего кабинета.
Единственной его слабостью был абсолютно черный кот, который пять лет назад в дождь увязался за ним и своей настойчивостью не оставил мужчине шанса.
Нет, это был не дождь, это был чертов ливень, капли которого были настолько огромные, что, казалось, каждая из них при попадании на этот кричащий от ужаса комочек, могла причинить физическую боль. Но настырный малый не сдавался, он бежал в поисках спасения за этим суровым мужчиной, перебирая своими тогда еще крошечными лапками. Как же истошно он кричал, что вдребезги разбитое сердце Святослава дрогнуло, и тот остановился.
Мужчина мог сколько угодно врать себе, но это был самый важный для него поступок за последние годы: он обрел свое единственно слабое место в лице (или морде) мохнатого друга, которого при отсутствии людей в доме ласково называл «сына».
Сына уже терся о ноги своего друга, напоминая, что наступило время кормежки. Святослав, принеся котенка домой, навсегда отучил его от улицы, и на это была только одна причина – мужчина не мог его потерять.
Часто он винил себя за такой эгоизм, но сына, словно чувствуя сомнения хозяина, тут же запрыгивал к нему на колени и засыпал, пробуждая воспоминания о своем спасении и первой ночевке под теплой крышей.
В ту ночь котенок также уснул на коленях спасителя, и Святослав не смог его потревожить, какая-то безумная нежность и ответственность заполнили его сердце, и мужчина сидел всю ночь, охраняя покой бедняги. Утром котенок сладко потянулся, спрыгнул на пол и пошел исследовать дом, а человек при попытке встать не смог этого сделать: ноги затекли, и ему пришлось остаться в кресле, разминая конечности и наблюдая за маленьким наглецом.
Сейчас они неразлучны; когда Святослав работает, кот важно спит рядом, как будто его контроль – неотъемлемая часть правильного выполнения работы.
Накормив своего любимца, мужчина двинулся в сторону кабинета, но что-то его остановило. Кот не придал значения резкой перемене в настроении хозяина и продолжил свой утренний туалет, начищая черную, как смоль шерсть.
Святослав еще раз осмотрел кухню: все на месте, но что-то встревожило его, что-то было нарушено. Тут он перевел свой взгляд на окно и понял: уже должно светать, но за окном – кромешная темнота. Мужчина еще раз посмотрел на время, чтобы убедиться в правильности своих аргументов.
Святослав во всем любил порядок. И даже восход должен начинаться согласно расписанию. Мужчина задумался и подошел ближе к окну. И тут пришло осознание, что это не просто опоздание солнца, это то, что нельзя объяснить и понять. Святослав был религиозен и со вздохом, но без сожаления, тихо произнес: «Вот он и наступил, ад на земле».
Пропал весь смысл в работе и организации дня, пропал просто смысл всего. Святослав, нарушив все свои правила, достал из бара виски и налил себе прямо в кружку из-под кофе, игнорируя специально для таких случаев висящие фужеры, небрежно бросив лед на дно кружки.
Теперь, когда уже нет смысла хвататься за здравый смысл и делать вид, что готов участвовать в общем представлении под названием «Жизнь», он впервые был готов принять свою память.
…Когда он встретил ее, она была, как маленький ангел. Смеялась и порхала. Каждый день с ней был полон приключений и веселья. Как же они любили просто беситься – кататься, играть в снежки и ходить в кино под открытым небом.
Как он любил ее! Зарывался лицом в волосы, прижимал ее так крепко к себе и боялся отпустить хоть на секунду.
Святослав очень любит свою семью, отец и братья – крайне порядочные и добрые люди. Вот только он богат. Отец очень много работал, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, и когда-то это стало их крупным семейным бизнесом.
В двадцать пять лет Святослав еще не понимал, что значит быть богатым или бедным, он был слишком хорошо для этого воспитан, как и не понимал того, что можно быть с человеком ради денег и статуса и играть с ним роль наивной маленькой девочки.
Когда они поженились в лучшем ресторане города, сыграв неприлично дорогую свадьбу, он еще не верил тому, что слышал от своих друзей. Он любил без оглядки. Бросая людей, которые, как ему казалось, наговаривают на его девочку, он делал все только для нее и ради нее.
Отец и браться никогда не вмешивались, а спокойно его во всем поддерживали.
Как в этот день не пришло утро, так и тогда в какой-то момент его веселая малышка исчезла. Крики, истерики, поездки, шмотки – постоянно что-то не устраивало человека, который когда-то радовался простой прогулке по городу в обнимку. Напряжение росло, и Святослав уже перестал радоваться, тень сомнения и тревоги поселилась в его сердце.
Что тогда подсказало ему ехать домой? Он не знает. Картина была страшнее всего. Он просто до сих пор ненавидит этот день. День, когда он застал жену с любовником. Он не знает этого человека, и ему все равно, кто он. Теперь ему даже не важно, почему это все произошло.
Да, он не сдержался. Святослав кричал и выкидывал ее вещи из дома, он ненавидел ее тогда за предательство и презирал день их знакомства.
Мужчина ушел, громко хлопнув дверью напоследок. Но история гибели его души на этом не была закончена.
Он не знает, сколько дней пропил у друга; иногда поднимая телефон, видел там сообщения от нее. Нет, она не извинялась, она винила его в ее измене.
Все возможные современные мужские грехи были ему навешаны в благодарность за все их годы совместной жизни: абьюзер, не уделял внимания и даже не достаточно щедрый.
Тогда он не знал, что делать. Простить и вернуться, ведь все равно любит, и боль от расставания сильнее; или проявить гордость и хотя бы воспитать. Мозг хаотично выдавал варианты, душа горела от боли, но ответа не было, пока она сама все не решила за него.
В наказание за игнорирование ее сообщений она сделала аборт.
Здесь мир Святослава полностью рухнул. Больше всего в жизни он хотел детей. Он даже не стал уточнять, его ли это был ребенок. Ему было достаточно факта, что она убила еще не рожденное дитя, чтобы просто им манипулировать.
Мужчина после сообщения сразу перестал пить, проспался и, проснувшись, отправился прямиком в суд. Сомнений в разводе у него больше не было. Теперь он не любил ее, теперь он просто ненавидел.
С тех пор Святослав не впускал более в свое сердце представительниц женского пола. Да и рассказы его друзей и коллег о своих семейных бедах всегда добавляли ему уверенности в правильности своего решения.
Только семья старшего брата всегда оставалась исключением. Маринка любила Андрея просто так, с чистым горящим сердцем. Когда он на них смотрел, надежда снова в нем зарождалась, но найти свою «Маринку» он так и не успел.
«Значит, наконец мир обмана и предательств, лицемерия и погони за богатством подходит к концу – справедливо», – Святослав уже давно не боялся конца; жить без чувств, приходить в пустую квартиру, не обнимать любимую – вот что причиняло истинную боль.
Он все готов был отдать, чтоб хоть на день вернуться в то беззаботное время, когда он думал, что любовь еще есть, а главное, любовь есть у него. Гулять под луной и весело говорить просто ни о чем, мечтать о совместном будущем, держась за руки.
Все, что он искал в жизни, – любовь. Чувство, никому не нужное в настоящем. Эволюция решила, что и это – лишняя опция.
Налив второй стакан виски, мужчина посмотрел на кота: «Надеюсь, ты найдешь свой кошачий рай. Я уверен, там нет дождя».
Как он устал. Устал жить без чувств, каждый день прислушиваться и искать в себе хоть что-то, отдаленно напоминающее человечность.
Долив себе в фужер еще виски, не переодеваясь, прямо в махровом халате он, ни на миг не задумываясь, вышел в бурю.
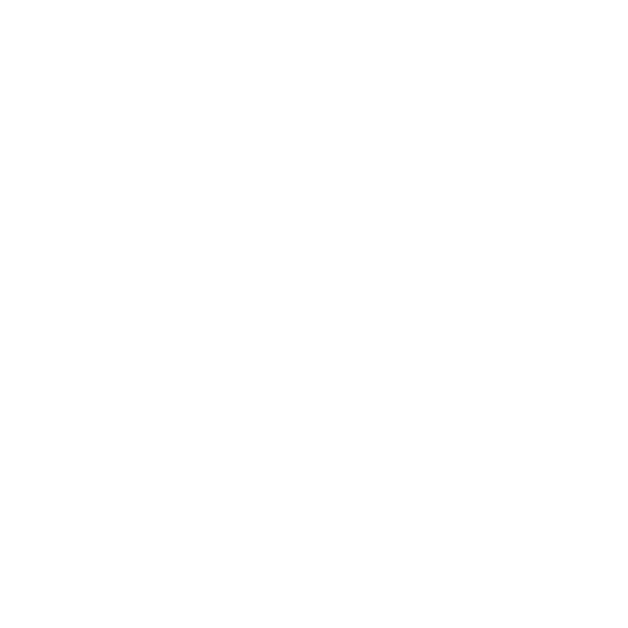
Михаил ШИНКИН
Первые попытки к публикации произведений стал осуществлять в 2020 году. Затем был перерыв. В 2022 году опубликовал небольшой роман и снова взял перерыв. Активно свою деятельность начал с 2024 года с рассказов «Дети Богов: Гнездо ветров»; «Отец червей». Далее в конце 2024 года издал два рассказа «Дети Богов: Тайна Великих Озер»; «Татуировщик смерти». Сам считаю началом творческой карьеры именно цикл рассказов, который начался с «Гнезда ветров», поскольку наконец определился с тематикой и стилем, в которых хочу писать.
Первые попытки к публикации произведений стал осуществлять в 2020 году. Затем был перерыв. В 2022 году опубликовал небольшой роман и снова взял перерыв. Активно свою деятельность начал с 2024 года с рассказов «Дети Богов: Гнездо ветров»; «Отец червей». Далее в конце 2024 года издал два рассказа «Дети Богов: Тайна Великих Озер»; «Татуировщик смерти». Сам считаю началом творческой карьеры именно цикл рассказов, который начался с «Гнезда ветров», поскольку наконец определился с тематикой и стилем, в которых хочу писать.
ПЕРВЫЙ МЕДВЕДЬ
Предисловие
На дворе 2044 год. Произошло многое за двадцать первый век: войны, болезни, активация оккультных сообществ, укрепление власти транснациональных мегакорпораций и развитие технологий. Корпорации, основавшие свою столицу, город-государство Накарам де Кашихар, как правительства различных стран, ведут охоту за технологиями вымершей цивилизации, которые многие называют «Дарами Богов». Но на пути к знанию, власти и богатству встают не только конкурирующие силы, но и существа из Межмирья, оказавшие непосредственное влияние на мифы и легенды всех народов земного шара.
Эта история повествует о злоключениях в небольшом норвежском городке деревенского типа неподалеку от Скандинавских гор. Людям, прошедшим боль и разрушение войны с культистами, спустя годы вновь предстоит столкнуться с новым врагом в виде загадочного убийцы-маньяка.
Действующие лица:
Бьерн. Мужчина, успевший многое повидать за свои года, включая боль и разрушения от войны с оккультными сообществами. Староста небольшой норвежской деревни недалеко от Скандинавских гор.
Хагдаҥ Эхэ. Шаман из Якутии, что познакомился с Бьерном на войне. Служил с ним в одном отряде. Остался жить с новым другом в норвежской деревне, желая через некоторое время вернуться на родину.
Аркадий. Молодой полицейский, работающий с властями Норвегии по обмену опытом. Четко соблюдает все технические инструкции. Имея брата в институте Тайн Мира, понимает, что однажды может столкнуться с чем-то необъяс-
нимым.
Кирилова. Кандидат магических наук, оперативник института Тайн Мира. Ученица Вентидия Ауэрбаха и одна из приближенных заместителя директора – Ерофея. Среди коллег имеет прозвище Поволжская Ведьма.
Ди-1. Он же – сто одиннадцатый. Сам предпочитает величать себя Амбассадором. Воин ТМ, который является результатом совместной работы института Тайн Мира и корпорации ГЕНом. Молчаливый, прямолинейный, любит постоянно напевать себе под нос одну и ту же мелодию.
…Он вспомнил, как еще утром стоял на пороге уютного деревянного домика, вдыхая свежий хвойный воздух, пропитанный влагой и ароматом земли. Тихий скрип двери приглашал его вернуться обратно в тепло родного дома, где потрескивал огонь в очаге, а на столе ждал горячий кофе, приготовленный женой. За окном вместо экрана телевизора открывался вид на бескрайние просторы норвежских лесов, простирающихся к востоку от величественных Скандинавских гор, вершины которых терялись в облаках, окрашенных в розовые и оранжевые тона восходящего солнца.
Бьерн был высоким, мощным мужчиной, которому скоро предстояло праздновать свое шестидесятилетие. Его жесткое узколобое лицо выдавало в нем человека, который успел на своем веку повстречать множество опасностей. Его потухшие табачного цвета глаза взирали на чащу, через чью непроглядную крону вековых сосен с трудом пробивались лучи полуденного солнца, вырисовывая на лесной подстилке из мха и опавших листьев причудливые узоры из света и тени.
Ранее подобные вылазки в лес представлялись Бьерну путешествием в мир первозданной природы, где тишину нарушает лишь шелест листьев и нежный шепот древних тайн – пение птиц, мелодично разливающееся в тишине, и редкий шорох из глубины чащи, вызывающий волну неопределенности и легкого страха, которые легко побеждались его винтовкой Крага-Йоргенсена, что передавалась из поколения в поколение, начиная с прадеда. Кроме семейного талисмана Бьерн носил с собой табельный пистолет-пулемет HK MP5 2034 года выпуска и пистолет HK P30.
Аромат хвои вперемешку с привкусом сосны ласкал его нюх; нежный ветерок, играя на его непричесанных волосах, шептал тайны древнего леса, пробуждая благоговение перед его мощью и красотой. Но в этом спокойствии скрывалась тревога: свежие следы – маленькие, почти незаметные отпечатки лап. Дикая природа, могучие хищники – рыси, призрачно скользящие среди деревьев, волки – полновластные хозяева этих мест, не любили людей, что так жадно сужали их ареал обитания. Но их Бьерн не боялся, поскольку за время своей службы в армии успел поучаствовать не только в государственных конфликтах, но и также в охоте на различные оккультные сообщества, что словно грибы после дождя возникали последние полтора десятилетия во всем мире то тут, то там. Там он узнал ужасы, что способен творить человек, но никак не зверь.
Бьерн продолжал углубляться в лес, следуя едва заметной тропой, чтобы ощутить спокойствие перед надвигающейся скрытой угрозой. Он не раз в детстве ходил этими тропами и знал их как свои пять пальцев. Магия и загадки этих лесов всегда готовили его к встрече с неведомым хищником. Он обычно знал, как это будет: внезапно глубокая тишина прервется хрустом ветки – тонким, словно звон стекла; сердце замрет, после чего ритм начнет резко учащаться, чувства обострятся, через мгновение станет понятен источник звука, и хищник, кем бы он ни являлся, падет к ногам Бьерна от точного выстрела винтовки. Так обычно и происходило.
У старосты деревни хватало забот, особенно учитывая то, что он исполнял и роль местного полицейского. Односельчане прозвали его Ярлом, своим боевым вождем. И во многом благодаря заслугам перед государством ему позволили сочетать эти две должности, что требовало от него немалых усилий. Поэтому он подумывал уйти на заслуженную пенсию и передать свою работу уже другим людям, что по отдельности станут исполнять свои обязанности. Его сыновья уже давно покинули деревню и явно не захотят возвращаться обратно, чтобы принять от него бремя правления над менее, чем тысячью человек.
Воздух стал тяжелым, густым от предчувствия чего-то неестественного. Казалось, что сама природа не принимает того, кто прячется во тьме леса. Высокие сосны стоят, как молчаливые стражи, но некоторые из них, переломанные пополам, пали на другие деревья, больше не способные защищать обитателей от невидимого врага.
В глубине леса среди деревьев высилась тень, но она медленно растеклась при приближении человека, словно призрак. Быстрый взмах темного хвоста, скрывавшегося за стволом могучей ели. Животное? Возможно, лось, пробирающийся сквозь подлесок? Или гордый олень, осторожно ступающий по опавшей листве? А может, всего лишь игра ветра, срывающего листья с ветвей? Неизвестность усиливала тревогу, напоминая о хрупкости и непредсказуемости дикой природы, о ее силе и превосходстве над человеком.
Самым опасным хищником в этих местах являлся бурый медведь. Он царствовал в этих лесах безраздельно, правда, уступая своему более мощному брату – белому медведю, чей ареал обитания начинался всего через полтора десятка километров от этих лесов. И Бьерн знал, что он и есть альфа-хищник этих лесов, поскольку его имя и обозначает «медведь». Но не сегодня.
Ощущение непрерывного противостояния тишины и страха, спокойствия и угрозы сопровождало его на всем пути. Ему казалось, что шепот ветра в кронах деревьев умоляет повернуть обратно, заботясь о нем.
Все это началось недавно. Когда в их деревню пришел католицизм. Официально до этого они исповедовали лютеранство, но по сложившемуся стечению обстоятельств последних десятилетий односельчане Бьерна давно не посещали церковь. Это произошло с того момента, когда оккультное сообщество, терзавшее Норвегию, дотянуло свои когти и до их городка. Оно пропагандировало веру в неких иных, непонятных существ, не имеющих отношения ни к Раю, ни к Аду. Именно они разрушили церковь, что было их не первым неблагочестивым деянием.
Тогда жители и стали отмечать у себя тревожащие сновидения. Гнетущие требования вроде внутреннего голоса согласиться с оккультистами, просто принять иное мировоззрение. Более ничего.
Эти события совпали с возвращением Бьерна. Он вошел на порог своего дома с новым другом Хагдаҥом Эхэ, с которым они познакомились на войне. Эхэ уже на тот момент был весьма престарелым мужчиной невысокого роста, худощавого телосложения, но не обделенным внушительной силой. Как он оказался на войне с оккультными сообществами, он не раскрывал, однако ему и его друзьям всегда сопутствовала удача. Из их отряда погибло всего несколько новобранцев и то при несчастных случаях.
И при его появлении в поселении оккультное сообщество сразу же пропало. Он с радостью поселился недалеко от дома старосты деревни, обнеся свое жилище не забором, а целым садом из шиповника. Также Эхэ стал ответственен за новую диковинку в деревне, из-за чего городок приобрел небольшую туристическую популярность: он разводил оленей.
Бьерн стер со своего лица счастливую улыбку при воспоминании, как провел не один вечер, слушая рассказы о мифологии Якутии из уст шамана. Тропа вела дальше, через густой ельник. Под ногами стелился мягкий ковер из мха, приглушающий шаги. В воздухе витал расслабляющий аромат прелой листвы и хвои, смешанный с запахом влажной земли. Мужчина заметил свежие следы: большие лапы, отпечатки когтей, глубоко впившихся в землю. Он понял, что за ним наблюдают. Вновь тень впереди растворилась, как бы приглашая зайти дальше в непроглядную чащу.
Оленье стадо шамана насчитывало более десяти особей, но почему-то не увеличивалось. Ежегодно Бьерн не мог в нем досчитаться нескольких особей. Эхэ сетовал на местный климат, который его питомцы плохо переносили.
Но наступил этот год. И католическая церковь воздвигла свою часовню в деревне. Новоприбывший церемониарий сразу же невзлюбил Эхэ, утверждая, что шаману не место в этих землях. В немилость попал также и Бьерн, поскольку, как выяснилось, священник до смерти боялся медведей и всего, что о них хоть как-то напоминает. Менее, чем за месяц церемониарий собрал все необходимые документы и акты, после чего Эхэ депортировали обратно на его родину.
В последнюю памятную ночь друг Бьерна признался ему, что он сам собирался через несколько лет вернуться домой и увидеть внуков, но хотел сделать все это правильно. Теперь же он переживает за односельчан Бьерна. Но без подробностей обещал, что знает, что нужно делать.
Закат окрасил кроны деревьев в багряные и золотые тона, но внизу, под густыми пологими ветвями царили непроглядные сумерки. Даже звериные следы казались зловещими: глубокие отпечатки копыт, возможно, выбитые в паническом бегстве, соседствовали с едва заметными тропинками. У старой сосны – глубокая, идеально ровная вмятина в земле, неестественно правильный круг, словно выровненный неведомой силой. Никаких когтей, лап, только этот пугающий круг. Давящая тишина прерывалась лишь изредка чириканьем синиц, вялой трелью соловья и глухим шепотом, словно дыханием самой земли. Запах хвои смешивался с запахом прелой листвы, но в нем чувствовался привкус железа и земли – неузнаваемый, но жутко знакомый, вызывающий воспоминания о прошлом, о времени военных операций против оккультных сообществ. Эта полу-тишина не умиротворяла, а пугала, предвещая скрытую угрозу, таящуюся в каждой тени, каждом шелесте. Даже мягкий мох казался холодным и липким, словно он впивался в ноги, не отпуская.
Это произошло в июне, когда нашли зверски убитого церемониария, сидевшего в слепой пародии на встречу первых лучей солнца на ступеньках родного дома. Глаза на его ладонях смотрели ровно на восток и слезились при виде восхода; огромная дыра зияла у него в груди, и не хватало лишь сердца.
Тогда Бьерну прибыла помощь из центрального округа. Полицейские прочесали всю округу в поисках преступника. Дроны неустанно прочесывали небеса. Но все тщетно. Через две недели подобное повторилось. Пожилую семью нашли мертвой дома, мирно лежавшей в постели. Дверь их жилища оказалась аккуратно открыта, словно родным ключом. Все ничего, если бы не вновь окровавленная отвратная сцена. И вновь у полиции не вышло ничего найти.
Норвежский лес поглотила непроглядная тьма, ночная стужа сковала его ледяными объятиями. Давящая тишина, влажная и тяжелая, словно предсмертный вздох, висела в напряженном ожидании. Зловещий круг, выровненный неведомой силой (след чудовища), казался еще более угрожающим под покровом ночи. Он словно преследовал Бьерна, появляясь, как насмешка, под каждой сосной. Вдалеке раздался вой волка – протяжный и одинокий, который резко оборвался, словно его заставили замолчать.
Каждые две недели погибали люди, а у полиции не выходило найти маньяка. Дошло до того, что сотрудники правопорядка прочесали окрестные леса, но получили за это лишь необъяснимую поломку дронов без видимых повреждений или какого-либо внутреннего сбоя от ЭМИ-излучения. Тогда люди и стали поговаривать о гигантском хищнике, что раз в две недели является в городок. Камеры ночью засняли огромную косматую тушу, что спокойно передвигалась по улице.
Окончательным аккордом в этой истории стала группа путешественников, найденных на подъезде к деревне в своем внедорожнике. Вдобавок к глазам, обращенным на восток, их головы были замещены на головы лошадей, а их же искаженные ужасом черепа висели гирляндой на бампере автомобиля. Тогда большая часть жителей, включая жену старосты, и покинула деревню. Остались всего две семьи, что наотрез отказались покидать насиженные места.
Видя, что его коллеги никак не могут помочь, Бьерн решил вспомнить былое и лично расправиться с неведомым убийцей. И как-то он нашел следы, ведущие в лес. Мужчина понял, что это издевательское приглашение. Никого не уведомив, он направился в чащу, проигнорировав практически все современные варианты вооружения, решив бросить вызов своему противнику старыми дедовскими методами.
Листва казалась неестественно темной и неподвижной; каждый шорох, треск ветки, шелест листьев заставлял сердце бешено колотиться. Даже мягкий мох под ногами ощущался холодным и липким, словно цеплялся за подошвы, не желая отпускать. В глубине леса, куда не проникал лунный свет, скрывалось нечто большее, чем просто опасность – нечто древнее, окутанное вековыми тайнами, нечто, заставлявшее сердце замирать от ужаса, а дыхание сбиваться в груди. Только тревожный шепот, усиливающийся до глухого гула земли, напоминал, что эта тишина – не просто тишина, а тишина ожидания, тишина страха, предвестница невообразимого ужаса.
В этот раз тень не исчезла. Огромный косматый одноглазый гигант сидел среди деревьев. Его звериная ухмылка унижала Бьерна. Мужчина принял вызов. Но сколько бы он ни перезаряжал свою винтовку, гигант даже не шелохнулся. Когда закончились все патроны в прадедовском и табельном оружии, Бьерн со слезами на глазах достал охотничий нож, и только тогда гигант соизволил встать.
Он вальяжной походкой неохотно подошел к нему, позволив нанести себе несколько колотых ран, после чего ловко схватил Бьерна за туловище и поднял к лицу. Одинокий желтый глаз посредине лба заставил мужчину биться в истерике в последние секунды своей жизни.
Аркадий в настоящее время находился в Норвегии по программе обмена опытом сотрудников. Родом из Воронежской области, пройдя там достойную полицейскую и военную подготовку, он удостоился чести работать по обмену опыта с Норвегией. Эта практика стала особенно популярна после возникновения множества оккультных и террористических сообществ – для конвертирования знаний различных стран для борьбы с этой новой угрозой.
Аркадию недавно перевалило за двадцать три, из-за чего он часто ощущал наставнический тон со стороны его коллег. Его молодое, начисто выбритое румяное лицо только еще больше придавало ему сходство с юнцом; большие молочно-голубые глаза также играли ему на руку, скрывая его острый ум от других людей. На левой руке он носил золотой браслет с гессонитом медово-желтого цвета, в остальном его обмундирование никак не отличалось от полицейской формы.
По прибытии в деревню он сразу же занял дом старосты, что пропал неделю назад. После этого разместил на крыше дома зарядную станцию для дронов и прикрыл ее брезентом на случай дождя, оставив достаточный вход для дронов под таким углом, чтобы вода не попадала на оборудование. Включив на своих помощниках протокол постоянного патрулирования деревни без выхода из ее локации, он занялся проверкой камер.
Лег спать Аркадий лишь под утро через день. Он убедился в том, что все камеры работают исправно, а те, что по той или иной причине оказались неподвижны, заменил на более лабильные аналоги. Установив у дома мини-турель полицейского образца с пистолетом-пулеметом HK MP5 2034 года выпуска и две турели на главной улице с обеих сторон, ведущих к жилищу старосты и шамана, он, не раздеваясь, лег спать.
Ночь прошла спокойно. Наутро Аркадий обошел оставшихся жителей городка, что за прошедшие два дня заглянули к нему лишь мельком, не особо доверяя чужеземцу. Лишь один из них сносно говорил по-английски, с другими Аркадий решил воспользоваться онлайн-переводчиком на русский язык, что растянуло их опрос еще на несколько дней, до пятницы.
Собрав все необходимые сведения, а также записи с видеокамер и спутников, в субботу Аркадий занялся анализом полученных данных. Из обрывочных осколков информации он смог получить примерный образ убийцы – огромного косматого зверя. Вполне возможно, что проблем существовало две: истинный убийца, что по какой-то причине начал терроризировать деревню, возможно, один из бывшего оккультного сообщества, и зверь, которого могло привлечь оленье стадо.
Аркадий всегда спал чутко, в полусне слыша сигналы от троицы дронов и турелей. И в ночь на воскресенье один из сигналов пропал. Аркадий сразу же проснулся. Проверив пистолет под подушкой и на бедре, он взял пистолет-пулемет со стула, который стоял рядом. Парень вышел на улицу.
Хотя сейчас на дворе только начинался август, несмотря на общее потепление климата, ночь у Скандинавских гор все же заставила накинуть на полицейскую форму еще овершот, что по форме и расцветке не сильно отличался от полевой сорочки.
Ночь оказалась непривычно ясной для Аркадия. Все же он привык к беззвездным небесам большого города. Легкий холодок заставил его поправить воротник овершота; на датчике, надетом на правой руке, исчезли показатели еще одного дрона. Поведя глазом, Аркадий увидел, что турель, охраняющая его дом, стояла отключенная, а форточки насмешливо распахнуты, хотя он их и не открывал. Глубокие, идеально ровные вмятины на бетоне вели его на дорогу, издевательски предлагая встретить гостя.
Аркадий вышел на центр дороги и огляделся. Еще один дрон замолчал на датчике. Обернувшись, молодой человек увидел труп мужчины, который с ним до этого наиболее долго разговаривал. Тело сидело на холодной земле, покрываемое муравьями, язык был засунут в глазницы, сами же глаза с ладоней устремлены на восток, в груди зияла огромная дыра, сердце пропало. Аркадий сумел сдержать рвотные позывы и приступ ужаса, но все же поспешил отвести взгляд от несчастного. С северо-запада, со стороны Скандинавских гор сидел он: огромный, не менее четырех метров величиной, косматый зверь. С его лба одинокий желтый глаз ехидно взирал на человека. Существо играло отключенной турелью, как мячиком, после чего бросило в дом старосты, пробив крышу.
Аркадий понимал, что никто из оставшихся жителей ему не поможет, даже если видит нарушителя. Его противник поднялся на задние ноги и стал приближаться к молодому человеку, язвительно позволяя выпустить в себя весь боезапас.
Аркадий понял, что у него осталась лишь одна работающая турель, что стояла на востоке деревни, охраняя дом шамана. Понимая, что его противник желает вдоволь наиграться со своей добычей, молодой человек показал существу язык и бросился бежать, чем вызвал бурю негодования у косматого.
Наверное, такой спринт Аркадию никогда не доводилось делать, и сейчас он ощущал, как ему мешает овершот, поскольку начал в нем быстро потеть. Размашистые шаги от него не отставали, ощущалось, как с каждым опусканием лапы на землю зверь становился на пару десятков сантиметров ближе к своей жертве, не догоняя ее, позволяя выдохнуться и пропитаться адреналином.
Совершив внушительный круг по деревне, Аркадий оказался всего в нескольких метрах от входа на лужайку дома шамана, еще в десятке метров от него стояла турель, которая сразу же отреагировала на существо, выскочившее из-за угла, перекрывая молодому человеку какое-либо движение влево, вынуждая прыгнуть вправо, прямо в колючие кусты шиповника, чтобы избежать огня турели.
Оцарапав руки и ладони, Аркадий забился под куст, перевернувшись на спину и наблюдая за тем, как зверь нехотя разделался с турелью, после чего приблизился к нему. Отползти на локтях дальше молодой человек не мог, поскольку заросли шиповника становились слишком густыми и уже впивались своими колючками в затылок.
Зверь поднес свою одноглазую медвежью морду к кустарнику, давая прочувствовать Аркадию весь гнилостный аромат из своего рта. Большой желтый глаз раздраженно смотрел на него. Затем существо совершило круг почета вокруг изгороди: первый, второй… десятый… двадцатый. Все это время молодой человек не двигался, боясь высунуть из кустарника хотя бы миллиметр ботинка, понимая, что почему-то зверь боится этой живой изгороди.
Наконец, проронив что-то похожее на самую грязную ругань на неизвестном языке, существо ушло в сторону Скандинавских гор. Аркадий провел еще час в шиповнике, дождавшись восхода.
Он не простыл просто чудом, скорее всего, из-за адреналина, что так и бушевал в нем, заставив сейчас невольно дрожать. Первое, что он сделал – добыл себе среди пустых домов спальный мешок и положил его в относительно удобном месте в кустарнике. Затем явился к жителям с требованием покинуть их дома. Но те, не послушавшись ранее родных полицейских, весьма грубо отказали сотруднику по безопасности, работающему у них по обмену.
Просить помощи у полиции из центрального округа Аркадий не видел смысла, поскольку его сюда послали разобраться с неизвестной проблемой. К тому же зверь каким-то образом смог миновать все камеры наблюдения, и по факту, кроме слов молодого человека, ничто не подтверждало его присутствия здесь. К тому же Аркадий имел твердую уверенность, что существо вернется через две недели, поскольку один из жителей заявил ему, что у него погибла корова минувшей ночью. Аркадий не видел смысла смотреть на тушу животного, поскольку понимал, что, скорее всего, она зверски изувечена, а испытывать свой желудок на прочность он не хотел. На следующий день оставшиеся жители похоронили своего односельчанина на погосте.
Осознав то, что имеет дело не с маньяком, не со зверем, не даже с машиной, по какой-то причине облаченной в шкуру зверя, Аркадий вспомнил, к кому может обратиться. Совершив лишь один звонок, он стал ждать, проводя дни и ночи в хижине шамана, в любой момент готовясь нырнуть в спасительный шиповник.
И он делал это не зря. Видимо, раздосадованный неудачей зверь не раз являлся в деревню по ночам и один раз – днем. Все разы он садился напротив хижины шамана, всего в полуметре от зарослей шиповника, колюче глядя на Аркадия, давая понять, что готов ждать.
Молодой человек понял, что существо далеко не глупо. Оно могло позволить себе и дневные перемещения и не имело какой-либо зависимости от времени суток. Ночные вылазки из леса, скорее всего, служили вынужденной мерой, поскольку зверь понимал, что так его гораздо сложней вычислить с помощью человеческих технологий.
Настал день, когда на горизонте показался не зверь, а военный грузовик. Он ехал по бетону, разгоняя колесами пыль, которую не подметали неделями. Машина остановилась прямо у дома шамана. С водительского сиденья вышла женщина.
Девушка молодого возраста, но явно старше Аркадия и выше него. Ее холодное лицо воинственного ангела одновременно привлекало и отталкивало, глаза орехового цвета имели четко выраженную «корону» вокруг них, напоминая взгляд дикой кошки, пепельно-седые волосы опускались ей до плеч. Одетая в строгие брюки и темно-бежевый плащ-пыльник, достающий ей практически до щиколоток, она вызвала невольное желание преклонить перед собой колено. На шее висело несколько амулетов неизвестных для Аркадия культур, а на одежде в некоторых местах виднелись прошитые знаки силы.
Аркадий представился ей согласно уставу, на что девушка ответила кратко:
– Кандидат магических наук Кирилова.
– Я звонил брату, – все еще не мог оторвать глаз от девушки Аркадий.
– Ваш брат не оперативник. У него бумажная работа, – пренебрежительно заметила Кирилова. – Здесь требуются другие умения.
Она постучала ладонью по железному кузову, и Аркадий услышал, как кто-то стал шевелиться, кто-то громоздкий и опасный.
Приближение чудовища предвещал глухой звук сабатонов, заставивший треснуть бетон после того, как пассажир спрыгнул на него из кузова. Монстр в сложно сконструированных доспехах, намного выше Аркадия, не имевший уязвимых мест, в накидке неопределенного цвета в стиле пиксельной одежды, прикрепленной к левому нагруднику, что немного размывала скрытую под ней часть тела, вышел из-за машины. На наплечнике воина института Тайн Мира красовался перечеркнутый кодовый номер – Ди-1.
Аркадий впервые видел подобную конструкцию экзоскелета, хотя повидал уже как отечественные образцы, так и зарубежные. Обычно они делились на легкие и тяжелые, но в данном случае перед ним стоял человек в чем-то среднем, в чем-то незнакомом. Гигант встал за Кириловой, обдав ее из фильтров шлема тонкими струями ледяного пара, отчего она устало закатила глаза, но не шелохнулась.
– Мы все подготовим. Вас попрошу пока отдохнуть, – девушка вернула внимание Аркадия от воина ТМ к себе.
День прошел в подготовках. Кирилова исписала всю улицу знаками удержания и подавления, после чего немного закрасила их краской, чтобы они не особо бросались в глаза, но не потеряли всю силу. Воин ТМ перенес все необходимое оборудование в дом к шаману. Одно из помещений Кирилова забрала себе.
Аркадий очень неловко чувствовал себя рядом с гигантом. Периодически ему казалось, что из-под шлема воина ТМ доносится какое-то неразборчивое бормотание. Но желания найти причины для разговора с исполином Аркадий так и не нашел.
После этого у него состоялась беседа с Кириловой, что тщательно выяснила у него всю известную историю, начиная с первых заявлений в полицию.
– Значит, вы утверждаете, что это медведь? – попивая яблочный сок, уточнила девушка.
– Да, под четыре метра ростом, одноглазый, словно циклоп, спокойно передвигающийся на двух ногах, как человек, – кивнул головой Аркадий.
– Перед приездом сюда я изучила местную флору и фауну. Медведи действительно здесь обитают, правда, белым стало последнее время не особо хорошо из-за потепления, поэтому стали появляться гролары, – девушка прервалась, заметив, что парень не особо понимает ее погружение в жизнь медведей. – Перейдем от прелюдии к действию. В этих местах нет каких-либо указаний на мифические проявления медведей – созданий из Межмирья.
Аркадий предпочел молчать и слушать дальше, прекрасно понимая, что эта краткая лекция о принципах работы института мало что ему даст. Ему казалось, что девушке просто хочется блеснуть своими знаниями перед незнающим.
– Встречаются, конечно, медведи-оборотни, но это явно не наш случай. Вы говорите, что тот священник до смерти боялся медведей, и именно после его смерти появился хищник?
– Да, так написано в докладе, – Аркадий посмотрел на стопку документов, лежавших между ним и девушкой.
– Еще я изучила дело Бьерна и Хагдаҥа Эхэ, их путь до войны, во время и после. И обнаружила, что Эхэ – действительно шаман своего народа. И он умел бороться с плохими существами и даже подчинять их. Именно это так хорошо спасало их отряд во время столкновений с культистами. Проблема в том, что кое-кто с его родины постоянно преследовал его, тревожил его, клялся высосать его душу, из-за чего Эхэ приходилось откупаться. По всей видимости, не просто так он развел оленье стадо. Я только не понимаю, почему оно не ушло за ним обратно, когда Эхэ отсюда выдворили, – девушка задумалась. – Возможно, оно поняло, что здесь с ним не умеют бороться, и договориться никто не сможет, именно поэтому оно и не последовало за шаманом. Нет четкой конкуренции. А Эхэ, возможно, об этом толком не знает, поскольку довести стадо оленей до дома – дело непростое. Вполне возможно, он даже оставил жертву, думая, что ее примет существо, но на деле тушу уже сожрали крысы.
– Так кто наш враг? – не вытерпел Аркадий.
Девушка смерила его строгим взглядом, вызвав желание молчать дальше:
– По всей видимости, мы имеем дело с Абасом. Это существо питается энергией своих жертв и принимает облик того, чего больше всего боится человек. Оно обычно ростом до четырех-пяти метров. Одной из отличительных особенностей является наличие одного глаза, как у циклопа. Правда, бывают однорукие и одноногие. По всей видимости, из-за того, что оно увидело прямого противника в священнике…
– Церемониарии, – не сдержался Аркадий, с удовольствием наблюдая за тем, как девушка недовольно сморщила носик и продолжила:
– Он и стал первой жертвой. А поскольку он боялся медведя, а медведь является здесь доминирующим хищником, существо и решило остаться в виде человекоподобного медведя. Сердца у жертв пропали, как средоточие жизненной энергии, а глаза оставались устремленными на восток в качестве воспоминания о доме; у всех есть та или иная привязанность к некоторым местам. Также остальная жестокость – скорее попытка обозначить свою территорию. В общем, я знаю, что мы будем делать, – девушка встала из-за стола и направилась к двери.
– Могу задать один вопрос? – окликнул ее Аркадий.
– Быстро, – разрешила Кирилова.
– А как давно вы кандидат?
– Две недели, – непонятно, с улыбкой или с недовольной гримасой, ответила девушка.
Предисловие
На дворе 2044 год. Произошло многое за двадцать первый век: войны, болезни, активация оккультных сообществ, укрепление власти транснациональных мегакорпораций и развитие технологий. Корпорации, основавшие свою столицу, город-государство Накарам де Кашихар, как правительства различных стран, ведут охоту за технологиями вымершей цивилизации, которые многие называют «Дарами Богов». Но на пути к знанию, власти и богатству встают не только конкурирующие силы, но и существа из Межмирья, оказавшие непосредственное влияние на мифы и легенды всех народов земного шара.
Эта история повествует о злоключениях в небольшом норвежском городке деревенского типа неподалеку от Скандинавских гор. Людям, прошедшим боль и разрушение войны с культистами, спустя годы вновь предстоит столкнуться с новым врагом в виде загадочного убийцы-маньяка.
Действующие лица:
Бьерн. Мужчина, успевший многое повидать за свои года, включая боль и разрушения от войны с оккультными сообществами. Староста небольшой норвежской деревни недалеко от Скандинавских гор.
Хагдаҥ Эхэ. Шаман из Якутии, что познакомился с Бьерном на войне. Служил с ним в одном отряде. Остался жить с новым другом в норвежской деревне, желая через некоторое время вернуться на родину.
Аркадий. Молодой полицейский, работающий с властями Норвегии по обмену опытом. Четко соблюдает все технические инструкции. Имея брата в институте Тайн Мира, понимает, что однажды может столкнуться с чем-то необъяс-
нимым.
Кирилова. Кандидат магических наук, оперативник института Тайн Мира. Ученица Вентидия Ауэрбаха и одна из приближенных заместителя директора – Ерофея. Среди коллег имеет прозвище Поволжская Ведьма.
Ди-1. Он же – сто одиннадцатый. Сам предпочитает величать себя Амбассадором. Воин ТМ, который является результатом совместной работы института Тайн Мира и корпорации ГЕНом. Молчаливый, прямолинейный, любит постоянно напевать себе под нос одну и ту же мелодию.
…Он вспомнил, как еще утром стоял на пороге уютного деревянного домика, вдыхая свежий хвойный воздух, пропитанный влагой и ароматом земли. Тихий скрип двери приглашал его вернуться обратно в тепло родного дома, где потрескивал огонь в очаге, а на столе ждал горячий кофе, приготовленный женой. За окном вместо экрана телевизора открывался вид на бескрайние просторы норвежских лесов, простирающихся к востоку от величественных Скандинавских гор, вершины которых терялись в облаках, окрашенных в розовые и оранжевые тона восходящего солнца.
Бьерн был высоким, мощным мужчиной, которому скоро предстояло праздновать свое шестидесятилетие. Его жесткое узколобое лицо выдавало в нем человека, который успел на своем веку повстречать множество опасностей. Его потухшие табачного цвета глаза взирали на чащу, через чью непроглядную крону вековых сосен с трудом пробивались лучи полуденного солнца, вырисовывая на лесной подстилке из мха и опавших листьев причудливые узоры из света и тени.
Ранее подобные вылазки в лес представлялись Бьерну путешествием в мир первозданной природы, где тишину нарушает лишь шелест листьев и нежный шепот древних тайн – пение птиц, мелодично разливающееся в тишине, и редкий шорох из глубины чащи, вызывающий волну неопределенности и легкого страха, которые легко побеждались его винтовкой Крага-Йоргенсена, что передавалась из поколения в поколение, начиная с прадеда. Кроме семейного талисмана Бьерн носил с собой табельный пистолет-пулемет HK MP5 2034 года выпуска и пистолет HK P30.
Аромат хвои вперемешку с привкусом сосны ласкал его нюх; нежный ветерок, играя на его непричесанных волосах, шептал тайны древнего леса, пробуждая благоговение перед его мощью и красотой. Но в этом спокойствии скрывалась тревога: свежие следы – маленькие, почти незаметные отпечатки лап. Дикая природа, могучие хищники – рыси, призрачно скользящие среди деревьев, волки – полновластные хозяева этих мест, не любили людей, что так жадно сужали их ареал обитания. Но их Бьерн не боялся, поскольку за время своей службы в армии успел поучаствовать не только в государственных конфликтах, но и также в охоте на различные оккультные сообщества, что словно грибы после дождя возникали последние полтора десятилетия во всем мире то тут, то там. Там он узнал ужасы, что способен творить человек, но никак не зверь.
Бьерн продолжал углубляться в лес, следуя едва заметной тропой, чтобы ощутить спокойствие перед надвигающейся скрытой угрозой. Он не раз в детстве ходил этими тропами и знал их как свои пять пальцев. Магия и загадки этих лесов всегда готовили его к встрече с неведомым хищником. Он обычно знал, как это будет: внезапно глубокая тишина прервется хрустом ветки – тонким, словно звон стекла; сердце замрет, после чего ритм начнет резко учащаться, чувства обострятся, через мгновение станет понятен источник звука, и хищник, кем бы он ни являлся, падет к ногам Бьерна от точного выстрела винтовки. Так обычно и происходило.
У старосты деревни хватало забот, особенно учитывая то, что он исполнял и роль местного полицейского. Односельчане прозвали его Ярлом, своим боевым вождем. И во многом благодаря заслугам перед государством ему позволили сочетать эти две должности, что требовало от него немалых усилий. Поэтому он подумывал уйти на заслуженную пенсию и передать свою работу уже другим людям, что по отдельности станут исполнять свои обязанности. Его сыновья уже давно покинули деревню и явно не захотят возвращаться обратно, чтобы принять от него бремя правления над менее, чем тысячью человек.
Воздух стал тяжелым, густым от предчувствия чего-то неестественного. Казалось, что сама природа не принимает того, кто прячется во тьме леса. Высокие сосны стоят, как молчаливые стражи, но некоторые из них, переломанные пополам, пали на другие деревья, больше не способные защищать обитателей от невидимого врага.
В глубине леса среди деревьев высилась тень, но она медленно растеклась при приближении человека, словно призрак. Быстрый взмах темного хвоста, скрывавшегося за стволом могучей ели. Животное? Возможно, лось, пробирающийся сквозь подлесок? Или гордый олень, осторожно ступающий по опавшей листве? А может, всего лишь игра ветра, срывающего листья с ветвей? Неизвестность усиливала тревогу, напоминая о хрупкости и непредсказуемости дикой природы, о ее силе и превосходстве над человеком.
Самым опасным хищником в этих местах являлся бурый медведь. Он царствовал в этих лесах безраздельно, правда, уступая своему более мощному брату – белому медведю, чей ареал обитания начинался всего через полтора десятка километров от этих лесов. И Бьерн знал, что он и есть альфа-хищник этих лесов, поскольку его имя и обозначает «медведь». Но не сегодня.
Ощущение непрерывного противостояния тишины и страха, спокойствия и угрозы сопровождало его на всем пути. Ему казалось, что шепот ветра в кронах деревьев умоляет повернуть обратно, заботясь о нем.
Все это началось недавно. Когда в их деревню пришел католицизм. Официально до этого они исповедовали лютеранство, но по сложившемуся стечению обстоятельств последних десятилетий односельчане Бьерна давно не посещали церковь. Это произошло с того момента, когда оккультное сообщество, терзавшее Норвегию, дотянуло свои когти и до их городка. Оно пропагандировало веру в неких иных, непонятных существ, не имеющих отношения ни к Раю, ни к Аду. Именно они разрушили церковь, что было их не первым неблагочестивым деянием.
Тогда жители и стали отмечать у себя тревожащие сновидения. Гнетущие требования вроде внутреннего голоса согласиться с оккультистами, просто принять иное мировоззрение. Более ничего.
Эти события совпали с возвращением Бьерна. Он вошел на порог своего дома с новым другом Хагдаҥом Эхэ, с которым они познакомились на войне. Эхэ уже на тот момент был весьма престарелым мужчиной невысокого роста, худощавого телосложения, но не обделенным внушительной силой. Как он оказался на войне с оккультными сообществами, он не раскрывал, однако ему и его друзьям всегда сопутствовала удача. Из их отряда погибло всего несколько новобранцев и то при несчастных случаях.
И при его появлении в поселении оккультное сообщество сразу же пропало. Он с радостью поселился недалеко от дома старосты деревни, обнеся свое жилище не забором, а целым садом из шиповника. Также Эхэ стал ответственен за новую диковинку в деревне, из-за чего городок приобрел небольшую туристическую популярность: он разводил оленей.
Бьерн стер со своего лица счастливую улыбку при воспоминании, как провел не один вечер, слушая рассказы о мифологии Якутии из уст шамана. Тропа вела дальше, через густой ельник. Под ногами стелился мягкий ковер из мха, приглушающий шаги. В воздухе витал расслабляющий аромат прелой листвы и хвои, смешанный с запахом влажной земли. Мужчина заметил свежие следы: большие лапы, отпечатки когтей, глубоко впившихся в землю. Он понял, что за ним наблюдают. Вновь тень впереди растворилась, как бы приглашая зайти дальше в непроглядную чащу.
Оленье стадо шамана насчитывало более десяти особей, но почему-то не увеличивалось. Ежегодно Бьерн не мог в нем досчитаться нескольких особей. Эхэ сетовал на местный климат, который его питомцы плохо переносили.
Но наступил этот год. И католическая церковь воздвигла свою часовню в деревне. Новоприбывший церемониарий сразу же невзлюбил Эхэ, утверждая, что шаману не место в этих землях. В немилость попал также и Бьерн, поскольку, как выяснилось, священник до смерти боялся медведей и всего, что о них хоть как-то напоминает. Менее, чем за месяц церемониарий собрал все необходимые документы и акты, после чего Эхэ депортировали обратно на его родину.
В последнюю памятную ночь друг Бьерна признался ему, что он сам собирался через несколько лет вернуться домой и увидеть внуков, но хотел сделать все это правильно. Теперь же он переживает за односельчан Бьерна. Но без подробностей обещал, что знает, что нужно делать.
Закат окрасил кроны деревьев в багряные и золотые тона, но внизу, под густыми пологими ветвями царили непроглядные сумерки. Даже звериные следы казались зловещими: глубокие отпечатки копыт, возможно, выбитые в паническом бегстве, соседствовали с едва заметными тропинками. У старой сосны – глубокая, идеально ровная вмятина в земле, неестественно правильный круг, словно выровненный неведомой силой. Никаких когтей, лап, только этот пугающий круг. Давящая тишина прерывалась лишь изредка чириканьем синиц, вялой трелью соловья и глухим шепотом, словно дыханием самой земли. Запах хвои смешивался с запахом прелой листвы, но в нем чувствовался привкус железа и земли – неузнаваемый, но жутко знакомый, вызывающий воспоминания о прошлом, о времени военных операций против оккультных сообществ. Эта полу-тишина не умиротворяла, а пугала, предвещая скрытую угрозу, таящуюся в каждой тени, каждом шелесте. Даже мягкий мох казался холодным и липким, словно он впивался в ноги, не отпуская.
Это произошло в июне, когда нашли зверски убитого церемониария, сидевшего в слепой пародии на встречу первых лучей солнца на ступеньках родного дома. Глаза на его ладонях смотрели ровно на восток и слезились при виде восхода; огромная дыра зияла у него в груди, и не хватало лишь сердца.
Тогда Бьерну прибыла помощь из центрального округа. Полицейские прочесали всю округу в поисках преступника. Дроны неустанно прочесывали небеса. Но все тщетно. Через две недели подобное повторилось. Пожилую семью нашли мертвой дома, мирно лежавшей в постели. Дверь их жилища оказалась аккуратно открыта, словно родным ключом. Все ничего, если бы не вновь окровавленная отвратная сцена. И вновь у полиции не вышло ничего найти.
Норвежский лес поглотила непроглядная тьма, ночная стужа сковала его ледяными объятиями. Давящая тишина, влажная и тяжелая, словно предсмертный вздох, висела в напряженном ожидании. Зловещий круг, выровненный неведомой силой (след чудовища), казался еще более угрожающим под покровом ночи. Он словно преследовал Бьерна, появляясь, как насмешка, под каждой сосной. Вдалеке раздался вой волка – протяжный и одинокий, который резко оборвался, словно его заставили замолчать.
Каждые две недели погибали люди, а у полиции не выходило найти маньяка. Дошло до того, что сотрудники правопорядка прочесали окрестные леса, но получили за это лишь необъяснимую поломку дронов без видимых повреждений или какого-либо внутреннего сбоя от ЭМИ-излучения. Тогда люди и стали поговаривать о гигантском хищнике, что раз в две недели является в городок. Камеры ночью засняли огромную косматую тушу, что спокойно передвигалась по улице.
Окончательным аккордом в этой истории стала группа путешественников, найденных на подъезде к деревне в своем внедорожнике. Вдобавок к глазам, обращенным на восток, их головы были замещены на головы лошадей, а их же искаженные ужасом черепа висели гирляндой на бампере автомобиля. Тогда большая часть жителей, включая жену старосты, и покинула деревню. Остались всего две семьи, что наотрез отказались покидать насиженные места.
Видя, что его коллеги никак не могут помочь, Бьерн решил вспомнить былое и лично расправиться с неведомым убийцей. И как-то он нашел следы, ведущие в лес. Мужчина понял, что это издевательское приглашение. Никого не уведомив, он направился в чащу, проигнорировав практически все современные варианты вооружения, решив бросить вызов своему противнику старыми дедовскими методами.
Листва казалась неестественно темной и неподвижной; каждый шорох, треск ветки, шелест листьев заставлял сердце бешено колотиться. Даже мягкий мох под ногами ощущался холодным и липким, словно цеплялся за подошвы, не желая отпускать. В глубине леса, куда не проникал лунный свет, скрывалось нечто большее, чем просто опасность – нечто древнее, окутанное вековыми тайнами, нечто, заставлявшее сердце замирать от ужаса, а дыхание сбиваться в груди. Только тревожный шепот, усиливающийся до глухого гула земли, напоминал, что эта тишина – не просто тишина, а тишина ожидания, тишина страха, предвестница невообразимого ужаса.
В этот раз тень не исчезла. Огромный косматый одноглазый гигант сидел среди деревьев. Его звериная ухмылка унижала Бьерна. Мужчина принял вызов. Но сколько бы он ни перезаряжал свою винтовку, гигант даже не шелохнулся. Когда закончились все патроны в прадедовском и табельном оружии, Бьерн со слезами на глазах достал охотничий нож, и только тогда гигант соизволил встать.
Он вальяжной походкой неохотно подошел к нему, позволив нанести себе несколько колотых ран, после чего ловко схватил Бьерна за туловище и поднял к лицу. Одинокий желтый глаз посредине лба заставил мужчину биться в истерике в последние секунды своей жизни.
Аркадий в настоящее время находился в Норвегии по программе обмена опытом сотрудников. Родом из Воронежской области, пройдя там достойную полицейскую и военную подготовку, он удостоился чести работать по обмену опыта с Норвегией. Эта практика стала особенно популярна после возникновения множества оккультных и террористических сообществ – для конвертирования знаний различных стран для борьбы с этой новой угрозой.
Аркадию недавно перевалило за двадцать три, из-за чего он часто ощущал наставнический тон со стороны его коллег. Его молодое, начисто выбритое румяное лицо только еще больше придавало ему сходство с юнцом; большие молочно-голубые глаза также играли ему на руку, скрывая его острый ум от других людей. На левой руке он носил золотой браслет с гессонитом медово-желтого цвета, в остальном его обмундирование никак не отличалось от полицейской формы.
По прибытии в деревню он сразу же занял дом старосты, что пропал неделю назад. После этого разместил на крыше дома зарядную станцию для дронов и прикрыл ее брезентом на случай дождя, оставив достаточный вход для дронов под таким углом, чтобы вода не попадала на оборудование. Включив на своих помощниках протокол постоянного патрулирования деревни без выхода из ее локации, он занялся проверкой камер.
Лег спать Аркадий лишь под утро через день. Он убедился в том, что все камеры работают исправно, а те, что по той или иной причине оказались неподвижны, заменил на более лабильные аналоги. Установив у дома мини-турель полицейского образца с пистолетом-пулеметом HK MP5 2034 года выпуска и две турели на главной улице с обеих сторон, ведущих к жилищу старосты и шамана, он, не раздеваясь, лег спать.
Ночь прошла спокойно. Наутро Аркадий обошел оставшихся жителей городка, что за прошедшие два дня заглянули к нему лишь мельком, не особо доверяя чужеземцу. Лишь один из них сносно говорил по-английски, с другими Аркадий решил воспользоваться онлайн-переводчиком на русский язык, что растянуло их опрос еще на несколько дней, до пятницы.
Собрав все необходимые сведения, а также записи с видеокамер и спутников, в субботу Аркадий занялся анализом полученных данных. Из обрывочных осколков информации он смог получить примерный образ убийцы – огромного косматого зверя. Вполне возможно, что проблем существовало две: истинный убийца, что по какой-то причине начал терроризировать деревню, возможно, один из бывшего оккультного сообщества, и зверь, которого могло привлечь оленье стадо.
Аркадий всегда спал чутко, в полусне слыша сигналы от троицы дронов и турелей. И в ночь на воскресенье один из сигналов пропал. Аркадий сразу же проснулся. Проверив пистолет под подушкой и на бедре, он взял пистолет-пулемет со стула, который стоял рядом. Парень вышел на улицу.
Хотя сейчас на дворе только начинался август, несмотря на общее потепление климата, ночь у Скандинавских гор все же заставила накинуть на полицейскую форму еще овершот, что по форме и расцветке не сильно отличался от полевой сорочки.
Ночь оказалась непривычно ясной для Аркадия. Все же он привык к беззвездным небесам большого города. Легкий холодок заставил его поправить воротник овершота; на датчике, надетом на правой руке, исчезли показатели еще одного дрона. Поведя глазом, Аркадий увидел, что турель, охраняющая его дом, стояла отключенная, а форточки насмешливо распахнуты, хотя он их и не открывал. Глубокие, идеально ровные вмятины на бетоне вели его на дорогу, издевательски предлагая встретить гостя.
Аркадий вышел на центр дороги и огляделся. Еще один дрон замолчал на датчике. Обернувшись, молодой человек увидел труп мужчины, который с ним до этого наиболее долго разговаривал. Тело сидело на холодной земле, покрываемое муравьями, язык был засунут в глазницы, сами же глаза с ладоней устремлены на восток, в груди зияла огромная дыра, сердце пропало. Аркадий сумел сдержать рвотные позывы и приступ ужаса, но все же поспешил отвести взгляд от несчастного. С северо-запада, со стороны Скандинавских гор сидел он: огромный, не менее четырех метров величиной, косматый зверь. С его лба одинокий желтый глаз ехидно взирал на человека. Существо играло отключенной турелью, как мячиком, после чего бросило в дом старосты, пробив крышу.
Аркадий понимал, что никто из оставшихся жителей ему не поможет, даже если видит нарушителя. Его противник поднялся на задние ноги и стал приближаться к молодому человеку, язвительно позволяя выпустить в себя весь боезапас.
Аркадий понял, что у него осталась лишь одна работающая турель, что стояла на востоке деревни, охраняя дом шамана. Понимая, что его противник желает вдоволь наиграться со своей добычей, молодой человек показал существу язык и бросился бежать, чем вызвал бурю негодования у косматого.
Наверное, такой спринт Аркадию никогда не доводилось делать, и сейчас он ощущал, как ему мешает овершот, поскольку начал в нем быстро потеть. Размашистые шаги от него не отставали, ощущалось, как с каждым опусканием лапы на землю зверь становился на пару десятков сантиметров ближе к своей жертве, не догоняя ее, позволяя выдохнуться и пропитаться адреналином.
Совершив внушительный круг по деревне, Аркадий оказался всего в нескольких метрах от входа на лужайку дома шамана, еще в десятке метров от него стояла турель, которая сразу же отреагировала на существо, выскочившее из-за угла, перекрывая молодому человеку какое-либо движение влево, вынуждая прыгнуть вправо, прямо в колючие кусты шиповника, чтобы избежать огня турели.
Оцарапав руки и ладони, Аркадий забился под куст, перевернувшись на спину и наблюдая за тем, как зверь нехотя разделался с турелью, после чего приблизился к нему. Отползти на локтях дальше молодой человек не мог, поскольку заросли шиповника становились слишком густыми и уже впивались своими колючками в затылок.
Зверь поднес свою одноглазую медвежью морду к кустарнику, давая прочувствовать Аркадию весь гнилостный аромат из своего рта. Большой желтый глаз раздраженно смотрел на него. Затем существо совершило круг почета вокруг изгороди: первый, второй… десятый… двадцатый. Все это время молодой человек не двигался, боясь высунуть из кустарника хотя бы миллиметр ботинка, понимая, что почему-то зверь боится этой живой изгороди.
Наконец, проронив что-то похожее на самую грязную ругань на неизвестном языке, существо ушло в сторону Скандинавских гор. Аркадий провел еще час в шиповнике, дождавшись восхода.
Он не простыл просто чудом, скорее всего, из-за адреналина, что так и бушевал в нем, заставив сейчас невольно дрожать. Первое, что он сделал – добыл себе среди пустых домов спальный мешок и положил его в относительно удобном месте в кустарнике. Затем явился к жителям с требованием покинуть их дома. Но те, не послушавшись ранее родных полицейских, весьма грубо отказали сотруднику по безопасности, работающему у них по обмену.
Просить помощи у полиции из центрального округа Аркадий не видел смысла, поскольку его сюда послали разобраться с неизвестной проблемой. К тому же зверь каким-то образом смог миновать все камеры наблюдения, и по факту, кроме слов молодого человека, ничто не подтверждало его присутствия здесь. К тому же Аркадий имел твердую уверенность, что существо вернется через две недели, поскольку один из жителей заявил ему, что у него погибла корова минувшей ночью. Аркадий не видел смысла смотреть на тушу животного, поскольку понимал, что, скорее всего, она зверски изувечена, а испытывать свой желудок на прочность он не хотел. На следующий день оставшиеся жители похоронили своего односельчанина на погосте.
Осознав то, что имеет дело не с маньяком, не со зверем, не даже с машиной, по какой-то причине облаченной в шкуру зверя, Аркадий вспомнил, к кому может обратиться. Совершив лишь один звонок, он стал ждать, проводя дни и ночи в хижине шамана, в любой момент готовясь нырнуть в спасительный шиповник.
И он делал это не зря. Видимо, раздосадованный неудачей зверь не раз являлся в деревню по ночам и один раз – днем. Все разы он садился напротив хижины шамана, всего в полуметре от зарослей шиповника, колюче глядя на Аркадия, давая понять, что готов ждать.
Молодой человек понял, что существо далеко не глупо. Оно могло позволить себе и дневные перемещения и не имело какой-либо зависимости от времени суток. Ночные вылазки из леса, скорее всего, служили вынужденной мерой, поскольку зверь понимал, что так его гораздо сложней вычислить с помощью человеческих технологий.
Настал день, когда на горизонте показался не зверь, а военный грузовик. Он ехал по бетону, разгоняя колесами пыль, которую не подметали неделями. Машина остановилась прямо у дома шамана. С водительского сиденья вышла женщина.
Девушка молодого возраста, но явно старше Аркадия и выше него. Ее холодное лицо воинственного ангела одновременно привлекало и отталкивало, глаза орехового цвета имели четко выраженную «корону» вокруг них, напоминая взгляд дикой кошки, пепельно-седые волосы опускались ей до плеч. Одетая в строгие брюки и темно-бежевый плащ-пыльник, достающий ей практически до щиколоток, она вызвала невольное желание преклонить перед собой колено. На шее висело несколько амулетов неизвестных для Аркадия культур, а на одежде в некоторых местах виднелись прошитые знаки силы.
Аркадий представился ей согласно уставу, на что девушка ответила кратко:
– Кандидат магических наук Кирилова.
– Я звонил брату, – все еще не мог оторвать глаз от девушки Аркадий.
– Ваш брат не оперативник. У него бумажная работа, – пренебрежительно заметила Кирилова. – Здесь требуются другие умения.
Она постучала ладонью по железному кузову, и Аркадий услышал, как кто-то стал шевелиться, кто-то громоздкий и опасный.
Приближение чудовища предвещал глухой звук сабатонов, заставивший треснуть бетон после того, как пассажир спрыгнул на него из кузова. Монстр в сложно сконструированных доспехах, намного выше Аркадия, не имевший уязвимых мест, в накидке неопределенного цвета в стиле пиксельной одежды, прикрепленной к левому нагруднику, что немного размывала скрытую под ней часть тела, вышел из-за машины. На наплечнике воина института Тайн Мира красовался перечеркнутый кодовый номер – Ди-1.
Аркадий впервые видел подобную конструкцию экзоскелета, хотя повидал уже как отечественные образцы, так и зарубежные. Обычно они делились на легкие и тяжелые, но в данном случае перед ним стоял человек в чем-то среднем, в чем-то незнакомом. Гигант встал за Кириловой, обдав ее из фильтров шлема тонкими струями ледяного пара, отчего она устало закатила глаза, но не шелохнулась.
– Мы все подготовим. Вас попрошу пока отдохнуть, – девушка вернула внимание Аркадия от воина ТМ к себе.
День прошел в подготовках. Кирилова исписала всю улицу знаками удержания и подавления, после чего немного закрасила их краской, чтобы они не особо бросались в глаза, но не потеряли всю силу. Воин ТМ перенес все необходимое оборудование в дом к шаману. Одно из помещений Кирилова забрала себе.
Аркадий очень неловко чувствовал себя рядом с гигантом. Периодически ему казалось, что из-под шлема воина ТМ доносится какое-то неразборчивое бормотание. Но желания найти причины для разговора с исполином Аркадий так и не нашел.
После этого у него состоялась беседа с Кириловой, что тщательно выяснила у него всю известную историю, начиная с первых заявлений в полицию.
– Значит, вы утверждаете, что это медведь? – попивая яблочный сок, уточнила девушка.
– Да, под четыре метра ростом, одноглазый, словно циклоп, спокойно передвигающийся на двух ногах, как человек, – кивнул головой Аркадий.
– Перед приездом сюда я изучила местную флору и фауну. Медведи действительно здесь обитают, правда, белым стало последнее время не особо хорошо из-за потепления, поэтому стали появляться гролары, – девушка прервалась, заметив, что парень не особо понимает ее погружение в жизнь медведей. – Перейдем от прелюдии к действию. В этих местах нет каких-либо указаний на мифические проявления медведей – созданий из Межмирья.
Аркадий предпочел молчать и слушать дальше, прекрасно понимая, что эта краткая лекция о принципах работы института мало что ему даст. Ему казалось, что девушке просто хочется блеснуть своими знаниями перед незнающим.
– Встречаются, конечно, медведи-оборотни, но это явно не наш случай. Вы говорите, что тот священник до смерти боялся медведей, и именно после его смерти появился хищник?
– Да, так написано в докладе, – Аркадий посмотрел на стопку документов, лежавших между ним и девушкой.
– Еще я изучила дело Бьерна и Хагдаҥа Эхэ, их путь до войны, во время и после. И обнаружила, что Эхэ – действительно шаман своего народа. И он умел бороться с плохими существами и даже подчинять их. Именно это так хорошо спасало их отряд во время столкновений с культистами. Проблема в том, что кое-кто с его родины постоянно преследовал его, тревожил его, клялся высосать его душу, из-за чего Эхэ приходилось откупаться. По всей видимости, не просто так он развел оленье стадо. Я только не понимаю, почему оно не ушло за ним обратно, когда Эхэ отсюда выдворили, – девушка задумалась. – Возможно, оно поняло, что здесь с ним не умеют бороться, и договориться никто не сможет, именно поэтому оно и не последовало за шаманом. Нет четкой конкуренции. А Эхэ, возможно, об этом толком не знает, поскольку довести стадо оленей до дома – дело непростое. Вполне возможно, он даже оставил жертву, думая, что ее примет существо, но на деле тушу уже сожрали крысы.
– Так кто наш враг? – не вытерпел Аркадий.
Девушка смерила его строгим взглядом, вызвав желание молчать дальше:
– По всей видимости, мы имеем дело с Абасом. Это существо питается энергией своих жертв и принимает облик того, чего больше всего боится человек. Оно обычно ростом до четырех-пяти метров. Одной из отличительных особенностей является наличие одного глаза, как у циклопа. Правда, бывают однорукие и одноногие. По всей видимости, из-за того, что оно увидело прямого противника в священнике…
– Церемониарии, – не сдержался Аркадий, с удовольствием наблюдая за тем, как девушка недовольно сморщила носик и продолжила:
– Он и стал первой жертвой. А поскольку он боялся медведя, а медведь является здесь доминирующим хищником, существо и решило остаться в виде человекоподобного медведя. Сердца у жертв пропали, как средоточие жизненной энергии, а глаза оставались устремленными на восток в качестве воспоминания о доме; у всех есть та или иная привязанность к некоторым местам. Также остальная жестокость – скорее попытка обозначить свою территорию. В общем, я знаю, что мы будем делать, – девушка встала из-за стола и направилась к двери.
– Могу задать один вопрос? – окликнул ее Аркадий.
– Быстро, – разрешила Кирилова.
– А как давно вы кандидат?
– Две недели, – непонятно, с улыбкой или с недовольной гримасой, ответила девушка.
Наступил вечер, затем ночь. Луна практически исчезла с неба, и улицу освещали лишь несколько фонарей и звезды. Участок перед домом шамана сильно изменился за прошедшие часы. Ди-1 сорвал половину шиповника, после чего с помощью проволоки, резины и силы перчаток своего костюма сделал примитивное трехметровое копье, больше напоминающее двусторонний кол. Воин навалил мешки с песком и землей посреди улицы и сел на них, воткнув в тюк рядом с собой копье, с другой стороны положил накрытое брезентом дальнобойное оружие.
Кирилова кивнула Ди-1, и воин ТМ выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Желтый огонь осветил звездное небо, кидая вызов чудовищу. Звёздка стала быстро опускаться к земле на раскрытом мини-парашюте. И последнее, что она осветила – огромное тело, возникшее в конце улицы.
Абас стоял, явно заинтересованный человеком в броне, что спокойно, дразняще восседал на мешках. За ним глаз зверя увидел женщину и того самого парня, что сумел все эти недели избегать его. Он его раздражал. Еще ни одна жертва ранее от него не убегала.
Существо село на землю в ожидании, давая своей добыче сделать первый шаг. Но прошло десять минут, затем – двадцать, час. Ни единого звука за это время не прозвучало, лишь пару раз чихнул Аркадий.
Не выдержав, Абас встал во весь свой исполинский рост, демонстрируя свою причудливую смесь медведя и гуманоида. Ухмыльнувшись, он вырвал с корнем небольшую ель из ближайшего двора и стал размахивать ею перед собой, разбивая на куски заборы по обе стороны от улицы. Так, шаг за шагом он приближался к людям.
– Почему он это делает? – недоумевал Аркадий.
– Он разрушает изгородь, поскольку на ней я начертала знаки удержания и подавления, – объяснила Кирилова.
– А те, что на асфальте? – напомнил ей о других эзотерических символах молодой человек.
– Видите, как он, на первый взгляд, неуклюже движется? – девушка внимательно смотрела за движениями приближающегося существа. – Несмотря на кажущуюся громоздкость и неловкость, он пронырливо минует знаки.
– Так почему он подобное изначально не сделал с шиповником? – Аркадий проверил новый пистолет со специальными серебряными пулями, укрепленными эзотерическими символами и знаниями, который ему выдала Кирилова.
– Этим существам неприятен любой контакт с шиповником. Даже через другие предметы, – пояснила девушка.
Когда от Абаса до Ди-1 осталось чуть более двух десятков метров, воин ТМ скинул брезент с дальнобойного оружия и направил в сторону чудовища мининган. Шесть стволов яростно закрутились, выпуская в зверя бессчетное количество серебряных пуль. Аркадий почувствовал, как у него закладывает уши, а Кирилова отошла на несколько шагов дальше от своего напарника, чтобы ее не задело случайно пролетающей гильзой, которая могла поранить не хуже пули.
Абас остановился, вопя в ярости, закрывая глаз ладонью, выронив ель. Но все же особого урона он не понес, что ознаменовала его насмешливая улыбка. Он набросился на воина, обрушив на него всю ярость своих лапищ, размозжив мешки под человеком, поднимая в воздух тучу из песка. Но воин ТМ также не соответствовал ожиданиям, Ди-1 за секунду успел увернуться, оказавшись справа от зверя, нанеся ему удар своим сабатоном. Броня воина словно пылала. То, что ранее Аркадий не мог разглядеть, сейчас огненными линиями эзотерических символов покрывало экзоскелет.
Абас покачнулся под ударом воина ТМ и решил невзначай зацепить девушку, но его лапа остановилась от нее в полуметре, отскочив, словно от щита. Кирилова что-то активно нашептывала себе под нос. Язык этих слов Аркадий не мог понять, да он и сам был сейчас занят, упорно целясь в глаз зверя. Но попадание его пуль лишь вызывало небольшое покраснение роговицы у чудовища.
Воин ТМ нанес сокрушительный удар по медвежьей морде, что должен был сломать все кости черепа обычного зверя, но Абас наотмашь лапой оттолкнул от себя воина, встав на задние лапы, словно боксер, нанося серию ударов по Ди-1.
Воин ТМ смог перехватить лапы чудовища, но чуть сразу не поплатился головой. Абас не позабыл напомнить о том, что в этом образе у него все еще оставалась медвежья пасть. Спасая свою голову, Ди-1 получил мощный удар двух лап в грудь, от чего отшатнулся от зверя, но броня, укрепленная эзотерическими символами, сильно смягчила удар от существа из Межмирья внутри себя, оставив на человеке лишь пару синяков.
Кирилова с Аркадием подхватили брезент и постарались накинуть его на чудовище, на что первые секунды зверь не обращал внимания, пока не ощутил нанесенные на ткань символы. Может, они его не убивали, но делали ему больно. Он в ярости скинул с себя брезент, и именно этого времени хватило Ди-1, чтобы дотянуться до копья и рвануть его вперед.
Существо постаралось закрыться лапами, но кол из шиповника прошел через его плоть, словно нож через масло, вонзившись прямо в глаз. Воин ТМ не дал времени своему противнику на осознание и боль и, навалившись на него всем телом, пробил острием череп чудовища.
Но на этом Ди-1 не успокоился. Не успело тело Абаса осесть на бетон, воин ТМ выдернул из него копье, ухватился за плечо зверя, после чего оказался у него на спине. Разломав копье пополам, Ди-1 обхватил им шею Абаса, словно бамбуковыми стеблями. Даже Кирилова отвернулась от этого зрелища. Когда она повернулась обратно, голова зверя уже лежала недалеко от минингана с воткнутыми в его глаз двумя остриями сломанного копья. В еще сияющих эзотерическими символами доспехах Ди-1 стоял на теле поверженного противника.
– Вы хорошо потрудились, – похвалила Кирилова полицейского.
…Прошло три дня. В деревне появилось множество людей в военной норвежской форме. Тело существа из Межмирья погрузили в грузовик и отправили в военный аэропорт, откуда в дальнейшем его планировали доставить в институт ТМ.
– Благодарю за высокую оценку, – наслаждался свежим воздухом с далеким привкусом ивы Аркадий.
– Нам не помешают такие смышленые оперативники, как вы, – девушка достала визитку из кармана плаща. – Здесь телефон нашего отдела кадров.
– Я думаю, что отделаюсь лучше работой в полиции у себя на родине. Уже зимой возвращаться обратно, – Аркадий взял карточку из руки Кириловой. – Но буду иметь ввиду.
Он посмотрел на Ди-1, что стоял на пороге дома шамана. Как Аркадий заметил, даже прибывшие военные сторонились воина ТМ, хотя они явно не раз видели людей в боевых экзоскелетах. И сам Аркадий чувствовал в этом человеке что-то не то, что-то сломленное, может, даже надломленное или не дополненное, что скрывалось под слоем технологичной брони.
– Он когда-нибудь снимает броню? – поинтересовался у девушки молодой человек.
– Я тоже задаюсь этим вопросом, – загадочно посмотрела на Ди-1 Кирилова. – Это моя первая неделя работы с ним.
Она улыбнулась.
Кирилова кивнула Ди-1, и воин ТМ выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Желтый огонь осветил звездное небо, кидая вызов чудовищу. Звёздка стала быстро опускаться к земле на раскрытом мини-парашюте. И последнее, что она осветила – огромное тело, возникшее в конце улицы.
Абас стоял, явно заинтересованный человеком в броне, что спокойно, дразняще восседал на мешках. За ним глаз зверя увидел женщину и того самого парня, что сумел все эти недели избегать его. Он его раздражал. Еще ни одна жертва ранее от него не убегала.
Существо село на землю в ожидании, давая своей добыче сделать первый шаг. Но прошло десять минут, затем – двадцать, час. Ни единого звука за это время не прозвучало, лишь пару раз чихнул Аркадий.
Не выдержав, Абас встал во весь свой исполинский рост, демонстрируя свою причудливую смесь медведя и гуманоида. Ухмыльнувшись, он вырвал с корнем небольшую ель из ближайшего двора и стал размахивать ею перед собой, разбивая на куски заборы по обе стороны от улицы. Так, шаг за шагом он приближался к людям.
– Почему он это делает? – недоумевал Аркадий.
– Он разрушает изгородь, поскольку на ней я начертала знаки удержания и подавления, – объяснила Кирилова.
– А те, что на асфальте? – напомнил ей о других эзотерических символах молодой человек.
– Видите, как он, на первый взгляд, неуклюже движется? – девушка внимательно смотрела за движениями приближающегося существа. – Несмотря на кажущуюся громоздкость и неловкость, он пронырливо минует знаки.
– Так почему он подобное изначально не сделал с шиповником? – Аркадий проверил новый пистолет со специальными серебряными пулями, укрепленными эзотерическими символами и знаниями, который ему выдала Кирилова.
– Этим существам неприятен любой контакт с шиповником. Даже через другие предметы, – пояснила девушка.
Когда от Абаса до Ди-1 осталось чуть более двух десятков метров, воин ТМ скинул брезент с дальнобойного оружия и направил в сторону чудовища мининган. Шесть стволов яростно закрутились, выпуская в зверя бессчетное количество серебряных пуль. Аркадий почувствовал, как у него закладывает уши, а Кирилова отошла на несколько шагов дальше от своего напарника, чтобы ее не задело случайно пролетающей гильзой, которая могла поранить не хуже пули.
Абас остановился, вопя в ярости, закрывая глаз ладонью, выронив ель. Но все же особого урона он не понес, что ознаменовала его насмешливая улыбка. Он набросился на воина, обрушив на него всю ярость своих лапищ, размозжив мешки под человеком, поднимая в воздух тучу из песка. Но воин ТМ также не соответствовал ожиданиям, Ди-1 за секунду успел увернуться, оказавшись справа от зверя, нанеся ему удар своим сабатоном. Броня воина словно пылала. То, что ранее Аркадий не мог разглядеть, сейчас огненными линиями эзотерических символов покрывало экзоскелет.
Абас покачнулся под ударом воина ТМ и решил невзначай зацепить девушку, но его лапа остановилась от нее в полуметре, отскочив, словно от щита. Кирилова что-то активно нашептывала себе под нос. Язык этих слов Аркадий не мог понять, да он и сам был сейчас занят, упорно целясь в глаз зверя. Но попадание его пуль лишь вызывало небольшое покраснение роговицы у чудовища.
Воин ТМ нанес сокрушительный удар по медвежьей морде, что должен был сломать все кости черепа обычного зверя, но Абас наотмашь лапой оттолкнул от себя воина, встав на задние лапы, словно боксер, нанося серию ударов по Ди-1.
Воин ТМ смог перехватить лапы чудовища, но чуть сразу не поплатился головой. Абас не позабыл напомнить о том, что в этом образе у него все еще оставалась медвежья пасть. Спасая свою голову, Ди-1 получил мощный удар двух лап в грудь, от чего отшатнулся от зверя, но броня, укрепленная эзотерическими символами, сильно смягчила удар от существа из Межмирья внутри себя, оставив на человеке лишь пару синяков.
Кирилова с Аркадием подхватили брезент и постарались накинуть его на чудовище, на что первые секунды зверь не обращал внимания, пока не ощутил нанесенные на ткань символы. Может, они его не убивали, но делали ему больно. Он в ярости скинул с себя брезент, и именно этого времени хватило Ди-1, чтобы дотянуться до копья и рвануть его вперед.
Существо постаралось закрыться лапами, но кол из шиповника прошел через его плоть, словно нож через масло, вонзившись прямо в глаз. Воин ТМ не дал времени своему противнику на осознание и боль и, навалившись на него всем телом, пробил острием череп чудовища.
Но на этом Ди-1 не успокоился. Не успело тело Абаса осесть на бетон, воин ТМ выдернул из него копье, ухватился за плечо зверя, после чего оказался у него на спине. Разломав копье пополам, Ди-1 обхватил им шею Абаса, словно бамбуковыми стеблями. Даже Кирилова отвернулась от этого зрелища. Когда она повернулась обратно, голова зверя уже лежала недалеко от минингана с воткнутыми в его глаз двумя остриями сломанного копья. В еще сияющих эзотерическими символами доспехах Ди-1 стоял на теле поверженного противника.
– Вы хорошо потрудились, – похвалила Кирилова полицейского.
…Прошло три дня. В деревне появилось множество людей в военной норвежской форме. Тело существа из Межмирья погрузили в грузовик и отправили в военный аэропорт, откуда в дальнейшем его планировали доставить в институт ТМ.
– Благодарю за высокую оценку, – наслаждался свежим воздухом с далеким привкусом ивы Аркадий.
– Нам не помешают такие смышленые оперативники, как вы, – девушка достала визитку из кармана плаща. – Здесь телефон нашего отдела кадров.
– Я думаю, что отделаюсь лучше работой в полиции у себя на родине. Уже зимой возвращаться обратно, – Аркадий взял карточку из руки Кириловой. – Но буду иметь ввиду.
Он посмотрел на Ди-1, что стоял на пороге дома шамана. Как Аркадий заметил, даже прибывшие военные сторонились воина ТМ, хотя они явно не раз видели людей в боевых экзоскелетах. И сам Аркадий чувствовал в этом человеке что-то не то, что-то сломленное, может, даже надломленное или не дополненное, что скрывалось под слоем технологичной брони.
– Он когда-нибудь снимает броню? – поинтересовался у девушки молодой человек.
– Я тоже задаюсь этим вопросом, – загадочно посмотрела на Ди-1 Кирилова. – Это моя первая неделя работы с ним.
Она улыбнулась.
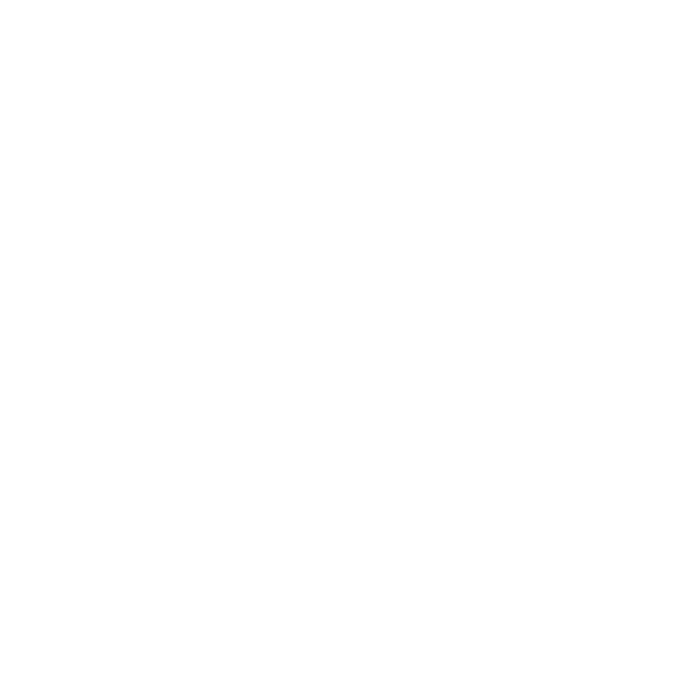
Максим ФЕДОСОВ
Родился в 1970 г. Окончил литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького (мастерская А.В.Воронцова). Начал свою трудовую деятельность в 1988 году в типографии. В 90-х занимался дизайном в одном из первых российских рекламных агентств «Солидарность Паблишер», с 1996 по 2006 год работал в сфере маркетинга и рекламы. В 2008 году основал рекламное агентство «Новое Слово», в 2014 году – одноименное издательство. В 2016 году вышла книга «X» («Десять»), в 2018 – книга рассказов «Два билета на край света», которая в 2018 году была удостоена диплома областного писательского конкурса им. М.М.Пришвина в номинации «Проза». Сайт автора: maximfedosov.ru
Родился в 1970 г. Окончил литературные курсы при Литературном институте им. М.Горького (мастерская А.В.Воронцова). Начал свою трудовую деятельность в 1988 году в типографии. В 90-х занимался дизайном в одном из первых российских рекламных агентств «Солидарность Паблишер», с 1996 по 2006 год работал в сфере маркетинга и рекламы. В 2008 году основал рекламное агентство «Новое Слово», в 2014 году – одноименное издательство. В 2016 году вышла книга «X» («Десять»), в 2018 – книга рассказов «Два билета на край света», которая в 2018 году была удостоена диплома областного писательского конкурса им. М.М.Пришвина в номинации «Проза». Сайт автора: maximfedosov.ru
СПИРАЛИ МОЛЧАНИЯ
Первый цветок оказался в её руках, когда ей было восемь. Мальчик мельком заглянул ей в глаза, протянул небольшую белую розу и как-то грустно посмотрел ввысь. С неба на них смотрели белые облака, и казалось, облака улыбались – столько вокруг было разлито радости и счастья…
– Почему ты молчишь? – спросила девочка.
– А разве нужно что-то говорить? – ответил мальчик.
– Да, когда взрослые дарят цветы, они говорят…
– Я не знаю… не знаю, что говорить… – мальчик заметно стеснялся. – Мне кажется, и так всё понятно, без слов…
Он и потом, часто провожая её, как-то задумчиво улыбался, глядя ей в глаза, дарил цветы, красивые открытки с видами городов, тоненькие книги с картинками. Дарил, протягивая подарок, а сам улыбался и… молчал.
Через несколько лет, уже заканчивая школу, он провожал её домой, нёс сумку с учебниками и снова молчал.
А она…
Тогда она верила в то, что можно и не говорить. Что в молчании скрывается что-то важное. И можно просто держать его за руку. И идти рядом.
Она поступила на журналистику, он – на математический, но все равно, как только выпадало свободное от лекций время, они вместе, бросив своих студенческих друзей и подруг, на невидимых крыльях слетались в парк. Сидели до поздних фонарей, бросая подсолнечные семечки и черствый хлеб голубям. И почти не разговаривали.
Нет, они, конечно, не молчали всё это время. Веселая, жизнерадостная Эленка (так звали ту самую девочку) постоянно рассказывала Георгию новости о своей студенческой жизни, сдабривая их свежими подробностями, «где, кто и, главное, с кем», делилась впечатлениями о преподах («Ой, ну, этот, историк наш лысый, такой сухарь…»), рассказывала о жизни в общаге, куда он не любил приходить, и строила планы. Эти жизненные планы Эленке удавались лучше всего.
Георгий, крепко сцепив тонкие губы, молчал, изредка вставляя свои довольно категорические оценки, или просто качал головой. Эленка уже привыкла к его немногословию, она особенно не ждала высоких эпитетов и ярких чувств. Она знала, что все чувства он носит где-то внутри себя. И если нужно будет (а девушка всегда считает, что когда-нибудь «нужно будет»), Гера мог и был готов… ну, в общем, она считала его лучшей партией, чем те, которые с утра до ночи горлопанили песни в общаге, препирались с преподом из-за оценки и устраивали скандальные шоу на лекциях.
Георгий был математиком. Эту точную науку он полюбил ещё в детстве, когда полуглуховатый и скрюченный болезнью двоюродный дядя рассказал ему о спиральных кругах, по которым «рассаживаются» обычные семечки в подсолнухе или «строятся» в бутоне лепестки некоторых цветов – маленький Георгий пытался понять этот феномен и рисовал, рисовал, строил спирали и снова рисовал, пока не засыпал с карандашом в руке. Эти неведомые и загадочные спирали невозможно было объяснить простым человеческим языком, тут нужны были цифры.
И Георгий с ними крепко подружился.
Он перестал общаться со сверстниками, записался в математическую школу и не показывался на улице, не обращая внимания на пальцы, которыми крутили у виска продвинутые соседские мальчишки. Он понимал, что перед ним открылся весь мир, но «открылся» довольно странной стороной – ему казалось, что он начал постигать тайные законы построения красоты и гармонии в мире. Но что бросалось ему в глаза: никому, кроме него, эти законы были не нужны. Все соглашались, что раковина – красивая штуковина, которая валяется на дне океана, соглашались, что семечки в подсолнухе вкусные (если не пережарить), но про золотое сечение мало кто догадывался. А уж про числа Фибоначчи вообще никто не знал. С тех пор Георгий сидел за партой позади Эленки и сверлил, сверлил своими острыми глазами её длинные крючковатые косички. И… молчал.
С косичками она рассталась в один день со школой – лень было расчесывать спутавшиеся волосы каждое утро, да и не модно стало. В институте все носили модные прически, часто меняли их: Эленка не могла отставать. Но каждый раз, когда она спрашивала Георгия его мнение о новой прическе, он, вспоминая переплетенные спирали юных волос, вздрагивал и отмалчивался.
Порой Эленку это раздражало.
– Ну можно хоть что-то сказать? – всхлипывала она.
– А что сказать-то? – выводил её из себя Георгий.
– Что-что? Ну что говорят люди в таком случае?
– Я не знаю, что говорят люди. Люди вообще существа странные.
– Почему?
– Потому что не замечают вокруг себя самого главного.
– Какого главного?
– Ты посмотри! – Георгий доставал листы бумаги, на которых были изображены различного вида спирали. – Посмотри, разве ты не видишь, какая гармония царит в мире, здесь все просчитано, посмотри… Эх!
– Какое это имеет отношение к жизни, ты, математик? – Эленка ревела и бросалась к себе домой. Дома её ждала больная мать и выцветшие фотографии отца – утешать было некому.
Наутро Георгий молча приходил, молча гладил её новое каре, и они снова летели на крыльях в парк кататься на роликах и есть фруктовое мороженое.
Так по невидимой молчаливой спирали двигались и развивались их отношения, пока не подошли к «несгораемой сумме». В один день Георгий молча сунул Эленке открытку, на которой были нарисованы тринадцать сердечек (любимое число!) и торопливо вытащил из кармана заветную коробочку.
– Ой, – только и выдавила из себя Эленка. – Это что, кольца?
– Да! – выпалил Георгий, раскрывая коробочку.
Блеснуло солнце, затрепетало вокруг ярким светом, сердце, казалось, разорвётся от переполнявших чувств…
Двадцать первого марта сыграли свадьбу.
Она ещё много лет вспоминала, как же так произошло, что и в самый ответственный момент он, её молчаливый и задумчивый Георгий, кроме заветного «да» практически не сказал ни слова о своих чувствах. Не сказал ни слова…
Вставая рано утром, он молча перемывал горы посуды, оставшиеся от вечерних посиделок с друзьями, потом будил её, поглаживая её нежную пяточку стебельком сухой травы, целовал в лоб и, наскоро бросив бумаги в портфель, отправлялся в институт. Эленка, потягиваясь в кровати до обеда, мечтала о детях, о новой работе в новом журнале и с этими мечтами ждала Георгия вечером домой.
Через пять лет Георгий стал пропадать на работе – на горизонте замаячила кандидатская. Эленка мучилась одиночеством, изредка разбавляя его подругами-журналистками, подругами-редакторами и просто подругами. Разговоры лились по кругу, и казалось, что все они исходили из единого, центрального чувства, которое и объединяло всех её подруг – из зависти. Нет, они завидовали не Эленке, которая слонялась без нормальной работы из редакции в редакцию, они завидовали всем тем, кто был выше, ездил отдыхать дальше и тратил на это больше. Не могли они без этого жить. Это отравляло и одновременно заставляло ползти на невидимую вершину жизни ввысь, невзирая на то, что отравленный «высокий» городской воздух не давал дышать полной грудью.
Трудно было дышать… Казалось, стянутые стальным ободом легкие вот-вот взорвутся, и этот заколдованный круг зависти превратится в нескончаемую спираль…
Георгий успешно защитился, но развивать тему его мудреной кандидатской, связанной с числами Фибоначчи, кто-то «сверху» не позволил, направив его потенциал куда-то ближе к оборонке. Георгия нельзя было узнать – улыбка раз и навсегда пропала с лица, не увлекали теперь его ни вечерние посиделки с друзьями, ни книги, ни расклеивание любимых открыток с видами городов, ни витиеватые рисунки спиралей внутри подсолнечника… ничего.
Как-то гуляя, они вдвоем проходили мимо парка, в котором им была знакома каждая скамейка, и каждый думал о другом: «А вспомнит ли?» Думали, вспоминали, ожидали… так в ожидании и прошли мимо, оставив позади лучшие годы своей жизни.
Спирали жизни закрутились сильнее в наступившей осени. Все произошло настолько быстро, что никто из них двоих так и не понял: почему так? И почему так стремительно? Эленка вышла на работу в очередной журнал, нарадоваться не могла: свободный график, хорошая зарплата и минимум обязанностей. Мечта! На очередной планерке кто-то предложил записать интервью с известным математиком, и Эленка не смогла не похвастаться, что её-то Георгий не настолько известный, но такой тала-а-а-антливый математик… Так и оказалась в квартире Георгия красавица Жанна.
Пришла брать интервью.
Войдя в квартиру, как обычно, Эленка впала в ступор: Георгий, до этого момента молчавший десять с лишним лет, тараторил, не переставая, перескакивая с доказательства одной теоремы на другое. Глаза его выражали не просто восторг – он «глотал» феромоны красавицы Жанны, заглатывая их пачками, казалось, он был готов на всё, лишь бы эти зеленые глаза не уходили… Приоткрытую Эленкой дверь на кухне он даже не заметил.
Это был удар.
Не разговаривать два дня с Георгием – для него не наказание. Наказание было больше для неё: зачем она ляпнула про своего математика Жанне? Выговорившись в гостях у своей больной матери, Эленка получила от неё «приговор»: нужно показать ему, что он неправ.
Над сюжетом «приговора» Эленка думала недолго, но спохватилась только тогда, когда очутилась в кровати своего давнего знакомого – известного журналиста-международника, который лет пять приставал с ухаживаниями, но не получал взаимности. Теперь она почувствовала, что перестаралась…
Всё ещё можно было бы исправить, но у некоторых пишущих талантов стремление сделать из успехов своей жизни новость для всех – в крови.
Тем более, у журналистов…
Георгий узнал «всё» спустя неделю от той самой Жанны, которая не упустила возможность «отомстить» ненавистной теперь уже сопернице. Он хлопнул дверью, вышел в осеннюю ночь и бродил по Бульварному кольцу до утра. На холодном вокзале взял билет и сел в ближайший поезд, даже не представляя, куда отправляется.
Померкло солнце, перестало трепетать вокруг ярким светом, сердце, казалось, превращается в маленький бесчувственный комочек.
Он и действительно уехал в неизвестном направлении, сидел и мучительно соображал, почему числа, поставленные в определенном порядке, образуют красивую и стройную гармонию рисунка, а он – какой шаг ни сделает, везде спотыкается, везде находит препятствие, и жизнь идет кувырком, ломается, извивается дугой и бьёт по голове.
Он вышел из поезда, глядя на звезды, и долго бродил в наступающих сумерках какого-то поселка, спрашивал дорогу к гостинице, которой там отродясь не было. В голове судорожно строились, словно иксы и игреки, вопросы, и не было ни одного решения. Это была не жизнь, это была теорема, которой еще никто не нашёл доказательства. Он должен был сделать это сам… Но стремительные выкладки со всеми неизвестными затмевали чувства, не давали думать.
Им было по тридцать четыре, и всё рассыпалось.
В конце того дождливого осеннего месяца они развелись. И никому в голову не пришло остановиться в этой разрушительной гонке – мелкие, тонкие и чувствительные человеческие отношения превратились в многотонный металлический ротор, который под страшным напором воды взрывает крышку турбины и юлой летит, словно по спирали, сметая все живое на своем пути.
А ведь нужно было всего одно слово.
Но оно не прозвучало.
Эленка ушла из журнала в другой, про какую-то промышленность, Георгий перешел преподавать математику в университет, но часто, гуляя вдоль парка в разные дни, они мечтали встретиться, но нечаянно, как будто случайно… Хотя каждый из них не знал, что будет говорить в таком случае. Потом Георгий переехал в другой город и сюда больше не возвращался.
* * *
Заваливается горизонт, отплывает медленный и горячий день, где-то плещется тёплое море, вьюжит снизу мелкий песок, и прожито, кажется, полжизни, лучшая половина, скорее всего. Георгий Анатольевич стал толст и лыс, по-прежнему читал лекции в университете, и про его лысину неприятно шутили юные студентки, но пятьдесят пять все-таки было позади. Каждое лето он приезжал на этот солнечный берег, чтобы окунуть свое рыхлое белое тело в прозрачную воду беспечности, каждый день съедал любимое фруктовое мороженое, грелся на городском пляже, куда каждое утро его доставляла старая маршрутка.
Однажды, подходя к лавке с мороженым, он вздрогнул – за его спиной тонкой струйкой лился когда-то любимый, совсем не изменившийся голос, от которого веяло молодостью. Он с трудом повернулся и встретился взглядом с Элен – порывом ветра с неё сорвало смешную огромную шляпу, и он, несмотря на свой вес, бросился, как мальчишка, ловить эту шляпу. Элен смеялась, как и прежде, смеялась от души, и казалось, не было и целой жизни – как будто только что столкнулись лбами в любимом парке, где-то рядом воркуют голуби, мороженое, ветер, жара…
Она сильно поправилась, замуж так и не вышла, да и он не женился – с головой ушел в свои лекции. Она работала экскурсоводом, возила престарелых бабушек на море, рассказывая им о писателях и их любовных похождениях, вытирая платочком пот со лба. Её взгляд из ведомственного Икаруса на длинную нитку дороги теперь был строг, словно в нём какой-то неведомой болью отзывались прожитые годы. Она была счастлива.
Она думала, что так будет говорить ему.
Теперь они сидели на крыльце старого, обшарпанного черноморского пансионата, бросали хлебные крошки голубям и... молчали.
Георгий пытался улыбаться – лицо передёргивало. Пытался найти слова, но где там… «Сейчас, сейчас, – думал он. – Сейчас или никогда».
– Чего это мы… хм, молчим… хм... – выдавливал он из себя.
– А дело в том… что нам нечего больше сказать друг другу, – вяло бросила фразу Элен.
– Ну… как…
– Так, – она прикрыла глаза.
– А как ты… как ты жила все эти годы?
– Просто.
– А…
– Нет, нет, Георгий. Давай просто... просто помолчим.
– Хм.
Первый цветок оказался в её руках, когда ей было восемь. Мальчик мельком заглянул ей в глаза, протянул небольшую белую розу и как-то грустно посмотрел ввысь. С неба на них смотрели белые облака, и казалось, облака улыбались – столько вокруг было разлито радости и счастья…
– Почему ты молчишь? – спросила девочка.
– А разве нужно что-то говорить? – ответил мальчик.
– Да, когда взрослые дарят цветы, они говорят…
– Я не знаю… не знаю, что говорить… – мальчик заметно стеснялся. – Мне кажется, и так всё понятно, без слов…
Он и потом, часто провожая её, как-то задумчиво улыбался, глядя ей в глаза, дарил цветы, красивые открытки с видами городов, тоненькие книги с картинками. Дарил, протягивая подарок, а сам улыбался и… молчал.
Через несколько лет, уже заканчивая школу, он провожал её домой, нёс сумку с учебниками и снова молчал.
А она…
Тогда она верила в то, что можно и не говорить. Что в молчании скрывается что-то важное. И можно просто держать его за руку. И идти рядом.
Она поступила на журналистику, он – на математический, но все равно, как только выпадало свободное от лекций время, они вместе, бросив своих студенческих друзей и подруг, на невидимых крыльях слетались в парк. Сидели до поздних фонарей, бросая подсолнечные семечки и черствый хлеб голубям. И почти не разговаривали.
Нет, они, конечно, не молчали всё это время. Веселая, жизнерадостная Эленка (так звали ту самую девочку) постоянно рассказывала Георгию новости о своей студенческой жизни, сдабривая их свежими подробностями, «где, кто и, главное, с кем», делилась впечатлениями о преподах («Ой, ну, этот, историк наш лысый, такой сухарь…»), рассказывала о жизни в общаге, куда он не любил приходить, и строила планы. Эти жизненные планы Эленке удавались лучше всего.
Георгий, крепко сцепив тонкие губы, молчал, изредка вставляя свои довольно категорические оценки, или просто качал головой. Эленка уже привыкла к его немногословию, она особенно не ждала высоких эпитетов и ярких чувств. Она знала, что все чувства он носит где-то внутри себя. И если нужно будет (а девушка всегда считает, что когда-нибудь «нужно будет»), Гера мог и был готов… ну, в общем, она считала его лучшей партией, чем те, которые с утра до ночи горлопанили песни в общаге, препирались с преподом из-за оценки и устраивали скандальные шоу на лекциях.
Георгий был математиком. Эту точную науку он полюбил ещё в детстве, когда полуглуховатый и скрюченный болезнью двоюродный дядя рассказал ему о спиральных кругах, по которым «рассаживаются» обычные семечки в подсолнухе или «строятся» в бутоне лепестки некоторых цветов – маленький Георгий пытался понять этот феномен и рисовал, рисовал, строил спирали и снова рисовал, пока не засыпал с карандашом в руке. Эти неведомые и загадочные спирали невозможно было объяснить простым человеческим языком, тут нужны были цифры.
И Георгий с ними крепко подружился.
Он перестал общаться со сверстниками, записался в математическую школу и не показывался на улице, не обращая внимания на пальцы, которыми крутили у виска продвинутые соседские мальчишки. Он понимал, что перед ним открылся весь мир, но «открылся» довольно странной стороной – ему казалось, что он начал постигать тайные законы построения красоты и гармонии в мире. Но что бросалось ему в глаза: никому, кроме него, эти законы были не нужны. Все соглашались, что раковина – красивая штуковина, которая валяется на дне океана, соглашались, что семечки в подсолнухе вкусные (если не пережарить), но про золотое сечение мало кто догадывался. А уж про числа Фибоначчи вообще никто не знал. С тех пор Георгий сидел за партой позади Эленки и сверлил, сверлил своими острыми глазами её длинные крючковатые косички. И… молчал.
С косичками она рассталась в один день со школой – лень было расчесывать спутавшиеся волосы каждое утро, да и не модно стало. В институте все носили модные прически, часто меняли их: Эленка не могла отставать. Но каждый раз, когда она спрашивала Георгия его мнение о новой прическе, он, вспоминая переплетенные спирали юных волос, вздрагивал и отмалчивался.
Порой Эленку это раздражало.
– Ну можно хоть что-то сказать? – всхлипывала она.
– А что сказать-то? – выводил её из себя Георгий.
– Что-что? Ну что говорят люди в таком случае?
– Я не знаю, что говорят люди. Люди вообще существа странные.
– Почему?
– Потому что не замечают вокруг себя самого главного.
– Какого главного?
– Ты посмотри! – Георгий доставал листы бумаги, на которых были изображены различного вида спирали. – Посмотри, разве ты не видишь, какая гармония царит в мире, здесь все просчитано, посмотри… Эх!
– Какое это имеет отношение к жизни, ты, математик? – Эленка ревела и бросалась к себе домой. Дома её ждала больная мать и выцветшие фотографии отца – утешать было некому.
Наутро Георгий молча приходил, молча гладил её новое каре, и они снова летели на крыльях в парк кататься на роликах и есть фруктовое мороженое.
Так по невидимой молчаливой спирали двигались и развивались их отношения, пока не подошли к «несгораемой сумме». В один день Георгий молча сунул Эленке открытку, на которой были нарисованы тринадцать сердечек (любимое число!) и торопливо вытащил из кармана заветную коробочку.
– Ой, – только и выдавила из себя Эленка. – Это что, кольца?
– Да! – выпалил Георгий, раскрывая коробочку.
Блеснуло солнце, затрепетало вокруг ярким светом, сердце, казалось, разорвётся от переполнявших чувств…
Двадцать первого марта сыграли свадьбу.
Она ещё много лет вспоминала, как же так произошло, что и в самый ответственный момент он, её молчаливый и задумчивый Георгий, кроме заветного «да» практически не сказал ни слова о своих чувствах. Не сказал ни слова…
Вставая рано утром, он молча перемывал горы посуды, оставшиеся от вечерних посиделок с друзьями, потом будил её, поглаживая её нежную пяточку стебельком сухой травы, целовал в лоб и, наскоро бросив бумаги в портфель, отправлялся в институт. Эленка, потягиваясь в кровати до обеда, мечтала о детях, о новой работе в новом журнале и с этими мечтами ждала Георгия вечером домой.
Через пять лет Георгий стал пропадать на работе – на горизонте замаячила кандидатская. Эленка мучилась одиночеством, изредка разбавляя его подругами-журналистками, подругами-редакторами и просто подругами. Разговоры лились по кругу, и казалось, что все они исходили из единого, центрального чувства, которое и объединяло всех её подруг – из зависти. Нет, они завидовали не Эленке, которая слонялась без нормальной работы из редакции в редакцию, они завидовали всем тем, кто был выше, ездил отдыхать дальше и тратил на это больше. Не могли они без этого жить. Это отравляло и одновременно заставляло ползти на невидимую вершину жизни ввысь, невзирая на то, что отравленный «высокий» городской воздух не давал дышать полной грудью.
Трудно было дышать… Казалось, стянутые стальным ободом легкие вот-вот взорвутся, и этот заколдованный круг зависти превратится в нескончаемую спираль…
Георгий успешно защитился, но развивать тему его мудреной кандидатской, связанной с числами Фибоначчи, кто-то «сверху» не позволил, направив его потенциал куда-то ближе к оборонке. Георгия нельзя было узнать – улыбка раз и навсегда пропала с лица, не увлекали теперь его ни вечерние посиделки с друзьями, ни книги, ни расклеивание любимых открыток с видами городов, ни витиеватые рисунки спиралей внутри подсолнечника… ничего.
Как-то гуляя, они вдвоем проходили мимо парка, в котором им была знакома каждая скамейка, и каждый думал о другом: «А вспомнит ли?» Думали, вспоминали, ожидали… так в ожидании и прошли мимо, оставив позади лучшие годы своей жизни.
Спирали жизни закрутились сильнее в наступившей осени. Все произошло настолько быстро, что никто из них двоих так и не понял: почему так? И почему так стремительно? Эленка вышла на работу в очередной журнал, нарадоваться не могла: свободный график, хорошая зарплата и минимум обязанностей. Мечта! На очередной планерке кто-то предложил записать интервью с известным математиком, и Эленка не смогла не похвастаться, что её-то Георгий не настолько известный, но такой тала-а-а-антливый математик… Так и оказалась в квартире Георгия красавица Жанна.
Пришла брать интервью.
Войдя в квартиру, как обычно, Эленка впала в ступор: Георгий, до этого момента молчавший десять с лишним лет, тараторил, не переставая, перескакивая с доказательства одной теоремы на другое. Глаза его выражали не просто восторг – он «глотал» феромоны красавицы Жанны, заглатывая их пачками, казалось, он был готов на всё, лишь бы эти зеленые глаза не уходили… Приоткрытую Эленкой дверь на кухне он даже не заметил.
Это был удар.
Не разговаривать два дня с Георгием – для него не наказание. Наказание было больше для неё: зачем она ляпнула про своего математика Жанне? Выговорившись в гостях у своей больной матери, Эленка получила от неё «приговор»: нужно показать ему, что он неправ.
Над сюжетом «приговора» Эленка думала недолго, но спохватилась только тогда, когда очутилась в кровати своего давнего знакомого – известного журналиста-международника, который лет пять приставал с ухаживаниями, но не получал взаимности. Теперь она почувствовала, что перестаралась…
Всё ещё можно было бы исправить, но у некоторых пишущих талантов стремление сделать из успехов своей жизни новость для всех – в крови.
Тем более, у журналистов…
Георгий узнал «всё» спустя неделю от той самой Жанны, которая не упустила возможность «отомстить» ненавистной теперь уже сопернице. Он хлопнул дверью, вышел в осеннюю ночь и бродил по Бульварному кольцу до утра. На холодном вокзале взял билет и сел в ближайший поезд, даже не представляя, куда отправляется.
Померкло солнце, перестало трепетать вокруг ярким светом, сердце, казалось, превращается в маленький бесчувственный комочек.
Он и действительно уехал в неизвестном направлении, сидел и мучительно соображал, почему числа, поставленные в определенном порядке, образуют красивую и стройную гармонию рисунка, а он – какой шаг ни сделает, везде спотыкается, везде находит препятствие, и жизнь идет кувырком, ломается, извивается дугой и бьёт по голове.
Он вышел из поезда, глядя на звезды, и долго бродил в наступающих сумерках какого-то поселка, спрашивал дорогу к гостинице, которой там отродясь не было. В голове судорожно строились, словно иксы и игреки, вопросы, и не было ни одного решения. Это была не жизнь, это была теорема, которой еще никто не нашёл доказательства. Он должен был сделать это сам… Но стремительные выкладки со всеми неизвестными затмевали чувства, не давали думать.
Им было по тридцать четыре, и всё рассыпалось.
В конце того дождливого осеннего месяца они развелись. И никому в голову не пришло остановиться в этой разрушительной гонке – мелкие, тонкие и чувствительные человеческие отношения превратились в многотонный металлический ротор, который под страшным напором воды взрывает крышку турбины и юлой летит, словно по спирали, сметая все живое на своем пути.
А ведь нужно было всего одно слово.
Но оно не прозвучало.
Эленка ушла из журнала в другой, про какую-то промышленность, Георгий перешел преподавать математику в университет, но часто, гуляя вдоль парка в разные дни, они мечтали встретиться, но нечаянно, как будто случайно… Хотя каждый из них не знал, что будет говорить в таком случае. Потом Георгий переехал в другой город и сюда больше не возвращался.
* * *
Заваливается горизонт, отплывает медленный и горячий день, где-то плещется тёплое море, вьюжит снизу мелкий песок, и прожито, кажется, полжизни, лучшая половина, скорее всего. Георгий Анатольевич стал толст и лыс, по-прежнему читал лекции в университете, и про его лысину неприятно шутили юные студентки, но пятьдесят пять все-таки было позади. Каждое лето он приезжал на этот солнечный берег, чтобы окунуть свое рыхлое белое тело в прозрачную воду беспечности, каждый день съедал любимое фруктовое мороженое, грелся на городском пляже, куда каждое утро его доставляла старая маршрутка.
Однажды, подходя к лавке с мороженым, он вздрогнул – за его спиной тонкой струйкой лился когда-то любимый, совсем не изменившийся голос, от которого веяло молодостью. Он с трудом повернулся и встретился взглядом с Элен – порывом ветра с неё сорвало смешную огромную шляпу, и он, несмотря на свой вес, бросился, как мальчишка, ловить эту шляпу. Элен смеялась, как и прежде, смеялась от души, и казалось, не было и целой жизни – как будто только что столкнулись лбами в любимом парке, где-то рядом воркуют голуби, мороженое, ветер, жара…
Она сильно поправилась, замуж так и не вышла, да и он не женился – с головой ушел в свои лекции. Она работала экскурсоводом, возила престарелых бабушек на море, рассказывая им о писателях и их любовных похождениях, вытирая платочком пот со лба. Её взгляд из ведомственного Икаруса на длинную нитку дороги теперь был строг, словно в нём какой-то неведомой болью отзывались прожитые годы. Она была счастлива.
Она думала, что так будет говорить ему.
Теперь они сидели на крыльце старого, обшарпанного черноморского пансионата, бросали хлебные крошки голубям и... молчали.
Георгий пытался улыбаться – лицо передёргивало. Пытался найти слова, но где там… «Сейчас, сейчас, – думал он. – Сейчас или никогда».
– Чего это мы… хм, молчим… хм... – выдавливал он из себя.
– А дело в том… что нам нечего больше сказать друг другу, – вяло бросила фразу Элен.
– Ну… как…
– Так, – она прикрыла глаза.
– А как ты… как ты жила все эти годы?
– Просто.
– А…
– Нет, нет, Георгий. Давай просто... просто помолчим.
– Хм.

Павел КИСЕЛЕВ
Родился в городе-герое Новороссийске. Свою писательскую деятельность начал ещё со школы, участвуя в конкурсах сочинений, после чего навсегда влюбился в литературную романтику. Всегда вдохновлялся подвигами настоящих героев, защищавших свою честь и честь своей Родины. Обучается в филиале Военной Академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов и продолжает работать над собственным сборником рассказов различных жанров. Непоколебимо верит в победу любви и добра над злом. Дважды участник Военного Парада на Красной Площади, посвященному Победе в Великой Отечественной войне.
Родился в городе-герое Новороссийске. Свою писательскую деятельность начал ещё со школы, участвуя в конкурсах сочинений, после чего навсегда влюбился в литературную романтику. Всегда вдохновлялся подвигами настоящих героев, защищавших свою честь и честь своей Родины. Обучается в филиале Военной Академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов и продолжает работать над собственным сборником рассказов различных жанров. Непоколебимо верит в победу любви и добра над злом. Дважды участник Военного Парада на Красной Площади, посвященному Победе в Великой Отечественной войне.
СПАСАТЕЛЬ ИЛИ СПАСИТЕЛЬ?
Жизнь человека – это извилистая дорога, которая заводит своими поворотами то в хорошую сторону, то в плохую. У кого-то эта дорога донельзя прямая, катишь по ней, как по трассе, живёшь припеваючи. А кого-то жизнь проводит через самые дебри, по каменистой дороге, полной колючих зарослей и других препятствий. Оттого и случаются в нашей жизни трудности и несчастья, с которыми приходится мириться и смиренно переживать. Я думаю, что нет на Земле человека, который бы ни разу за свою жизнь не шёл по такому пути, и очень важно не потерять стойкость и рассудок, чтобы потом не совершать глупые, а порой даже дикие поступки, захлебнувшись злыми мотивами.
В тот момент, когда к нам пришёл новый учитель ОБЖ Татарников Владимир Викторович, я заканчивал одиннадцатый класс. К тому моменту я уже давно упустил так называемый «культ учёбы» в своей душе − у меня были совсем другие увлечения и цели в жизни, и в школьном круговороте событий я не особо участвовал, а лишь наблюдал со стороны, будто сидя в кинотеатре с ведром попкорна: девчонки с нашими парнями очень быстро образуют новые парочки и так же быстро расстаются, оставляя лишь сплетни и нелепые ситуации, а учителя тщетно продолжают лепить из нас «что-то дельное». Точно так же мне не был интересен и предмет, который читал нам новый преподаватель, но, узнав этого человека поближе, я начал питать тягу к его урокам, но не из-за самой дисциплины, а из-за загадочности Владимира Викторовича.
С первого дня своей работы он всем казался замкнутым и совсем не общительным. Вид у него весьма простой: одевался он довольно скромно, как пенсионер, несмотря на молодой возраст, а короткая стрижка придавала слегка грозный вид его хмурости, не дающая довериться при общении. Его невзрачность говорила о том, что он вовсе не потакал моде и определённым правилам, никого не преследовал, казалось, он живёт в своём маленьком мирке и никого в него не пускал. Позже наша классная руководительница выдала тайну, о которой проболталась ей завуч, что он на самом деле, потеряв родителей на Донбассе, стал участником спецоперации на Украине, был дважды ранен, служил в инженерной роте сапёром и по совместительству – минёром. Слух этот разлетелся среди одноклассников очень быстро, и всем стало ясно, что человек, прошедший войну, вряд ли может быть позитивным добряком. За его прошлую деятельность среди нас Владимира Викторовича теперь пафосно стали называть «подрывник».
Шли дни, и мы стали замечать, как человек-серая туча научился улыбаться, стал здороваться с другими учителями и понемногу светлел на глазах. Знаменательным моментом стал день, когда он впервые на работу надел ярко-красный галстук, что для всех было новинкой. Все догадки о том, что же с ним случилось, тут же развеялись, как туман, когда все стали замечать его чересчур частое общение с нашей молодой учительницей литературы Донич Натальей Юрьевной, и сразу стало понятно, что у недавних коллег по работе завязывается роман. Наталья была невысокого роста, тёмная короткая стрижка и строгий бежевый пиджак делали её старше своих лет. Но несмотря на вид, она была очень дружелюбным и позитивным человеком. Неудивительно, что такой лучик света приглянулся нашему герою.
− А подрывник-то наш − парень не из робких! − шептались между собой ученики. И в самом деле, их дружеское общение быстро переросло в большую любовь. Смотреть на них было одно удовольствие: ходили всегда вместе, после работы вдали от школы гуляли, держась за руки – какова романтика! Все девчонки завидуют. Самое прекрасное чувство на свете раскрепостило нашего мрачного учителя, словно от луча утреннего солнца оживились в нём все положительные черты, которые он нарочно утаил в себе и посчитал никогда и никому не раскрывать их из-за всех трагических событий, произошедших с ним на его жененном пути. Владимира Викторовича будто бы подменили, когда они с Натальей Юрьевной стали жить вместе. И предмет его стал интереснее, и общаться с ним стало приятнее!
Но через пару месяцев на полотне их совместной жизни после ярких красок стали очень отчётливо проявляться тёмные пятна… Из учительской всё чаще стали слышны крики и ругательства, всё реже и реже их можно было видеть вдвоём, а на занятия оба приходили хмурыми и сердитыми, что явно отражалось на подаче учебного материала. Проходя мимо их кабинета, я случайно подслушал, как Владимир в чём-то строго обвиняет Наталью, и мне стало не по себе.
− Чтобы я больше не видел тебя рядом с ним, тебе ясно?! – отчётливо раздалось за закрытой дверью. Мне сразу стало ясно – ядовитая гадюка по имени Ревность вмешалась в их личную жизнь и стала медленно отравлять чувства влюблённых. Последней каплей для Натальи Юрьевны стал инцидент, когда Владимир Викторович чуть не подрался с нашим физруком в порыве очередного приступа ничем не обоснованной ревности. С тех пор корабль любви нашей излюбленной пары раскололся на две части и пошёл ко дну, подобно тем самым парочкам, которые постоянно образовывались и распадались среди девочек и парней.
Недавно у нашего Ромео был день рождения, на который он торжественно звал всех своих коллег, в том числе и Наталью Юрьевну в надежде помириться и вернуть любви былую страсть. Всё-таки не может сердитый вояка прожить без женщины, что удалось растопить вечную мерзлоту его зачерствевшего сердца. Но, увы, Наталья оказалась не из простых дам, гордость не дала ей переступить свои принципы, и Владимир получил отказ, который шальной пулей на поле боя пронзил его грудь насмерть.
Как позже сказали другие учителя, празднование именин тогда не состоялось… Владимир уже неделю не появлялся на работе. Кто-то из учеников пустил слух о том, как заметил учителя в жутком виде на входе ларька с пакетом двух бутылок водки, и как тот на добродушное «здравствуйте» ответил лишь хрипом. Всем стало жалко нашего бедного учителя ОБЖ, он не отвечал на звонки и беспокоил всех своим состоянием.
Через какое-то время все уже смирились с увольнением Владимира Викторовича, но в один из ничего не предвещающих дней он слишком дерзко напомнил о себе. В тот момент к нам в школу прибыл сотрудник МЧС – высокий, крупный, статный мужчина, с проверкой пожарной безопасности в школе, хотя на его красивой форме была ярко выраженная надпись «спасатель». Впрочем, никого это не волновало, уроки шли в обычном ритме, а долгожданная перемена сменяла обстановку. Внезапно монотонный гул разговоров в коридоре нарушил громкий крик одной из учительниц, все обернулись и увидели обезумевшего Татарникова, повалившего на пол охранника школы.
− Всем лечь на пол! Никому не двигаться! Иначе я взорву здесь всё к чертям! Приведите мне сюда Наташу! Живо!!! – орал во весь голос бывший учитель с большой самодельной бомбой в руке. Владимир Викторович подтвердил своё прозвище, данное ему среди учеников… В школе начался хаос, испуганные дети из классов в панике ломились к запасному выходу, началась давка, крики и плач наполнили стены школы животным страхом. Среди толпы пыталась пробраться Наталья навстречу бывшему возлюбленному, чтобы утихомирить и спасти детей.
− Вова! Давай поговорим! Успокойся! Отпусти детей, это не их дело, они ни в чём не виноваты! – в слезах кричала учительница литературы.
− Подойди поближе, и никто не пострадает! Наташа, ты веришь мне?! – кричал безумец.
Наталья Юрьевна стала медленно подходить к террористу, пробираясь через тела испуганных, плачущих, лежащих на полу детей. Но сумасшедший учитель не сдержал слово и, схватив её за руку, прижал к себе.
− Ты будешь со мной? Ты простишь меня?! Мы должны быть вдвоём! Отвечай, ну! Или мы умрём вместе! – угрожал он.
Услышав высокую ноту громких детских криков аж из соседнего крыла здания, в эту минуту, аккуратно подкравшись вдоль стены в коридор, сотрудник МЧС решил внезапно остановить катастрофу и помочь заложникам.
− Стой! Остановись! – прокричал спасатель.
− Прошу тебя, пойми, что делаешь! Я знаю, какого это жить с невзаимной любовью, каковÓ это быть непонятым и брошенным всеми. Но в этом нет вины окружающих, тем более маленьких детей! – пытался спокойным голосом сказать он, хотя сам при этом испытывает нечеловеческое волнение и ответственность за десятки душ.
− Отвали! Закрой рот! Кто ты такой вообще? Ты ничего не понимаешь! Не лезь не в своё дело! – перебивал его Татарников.
Спасатель медленно, с поднятыми руками подходит к террористу. Его сердце вот-вот готово выскочить из груди от страха, холодный пот стекает ручьями по его вискам, ведь именно от его действий сейчас зависит исход ситуации.
− Давай поговорим, отпусти девушку, и мы во всём разберёмся… − уговаривал сотрудник подрывника. − Только без резких движений, подумай о детях, которые могут пострадать… Медленно передай мне бомбу…
− Это наше дело! Не лезь, легавый! – злобно ответил террорист.
− Вова, прошу, сделай, как он говорит… Я на всё согласна… − стиснув зубы и скрывая плач произнесла Наталья.
− Мы все услышали твои требования, давай спокойно поговорим в стороне, обещаю, что никто тебя не выдаст полиции. Я уверен, Наталья поняла тебя, но нельзя строить любовь из насилия и жесткости. Вы должны обсудить всё, но на спокойных тонах, без угрозы окружающим. Посмотри на этих детей, они не должны страдать. Прошу, подумай обо всех нас. Отпусти девушку и отдай мне бомбу, только медленно, − продолжает разговор спасатель.
Владимир замолчал и уронил взгляд, полный отчаяния и боли, на пол. Кажется, он осознал, что натворил, и что такими действиями свою любовь точно не вернёт, а глубокая рана в сердце не затянется… Он медленно ослабил хватку, опустил руку с бомбой вниз. Но как только Наталья смогла выбраться из лап смерти и убежать, террорист пришёл в бешенство − психологические переговоры резко сошли на нет.
− Наташа! Ты куда?! Ты меня обманула! Ненавижу вас всех! Дети, разбегайтесь, бегите кто куда, потому что сейчас вы погибнете!
В ту же секунду спасатель набросился на злодея. Владимир сопротивлялся, пытаясь нажать на кнопку детонации, но спасатель оттягивал момент как можно дольше, чтобы все эвакуировались из здания. Мы поднялись с пола и рванули к ближайшему выходу школы, Донич до последнего держала дверь и выбежала последней. Прогремел взрыв. Все окна школы с оглушительным треском были выбиты волной, а стены ближайших кабинетов разорвало на куски, будто страшные злые силы вырвались из ада и стали в ярости разрушать всё вокруг.
В панике ученики на школьном дворе разбежались во все стороны, а шокированная Наталья и другие учителя стали собирать детей, чтобы пересчитать и осмотреть на наличие травм. Подоспевшие кареты Скорой помощи, пожарные машины и полиция быстро кинулись на помощь.
Впоследствии, разгребая завалы, пожарные обнаружили только лишь останки тел принёсшего зло учителя и сразившегося с ним спасателя, а всем нуждающимся были оказаны помощь и поддержка. Нахлынувшие журналисты окружили очевидцев, как коршуны, они налетали на каждого, кто присутствовал тогда в здании школы. Особенно привлекала внимание публики Наталья, ведь она – героиня этого события.
− Как Вы чувствуете себя после произошедшего? Сильно ли Вам было страшно, находясь в когтях злодея? КаковÓ это быть жертвой и причиной всех этих событий? – нападала пресса на несчастную Наталью, ещё не успевшую прийти в себя после теракта.
− Я вам скажу только одно… Если бы не тот сотрудник МЧС, исход ситуации был бы куда более трагичен… Я… Я бы сейчас не стояла здесь перед вами… − расплакалась девушка.
− Кто же этот таинственный герой? Простой спасатель?
− Нет, он не просто спасатель… Он – спаситель…
Жизнь человека – это извилистая дорога, которая заводит своими поворотами то в хорошую сторону, то в плохую. У кого-то эта дорога донельзя прямая, катишь по ней, как по трассе, живёшь припеваючи. А кого-то жизнь проводит через самые дебри, по каменистой дороге, полной колючих зарослей и других препятствий. Оттого и случаются в нашей жизни трудности и несчастья, с которыми приходится мириться и смиренно переживать. Я думаю, что нет на Земле человека, который бы ни разу за свою жизнь не шёл по такому пути, и очень важно не потерять стойкость и рассудок, чтобы потом не совершать глупые, а порой даже дикие поступки, захлебнувшись злыми мотивами.
В тот момент, когда к нам пришёл новый учитель ОБЖ Татарников Владимир Викторович, я заканчивал одиннадцатый класс. К тому моменту я уже давно упустил так называемый «культ учёбы» в своей душе − у меня были совсем другие увлечения и цели в жизни, и в школьном круговороте событий я не особо участвовал, а лишь наблюдал со стороны, будто сидя в кинотеатре с ведром попкорна: девчонки с нашими парнями очень быстро образуют новые парочки и так же быстро расстаются, оставляя лишь сплетни и нелепые ситуации, а учителя тщетно продолжают лепить из нас «что-то дельное». Точно так же мне не был интересен и предмет, который читал нам новый преподаватель, но, узнав этого человека поближе, я начал питать тягу к его урокам, но не из-за самой дисциплины, а из-за загадочности Владимира Викторовича.
С первого дня своей работы он всем казался замкнутым и совсем не общительным. Вид у него весьма простой: одевался он довольно скромно, как пенсионер, несмотря на молодой возраст, а короткая стрижка придавала слегка грозный вид его хмурости, не дающая довериться при общении. Его невзрачность говорила о том, что он вовсе не потакал моде и определённым правилам, никого не преследовал, казалось, он живёт в своём маленьком мирке и никого в него не пускал. Позже наша классная руководительница выдала тайну, о которой проболталась ей завуч, что он на самом деле, потеряв родителей на Донбассе, стал участником спецоперации на Украине, был дважды ранен, служил в инженерной роте сапёром и по совместительству – минёром. Слух этот разлетелся среди одноклассников очень быстро, и всем стало ясно, что человек, прошедший войну, вряд ли может быть позитивным добряком. За его прошлую деятельность среди нас Владимира Викторовича теперь пафосно стали называть «подрывник».
Шли дни, и мы стали замечать, как человек-серая туча научился улыбаться, стал здороваться с другими учителями и понемногу светлел на глазах. Знаменательным моментом стал день, когда он впервые на работу надел ярко-красный галстук, что для всех было новинкой. Все догадки о том, что же с ним случилось, тут же развеялись, как туман, когда все стали замечать его чересчур частое общение с нашей молодой учительницей литературы Донич Натальей Юрьевной, и сразу стало понятно, что у недавних коллег по работе завязывается роман. Наталья была невысокого роста, тёмная короткая стрижка и строгий бежевый пиджак делали её старше своих лет. Но несмотря на вид, она была очень дружелюбным и позитивным человеком. Неудивительно, что такой лучик света приглянулся нашему герою.
− А подрывник-то наш − парень не из робких! − шептались между собой ученики. И в самом деле, их дружеское общение быстро переросло в большую любовь. Смотреть на них было одно удовольствие: ходили всегда вместе, после работы вдали от школы гуляли, держась за руки – какова романтика! Все девчонки завидуют. Самое прекрасное чувство на свете раскрепостило нашего мрачного учителя, словно от луча утреннего солнца оживились в нём все положительные черты, которые он нарочно утаил в себе и посчитал никогда и никому не раскрывать их из-за всех трагических событий, произошедших с ним на его жененном пути. Владимира Викторовича будто бы подменили, когда они с Натальей Юрьевной стали жить вместе. И предмет его стал интереснее, и общаться с ним стало приятнее!
Но через пару месяцев на полотне их совместной жизни после ярких красок стали очень отчётливо проявляться тёмные пятна… Из учительской всё чаще стали слышны крики и ругательства, всё реже и реже их можно было видеть вдвоём, а на занятия оба приходили хмурыми и сердитыми, что явно отражалось на подаче учебного материала. Проходя мимо их кабинета, я случайно подслушал, как Владимир в чём-то строго обвиняет Наталью, и мне стало не по себе.
− Чтобы я больше не видел тебя рядом с ним, тебе ясно?! – отчётливо раздалось за закрытой дверью. Мне сразу стало ясно – ядовитая гадюка по имени Ревность вмешалась в их личную жизнь и стала медленно отравлять чувства влюблённых. Последней каплей для Натальи Юрьевны стал инцидент, когда Владимир Викторович чуть не подрался с нашим физруком в порыве очередного приступа ничем не обоснованной ревности. С тех пор корабль любви нашей излюбленной пары раскололся на две части и пошёл ко дну, подобно тем самым парочкам, которые постоянно образовывались и распадались среди девочек и парней.
Недавно у нашего Ромео был день рождения, на который он торжественно звал всех своих коллег, в том числе и Наталью Юрьевну в надежде помириться и вернуть любви былую страсть. Всё-таки не может сердитый вояка прожить без женщины, что удалось растопить вечную мерзлоту его зачерствевшего сердца. Но, увы, Наталья оказалась не из простых дам, гордость не дала ей переступить свои принципы, и Владимир получил отказ, который шальной пулей на поле боя пронзил его грудь насмерть.
Как позже сказали другие учителя, празднование именин тогда не состоялось… Владимир уже неделю не появлялся на работе. Кто-то из учеников пустил слух о том, как заметил учителя в жутком виде на входе ларька с пакетом двух бутылок водки, и как тот на добродушное «здравствуйте» ответил лишь хрипом. Всем стало жалко нашего бедного учителя ОБЖ, он не отвечал на звонки и беспокоил всех своим состоянием.
Через какое-то время все уже смирились с увольнением Владимира Викторовича, но в один из ничего не предвещающих дней он слишком дерзко напомнил о себе. В тот момент к нам в школу прибыл сотрудник МЧС – высокий, крупный, статный мужчина, с проверкой пожарной безопасности в школе, хотя на его красивой форме была ярко выраженная надпись «спасатель». Впрочем, никого это не волновало, уроки шли в обычном ритме, а долгожданная перемена сменяла обстановку. Внезапно монотонный гул разговоров в коридоре нарушил громкий крик одной из учительниц, все обернулись и увидели обезумевшего Татарникова, повалившего на пол охранника школы.
− Всем лечь на пол! Никому не двигаться! Иначе я взорву здесь всё к чертям! Приведите мне сюда Наташу! Живо!!! – орал во весь голос бывший учитель с большой самодельной бомбой в руке. Владимир Викторович подтвердил своё прозвище, данное ему среди учеников… В школе начался хаос, испуганные дети из классов в панике ломились к запасному выходу, началась давка, крики и плач наполнили стены школы животным страхом. Среди толпы пыталась пробраться Наталья навстречу бывшему возлюбленному, чтобы утихомирить и спасти детей.
− Вова! Давай поговорим! Успокойся! Отпусти детей, это не их дело, они ни в чём не виноваты! – в слезах кричала учительница литературы.
− Подойди поближе, и никто не пострадает! Наташа, ты веришь мне?! – кричал безумец.
Наталья Юрьевна стала медленно подходить к террористу, пробираясь через тела испуганных, плачущих, лежащих на полу детей. Но сумасшедший учитель не сдержал слово и, схватив её за руку, прижал к себе.
− Ты будешь со мной? Ты простишь меня?! Мы должны быть вдвоём! Отвечай, ну! Или мы умрём вместе! – угрожал он.
Услышав высокую ноту громких детских криков аж из соседнего крыла здания, в эту минуту, аккуратно подкравшись вдоль стены в коридор, сотрудник МЧС решил внезапно остановить катастрофу и помочь заложникам.
− Стой! Остановись! – прокричал спасатель.
− Прошу тебя, пойми, что делаешь! Я знаю, какого это жить с невзаимной любовью, каковÓ это быть непонятым и брошенным всеми. Но в этом нет вины окружающих, тем более маленьких детей! – пытался спокойным голосом сказать он, хотя сам при этом испытывает нечеловеческое волнение и ответственность за десятки душ.
− Отвали! Закрой рот! Кто ты такой вообще? Ты ничего не понимаешь! Не лезь не в своё дело! – перебивал его Татарников.
Спасатель медленно, с поднятыми руками подходит к террористу. Его сердце вот-вот готово выскочить из груди от страха, холодный пот стекает ручьями по его вискам, ведь именно от его действий сейчас зависит исход ситуации.
− Давай поговорим, отпусти девушку, и мы во всём разберёмся… − уговаривал сотрудник подрывника. − Только без резких движений, подумай о детях, которые могут пострадать… Медленно передай мне бомбу…
− Это наше дело! Не лезь, легавый! – злобно ответил террорист.
− Вова, прошу, сделай, как он говорит… Я на всё согласна… − стиснув зубы и скрывая плач произнесла Наталья.
− Мы все услышали твои требования, давай спокойно поговорим в стороне, обещаю, что никто тебя не выдаст полиции. Я уверен, Наталья поняла тебя, но нельзя строить любовь из насилия и жесткости. Вы должны обсудить всё, но на спокойных тонах, без угрозы окружающим. Посмотри на этих детей, они не должны страдать. Прошу, подумай обо всех нас. Отпусти девушку и отдай мне бомбу, только медленно, − продолжает разговор спасатель.
Владимир замолчал и уронил взгляд, полный отчаяния и боли, на пол. Кажется, он осознал, что натворил, и что такими действиями свою любовь точно не вернёт, а глубокая рана в сердце не затянется… Он медленно ослабил хватку, опустил руку с бомбой вниз. Но как только Наталья смогла выбраться из лап смерти и убежать, террорист пришёл в бешенство − психологические переговоры резко сошли на нет.
− Наташа! Ты куда?! Ты меня обманула! Ненавижу вас всех! Дети, разбегайтесь, бегите кто куда, потому что сейчас вы погибнете!
В ту же секунду спасатель набросился на злодея. Владимир сопротивлялся, пытаясь нажать на кнопку детонации, но спасатель оттягивал момент как можно дольше, чтобы все эвакуировались из здания. Мы поднялись с пола и рванули к ближайшему выходу школы, Донич до последнего держала дверь и выбежала последней. Прогремел взрыв. Все окна школы с оглушительным треском были выбиты волной, а стены ближайших кабинетов разорвало на куски, будто страшные злые силы вырвались из ада и стали в ярости разрушать всё вокруг.
В панике ученики на школьном дворе разбежались во все стороны, а шокированная Наталья и другие учителя стали собирать детей, чтобы пересчитать и осмотреть на наличие травм. Подоспевшие кареты Скорой помощи, пожарные машины и полиция быстро кинулись на помощь.
Впоследствии, разгребая завалы, пожарные обнаружили только лишь останки тел принёсшего зло учителя и сразившегося с ним спасателя, а всем нуждающимся были оказаны помощь и поддержка. Нахлынувшие журналисты окружили очевидцев, как коршуны, они налетали на каждого, кто присутствовал тогда в здании школы. Особенно привлекала внимание публики Наталья, ведь она – героиня этого события.
− Как Вы чувствуете себя после произошедшего? Сильно ли Вам было страшно, находясь в когтях злодея? КаковÓ это быть жертвой и причиной всех этих событий? – нападала пресса на несчастную Наталью, ещё не успевшую прийти в себя после теракта.
− Я вам скажу только одно… Если бы не тот сотрудник МЧС, исход ситуации был бы куда более трагичен… Я… Я бы сейчас не стояла здесь перед вами… − расплакалась девушка.
− Кто же этот таинственный герой? Простой спасатель?
− Нет, он не просто спасатель… Он – спаситель…